Флориан Иллиес А только что небо было голубое. Тексты об искусстве
– Зачем же вы это сделали? – удивленно спросил молодой человек.
Она улыбнулась и ответила:
– Затем, что небо сегодня такое голубое!
Генри Джеймс «Европейцы»© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2017
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019
© Фонд развития и поддержки искусств «АЙРИС»/ IRIS Foundation, 2019
Вступительное слово
Один из текстов в этой книге называется «Любовное письмо». Но на самом деле все эти тексты – объяснения в любви: художникам, писателям, картинам, книгам.
Я надеюсь все же, что любовь нас не совсем ослепляет.
В этой книге собраны статьи и выступления за период с 1997 по 2017 год. Речь в них вроде бы идет о картинах и книгах из прошлого. Но для меня они не прошли, потому что мы и сегодня живем с ними – смотрим, читаем. И я постарался рассказать о том прошлом, которое меня волнует, как о настоящем. Как о мгновенье. Вот только что небо было голубое. А теперь сгущаются тучи. Надвигается гроза. А потом опять голубое небо. То, что кажется вечным, – мимолетно, а то, что кажется мимолетным, – вечно, это доказал еще Брехт сто лет назад в своих «Воспоминаниях о Мари А.». «И поцелуй я тоже давно забыл бы, / Если бы не то облако. / Его я помню и буду помнить всегда, / Такое белое и так высоко». Именно об этом рассказывают нам великие произведения искусства. Именно это ощущение я пытаюсь передать в своих текстах.
Флориан Иллиес, 4 мая 2017 года
Ранние герои
Юлиус Мейер-Грефе. Немецкий язык как искусство
Юлиус Мейер-Грефе. Три слова, но один смысл. Все время, пока я изучал историю искусств в университете, я боялся его книг как огня, я знал, что в них скрыто что-то такое, что и спустя сто лет после написания обладает опасной взрывной силой. В нем чувствуется что-то по-барочному необузданное, ненаучное, слегка несерьезное. Например, его манера пользоваться сносками не для избыточных ссылок на литературные источники, а для рассказов о личных встречах с художниками, о которых он пишет.
Но всякий раз, когда я пытался дочитать его искусствоведческую диссертацию, которую он защищал в Бохуме, моя голова начинала пухнуть, руки мои тянулись к его книжкам о Мане, Курбе, Делакруа из карманной серии издательства «Insel», к его «Истории развития современного искусства», и стоило мне прочитать всего несколько слов, как я оказывался во власти его магии. Я знал, что его имя было почти под запретом в наших аудиториях, где царили строгие нормы академической гигиены и закон о чистоте немецкой науки. Поэтому-то меня к нему и тянуло. Ведь там, где царит такое отторжение, царит страх. Именно он уже почти сто пятьдесят лет определяет взгляд на Юлиуса Мейер-Грефе.
И я даже решил, что Юлиус Мейер-Грефе будет темой моей искусствоведческой диссертации. В лице Ханса Бельтинга [1] я встретил смелого и любознательного научного руководителя – но потом вдруг случилось нечто странное. Как я ни старался, с какой стороны ни заходил, у меня не получалось втиснуть вселенную Юлиуса Мейер-Грефе в сухую прозу тезисов будущей диссертации. Я все время невольно поддавался необыкновенному, захватывающему стаккато его фраз, все время приходил в восторг от его способности к экспертному суждению, но при этом не имел ни малейшего представления о том, как с Юлиусом Мейер-Грефе может совладать какая-то докторская диссертация. Совсем недавно, спустя двадцать лет, я опять перелистывал свои старые, боннских времен, книжки карманной серии «Insel» и нашел вложенные в одну из них письма Катерины Крамер, которая заново открыла Мейер-Грефе; в этих письмах она давала мне советы, как лучше встроить нашего героя в нормальную немецкую диссертацию. Но все без толку. До написания диссертации дело так и не дошло, потому что я споткнулся уже на тезисах. Довольно логично, что я начал писать об искусстве в газете «Frankfurter Allgemeine» – чтобы приблизиться к своему кумиру если не через экзегезу, то хотя бы через парафраз.
Надеюсь, вы уже заметили, что я только делаю вид, что рассказываю о себе. Мне бы и в голову не пришло утомлять вас подробностями своей биографии, я знаю, что в этом вопросе академический принцип чистоты тоже безжалостен. На самом же деле я хочу показать, как непросто приблизиться к языку Юлиуса Мейер-Грефе со своим языком и со своей наукой. Я полагаю, это связано с тем, что его немецкий язык был еще очень близок к языку лютеровского перевода Библии. И дело тут не только в языке, настолько же барочном, насколько и ясном, дело в той неопровержимости, в ветхозаветности, которую мы чувствуем в суждениях Мейер-Грефе. И об этом невозможно написать докторскую диссертацию; возможно, это был бы и вовсе, выражаясь его языком, грех.
Наверное, не менее наивно рассчитывать и на то, чтобы выступить на эту тему с торжественной речью. Ведь тогда пришлось бы мериться с ним силами на сугубо речевом уровне. Впрочем, у такого варианта есть и плюсы: можно напрямую цитировать самого Юлиуса Мейер-Грефе и через цитирование встроить его словесную мощь в свой вордовский файл. Однако цитирование – это всегда акт насилия: оно вырывает фрагмент из структуры, представляющей собой целостность. А «целостность» – не только важнейшая категория Мейер-Грефе при оценке произведения искусства («…у него можно поучиться тому, что значит подлинная целостность», писал он о Менцеле), его собственные тексты в напечатанном виде являются прочным массивом, неразложимым на отдельные составляющие. На первый взгляд это кажется удивительным, потому что поток его слов и сами выбранные им слова обжигают, у него взрывной темперамент – но когда лава, вырвавшаяся из этого вулкана, застывает, она становится незыблемой структурой. Так, камни и огонь сплавляются в нерасторжимое единство. То же самое происходит и с его текстами.
Будем честными, эти тексты – литература. Именно поэтому с самого первого дня их так любили читатели и так ненавидели искусствоведы. Вольфганг Ульрих [2] был первым, кто показал, что Мейер-Грефе в «Испанском путешествии» совершенно сознательно приурочил свое разочарование в Веласкесе и низвержение своего идола к Страстной пятнице, чтобы отпраздновать в Светлое воскресенье рождение нового бога искусства – Эль Греко. Фиктивная форма как бы подлинных путевых заметок у Мейер-Грефе представляет собой самую изощренную прозу. Он понимал, что делал, он пользовался всеми литературными методами, потому что, по его словам, «если цель того потребует, нужно всегда быть готовым принести что-то в жертву, пусть даже это экстракт высшей мудрости».
Мейер-Грефе был в Германии самым известным из «писателей-искусствоведов», а люди науки с самого начала презирали таких авторов. Другому писателю-искусствоведу, не менее презираемому, чем Мейер-Грефе, и почти такому же интересному, а именно Рихарду Мутеру, принадлежит характеристика этой профессии, идеально описывающая талант нашего героя: в идеале познавательный текст об искусстве «должен писать не ученый, а поэт», потому что только поэт обладает «всей тонкостью чувств, которая необходима для того, чтобы глубоко воспринимать произведения искусства, и пластичностью языка», чтобы должным образом анализировать эти произведения. И это идеальная характеристика Мейер-Грефе.
Нет ничего удивительного в том, что такие материи с трудом поддаются описанию. И очень неудачный выбор для темы торжественной речи. Хотя, с другой стороны, торжественная речь – единственно уместная, конгениальная форма для воспевания такого языка, потому что в конечном счете Мейер-Грефе писал не книги о Курбе, Ренуаре, Делакруа, Мане и Сезанне, а сплошные торжественные речи. Все они выдержаны в праздничном тоне, и его язык таков, как будто он уже выпил три бокала шампанского, которое обычно предлагается только после выступления.
Чтение некоторых пассажей дарит читателю искрящуюся радость – но если попытаться прочитать сразу всю книгу от начала до конца, то ловишь себя на том, что мысли, как это обычно и бывает во время прослушивания торжественной речи, начинают течь в сторону ужина, ты невольно поглядываешь на часы, обращаешь внимание на цвет галстука выступающего. Ибо каким бы сильным, содержательным и страстным ни был язык Мейер-Грефе, после тридцати страниц этот непрерывный экстаз начинает резать слух. Но кто же станет читать диссертацию четыре часа подряд? Так что не будем строго судить нашего героя.
Довольно невежливо с моей стороны было до сих пор не упомянуть место нашей сегодняшней встречи. Французское посольство в Берлине – думаю, нет в мире места, более подходящего для того, чтобы отдать должное таланту Юлиуса Мейер-Грефе. Францию, Париж и французское искусство он любил так же, как его самого ненавидел реакционный Берлин рубежа XIX – ХХ веков, – то есть безумно.
Вершиной истории искусства, по его версии, были французские импрессионисты. А самая лучшая судьба для Юлиуса Мейер-Грефе – быть французом. Гойя и Констебл, единственный испанец и единственный англичанин, которых он допустил на свой эстетический Олимп, были для него тоже французами по духу, а немец Менцель свои главные импульсы для творчества получил в Париже. В принципе, Мейер-Грефе все время пишет об одном и том же, но каждый раз по-новому. Его главные темы – обновление искусства, совершенное французскими мастерами XIX века, и эстетическое воспитание немцев, которые должны, черт побери, заметить это обновление. Все его тексты пронизаны миссионерским рвением: у него был, по выражению Вольфганга Ульриха, «художественно-политический канон». Поэтому он не просто описывает, а оценивает, ведь своими оценками он стремится открыть людям глаза и заставить их усомниться в общепризнанных авторитетах.
Мы не должны забывать об этом: у Мейер-Грефе была миссия. Неважно, что он делал: старался, как всегда, наглядно растолковать глупым немцам утонченность французов или пытался убедить глупый мир в мировом уровне какого-нибудь Ганса фон Марé [3] и даже написал с этой целью монументальный двухтомный труд. Он внедрял Эль Греко в канон истории искусства (и это стало одним из главных его триумфов), организовал в 1906 году «Выставку столетия» и вернул в поле зрения немцев целый забытый век, а именно девятнадцатый. И все это он сделал благодаря своим риторическим талантам.
Современников раздражало, что в своей миссионерской деятельности среди язычников он срубил изрядное число Донарских дубов [4], которые вовсе не стояли у него на пути. Но, оглядываясь назад, мы понимаем, что причина была, конечно же, совсем не в этом. А в том, что он объявил французских импрессионистов эстетическим идеалом для Германии в тот момент, когда их родина считалась нашим заклятым врагом, а также в том, что разглядел величие немецкого XIX века и после пятидесяти лет забвения возродил интерес к Каспару Давиду Фридриху, пока экспрессионисты и кубисты отправлялись в путь к абстрактным берегам.
Поэтому не стоит задаваться вопросом, всегда ли Юлиус Мейер-Грефе был прав в своих суждениях. Разумеется, нет. Не нужно также спрашивать, соответствуют ли его оценки сегодняшним научным представлениям, согласуются ли его метания между публицистикой, торговлей и музеями с немецкими санитарными нормами. Это заслоняет от нас самое главное, что он дал нам. А дал он нечто уникальное: точность, вырастающую из страсти. Высшие горизонты познания, полученные из глубоких чувств.
Он и сам видел коренное различие между своим видением и академической историей искусств. Само собой, всю свою жизнь Мейер-Грефе находился под огнем критики – но он отстреливался. Например, в книге о Гансе фон Маре. В ней он пишет откровенно и язвительно: «У нас всегда делали выводы до того, как получали соответствующий опыт. Нашему мыслителю достаточно самого захудалого произведения искусства, чтобы продемонстрировать удивительные мыслительные ходы. Мы всегда только размышляли о цветах, вместо того чтобы нюхать их». А сам Юлиус Мейер-Грефе поступает наоборот: он вдыхает искусство, чтобы потом выдохнуть его в виде текста.
Цветы – хороший символ того, как Мейер-Грефе нюхал и смотрел. Потому что цветок может расцвести, а может и завянуть. Именно поэтому он идеально вписывается в его концепцию эволюционной истории развития искусства. За это его тоже, разумеется, осуждали – так, Мартин Варнке [5] писал о Мейер-Грефе, что «все художественные эпохи даны самим Богом» и поэтому любые субъективные оценки неуместны. Но Мейер-Грефе нужна эта вера в эволюцию, потому что только в этом случае он может описывать искусство как непрерывно шумящую реку, как что-то динамичное. С помощью включения в процесс эволюции он придает произведениям искусства важность и актуальность – и только это он может конгениально выразить на своем языке, насквозь пропитанном важностью и актуальностью. Именно поэтому ему приходится постоянно обращаться к французам. Ведь он знал, что немцы – мастера замедленного темпа. «Все они воспевают покой», – писал Мейер-Грефе, имея в виду и своего любимого Ганса фон Маре. «В этом он был настоящим немцем, как Фейербах, Бёклин, как Лейбль и Тома [6], как Гольбейн и Кранах. Если у них появляются подвижные мотивы, то они выпадают из общей картины».
И в этих двух фразах – весь Мейер-Грефе: из его невероятной способности чувствовать искусство, из огромного богатства визуального опыта он делает вывод, который никто не решался не то чтобы сформулировать – даже допустить. А стоит только помыслить такое, как столетия сжимаются у Мейер-Грефе до секунд и кажется совершенно нормальным говорить на одном дыхании сразу и о Бёклине, и о Кранахе. И наконец, самое главное: держа в голове этот вывод, или, выражаясь скромнее, этот тезис, мы будем по-другому смотреть на «немецкое искусство», мы очень быстро поймем, обещаю вам, как мудра эта краткая формула. Немцы – чемпионы по игре с неподвижным мячом.
Как бы то ни было, в своих эстетических суждениях Мейер-Грефе демонстрировал очень специфический талант. У него прекрасно получается взглянуть на современников ретроспективным взглядом – соединить свою оценку с той, которую даст, по мнению Мейер-Грефе, будущее. Например, Мане: «Если через сто лет – то есть сейчас – некий летописец будет искать важнейшие образцы нашего искусства, то из работ Мане он назовет две ранние картины – „Олимпию“ и „Завтрак на траве“».
Кстати, эти слова о Мане взяты из книги о Ренуаре. В той же книге содержится и бесчисленное множество оценок творчества Делакруа. А в книге о Мане он много пишет о Курбе. А когда он пишет о Курбе, то у нас есть возможность почерпнуть много глубоких мыслей о Сезанне. Мейер-Грефе будто летит на ракете через Вселенную, вокруг него все звезды и планеты, а он только и делает, что составляет из них разные комбинации. В результате Коро отбрасывает тень на Сезанна, а солнце Делакруа можно увидеть с планеты Ренуара. И все они вращаются в основном вокруг Делакруа. И так далее. А на далеких млечных путях ему мерцают Джотто, Рубенс, Кранах.
Через два года, в следующей книге, Мейер-Грефе смотрел на мир уже из другой перспективы, и расположение центрального светила и его спутников несколько изменилось. Можно называть это оппортунизмом: последовательность фигур на Олимпе вполне может меняться в зависимости от угла зрения и логики аргументации. Но если не терять равновесия, то можно научиться очень важной вещи: обнаружению явлений с помощью быстрой смены перспективы – автостопом по галактике, на заднем сидении у Мейер-Грефе.
Тут и голова может закружиться, потому что Мейер-Грефе неустанно описывает влияния, взаимосвязи, притяжение и отталкивание, тени и свет великих художников из непрерывно обновляющейся перспективы. Но и здесь мы повторим: мало кто так тонко чувствовал искусство, мало кто так точно подбирал для этого слова.
Еще один пример, две фразы из предисловия к его книге о Ренуаре. Совершенно неожиданно, на пустом месте, Юлиус Мейер-Грефе спрашивает: «Кто пишет историю барокко в XIX веке?» И не успевает читатель задуматься, что это вообще значит, как Мейер-Грефе сам выдает историю барокко, написанную в XIX веке. Для этого ему нужна всего одна фраза. Сейчас вы ее услышите – и эта фраза лучше всего демонстрирует, что я имел в виду, назвав свой доклад «Немецкий язык как искусство». Сначала для динамики повторю риторический вопрос автора: «Кто пишет историю барокко в XIX веке?» И далее: «Того трудноуловимого барокко, которое, подобно огромному морскому валу, несет на себе все творчество Делакруа, которое сопротивлялось натурализму Курбе и с которым безуспешно боролся Мане, которое швыряло Родена в выси и пропасти, плело кружева мазков на лучших полотнах Моне, стало у Сезанна фантастической конструкцией его мистики, будило у Ван Гога неистовые фантазии, а в сдержанных красках более молодых, вроде Боннара, плещется как морская вода между песчаных дюн во время отлива».
И в этом весь Мейер-Грефе – он смотрит на современное ему искусство через иллюминатор своей ракеты, на которой летит через художественную вселенную, и под его взглядом планеты образуют все новые и новые сочетания, он не боится закладывать виражи и нарезать круги, а прилагательные с глаголами подбирает с точностью космического механика. Есть и еще одно обстоятельство – по-моему, самое главное. Он видит то, чего мы не видим.
Макс Фридлендер. Знание – это недоверие
Самое трудное – найти слова для того, что ты видишь. Макс Фридлендер, как мало кто другой, знал, насколько тяжело добыть правильное слово, насколько невыносимы поиски идеального языкового воплощения для чувственного восприятия. «В моих сочинениях, – писал он, – читатель сталкивается с усилиями автора выразить словами своеобразие того или иного художника». По этой фразе заметно, что формулирование мыслей на протяжении всей жизни было для Фридлендера физическим трудом, силовым актом. Фразы у него не текут свободно, как, например, у его современника Юлиуса Мейер-Грефе, у которого слова выплескивались как пенящееся шампанское. А когда читаешь Фридлендера, кажется, что каждую букву ему будто приходилось срывать с древнего виноградника на труднодоступном склоне. Поэтому настоящим чудом кажется число его публикаций: 595 текстов написал он за свою более чем девяностолетнюю жизнь, и в центре находится, разумеется, монументальный труд в четырнадцати томах – «Старая нидерландская живопись», а рядом с ним бесчисленное множество каталогов, статей, рецензий, целая библиотека монографий о художниках, начиная с Альтдорфера, далее идут Кранах, Лукас ван Лейден, Дюрер, а вдобавок к ним и такие обобщающие работы, как «Нидерландская живопись XVII века», «Эссе о пейзажной живописи» и, наконец, «Об искусстве и знаточестве». Фридлендер как будто надевает на свою камеру все новые и новые объективы: иногда длиннофокусный объектив для детального изучения с микроскопической точностью, потом снова широкоугольный объектив для снимков, на которых видны облака и закругление поверхности Земли.
Достоинство биографии, написанной Симоном Эльсоном [7], заключается в том, что он не оробел ни перед масштабом творчества Фридлендера, ни перед его скрупулезным подходом к языку. Одно то, что он дал нам такое подробное описание жизни и творчества этого уникального человека, – уже великое дело. Главная же заслуга биографа связана с тем, что ему удалось рассказать о жизни человека, жившего исключительно работой. Если Фридлендер всю жизнь занимался восполнением пробелов в знании о тех или иных художниках, то Эльсону пришлось составлять «образ» этого молчаливого, скромного и неприхотливого ученого из пробелов его собственной жизни. Эльсон понимает Фридлендера, поэтому он знает, какие подводные камни ждут того, кто попытается нарисовать такой образ. «Сковать непрерывную цепь из тех скудных фрагментов, которые дошли до нас волею случая, – значит исказить образ ради навязчивой идеи историка». Так пишет Фридлендер. А Симону Эльсону удалось из новизны своего прочтения и пытливого интереса создать не подделку, а оживающий на наших глазах оригинал. При жизни Фридлендер, кажется, старался избегать любого документирования своей личности, он наслаждался жизнью в тени великого Вильгельма фон Боде [8], потому что только в полутьме он мог всецело предаваться своей исследовательской работе. Несмотря на то, что в течение сорока лет он занимал важную должность в важнейшем немецком музее, у нас нет ни одной его репрезентативной фотографии, он ускользал от фотографов, он всегда смотрит в сторону или в пол. Кажется, позировать было для него мучительно, максимум, на что он был согласен, – чтобы его увидели случайно. Есть известный снимок 1904 года: слева флегматичный и массивный реставратор Гаузер [9], справа генеральный директор Боде в позе истинного парвеню, с цилиндром в руке, воплощенная самоуверенность. А между ними молодой человек с лупой в руках, он элегантно одет, но смотрит на нас будто в трансе – смотрит из 1904 года в Нидерланды XV века. Важные господа справа и слева с недоумением глядят на молодого человека между ними, они будто пытаются загипнотизировать его своими взглядами, но он смотрит сквозь них и сквозь нас. Такого попробуй ухвати. А биографии Эльсона это удалось.
Цель моего текста – всего лишь бросить луч света на ту своеобразную манеру, в которой Фридлендер писал об искусстве.
1. Больше знания – больше недоверия
Фридлендер не стремится облегчить жизнь своему читателю. Он не очаровывает ловкими формулировками, если он пытается начать с каких-то примеров из жизни, это кажется неестественным. Он становится самим собой, когда описывает картины, сравнивает стили художников, рассуждает о них. Нужно увлечься им, тратить часы, читать статью за статьей, книгу за книгой, и тогда это случится: ты почувствуешь магию этой сухой прозы. Наверное, не было и нет никого, кто лучше разбирался бы в старой нидерландской живописи. Но его знания (и это первое свидетельство его уникальности) сделали его не высокомерным, а смиренным. Мы постоянно встречаем у него выражения «вероятно» и «по всей видимости». И никогда – «несомненно» и «совершенно исключено». У знатока любая уверенность вызывает подозрения – это тайное кредо знаточества Фридлендера. Нужно примерить к современности все глубины и отмели такой позиции, чтобы оценить ее значимость: этот историк искусства, бившийся за точность слов как никто из его современников, этот знаток, знавший историю искусства лучше почти всех своих коллег, Макс Фридлендер с каждым десятилетием становился все бóльшим скептиком в области знаточества и изучения деталей. Он становился умнее. Потому что умный человек знает: вера в себя всегда должна сопровождаться недоверием к себе.
2. Больше знания – больше понимания своей зависимости от времени
Второй важнейший секрет его знаточества – понимание собственной зависимости от времени. И вновь тот же самый феномен: чем больше Фридлендер видит, знает и понимает, тем яснее для него становится – это не более чем суждение на основе знаний 1910-го, 1920-го, 1930 года. Всякое суждение относительно, потому что знаток всегда слеп на один глаз из-за своей укорененности в определенном времени: «Представим себе, чтó Менцель [10] сказал бы о Ван Гоге. Со своих позиций он увидел бы только огрехи. Но именно то, что в его глазах является огрехами, и составляет стиль Ван Гога». И вот что необычно в этом рассуждении: это говорит не журналист и не художественный критик, которому в силу профессии присуще включенное наблюдение, для которого восприятие из своей изменчивой позиции является самым правильным и единственно возможным условием осмысления. Это говорит Макс Якоб Фридлендер, заместитель директора Государственных музеев Берлина, директор Гравюрного кабинета, автор множества статей, экспертиз и книг, то есть человек, задачей которого неизменно является вынесение «объективных» суждений. Открытое признание относительности своих знаний свидетельствует о независимости этого человека. А то, что он тем не менее ежедневно выносит суждения, говорит о его способности справляться с глубоким противоречием, заложенным во всяком эстетическом суждении. Когда мы читаем, например, критические пассажи Фридлендера о Курбе, которого он склонен считать давно уже не актуальным, мы внезапно обнаруживаем такую ремарку автора: «Когда картина Курбе, которую в 1870 году художники и любители живописи считали поразительно реалистичной, кажется мне не столь уж реалистичной, то я сужу как ученик Мане. А наши внуки будут воспринимать и оценивать по-своему. Но у нас нет другого выбора, кроме как держаться за наши позиции, даже если мы поняли, что стоим не на твердой почве, а на плывущей льдине». И еще, в другом месте: «Мы учились видеть не только у Ван Эйка и Брейгеля, но и у Мане с Сезанном, и мы не можем отстраниться от нашего опыта». Это великая истина: тот, кто видел Сезанна, смотрит на Ван Эйка иначе, чем современники Ватто и Буше. Кто видел Пикассо, тот иначе смотрит на Мемлинга, чем современник Эль Греко. Это conditio sine qua non [11] в разговоре об искусстве. Собственная зависимость от времени, которое дает человеку знания, но делает его зависимым от них.
Фридлендер и сегодня пользуется почетом, хотя мало кто его читал. Действительно, для почитания есть несколько причин. Помимо его вклада в историю искусства, именно это трезвое и вместе с тем поэтичное определение границ любого эстетического суждения я считаю важным посланием Фридлендера потомкам. Все мы, рассуждающие об искусстве, стоим на плывущих льдинах. Многие догадывались об этом, но в какой-то момент ногам становилось слишком холодно и хотелось прогнать эти догадки. Фридлендер же смотрит правде в глаза и делает смирение фундаментом всех эстетических высказываний.
3. Нужно стараться наводить порядок (даже если не получается)
Автором первой части заглавия мог бы быть Фридлендер. А автором того, что в скобках, – разумеется, нет. Хотя он, конечно, знал, что это верно. Фридлендеру были присущи любовь к порядку и аккуратность, это чувствуется всякий раз, когда он садится за свой письменный стол и пытается составить общую картину какого-либо периода – и видит, что это на самом деле невозможно. И тогда он не делает вид, как это любят многие искусствоведы, будто существует какой-то порядок. Он называет беспорядок беспорядком: «XIX век являет нам особенно запутанную картину», – пишет он, или еще, например: «Антверпенская живопись того времени, когда умер Патинир, богата и запутана». Затем Фридлендер, повинуясь зову своей природы, принимается за упорядочивание, но при этом он никогда не забывает, что это всего лишь попытка. Потому что мы можем упорядочивать только то, что дошло до нас из прошлого, и мы не знаем, где разверзлись лакуны. А еще Фридлендер всегда в конечном счете дает понять, что стремление к порядку зачастую порождает ложную определенность. Вот как он написал о гравюре «Мухаммед и убитый монах» Лукаса ван Лейдена, которую художник создал, судя по всему, в возрасте всего четырнадцати лет: «Как бы весь наш опыт ни противился такой мысли, нам придется ориентироваться на дату рождения и включить такую ненормальность в тот образ художника, который мы себе создаем».
Да, он написал именно «создаем образ». Это не «тот образ, который у нас есть». Маленький разрыв, через который проглядывает амбиция скромного музейного работника «создавать» произведение. Но и тут мы видим смиренное признание: это тот «образ художника, который мы себе создаем». Понимание, что прежние и будущие времена создали и создадут совсем другой образ Лукаса ван Лейдена, чем наш. Именно потому, что он знал так много, Фридлендер так скептически относился ко всем, кто полагал себя хранителем истины. Какое величие – всегда сомневаться в самом себе. Но, разумеется, при этом он старается добиться порядка во всем: с ювелирной точностью он видит, где граница между голландским и фламандским искусством «четкая» (в XVII веке), а где «не такая четкая» (в XV веке). А в новый путеводитель по Музею императора Фридриха он добавил специальные стрелочки, указывающие посетителям музейный маршрут. Во всем нужен порядок, считал Фридлендер, только так можно понять взаимосвязи произведений искусства. Но не надо путать любовь к порядку с верой в объективность: «Будучи убежденным, что подлинная объективность ни при каких условиях не возможна, я хочу избежать того вреда, который неизбежно причинит стремление к ней». Человек зависит не только от своего времени, но и от своего природного склада. Фридлендер излучает невероятное спокойствие – по словам его современников, и в частной жизни он тоже был таким. И его стиль таков. Он спокойно стоит на месте и глядит на мир живописи, который движется. Только находясь в состоянии абсолютного покоя, можно увидеть (и описать словами), что Ян Госсарт [12] «большой охотник до оригинальности». Разумеется, в словах Фридлендера содержится определенное порицание. Ибо он считает, что большие мастера должны – смиренно – считать себя частью большого процесса. Или вот, когда он в 1904 году бросил взгляд в прошлое от своего письменного стола: «Турбулентное формообразование, стремительно утвердившееся в Антверпене, напоминает водоворот, возникающий в месте встречи противоположных течений». У женщин «внешний вид немного вызывающий», а у антверпенских маньеристов есть «дикие и необузданные фигуры». Он строгий наблюдатель и воспитатель. Прусский еврей. Образцовый чиновник. Он журит. Он видит, кто тут выбивается из строя. Но если ты выходишь из строя убедительно, то похвала мастера Фридлендера тебе обеспечена.
4. Суждение – возможность ошибки
Когда Фридлендер пишет, он выносит суждения. Он это понимает. «Только один знаток искусства ни разу не опозорился: он был немой и не умел писать». Но это не Фридлендер – он не был немым и умел писать. Причем «подбирая мыслям самую минималистичную языковую одежду», как выразился Гюнтер Буш [13]. Мало придаточных предложений, редко попадаются прилагательные, особенно в поздних работах. Он предпочитает часами подбирать подходящий глагол, а не предлагать читателю несколько красивых, но пустых слов. «Нужно писать настолько хорошо, чтобы никто не замечал, что это хорошо написано», – какое чудесное кредо. Видеть для Фридлендера – физическое действие. Писать тоже. И его жизнь исчерпывается этими двумя духовно-эмоциональными практиками. Он видел и формулировал. Неповторимым образом. С максимальной степенью языковой рефлексии, которая заставляла его избегать иностранных слов и «мудреной терминологии, которая превращает чтение книг об истории искусства в мучение». Он ставил в тупик всех, в том числе и своих современников, кто пытался описать в каких-то категориях уникальность его стиля. С одной стороны, он противопоставлял ученых и знатоков, а с другой – он, как знаток, был «научнее» большинства ученых. Но он был против мыслительных конструкций, оторванных от картин. Он писал не о проблемах, а о феноменах – так сказал о нем в 1957 году мудрый Эрвин Панофски. Может быть, в этом и состоит самое важное различие между «знатоком», воплощением которого был Фридлендер, и ученым, представителем чистой академической науки, который был Фридлендеру чужд.
5. Набросок автопортрета
Главным антиподом Фридлендера был Бернард Беренсон [14]. И если первый в соответствии со своей натурой занимался северными странами, то страстью Беренсона были итальянские художники. Фридлендер никогда не покидал свой кабинет и свой музей, а Беренсон жил как мелкопоместный князь Медичи в горах близ Флоренции, на своей вилле «I Tatti», окруженный выдающимися произведениями искусства. Они оба написали историю своих вкусов. Но только Беренсон написал автобиографию. И она называется соответственно – «Sketch for a Self-Portrait» [15]. Фридлендеру даже не пришла бы в голову мысль о том, чтобы писать о себе, его рассказ о себе занимает полстраницы, важнее всего для него было то, что он родился всего в двухсот метрах от Музейного острова, что он практически никогда не покидал этот благословенный остров – пока немцы в 1933 году не вынудили его эмигрировать. Но если как следует поискать, то и в работах Фридлендера можно отыскать маленький «набросок автопортрета» – в его характеристике Поля Сезанна: «Пойдя на определенные жертвы, Сезанн вложил всю свою душевную энергию в свою способность видеть». Он избегает всего «громкого, смутного, расплывчатого». И далее: «Он проводит разграничительные линии из своей потребности обрамлять растекающиеся краски, как вставляют в оправу драгоценные камни». Три предложения – и перед нами весь Фридлендер. И здесь, на драгоценных камнях, замыкается круг: Фридлендер, сам происходящий из династии торговцев ювелирными изделиями, находит у себя в подсознании такие слова для одного из величайших и скромнейших мастеров в истории искусства, по которым становится ясно, что точность его взгляда на мир и его языка имеет корни в истории семьи – это умение определять на глаз количество каратов. Но он своеобразным образом развил эту технику: он шлифует неограненные алмазы твердыми и точными словами до тех пор, пока они не засверкают.
Граф Гарри Кесслер. Озноб на фоне модернизма
Тот, кто родился под именем Гарри Кесслер, в возрасте одиннадцати лет стал дворянином, а в тринадцать лет – графом, у того в течение всей жизни сохраняется чутье к классовым различиям. Граф Гарри Кесслер десятилетиями искал слова для разговора о красоте и эстетике, и на эти поиски всегда влияло его внимание к сословным привилегиям и классовому сознанию. Его чувствительность к социальным и общественным иерархиям особенно обостряется в дневниках, которые он вел во время катаклизмов конца Первой мировой войны. 18 ноября 1917 года он побывал в мастерской художника Жоржа Гросса – и произошло нечто удивительное. Граф Гарри Кесслер, сторонник новаторских вкусов, казалось бы совсем растворившийся в текучих линиях всемирного югендштиля а-ля Людвиг фон Гофман, Ван де Велде и Майоль, мгновенно понял значительность искусства Гросса. Вечером он записал в своем дневнике: «Вообще это новое берлинское искусство, Гросс, Бехер, Бенн, Виланд Херцфельде, чрезвычайно любопытно; искусство мегаполиса, с максимальной плотностью впечатлений, накладывающихся друг на друга; брутально-реалистичное и одновременно сказочное, как сам мегаполис, предметы будто освещаются слепящими прожекторами, искажаются, а затем исчезают в сиянии». Эта цитата очень показательна, потому что сейчас, сто лет спустя, нам потребовались две большие берлинские выставки («Смена времен» и «Танец на вулкане») с множеством экспонатов и толстыми каталогами, чтобы в общих чертах охватить то, для чего Кесслеру понадобилось всего одно предложение. И именно такие уплотнения смысла делают его великим, потому что это редчайшее умение – в качестве очевидца почувствовать и выразить то, что потом станет сущностью определенной культуры. Каждый, кто проводил вечера с толстыми красными томами его дневников, выпущенных издательством «Klett-Cotta», знает, что Кесслер без конца пытается сгустить свои впечатления до таких диагнозов – и, как правило, безуспешно. Потому что он хочет слишком многого, потому что он хочет стать теоретиком, хотя (к счастью) и не способен думать и чувствовать как теоретик; потому что в силу спонтанного восхищения он апеллирует к ложным авторитетам. Осмелюсь даже предположить, что Кесслер достигает особенной ясности взгляда тогда, когда увиденное его отталкивает и сбивает с толку. Когда увиденное чуждо ему. Когда он не может представить себе, что это могло бы стать иллюстрацией в одной из книг его издательства «Cranach-Presse». Кажется, у Кесслера было очень тонкое чутье на те моменты, когда появляется что-то совершенно новое, – именно потому, что он очень держался за эстетику рубежа веков и после 1905 года больше не расширял свой личный канон. Например, в мае 1913 года его смутила премьера «Весны священной» в Париже – притом что он любил ужинать и общаться с главными героями того времени – Нижинским, Равелем, Жидом, Дягилевым, Стравинским. Но то, что он увидел вечером 29 мая на сцене, спутало все линии на филигранной кранаховской гравюре эстетики графа Кесслера: «Совершенно новая хореография и музыка. Абсолютно новый взгляд, и внезапно появилось что-то доселе невиданное, захватывающее, убедительное; новый вид дикости одновременно и в искусстве, и в антиискусстве: все формы разбиты, новое рождается из хаоса». То, что Кесслер торопливо записывал в три часа ночи в свой дневник, по сей день остается одной из самых метких и убедительных формулировок модернистского сдвига, охватившего к 1913 году весь мир. Это вневременные и пророческие слова, как и его взгляд очевидца на берлинское «синхронное» искусство круга Гросса в период около 1917 года.
В те редкие моменты, когда ему удается добиться нужного сгущения смысла, происходит чудесное совмещение точных наблюдений и глубоких ощущений. Вполне возможно, что в ноябре 1917 года Кесслер видел в ателье Жоржа Гросса его еще не законченную грандиозную картину «Посвящение Оскару Паницце» [16]; он упоминает об «улице большого города», и едва ли кому-то удавалось описать все то, что катится сквозь Берлин на картине Гросса, эту пугающую и грандиозную череду сальных, потерянных, экзальтированных персонажей лучше, чем это сделал Кесслер своей спонтанной и меткой формулой: «брутально-реалистично и одновременно волшебно». Ведь блеск Гросса рождается именно из того, что о гримасах общества, о его ожирении и духовной пустоте он рассказывает в картинах, напоминающих иллюстрации к детским сказкам. Да, «волшебно» – таков и неотесанный слог стихов Готфрида Бенна из «Ракового барака», в которых Кесслер видит культурную параллель Гроссу.
Джордж Гросс – великий изобразитель взрывной силы общества, утратившего традиционные классовые различия после краха монархии. Это одна из причин интереса Кесслера к нему. Еще в детстве превратившись из сына банкира в графа, Кесслер до конца своих дней проявлял живейший интерес к тайным социальным кодам. Особенно важным моментом для сословного чутья Кесслера была взаимосвязь между общественным положением и эстетическим уровнем: «плебейский и безвкусный» – судя по записи в дневнике от 10 июля 1904 года – для него были синонимы. «Искусство бедных людей» – возможно, он сам придумал этот термин, так он любил им пользоваться. С явным удовольствием он пишет о своем визите к Вальтеру Ратенау [17] в 1919 году и резюмирует: «Сейчас время маленьких людей». А когда к нему наведался Рихард Демель [18], он возмущается, что тот явился не во фраке, а в сюртуке, но потом смягчает тон: «Что ж, надо принимать его таким, какой он есть: гениальный лавочник».
Мало где мы найдем такое точное определение синхронности разных процессов в распадающемся классовом обществе и его абсурдности, как в дневниковой записи Кесслера от 24 января 1919 года в связи с убийством Розы Люксембург: «Завтракал с князем и княгиней Бюлов. Разумеется, говорили преимущественно о „Спартаке“ [19]. Чета Бюлов проживает в гостинице „Эден“ [20] с тех пор, как из-за перестрелки им пришлось покинуть „Адлон“, и там они общаются с гвардейцами стрелковой дивизии. Княгиня говорит, что они ничего не заметили из событий, связанных с убийством Либкнехта и Розы Люксембург, что в гостинице все было тихо. Ее горничная сказала, что встретила Розу Люксембург в коридоре в сопровождении солдат и что эта невысокая женщина спокойно прошла мимо…» Это удивительный репортаж из затишья посреди революционной бури, когда старое и новое вдруг оказываются вместе и как будто не знают, куда свернуть.
Кесслер подробно описал в дневнике столкновение своего эстетического мира с чужим, меняющимся миром. 21 февраля 1919 года он написал о положении в Веймаре, где как раз формировалось Национальное собрание, которое он остроумно и пренебрежительно называл «чем-то средним между пивной и конклавом»: «В мой дом, который до сего момента был наполнен воспоминаниями о Ван де Вельде, Гофманстале, Гордоне Крэге, Майоле, Родене, Боденхаузене, Людвиге фон Гофмане, Ницше, вторгается что-то странное; это похоже на заводскую трубу в пейзаже». Говоря о «пейзаже», то есть о своем тонко организованном душевном ландшафте, Кесслер имеет в виду танцевальные движения некой Рут Сен-Дени [21], которую он видел в 1906 году в Берлине. Людвиг фон Гофман [22] запечатлел ее стиль в своих сочных пастелях, которые кажутся идеальной иллюстрацией к дневниковой записи Кесслера от 18 ноября 1906 года: «Я никогда не видел искусства, которое с таким совершенством дарило бы нам то же самое, что и распускающиеся цветы, нежные листочки и свежее, чистое апрельское небо». Получается, искусство как природа – вот идеал Кесслера. Мы уже упоминали о том, что Кесслер – не теоретик. Однако он описывает 1919 год с помощью метафоры, которая ставит под вопрос его прежнее понимание искусства – ведь заводская труба означает не только индустриализацию, но и демократизацию. Он видит, что пришло время толпы, а его чувство прекрасного резонирует только с теми, кто ценит индивидуальное, «аристократическую форму искусства». Когда ровно через двадцать лет, 13 февраля 1926 года, Жозефина Бейкер [23] танцевала у него дома, ее сначала смущало общество, собравшееся на суаре у Кесслера, она чувствовала себя не в своей тарелке – и только разглядев «Средиземное море», большую скульптуру Майоля, которая потом перекочевала из квартиры Кесслера в парижский музей Орсе, она раскрепостилась: «Было видно: скульптура Майоля для нее намного интереснее, живее, чем все люди, чем Макс Рейнхардт, Харден, я». Это, конечно, еще и завуалированный автопортрет: сам Кесслер, этот уникальный коллекционер знакомств, в дневниках которого зафиксированы встречи с тридцатью тысячами человек, после 1918 года все больше отдаляется от людей, ставших ему чужими, – живым же и интересным осталось для него столь любимое искусство модерна.
Это ощущение еще больше усиливается в двадцатые годы: человек-масса [24], «Берлин, Александерплац» Дёблина – для него это все преддверие ада с эстетической точки зрения. Кесслер на все смотрел с эстетической точки зрения – и был при этом убежден, что с точки зрения морали положение стало не менее адским. 25 мая 1927 года, путешествуя на поезде из Цюриха в Германию, он записал с неприязнью: «Во Фрайбурге мне бросилась в глаза уродливость людей. И день тоже мерзкий, серый. Не очень-то приятное возвращение на родину, вместо радости – чувство озноба, физического и эстетического». В 1919 году он еще мог согреться воспоминаниями об эстетических линиях модерна, он кутался в них, как в одеяло. В 1927 году эти воспоминания поблекли, модерн самоликвидировался под натиском «Баухауса», и вот граф Гарри Кесслер остался без эстетической родины посреди стремительной современности. Заводские трубы закоптили весь пейзаж. Или, как говорил Кесслер: «Все теперь по-пролетарски. Все для витрины, все для лавочников». Граф разочарован эстетической непритязательностью масс. В 1901 году, в свои золотые дни, он приехал в Брюссель к Ван де Вельде и записал 7 марта: «Он отрицает, что его искусство имеет иную цель, помимо идеальной красоты. Он считает, что sérénité [25] имеет этические последствия в духе Рёскина, потому что оно укрепляет человека, живущего в безмятежности, – то есть экономит ему те силы, которые приходится тратить на защиту от уродства». Именно этих сил для защиты от уродства не хватило графу Гарри Кесслеру в новообразованной Веймарской республике. Ему стало холодно.
Фрэнсис Хаскелл. История вкуса
На оксфордском небе есть звезда, никогда не меняющая своего места. Ночь за ночью она светит над Уолтон-стрит, и лишь немногим довелось видеть, как она гасла. При свете этой обыкновенной неоновой лампы за последние тридцать лет были написаны важнейшие тексты об истории современного искусства. Мало того – многим студентам Фрэнсиса Хаскелла, вернувшимся домой из кино или из бара, этот благодатный свет строго напоминал об их обязанностях. Может быть, беда немецких университетов в том, что студенты нынче не могут наблюдать за работой своих профессоров.
Первой большой темой Фрэнсиса Хаскелла был вопрос о том, как возникает продуктивность. В 1963 году вышло его исследование «Patrons and Painters» [26], в котором он попытался осветить искусство с точки зрения не художника, а заказчика. На примере итальянского барокко с помощью огромного числа источников Хаскелл показал, насколько наивной является вера в неограниченную фантазию художника и насколько определяющими для многих центральных произведений мирового искусства были желания и вкус заказчика. Книга, с непостижимым запозданием в тридцать пять лет изданная на немецком языке («Maler und Auftraggeber», Кёльн, 1995), в англоязычных странах сразу после появления приобрела множество поклонников. Но если Хаскеллу удалось дать искусству совершенно новую, свежую систему координат, то многие его последователи увязли в биографических деталях. В поисках авторов, сопоставимых с Хаскеллом по части глубины проникновения в материал и неподражаемого оживления исторических источников, нам придется обратиться к истории, к «Статьям по истории искусства Италии» [27] Якоба Буркхардта. Поэтому неслучайно то, что Хаскелл любит называть Буркхардта своим «героем», а в своем последнем монументальном труде «История и ее образы» (Мюнхен, 1996) буквально ставит ему памятник. Довольно забавно, что Хаскелл приобрел известность в Германии прежде всего благодаря этой книге, которая на примере меняющегося взгляда на прошлое рассказывает ясную и прозрачную историю развития науки в течение столетий. Все-таки эта примечательная работа наименее характерна для его мышления.
Ярче всего нестандартный взгляд Хаскелла на историю искусства воплотился в его книге «Rediscoveries in Art» [28], вышедшей в 1976 году. В этих лекциях Хаскелл обращается к той области искусствоведения, которую у нас так бездушно именуют «рецепцией» и которая была для него связана с taste, со вкусом. То, что началось в «Patrons and Painters» с анализа пожеланий заказчиков, развивалось в многочисленных статьях и рецензиях, стало тут совершенно самостоятельным жанром – историей вкуса.
Главы этой книги, посвященной в основном искусству Англии и Франции XIX века, переполнены сведениями из опубликованных и неопубликованных документов, писем, картин – как и другие его книги. Стоит прочитать лишь несколько предложений, и тебя уже затягивает стиль Хаскелла. Он избегает иностранных слов (и ссылок на вспомогательную литературу), ценит мягкую иронию, но больше всего – оригинальные источники. Двумя-тремя фразами он набрасывает масштабные портреты главных и второстепенных фигур в истории искусства – что в Италии XVII, что в Берлине XIX века. В эти фразы невозможно вместить больше информации, их невозможно сформулировать лаконичнее. Его книги – бодро текущий речитатив, преподносящий свои тезисы не под гром фанфар, а тихими созвучиями, как бы невзначай. В книге «Rediscoveries», до сих пор не переведенной на немецкий, он приводит убедительные доказательства того, что в прошлом веке «старыми мастерами» называли только тех художников, о которых на какое-то время забыли. А в другой главе он демонстрирует, что движение прерафаэлитов в Англии отнюдь не повысило, а скорее снизило интерес к искусству, существовавшему до Рафаэля. Впрочем, Хаскелл редко решается на такие обобщения, обычно он старается ввести нас в кабинеты коллекционеров, показать, что происходит у них в головах и мыслях. И в результате ему удается почти невозможное: реконструкция вкуса далекого прошлого.
К сожалению, в Германии Хаскелл до сих пор остается искусствоведом для искусствоведов. Вероятно, для многих он недостаточно претенциозен и слишком эмпиричен. По словам его самого известного ученика и знатока Николаса Пенни [29], метод Хаскелла заключался в отсутствии такового. И правда, Хаскелл предпочитает описывать, а не анализировать. Но его описания, как правило, и оказываются самым умным анализом. Может быть, Хаскелл был первым истинно британским искусствоведом, противопоставившим континентальной эстетической традиции свою, совсем иную трактовку истории искусства.
Под руководством Николауса Певзнера [30], немецкого эмигранта, изучавшего английские элементы в английском искусстве, Фрэнсис Хаскелл написал диссертацию об иезуитской архитектуре. С 1967 по 1995 год он преподавал в Институте искусствоведения Оксфордского университета – и работал в своем глубоком домашнем кресле. Сегодня ему исполняется семьдесят [31]. И для него это не повод хотя бы на день выключить настольную лампу.
Карл Шефлер. Судьба как шанс
Последний шанс навсегда забыть о Берлине был упущен в 1648 году. После окончания Тридцатилетней войны в самом Берлине уцелело 556 домов, а в Кёлльне [32], другой части города, – 376. Жители разоренного города всерьез обсуждали возможность коллективного переселения, но что-то им, увы, помешало осуществить это намерение.
Увы? Да, увы. Читая полное ненависти объяснение в любви к этому городу, которое Карл Шефлер написал в 1910 году [33], понимаешь, что Берлину не суждено обрести себя, потому что – как в греческой трагедии – страдания этого города являются условием его существования. Продолжим тему мифологии: если Берлин – незаконнорожденный сын греческого бога и человека, то его отцом был, скорее всего, Дионис, а матерью – секретарь профкома западноберлинского паспортного стола. Если такие ассоциации кажутся вам сейчас несуразными, то ваша ошибка в том, что вы прочитали только послесловие. Ибо любой, кто прочитает хотя бы две-три страницы анализа Карла Шефлера, заметит, что подзаголовок «судьба города» в данном случае – гораздо больше, чем фельетонное краснобайство или лишнее уточнение. Шефлер первым так филигранно сформулировал, почему Берлину никогда не уйти от своего фатума. Поэтому в последней фразе этой книги тоже говорится, что Берлин «обречен на то, чтобы становиться, но не быть». Когда ты видишь эти слова, «обречен на то, чтобы…», прочитав уже двести страниц, это подобно удару кинжала, это внезапный рывок, за доли секунды натягивающий нить между берлинским вокзалом «Цоо» и греческой мифологией.
Утратив упоминание об «обреченности», фраза Шефлера стала излюбленной банальностью в литературных салонах Шарлоттенбурга, Далема и Панкова, которую цитировали всякий раз, когда кто-то жаловался на очередной долгострой в районе Митте [34]. Но именно фактор обреченности, то есть неразрывной связи с судьбой, придает этой фразе ту сложность и ту простоту, которая и побудила Шефлера сделать ее финальным предложением своей книги, выводом из своих мучительных размышлений. Это превосходный афоризм, всего из восьми слов – но его можно понять до конца, только прочитав книгу, это квинтэссенция двухсот страниц, двух тысяч лет. Редко встретишь такой талант наблюдателя, редко где так ясно виден метод анализа, как в книге Шефлера, выводящего свои взгляды из запутанной истории города, этого «поселения германских земледельцев и славянских рыбаков, разросшегося до многомиллионного города».
Ошеломляющий вывод, который Шефлер сделал на основе глубокого изучения Берлина и его истории, таков: он всегда оставался колониальным городом. Город переселенцев, в который всегда кто-то страстно стремится – гугеноты, уклонисты от службы в армии, силезские рабочие или вот теперь швабские стартаперы. Марк Твен в 1891 году, после своего первого посещения Берлина, история которого насчитывала тогда примерно 650 лет, с восхищением отмечал «новизну» города («это самый новый город из всех виденных мною»), хотя сам он приехал из молодой Америки, в которой в то время города росли как грибы после дождя, и это свидетельство того, каким сильным было впечатление. «Новостная лента» – конечно, берлинское изобретение, нигде больше нет такой одержимости настоящим моментом, а «режим реального времени» (Давид Гугерли [35]), доминирующий после 2000 года, обрел в Берлине точку кристаллизации. Шефлер ясно показывает, откуда взялся этот культ новизны. Его анализ 1910 года продолжает быть актуальным уже сто лет, и даже две мировых войны и четыре разных формы немецкой государственности ничего не изменили. Раньше переселенцы приезжали на телегах, потом на международных поездах, а теперь прилетают самолетами авиакомпании «Easyjet» – пророчество продолжает сбываться. Оно остается скрытым двигателем этого города, бездумно спешащего вперед. Только в Берлине можно услышать вопросы «Ты живешь все там же?» или «Ты работаешь все там же?», задаваемые с удивлением и оттенком презрения. Статус-кво здесь всегда кажется сомнительным и нужен только для того, чтобы его преодолеть. Когда у какой-нибудь берлинской галереи современного искусства кончаются идеи, она всякий раз открывает «новое пространство», как будто такое открытие само по себе является содержательным высказыванием. Тот, кто прочитал Шефлера, понимает, почему Берлин – город «проектов», «проектных пространств» (восточноберлинский вариант – «пятилетний план»), почему этот город так гордится, когда его называют «лабораторией», почему тут расцветает не экономика, как в других городах, а только мечты. Тут почти нет прилично оплачиваемой работы, зато имеется много работы с телом, работы над отношениями и работы с прошлым. Единственная отрасль, расцветающая в Берлине, – разумеется, интернет-технологии, потому что только в этой сфере критерием оценки может быть фантазия, а не какой-то скучный объем годового оборота. И конечно же, это идеальное место для съемок кино: тут мало промышленных проектов, зато много материала для личных проекций. Этот город так сильно любит возможности и так мало реальность, что тут даже булочные называются «Хлеб и не только», а ночные лавки – «Интернет и не только». Всегда нужно больше. Или так: «За горизонтом путь продолжается» (Удо Линденберг [36]).
Шефлер называет людей, переселяющихся в Берлин, «пионерами», и мы до сих пор видим ту же самую идею: на въезде в город прибывающие видят плакаты «Be Berlin». Город как источник вечной молодости: неспроста песня «Не забудь плавки» [37] так и осталась единственным всемирным хитом из Берлина. Новые тренды – это манна, которую город раздает как разовое денежное пособие всем, кто проходит через ворота на границе этого «города и не только». На протяжении столетий в город приезжали гугеноты и вольнодумцы, религиозные вольнодумцы и евреи, потому что здесь им была гарантирована «свобода вероисповедания». В этом до сих пор и кроется главная причина, пусть даже теперь вероисповедание давно уже не связано с религией. Шефлер и это предвидел: «Религиозный рационализм в сдержанном, протестантском Берлине так долго и настойчиво задавался вопросом „зачем?“, что священнику приходится отвечать так, будто он наполовину философ». С тех пор секуляризировалась и вторая половина, поэтому на вопрос «зачем?» половину ответов в Берлине дают философы, а другую половину – бармены. А ответ такой – «затем». Или, как говорит Шефлер: «Тезис Гегеля о том, что все действительное разумно, можно считать разновидностью прусского самооправдания».
Но в этом городе данность никогда не является предпочтительным местом пребывания. Люди стремятся отдохнуть в ближайших пригородах, в ближайшем будущем. «Афины на Шпрее» – это не прозвище, а сознательная ложь.
Для пионеров Берлин – город мечты, а потом оказывается, что он совсем сам по себе, совсем колониальный город, согласно пророчеству. Берлин терпит неудачу всегда, когда от него ждут результата. Если бы мы вовремя прочитали Карла Шефлера, то всей Германии не пришлось бы после 1989 года с нетерпением ждать, когда же в Берлине родится «столичный роман», и мы сразу поняли бы, что на самом деле никто никогда и не собирался открывать новый «столичный аэропорт».
Читая Шефлера, мы понимаем также, что в Берлине бессмысленно надеяться на сохранение традиций. Единственная традиция, которую тут чтут, – отсутствие традиций. Тот факт, что про книгу Шефлера надолго забыли, лучше всего подтверждает этот тезис. «Берлин. Судьба города» еще и потому очень умная книга, что сама она от начала до конца иллюзорна – наверное, никто так не увлекался Берлином, как Шефлер, он обошел весь город, прошел по его магистралям и отчаялся, потому что они ведут в никуда, он проплыл по всем его рекам и опять отчаялся, потому что этот город просто игнорирует свое расположение у воды «и не проявляет к ней нежности, как это делают Париж, Гамбург и Франкфурт» (гениальное наблюдение). Зато этот город, обуянный своей скоростью, проявляет нежность к транспортным потокам, к эстакадам наземного метро, к трамваям, он поворачивается к ним лицом, а не спиной, а еще к шестиполосным проспектам, где на тротуаре можно после занятия йогой сесть за деревянный столик и отведать биоговядины с пастбищ Уккермарка. Это такой антрекот а-ля Шефлер.
Сильнее всего Шефлер сердится, когда речь заходит о градостроительстве и архитектуре, это конек великого критика культуры, у него прямо-таки перехватывает дыхание от «уродливости», но при этом ему удаются замечательные гневные тирады против хаоса в городском планировании, бестолковости уличной сети, однообразия новых районов Восточного Берлина (Пренцлауэр-Берг, Митте). Шефлер раз за разом сыплет соль на рану: да, этот город не вырос естественным образом, у него нет годовых колец, как у дерева, а есть только бессмысленные, не связанные друг с другом наросты (и поэтому город не может порождать по-настоящему великую культуру). Шефлер показывает, почему такие корифеи немецкой культуры, как Гёте, Шиллер, Бетховен и Бах, чурались Берлина и почему трагедия Генриха фон Клейста неслучайно разыгралась именно в Берлине: «Разумеется, Клейст остался бы непонятым повсюду в Германии, но нигде его не ткнули бы носом в безнадежность его положения с такой жестокостью, как в этом городе, на котором лежало клеймо отсутствия всякой фантазии». Его не может утешить даже Шинкель [38], потому что и этот великий творец пал в конце концов жертвой берлинской генетики: «Он по-своему гениален, но гениален лишь в рамках возможностей жителя колониального города».
Точно так же, как Шефлер бесконечно фланировал по Берлину, он прошерстил и историю этого странного города, просеял ее через сито, пока не познакомился лично с каждой песчинкой. Так появилась эта книга – и нас не должно удивлять, что она не только является подробным путеводителем по ментальному ландшафту Берлина 1910 года, но способна не менее точно объяснить загадки этого города в 2015 году. Потому что Шефлер сам заявляет в своей книге, что ДНК Берлина, которую он определил как первооткрыватель генома, будет и в будущем играть ключевую роль в характере города. Скрупулезно описывая особенности этого города с учетом его хромосом, он одновременно описывает, пусть и полуфразами, но так же метко, тайные коды Дрездена, Гамбурга, Мюнхена, Данцига и Лондона. С помощью Шефлера мы учимся воспринимать каждый город как индивидуума, излучающего определенное настроение, определенную температуру, определенный аромат, рождающийся из уникальной, формировавшейся столетиями мозаики: географического положения, правителей, культуры, гражданского общества и традиций.
В большом шефлеровском анализе ДНК имеется огромное множество малых участков, на которых он с помощью разбора хромосомного состава делает выводы удивительной и подкупающей ясности. Например, почему берлинцы неспособны строить красивые площади (теперь мы видим, что Потсдамер-плац и буйство вокруг нового главного вокзала этот тезис, увы, не опровергают). Почему Адольф Менцель мог бы стать художником мирового уровня, если бы его не постигла печальная участь работать в Берлине. Почему Уккермарк невыносим для всех, кроме отшельников вроде Бото Штрауса [39]: «Этот бескрайний восточный край, который будто уводит тебя на Русскую равнину, тоскливые и одинокие пашни да пастбища до горизонта». Эту старую книгу можно целиком читать как путеводитель по современному Берлину. Даже в тех местах, где она, казалось бы, уходит в дебри истории, современность вдруг проглядывает через ассоциации, вызванные чтением. Например, когда Шефлер утверждает, что берлинцы рано или поздно уничтожают всё (дома, героев, империи), кроме солдатчины, этот взгляд кажется нам устаревшим – и тут вдруг перед глазами всплывает та странная картина, когда во время «Парада любви» на площади Большая Звезда колониальный город демонстрировал свое обнаженное счастье и под грохот музыки спокойно двигался мимо статуй важных прусских генералов. Даже колонна Победы теперь ни у кого не ассоциируется с Франко-прусской войной, она если с чем-то и ассоциируется, то с футбольными победами на так называемой «фанатской миле».
Еще более дальновидным оказался анализ Шефлера на тему того, как народ перекраивает правителей по своему фасону: «Население города незаметно влияет на психику правящей династии и потом узнает себя в своих представителях». В 1910 году Шефлер хотел этим уязвить берлинцев, которым за несколько столетий удалось низвести духовный уровень прусской королевской династии с Фридриха Великого до Вильгельма II. Но когда мы читаем у Шефлера, что главные гогенцоллернские добродетели – это «чувство долга», «сухая деловитость», «самоирония» и «суровый реализм», то на примере восточногерманской помещицы Ангелы Меркель мы понимаем, что берлинцы не просто желают увидеть себя в своих правителях – они делают так, что в этих правителях себя узнают и баварцы, и жители рейнских областей, и гамбуржцы. Архитектуру бывшей резиденции Гогенцоллернов, городского дворца, Шефлер тоже разобрал тщательнейшим образом. Если бы Шефлер узнал, что в бывшей резиденции, за восстановленными барочными фасадами, собираются открыть «центр мировых культур» с этнологическими выставками – а в нем, как объявил не кто иной, как сам председатель фонда «Прусское культурное наследие», «мир взглянет на себя», то он рассмеялся бы от того, как все просто и безнадежно. Мало где берлинская мания величия, прикидывающаяся смирением, проявляла себя ярче, чем в этом проекте, мало где неотесанное берлинское тщеславие разоблачало себя так откровенно, как в планах городского правительства посвятить несколько помещений выставке «welt.stadt.berlin». Точка. Точка. Точка. Колониальный город Берлин обретает себя в новом колониализме, призванном осчастливить планету и замаскированном под гигантское «кафе третьего мира». Здесь мир увидит не себя, а единственно и только берлинскую самооценку. Но не стоит переживать, это всего лишь гены города, успокоил бы нас Шефлер. А я упомяну еще, чтобы не отпугнуть вас, любезнейший читатель, от этой книги: как минимум не хуже пассажей о вечном духе колониального города гневные тирады Шефлера против «колонизаторской непритязательности сортов берлинского хлеба, которая превращает еду в неизбежное зло». Или вот, мое любимое место: «Берлин – не результат городской культуры, а продукт строительного рынка». «Это твой проект», – кричит реклама со стен берлинских строительных супермаркетов – совершенно в духе шефлеровского анализа. То есть мы понимаем: надо бежать прочь от этих проектов, из строительных магазинов, и читать эту книгу.
Ханс Магнус Энценсбергер. Не один из нас
Всякий раз, когда Германия погружается в мечты, просыпается Ханс Магнус Энценсбергер. Когда в 50-е годы страна решила, что она теперь чистенькая и являет собой сплошное экономическое чудо, он бросил ей в лицо свои «Злые стихи» и описал «мелкобуржуазный ад» каталогов Неккермана. А когда западногерманские левые в конце 60-х годов боролись за реализацию своих социальных утопий, он как раз вернулся с Кубы, чтобы сообщить читателям журнала «Kursbuch»: «Социализм не работает, точка». Апокалиптические настроения 80-х годов в Германии он отменил одним только остроумным названием своего эссе «Два замечания на полях конца света». А когда Германия воссоединилась и всем казалось, что теперь путь в будущее открыт, Энценсбергер обратился к прошлому, собрал свидетельства очевидцев «часа ноль» [40] и издал книгу «Европа в руинах». Если мы сегодня в связи с восьмидесятилетием [41] Ханса Магнуса Энценсбергера оглянемся на его творчество, то нам останется только одно: удивляться.
Удивляться его постоянной бдительности, его интонации холодного возбуждения, масштабу его жажды нового опыта, но больше всего – его чутью на определенные темы. На протяжении пятидесяти лет Энценсбергер ставил перед немецким обществом правильные вопросы. В своих ответах он, конечно, иногда ошибался – например, когда объявил о смерти литературы или когда сравнивал Саддама с Гитлером, но его неослабевающий интерес к анализу исторических событий, его смелые мнения и его способность пересмотреть свою точку зрения сделали его уникальной фигурой в интеллектуальной истории ФРГ.
Он провоцировал и вдохновлял наших отцов, разоблачал обман и самообман, описывал и проклинал наши порядки и обычаи. Но при этом он всегда был готов проявить понимание. По опыту собственной биографии он знал, что правым может быть только тот, кто иногда серьезно заблуждается. Однако когда заблуждающаяся страна пыталась подружиться со своим мастером, то он возмущенно заявлял: «Я не один из нас». И действительно, когда страна с трудом усваивала его уроки и полагала, что освоила уровень аргументации Энценсбергера, его мысли каждый раз оказывались уже где-то вдали. Ничего удивительного, что это постоянно ставилось ему в упрек. Его возвышенная небрежность наводила ужас на принципиальных педантов. И нашей стране очень повезло, что ему это было безразлично. Только благодаря уникальному соединению понимания и дистанцирования Энценсбергер стал крупнейшим «репетитором» для послевоенной Германии.
В его педагогике запросто чередуются умиротворение и шоковая терапия. Если дебаты становятся ожесточенными, то Энценсбергер посылает сигналы отбоя тревоги, а если он чувствует самоуспокоенность, то передает SOS: «Сначала она читала Гессе, потом Хандке, / Теперь она разгадывает шарады». Он может в двух словах объяснить, почему активисты 68-го года сделали страну «более пригодной для жизни», а потом сразу же заявить, что уже «сыт по горло этими ветеранскими легендами». Никогда нельзя думать, что Энценсбергер надолго на твоей стороне. Каждый раз, когда мы проводим границу между добром и злом, он выходит из укрытия и подает реплику: «Все не так просто». Он ненавидит идеологии, фанатизм и жесткие позиции, он воспевает реализм и аргументы. Его главное культурологическое достижение состоит в том, что он не заразился чувством тщетности любых интеллектуальных усилий, о которой пишет Адорно в своей «Диалектике Просвещения», и доказал, что, вопреки утверждению Адорно, можно и после Освенцима писать стихи: «Если мы хотим жить дальше, то этот тезис должен быть опровергнут». Более того: в своих поэтических сборниках «защита волков», «местный язык» и «алфавит для слепых» он продемонстрировал, что большую поэзию можно писать маленькими буквами и что в стихах можно не только чувствовать, но и думать.
Энценсбергер, как Хабермас и Дарендорф, родился в 1929 году, это поколение оказало решающее влияние на становление ФРГ. Оглядываясь назад, мы понимаем, что все творчество Энценсбергера выросло на базе его раннего опыта. Работа барменом, устным переводчиком и торговля на черном рынке в первые послевоенные годы навсегда сделали из него «включенного наблюдателя», как он себя впоследствии и называл. А что такое его интерес к массам, к их усредненности и их безумию, как не попытка понять механизмы рокового немецкого эксперимента на тему «масса и власть», в котором ему пришлось поучаствовать в юности?
Он самый космополитичный немецкий интеллектуал второй половины ХХ века. Тем не менее все его творчество вращается вокруг родины и ее жителей: «Как же я могу закончить споры с этой страной, разрываемый между шоком и благодарностью, умиротворенностью и разочарованием, смятением и восхищением». Пожалуй, невозможно точнее сформулировать немецкое национальное чувство в начале XXI века.
В гостях
Готфрид Бенн. Хорошая постановка лучше, чем достоверная
«Иди ко мне, Ной», – говорит Астрид Гельхоф-Клес [42] своей собаке, и та подбегает, женщина открывает дверь дома и смотрит на серые воды Рейна, протекающего перед домом, она смотрит наверх, на тополя, на которых уже так много зеленых листьев здесь, в Дюссельдорфе, в конце апреля, и ей даже не приходится звать воронов, они слетаются сами. Они знают, что эта женщина в вязаной шапке каждый день приносит им хлебные крошки. Может быть, они знают также, что на письменном столе этой женщины стоит бронзовый ворон, день и ночь он молча смотрит через большое окно на Рейн и на тополя. Но они не знают того, что эта женщина ровно сорок восемь лет назад, 14 апреля 1954 года отправила свое первое стихотворение в Берлин, поэту Готфриду Бенну, и это стихотворение называлось «Ворон». Бенн ответил в тот же день: «Жаль, что не я это написал». «Вы же понимаете, – говорит она, пока Ной лениво пытается прогнать воронов, клюющих крошки, – меня это потрясло».
Астрид Клес была тогда юной красивой девушкой, склонной к меланхолии, она тайком писала стихи, сначала ей пришлось по желанию отца пойти учиться чему-то «нормальному», а потом она написала докторскую работу о поэзии. Она влюбилась в поэтические сборники Готфрида Бенна «Статичные стихи» и «Пьяный поток», а особенно ей полюбились эти строки: «Кто в одиночестве, / тот в тайне». Она, одинокая, почувствовала здесь понимание и утешение. Но ничего не сказала об этом своему профессору германистики Рихарду Алевину; она брала эти сборники стихов, садилась на скамейку в парке и читала Бенна: «Он был моим единственным товарищем», – говорит она. Никакой информации об авторе или критики в ее распоряжении не было, и она, изучавшая тогда еще и древнюю историю, разбирала стихотворения подобно хирургу, констатировала: «Существительные с двумя прилагательными чрезвычайно редки»; составляла списки составных слов и обнаружила у автора «выраженную склонность к общему смешению». 19 декабря 1953 года двадцатипятилетняя Астрид Клес защитила в Кёльнском университете диссертацию «Стиль поэтического языка Готфрида Бенна». Как мы узнали из недавно опубликованных писем Бенна к Астрид Клес, поэт был польщен таким вниманием, он ощущал себя объектом «вивисекции», но затем шестидесятивосьмилетний Бенн тоже проявил активность и стал искать сближения с Астрид за рамками поэзии и докторской диссертации: «Один знакомый из Кёльна, который знаком с Вами, сказал мне, что Вы стройная, элегантная и привлекательная барышня – это так? Может быть, Вы пришлете мне Вашу фотографию?»
Астрид Гельхоф-Клес спокойно сидит в своем зеленом кресле, мы запиваем маленькие пирожные игристым вином, за окнами Рейн и вороны на тополях, в одной руке она держит фотографию, которую она тогда послала Бенну, а в другой – докторскую диссертацию, сто семьдесят восемь машинописных страниц, у первых страниц загнуты уголки. Два способа приблизиться к кумиру. Потом эта изящная дама говорит низким голосом: «Я быстро поняла, чего он хочет». Позволила ли она ему реализовать желание – об этом спорят историки. Однако из писем Бенна, которые наконец-таки увидели свет, становится ясно, что этот донжуан остался не совсем удовлетворен тем, что произошло между ним и Астрид 29 июня 1954 года в период между тремя часами дня и десятью утра следующего дня в «Парк-отеле» в Касселе. Четыре дня спустя он сделал эмоциональную запись: «Я продолжаю вспоминать Кассель и все подробности, но я бы предпочел, чтобы было больше подробностей, о которых я мог бы вспомнить». Впрочем, «милая фройляйн Клес» тоже была, разумеется, в смятении и влюблена, позднее она увековечила свои переживания в тонком рассказе под названием «Джин», в котором перемешаны фрагменты из писем Бенна и ее собственных писем и где главные герои в конце оказываются довольно близки друг другу: «Поэт неожиданно распростер объятия… Земля была прекрасна».
То, что началось со слов, вернулось в словесное русло. В письмах, написанных после кассельской встречи, которая так и осталась единственным их свиданием наедине, Астрид Клес постоянно ускользает от сближения и все сильнее распаляет донжуана, он отправляет ей цветы, делает комплименты, разливается соловьем. Он каждый раз переживает из-за ее «падений с лошади» – дипломированный врач Бенн заботится о милой далекой девочке. «На самом деле я ни разу не ездила верхом, – говорит Астрид Клес, – но нужно же было придумать причину, по которой я не приезжала к тому, кем так восхищалась как поэтом и человеком». Она уже знала тогда о его репутации дамского угодника, о его параллельных связях в 30-е годы с «небесной и земной любовью», с Элинор Бюллер и Тилли Ведекинд. «И я хотела избежать этого», – говорит Астрид Клес и на мгновенье закрывает глаза, и по ее стихам, по ее письмам того времени, по ее закладкам в сборнике писем мы понимаем, как тяжело это ей давалось. «Я хотела, чтобы на всю жизнь», – говорит она. И с любовью смотрит на своего мужа Йоахима, бывшего журналиста, писавшего об экономике, – она познакомилась с ним, когда получила в 1956 году в Нью-Йорке известие о смерти Бенна.
Во время нашего разговора он спокойно сидит за вторым письменным столом и смотрит на сирень в саду, которая уже готова зацвести. «Мы поженились четыре года назад», – говорит он с гордостью и нежностью. Она много написала за эти четыре года: сочиняла стихи, занималась ранней возлюбленной Бенна Эльзой Ласкер-Шюлер, а этой весной [43] выйдет ее автобиография под названием «Острова воспоминаний». «Одним из самых прекрасных островов был, конечно, Бенн», – говорит Астрид. Она хочет наконец написать о том, что же тогда произошло с ее «вечерним спутником из Касселя», как он сам себя называл, – а чего не было. О том, как Бенн восторгался ее любовью к деревьям, к их силе, к их пониманию того, что нужно сначала потерять все, чтобы оно вернулось. А потом она читает вечные строки из последнего стихотворения Бенна «Aprèslude» («Постлюдия»): «Die Natur will ihre Kirschen machen, / selbst mit wenig Blüten im April / hält sie ihre Kernobstsachen / bis zu guten Jahren still. // Niemand weiß, wo sich die Keime nähren, / niemand, ob die Krone einmal blüht – / Halten, Harren, sich gewähren / Dunkeln, Altern, Aprèslude» [44]. «Ах, Бенн», – говорит она, делает глоток вина и смотрит на Рейн. Не жалеет ли она о чем-нибудь, оглядываясь назад? «Да, – отвечает она, предпоследняя муза, – теперь, когда я сама состарилась, я понимаю, как было Бенну тяжело, когда я в 1955 году так резко раскритиковала его сборник „Постлюдия“. Мне казалось, что некоторые стихотворения ниже его уровня, но лучше бы я тогда промолчала».
«Постлюдия»: в 1955 году старый поэт Бенн удивил литературную общественность прекрасным, смелым сборником стихов, который стал для него последним. После того, как в прошлом году Урсула Цибарт опубликовала письма Бенна к ней с комментариями от себя лично, общественность знает, что многие из этих стихотворений были созданы во время их бурного романа летом и зимой 1954/1955 года. За «комментарии» Цибарт на нее вылили не один ушат помоев, как будто возлюбленная несет ответственность за историческую справедливость. Пикантность ситуации в том, что теперь, пятьдесят лет спустя, когда у нас есть и письма Бенна к Урсуле Цибарт, и письма к Астрид Клес, читатель может наблюдать, как он параллельно флиртует, как он дурит голову одной по дороге к другой, как он после серьезной размолвки пишет Урсуле, какая же вредная эта Астрид, а в письмах к Астрид он жалуется, как тяжело ему с Урсулой. А еще у этого изобретателя двойной любовной бухгалтерии все время была (как бы не забыть) верная супруга Ильзе, с которой он делил квартиру, приемную и постель в берлинском районе Шёнеберг на Боценерштрассе, 20. Между Урсулой, Астрид и их издательствами велась жаркая переписка, когда в последние годы они обсуждали, что и как должно стать достоянием общественности, адвокаты отстаивали их личные права. Но теперь, когда у нас появилась возможность нескромно заглянуть в обе переписки и почитать, что там Бенн говорит об одной и о другой, становится очевидно, кому тут не стоит доверять: Бенну.
Да, в кёльнском издательстве «Winkler» был конфликт, когда Бенн попросил одну свою пассию, то есть Астрид, найти местечко для другой своей пассии, то есть Урсулы. Астрид выполнила его просьбу, потому что, по ее словам, была очень благодарна своему ментору за то, что он пристроил «Ворона» в журнал «Akzente», но потом разразился скандал: ведь Бенн не сказал ей, что Урсула была его любовницей; ударная волна от того конфликта чувствуется в переписках с обеими соперницами. Когда я вхожу в квартиру Урсулы Цибарт на Инсбрукерштрассе в Берлине, всего в нескольких кварталах от последнего пристанища Бенна, и спрашиваю ее о письмах к Астрид, она закатывает глаза и после паузы говорит, что двум таким старым женщинам нет смысла больше ссориться. Ее квартира расположена на первом этаже, дверь на террасу открыта, во дворе много зелени – но все же не так много, как в Дюссельдорфе. «Смотрите, – говорит она, – у меня опять прядь волос свисает со лба, в те времена я тоже так носила, а Бенну не нравилось, он всегда был настоящим пруссаком». Восьмидесятилетняя писательница, получившая известность в 1976 году благодаря своей книге «Ведьмино зелье», сидит в абсолютно здравом уме у себя на кровати, вокруг нее стоят деревянные скульптуры со всего мира, стеллажи доверху забиты книгами, а где-то среди них – картонная коробочка с теми двумястами пятьюдесятью двумя письмами, преисполненными усталости от жизни, что Бенн отправил ей за свои последние два года. У нее в глазах тот же хитрый блеск, как на фотографиях того времени, когда очаровательная женщина тридцати трех лет сидела рядом с мудрым пожилым мужчиной и он был влюблен в нее по уши. А она, ворвавшаяся 3 августа 1954 года второй музой в пару к Астрид Клес, стала последней женщиной в длинном ряду.
Урсула Цибарт тогда хотела получить Бенна целиком, но это ей не удалось. Зато ее любовь благодаря Бенну стала литературой, и это, наверное, самое долговечное, что может приключиться с любившей его женщиной. Бенн написал стихотворение «Олимпия»: «Erhebe dich nun aus der Reihe / der Frauen, die das ganze Land durchblühn, / du trittst hervor, du trägst die Weihe / der Hochberufenen zum Liebesglühn» [45]. А в третей строфе он прямо обращается к Урсуле, к той женщине, что поднялась из ряда: «Wer trinkt dich so und wer erkennte dich / in deiner Ewigkeit aus Lust und Trauer – / erwartest du den Gott? – Erwarte mich» [46]. И вот последняя муза становится редактором, после бурного романа с «нёбным персиковым соком» [47]. Бенн на протяжении одиннадцати писем летом 1955 года подробно обсуждает с Цибарт стихотворения, их последовательность, состав сборника «Постлюдия». Когда сборник вышел, Астрид Клес гневно написала: «Вы не можете делать с именем Готфрида Бенна все, что вам заблагорассудится», – а потом она, филолог-германист, написала скептическую рецензию на сборник для литературного журнала «Kritische Blätter». Она не знала, но, возможно, чувствовала, что рецензировала в основном любовь Бенна к своей сопернице.
Мог ли Бенн, этот холодный прагматик в любви, быть нежным? Урсула Цибарт спокойно сидит на диване, закрывает глаза и говорит: «Не беспокойтесь, молодой человек, он был прекрасный любовник».
Мартин Вальзер. Классическое произведение. Расследование на Бодензее
Это история о лучшей книге первых лет существования ФРГ. Это история о «Браках в Филипсбурге». Но прежде всего это история удивления: почему Германия забыла об этом романе? Наше расследование приводит на берега Бодензее. Там, в Юберлингене, живет Мартин Вальзер, написавший в 1957 году роман, на примере Штутгарта мастерски показавший все человеческие неврозы и катастрофы времен «экономического чуда». Современного читателя эта книга мгновенно затягивает в мир пятидесятых годов, не имеющий ничего общего с нашими стереотипными представлениями о нем, и очаровывает интонацией вальзеровского текста, который был тогда похож не на теплую и спокойную реку, а на холодный и звонкий горный ручей с брызгами пены. Роман «Браки в Филипсбурге» рассказывает о стране, не знающей, что такое любовь, и о том, как в жертву общественному статусу приносятся и жены, и любовницы промышленников, адвокатов, врачей и журналистов. Но в первую очередь это роман воспитания: Ханс Бойман – это безмозглый позднекапиталистический внук Вильгельма Мейстера, который чувствует себя спокойно, только когда жена и любовница хорошо вписываются в его план деловых встреч. Итак, мы приехали на Бодензее, чтобы узнать больше о Мартине Вальзере и его первом романе. Но как разговаривать с писателем о его дебютном романе, посвященном практике адюльтера, не затрагивая личных тем? Как следить за карьерой молодого журналиста Ханса Боймана, не вспоминая на каждой странице о карьере молодого журналиста Мартина Вальзера? Хорошо, что в этот момент дверь в «канцелярию» Мартина Вальзера открывается, заходит Кете Вальзер и любезно предлагает кофе с пирожными. Кете замужем за Мартином Вальзером уже пятьдесят восемь лет. Тем самым она предлагает нам убедиться в истинности своего предуведомления к роману: «Роман не содержит ни единого портрета никого из современников, но автор надеется, что вымыслы, созданные на материале современной действительности, окажутся близки впечатлениям некоторых читателей». Не «я» и не «мы», настойчиво внушает Вальзер вот уже полвека своим читателям, в книге есть только «ты». Разумеется, мы не верим ни в первое, ни во второе. Но сейчас, весной 2008 года, нам предстоит долгий путь к молодому Мартину Вальзеру и его «вымыслам, созданным на материале действительности». И на пути у нас стоит в первую очередь сам старый Мартин Вальзер, его легкий и вместе с тем крепкий роман «Любящий мужчина»: на пару со старым влюбленным Гёте Вальзер покоряет списки бестселлеров и литературные салоны в языческом немецком королевстве [48]. Войдя тем утром в гостиную дома Вальзера в Юберлингене, мы немедленно ощутили дух его романов 70-х и 80-х годов: если посмотреть через большие окна гостиной на озеро, сразу же кажется, что сейчас в комнату войдет Готлиб Цюрн (из «Бегущей лошади» и «Лебединого дома» Вальзера) или еще кто-нибудь из легендарных вальзеровских растяп, героев среднего класса. Итак, нужно миновать Гёте и Готлиба Цюрна, чтобы добраться до «Браков в Филипсбурге». Мы поднимаемся по лестнице на чердак, к письменному столу, и проходим мимо старинного зеркала. «Жена сказала, чтобы я его тут повесил», – говорит Вальзер. Наверное, это хорошее упражнение в смирении – когда по пути к рабочему месту ты сначала видишь себя в зеркале. И вот мы наверху, а Бодензее внизу. В чашках остывает кофе, что налила Кете Вальзер. Начинается наше путешествие во времени. Мартин Вальзер берет в руки первое издание «Браков в Филипсбурге» с такой осторожностью и с таким волнением, как будто это старые письма, которые ты не читал уже десятки лет. Вальзер гладит бирюзовую обложку и говорит: «Кому-то для хранения воспоминаний нужны фотоальбомы. А я совершенно точно помню, почему написал эту книгу. Повод к ее написанию хранится в самой книге. Это был малорадостный повод». Мы привезли с собой на Бодензее наш экземпляр первого издания 1957 года, потому что личный экземпляр Вальзера хранится в Марбахе, в Немецком литературном архиве. Вряд ли можно более символично описать отношение Германии, ее читателей, ее критиков и литературоведов к «Бракам в Филипсбурге»: они сдали книгу в архив. С пометкой «раннее произведение, имеет важное значение», это да. Но Германия забыла прочитать эту книгу. Может быть, самую сильную книгу Мартина Вальзера.
Тому есть много причин: не только то, что эта книга пышет энергией и радикализмом (это основа любого хорошего дебютного романа). И не только скрупулезное описание последствий аборта, сделанного подругой Ханса Баймана, которое едва не помешала выходу книги и которое пробирает до мозга костей любого читателя, способного чувствовать. Но то, как Вальзер потоком текста промывает разные табу, пока на последней странице не обнажаются их болезненные корни – это большое литературное мастерство.
С формальной точки зрения впечатляет перекрещивание четырех отдельных сюжетных линий и глав, предвосхитившее киномонтаж Роберта Олтмена в «Коротких историях». Мы видим Штутгарт («Филипсбург» в романе) глазами четырех пар, несчастливых – каждая по-своему – и держащихся вместе только за счет привычки и ради статуса. Глазами Ханса Боймана мы смотрим не только на прогнившую мораль, но и на причудливых персонажей: например, на директора радиостанции доктора тен Бергена, который панически пытается добиться переизбрания на свою должность, на могущественного главного редактора Гарри Бюсгена, который непрерывно теребит свои очки, на чудаковатого соседа Боймана сверху, неудавшегося писателя Бертольда Клаффа. Бойман и Клафф живут в краснокирпичном доме на запущенной улице Траубергштрассе; социальные низы и их жаргон (включая рассказы проститутки Йоханны) в романе замечательно переплетаются с буржуазными коктейльными вечеринками штутгартского высшего общества, куда Бойман становится вхож в результате помолвки с Анне, дочкой промышленника. Бросается в глаза, что в своих поздних романах Вальзер, как и Федеративная Республика, смещает фокус краев общества в центр и создает много разглагольствующих героев из среднего класса (возможно, это одна из проблем). Так или иначе, один из источников невероятной силы «Браков в Филипсбурге» – непрерывно ощущаемое напряжение между верхами и низами.
Итак, тем весенним днем этот языковой монумент вновь оказался в руках своего создателя. После него Вальзер написал десятки тысяч страниц. Минуло почти пятьдесят лет с тех пор, как двадцатишестилетний отец семейства написал в деревне Корб, в долине Ремса, первые страницы своего дебютного сочинения. Вокруг молодого Мартина Вальзера с тех пор наросло очень много годовых колец. И все же: когда старый Мартин Вальзер начинает говорить, медленно, сосредоточенно, глядя в потолок, крепко держа книгу в руке, на секунду создается впечатление, что мы заглядываем в его молодое сердце искателя приключений.
Казалось бы, мы знаем все о создании «Браков в Филипсбурге», по крайней мере после того, как в 2005 году были изданы дневники Вальзера 50-х годов. Из них следует, что неутомимый теле- и радиожурналист Вальзер начал писать роман 9 октября 1954 года и закончил 27 августа 1956-го. А 8 ноября 1955 года во всех деталях была описана история мучительных попыток девушки сделать аборт. Он пишет: «Это была бы история, если бы у нее был конец». И Вальзер решил перенести это жестокое описание в свой роман. Он понял: это история, потому что у нее нет конца. Возможно, то был момент истинного рождения писателя Вальзера, одержимого реальностью. А также преодоления «кафкианской заразы», о которой Вальзер постоянно упоминает во время нашего визита. В 1951 году он написал диссертацию о Кафке, и только при написании «Браков в Филипсбурге» он освободился от Кафки как образца, говорит сам Вальзер. Только в названии, признает писатель, еще чувствуется Кафка: «„Браки в Филипсбурге“ – это звучит „довольно сухо“, – говорит Вальзер себе под нос. – Но я же не мог назвать роман „Штутгарт“». Когда мы сегодня читаем тогдашние отклики на роман, поражает, с одной стороны, что рукопись романа получила самую первую премию имени Германа Гессе, а с другой – каким был тон рецензий в 1957 году. Не было ни бури возмущения, ни криков восторга.
Тон был скорее благожелательным: неплохо, молодой человек. И никаких комментариев ни к супружеским изменам, ни к сценам с проститутками, ни к аборту. Рецензенты узнали, конечно, «сущностные черты нашей жизни», но сводили все к «сатире». И только «Die Zeit» пожурила автора за «неуместное дурновкусие» и «неуместную прямоту в эротическом аспекте». Но и не более того. Без особых скандалов. Книгу хорошо покупали. А потом о ней просто забыли.
Когда занимаешься историей «Браков в Филипсбурге», приходится заниматься и вопросом, почему же Федеративная Республика, так страстно ожидавшая великого романа, так пренебрежительно сдала в архив тот великий роман, который у нее был. Наверное, тому есть несколько причин: во-первых, плодовитость самого писателя Вальзера – естественно, с появлением каждого нового романа или пьесы дебютный роман задвигали на полке все дальше и дальше. А поскольку Вальзер в каждом своем романе пытается показать себя тем самым «современником», о котором он говорит в предисловии к «Бракам», то новые поколения читателей явно опасались, что увидят в старых книгах Вальзера устаревших персонажей.
Но в основном забвение этой книги связано с другой книгой, с «Жестяным барабаном» Гюнтера Грасса, который вышел в 1959 году и сразу же был объявлен критикой таким неслыханным и великолепным, каким он и являлся. Звучание жестяного барабана быстро заглушило шепот семейных кризисов и пустую болтовню вечеринок в Филипсбурге. Ошибка Вальзера состояла в том, что он написал о безднах современности в тот момент, когда страна с трудом начала поворачиваться к безднам прошлого. Туда благодарные читатели охотно отправлялись вслед за Грассом и его романом столетия. А про современность Германии эпохи экономического чуда полагалось читать в газетах. Позднее Вальзера упрекали в том, что в его романе не затрагивается немецкое прошлое, но, возможно, именно так романист умело ставит диагноз своему времени. Потому что он показывает, каким громким может быть сознательное молчание о прошлом, каким самозабвенным и саморазрушительным сосредоточение на современности, оторванной от прошлого. Можно сказать, что книга «Браки в Филипсбурге» Вальзера о 50-х годах появилась, к сожалению, на пятьдесят лет раньше времени. «Нет, я так не думаю», – возражает Мартин Вальзер и снова берет книгу своими удивительно большими руками, с любопытством перелистывает, будто читает впервые.
Потом он смотрит вниз, на Бодензее, которое уже тысячи лет плещется о свои берега, и говорит: «Книга может и подождать своего читателя». Точно так же, как ее автор, эта книга только спустя длительное время раскрывает некоторые свои тайны. Вальзер начинает рассказывать: «С 1951 по 1953 год мы жили в Штутгарте, на Райтценштайнштрассе, и все эти дома из красного кирпича послужили прототипом для Траубергштрассе в романе». Поскольку когда-то это была улица борделей, Вальзер решил поселить там хотя бы одну проститутку, Йоханну. А тесная дружба с режиссером Михаэлем Пфлегхаром и его семьей позволила ему заглянуть в «буржуазное общество» Штутгарта.
На роман очень повлияла его работа в Южно-Германской телерадиокомпании, говорит Вальзер, конечно же, ее директор Фриц Эберхард (потомственный дворянин) помог ему создать образ директора тен Бергена в книге. А когда он познакомился с главным редактором журнала «Hörzu» Эдуардом Райном, то так «впечатлился его манерой в течение целых минут тискать и мять свои очки», что поставил ему памятник в лице главного редактора Гарри Бюсгена. «Все, что связано с его образом в романе, вы можете принимать за чистую монету, я часто виделся с ним», – говорит Вальзер. Если бы Райн это заметил, то остался бы наверняка доволен, ведь он сам придумал для «Hörzu» рубрику «Оригинал и подделка». Но самую удивительную игру в оригинал и подделку Вальзер устроил с фигурой чудаковатого писателя Бертольда Клаффа. «Это Арно Шмидт», – говорит вдруг Вальзер и улыбается. Все знают, что он уважал Шмидта как писателя и человека. Еще мы знаем из опубликованной переписки писателей, что Вальзер постоянно пытался раздобыть в телерадиокомпании заказы для Шмидта, регулярно оказывавшегося на мели. Ту же самую констелляцию мы видим в романе, где Ганс Бойман пытается пристраивать статьи Клаффа, своего строптивого соседа сверху (то есть своего супер-эго), но каждый раз терпит неудачу из-за бескомпромиссности последнего. «Я бесконечно восхищался умением Арно Шмидта говорить „нет“», – рассказывает Вальзер. Но если Бертольд Клафф – это Шмидт, то Ганс Бойман – это Вальзер? Это, конечно, важный вопрос. Даже если действительность носит имя Арно Шмидт, или Михаэль Пфлегхар, или Фриц Эберхард, или Эдуард Райн – речь идет о «вымыслах, созданных на материале действительности». И о том, можно ли сделать из них большую литературу. Вальзер захлопывает книгу, мы покидаем 1957 год и его писательский кабинет, мы собираемся спуститься вниз, в гостиную, к Кете, к озеру, к современности. Мартин Вальзер спускается первым. Если что, писатель может и подождать своих читателей.
Георг Базелиц. A past to come [49]
Первый солнечный день весны в мастерской Георга Базелица. Подходящий день, чтобы начать что-то новое. Художник среди своих самых новых картин. Это похоже на большой семейный праздник или, с учетом холстов, прислоненных к стенам, – на большую семейную выставку. Потому что искусство Георга Базелица всегда, с самого своего бурного начала в 60-е годы, было психологическим, это беспощадные, безжалостные вопросы к самому себе, к своим близким и своим героям. Мы ощущаем близость между художником и его темами, они росли в течение десятилетий, бесчисленные уровни взаимоотношений окружили его мотивы, подобно годовым кольцам дерева. Но каждый год появляется новый побег, расцветает невиданный цветок. Цветы 2016–2017 годов росли на мрачном грунте, Базелиц грунтовал большие полотна черным цветом, чтобы потом легко нанести на них светлыми красками зашифрованные изображения своих давно уже ставших легендарными фигур. Как правило, мы видим только ноги и туловища, быстрые, смелые штрихи на темном грунте, очень много движения, а потом нацарапаны еще и дикие жестовые структуры. Также мы видим там его жену Эльке, его собаку, его кумиров. Например, Дюшана. А поверх всего – туман из белых точек, как будто картины всплыли с большой глубины и вот-вот снова утонут. Георг Базелиц ловит столь ценный краткий миг между этими двумя состояниями. Революционная картина Марселя Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» с ее фокусировкой на моменте стала знаковой для всего этого цикла и всей парижской выставки [50]. Поэтому первым делом вопрос: «Почему снова Дюшан, Георг Базелиц?» И ответ: «Потому что я его люблю».
А любовь, конечно, не слепа, вопреки немецкой пословице. Иначе никто из художников не смог бы любить. Любовь делает человека особенно проницательным. Потому что, как говорит Базелиц, мотив знаменитой «Обнаженной, спускающейся по лестнице» был на самом деле украден у Пикассо. Но в том-то и дело, что это совершенно неважно. Он сам не испытывает никакого доверия к Дюшану – человеку, на которого никогда нельзя положиться, в брехтовском смысле. Однако, говорит Базелиц, «я очень долго и довольно интенсивно занимался этим молодым человеком». Молодой человек – это Дюшан, который родился в 1887 году, а называет его так Базелиц, родившийся в 1938-м. Базелиц испытывал наслаждение вора, когда изображал Дюшана в эротических линогравюрах, с крупным планом гениталий, как будто хотел показать, что и реди-мейд «Фонтан» Дюшана находится в прямой связи с некой частью тела своего создателя. Говорят, что искусство перемещается от глаза к мозгу? Базелиц постоянно напоминает: иногда оно остается в чреслах.
Дюшан регулярно появляется в творчестве Базелица – например, его лицо, в самых неожиданных местах, в том числе в «Русских картинах», где композиция в духе Арчимбольдо в профиль вдруг напоминает того же самого Дюшана. Дюшан как будто постоянно заглядывает ему через плечо. Не так уж трудно понять, зачем это нужно Базелицу, хотя сначала такая глубокая связь между немецким практиком и французским теоретиком вызывает недоумение. Дело в том, что этот гениальный Дюшан доводит до абсурда всю веру в исторический прогресс искусства тем, что выражает подъем на новый уровень видения и изображения через движение вниз. «Descent», «нисхождение», так Базелиц назвал эту выставку. То есть это движение вниз. И тут мы видим три аспекта: это и кивок в сторону первооткрывателя реди-мейда и величайшего художника-концептуалиста всех времен, и ироничная констатация биологического статус-кво уже почти восьмидесятилетнего Базелица – а кроме того, это намек на патетических искусствоведов, которые как минимум начиная с Вазари убеждены в том, что после Рафаэля и Микеланджело для высокого искусства есть только одно направление – вниз. А когда дорога вниз закончится – начнется подъем? Стало ли искусство сегодня, сто лет спустя, умнее Марселя Дюшана?
Поэтому второй вопрос Георгу Базелицу звучит так: «Верите ли вы в прогресс искусства на протяжении истории?» А ответ звучит так: «Нет». Произнесите его и медленно спуститесь с высокой галереи к его картинам, прислоненным к стенам этажом ниже и доказывающим, что в искусстве имеет значение только настоящий момент. Когда мы смотрим на картины с выставки «Descent» Георга Базелица, мы чувствуем, что время Дюшана – наше время, а наше время – время Дюшана. Эти картины лишают время хронологии, то есть чувства, будто вещи должны становиться тем современнее, чем ближе мы подходим к сегодняшнему дню. Нисхождение, восхождение – это всё вопрос точки зрения.
Descent, нисхождение? «Мы не падем, мы поднимемся». Это последние слова великого немецкого поэта Готфрида Бенна. Георг Базелиц много лет читал Бенна как одержимый. Но тогда он был еще молод. Тогда он еще отвлеченно смотрел на работу Бенна «Старение как проблема для художника». Хотя как знать, может быть, он как раз таки очень хорошо понял то эссе и носил его в себе как внутренне предостережение: не устать в своем искусстве, не захиреть постепенно от самодовольства. И потом, став старше, Базелиц очень активно изучал поздние работы больших мастеров, например Пикассо. Он знает: в старости появляется ощущение, что ты больше не являешься частью процесса. Ответ Базелица на старение как проблему для художника после мучительных размышлений был в 2005 году таким: «ремикс». Он стал своим собственным куратором, своим биографом, своим критиком, своим психологом. Он начал заново формулировать главные темы своего искусства, сомневаться в старых решениях, искать новые, давать свежие художественные ответы на вопросы, которые, казалось бы, устарели. Это было чем-то вроде допинга с помощью инъекции собственной крови, а если пользоваться молодежным лексиконом – Базелиц вмазался Базелицем, и получился Базелиц. В тот момент, когда многие художники в поздние годы начинают искать новые темы, новые мотивы, новые техники, чтобы доказать себе и миру, что они молоды – что, конечно, неправда, – Базелиц сделал ровно наоборот. Он стал писать картины, которые противоречили его же картинам, были сносками к ним, оммажами им, выводами, возводили их в какую-то степень, жаловались на них. Он демонстрировал всем, что стал достаточно старым, чтобы спокойно задавать себе вопросы и развиваться. А не убегать от себя, как обычно. Или застывать памятником самому себе. И с тех пор его кисть кружится вокруг тех же самых старых тем, что и десятилетия назад: он сам, он сам как мужчина и как немец, он сам и его жена Эльке, перевернутость моделей как сопротивление прямолинейному, правильному миру, это Дрезден, его далекая родина, старые ландшафты, старые мечты, великие художники юности, например Фердинанд фон Райски [51]. «Моя работа, – говорит Базелиц, – за последние сорок лет очень сузилась, я все больше погружен в себя». Его жизнь – старые картины, старые каталоги, старые воспоминания, старые народные песни, саксонские ландшафты; он обращается к старым фотографиям своей жены, к своим старым страхам, старым ранам, «ничего нового». Этот человек не хочет никогда больше оказываться во власти желаний, погони за количеством, идеологий и уж тем более – требований современности.
Иногда он впускает кого-то в свой художественный космос, например Дикса: Базелиц очень любит его картину «Портрет моих родителей» 1924 года, и она появляется на парижской выставке как воспоминание, напоминающее гравюру на дереве, – пара схематично вырезана из черного фона забвения. И он сам, и зрители так или иначе совмещают новую картину с известным каркасом, давно уже виденным, говорит Базелиц, и вот он ищет художественное воплощение этому процессу. Родители почитаемого им Дикса становятся в «ремиксе» прообразом родительства, смешиваются с родителями самого Базелица и с двойным портретом Базелица и его жены. Фигуры, перевернутые вниз головой, максимально упрощенные, напоминают забитых животных, висящих в морге истории. Но в конечном счете это всего лишь две схемы, связанные друг с другом и все же самостоятельные, они сидят на одной скамейке, пока столетия проплывают мимо: холсты напоминают палимпсест, на них соскоблены и закрашены бесчисленные слои, а Базелиц вытаскивает такую картину из тьмы истории искусств на свет и дарит ей своей живописью новую вневременность.
Совсем иначе обстоят дела с его «ремиксом» «Больших друзей» 1965 года, которые наряду с Диксом и прежде всего Дюшаном являются третьей ключевой картиной на этой выставке. Здесь он с помощью агрессивного нанесения краски и композиционной редукции находит новую форму, ядро, а сознательная грубость нового слоя помогает его фигурам, это больше не надломленные герои первоисточника 60-х годов, теперь они стали архаическими полубогами, которым ничто не может повредить, потому что они уже давно часть истории искусства и, стоит только их оживить, готовы продолжить свой бег, но теперь уже не вниз, а вверх, к новым высотам.
Георг Базелиц – ностальгическая натура. И он был достаточно умен, чтобы не изгонять ностальгию из своего искусства, а в течение последних десятилетий сделать ее двусмысленность единственным содержанием своих работ. Если раньше это были болезненные и бунтарские темы его внутреннего кружения вокруг себя и своего прошлого, которые он сделал вибрирующим ядром своей живописи (детство и юность в Саксонии), то в последние пятнадцать лет он смотрит таким же ностальгическим взглядом и на свою прежнюю живопись. Отсюда берется черный фон на всех новых картинах. Отсюда белые крапинки, бегущие по холстам, как мушки на глазной сетчатке, они делают картинку одновременно и более мутной, и более резкой, «затуманивают», как это называет Базелиц.
Descent, нисхождение – для Базелица тут есть еще один аспект: взглянуть с шаткой, гнилой наблюдательной вышки XXI века назад и вниз на XX век, лежащий за спиной у него и у Германии, из тумана которого продолжают высовываться ноги, фигуры, пары, прохожие мировой истории, входящие затем в его искусство. Начало серии ремиксов в 2005 году – второй важнейший поворотный момент в творчестве Базелица после «переворота вниз головой» фигур на картинах в 1969 году. Старение не как проблема, а как возможность для художника. Очень любопытный момент заключается в том, что Базелиц своими переизданиями, своими ремиксами подтверждает самое известное и до сих пор плохо понятое высказывание Готфрида Бенна, в котором есть преодоление Фрейда, – и это двойная радость для Базелица. Ведь когда он впервые взялся за Дюшана, то изобразил его занимающимся сексом с горничной – и Зигмунда Фрейда рядом. «Навязчивые повторения, только они создают стиль», – это понял большой поэт Бенн. Живопись Базелица последних лет доказывает, что именно благодаря настойчивому проникновению в одни и те же темы возникает что-то новое и прочное. И мы понимаем: большое искусство – это всего лишь маленький нюанс.
* * *
Мы живем два раза, сказал Бальзак: первый раз в действительности, второй раз – в воспоминаниях. На этом парижском «саммите» Дюшана и Базелица фраза Бальзака получает очередное новое измерение. Дюшан всегда не просто жил в действительности, а создавал тот образ себя, который должен сохраниться у нас. Базелиц, который любит Дюшана, с удовольствием поддерживает его в этом стремлении, но вместе с тем его новые картины – не просто воспоминания об обнаженной, спускающейся по лестнице, о гении, вышедшем за пределы истории искусства, – это еще и воспоминания о себе, о своей живописи, которой он через воспоминания дает вторую жизнь в обновленном настоящем. Обнаженные в розовом или в белом, спускающиеся по лестницам на новых картинах Георга Базелица, – это, несомненно, опять Эльке Базелиц, а еще чаще – сам Георг Базелиц. Мы видим его ноги, его руки, его туловище – и только его головы мы не видим. Остается загадкой, чья это голова – Базелица, Дюшана или той безымянной модели, которая в 1912 году спустилась по парижской лестнице и до сих пор держит в напряжении историю искусства. Базелиц говорит на прощание: художник должен каждый день заново учиться создавать свои произведения из восхищения перед великими образцами. Причем иногда помощь в написании картины может прийти от того, кто сто лет назад громогласно возвещал о конце живописи.
* * *
Итак, Георг Базелиц сидит в 2017 году в своей новой мастерской в Верхней Баварии, он рисует, размышляя, и размышляет, рисуя, – о Марселе Дюшане. Какое удачное совпадение в том, что сто лет назад тот самый Дюшан выбрал именно Верхнюю Баварию и окрестности Мюнхена для того, чтобы обновить свое искусство. Жюри «Салона независимых» отвергло именно его «Обнаженную, спускающуюся по лестнице», причем с абсурдной формулировкой: мол, обнаженной не полагается спускаться по лестнице, ей полагается лежать. И тогда Дюшан наверняка решил отправиться к кому-то, у кого обнаженные лежат как надо, на покрывалах, и поехал в Баварию к художнику Максу Бергману, с которым он познакомился в Париже. Тот писал очень лихо и много – женщин, пейзажи, коров, очень уверенно, в стиле Коринта [52]. И кто знает, может быть, Дюшан решил совсем бросить живопись не сразу после парижской истории с «Обнаженной, спускающейся по лестнице», а только тогда, когда увидел в мастерской Макса Бергмана его обнаженную, лежащую на подушках, написанную в том же 1912 году, и осознал: так мы никуда не продвинемся. Под «мы» подразумевается история искусства. Дружба с Бергманом вскоре угасла. А произведения Дюшана начали свой медленный путь от мольберта к голове художника. Если для жюри так важно, лежат обнаженные или спускаются по лестнице, то пусть останется одно-единственное жюри – сам художник. И Мюнхен становится местом реализации этих дерзких амбиций Дюшана. Уже их одних хватило бы Базелицу, чтобы навсегда влюбиться в Дюшана.
А теперь у Георга Базелица есть кушетка, будто специально созданная для того, чтобы писать уютно расположившихся на ней обнаженных, с нее он может смотреть вниз, на буки за окном и на озеро Аммерзее – но он повсюду видит Дюшана. Потому что в основе его любви к Дюшану лежит в первую очередь его восхищение тем, насколько ловким, tricky тот был, что до сих пор может так заинтересовать любого художника. И даже такого художника, как Базелиц, который всем своим творчеством сопротивляется тезису Дюшана о том, что искусство переместилось от глаза к мозгу, который до сих пор наносит краску на холст такими же щедрыми, широкими, резкими и уверенными мазками, как и пятьдесят лет назад, когда его «герои» внезапно перебрались из фантазии на полотна. Почему Виллем де Кунинг – герой для Базелица, это сразу понятно. Но Дюшан? Еще в конце 90-х годов он посвятил любви Марселя Дюшана к своей горничной серию картин с эротическими мотивами, например работу «Только что влюбился – М. Д.». И тогда живопись Базелица внезапно разоблачила саму любовь как величайший реди-мейд. Но мне все-таки кажется, что намного более тесная связь с Дюшаном на выставке «Descent» прослеживается в революционном отношении Дюшана к собственному творчеству. Он принял рациональное решение – отказаться от живописи, причем в тот момент, когда на «Арсенальной выставке» 1913 года в Нью-Йорке имел больший успех, чем Пикассо или Матисс. Но самое главное – Дюшан очень рано занялся своей посмертной славой, своей самоисторизацией. Он делал коробки, в которых копировал в миниатюре свои важнейшие работы, затем размещал их в удобном чемодане как размноженную и уменьшенную коллекцию best of и продавал небольшими тиражами. Такое забавное сочетание гордыни и иронии, самомузеефикации и кукольного домика наверняка нравится Базелицу. Конечно же, Дюшан взял в свой легендарный красный чемодан («Boîte-en-valise» [53]) и свою «Обнаженную, спускающуюся по лестнице» – да, это историзация своих творческих достижений, направленная на то, чтобы настоящего нисхождения в общественном восприятии никогда не произошло.
«Ремикс» – личный ответ Базелица на красный чемодан Дюшана. А тридцать семь работ выставки «Descent» – своего рода ответ в квадрате, это ремикс собственных больших тем, но в то же время и ремикс идеи чемодана, ведь Базелиц дает «Обнаженной, спускающейся по лестнице» возможность войти в свое произведение и тем самым подняться по ступеням времени. Дюшан хотел найти образ движения. И вот теперь он нашел в лице Георга Базелица восторженного последователя, ибо тот до сегодняшнего дня поддерживает свое творчество в непрерывном движении. Дюшан же подливает масла в огонь. А мы, зрители, с удовольствием смотрим на пламя, пылающее перед нами на этих холстах. Черная грунтовка похожа на старый пепел, но под ним еще тлели угли, и вот снова разгорелся огонь, и это замечательно.
«Каза Бальди». Место, в котором немецкое искусство XIX века обрело новую жизнь
И вот, наконец, мы сидим в арендованной машине, в сумрачном паркинге аэропорта Фьюмичино, тяжелая жара сгустилась между машинами, через открытые окна слышен только визг колес, мучительно выруливающих по кривым узким проездам, как по лабиринту. «Et in Arcadia ego» должно выглядеть как-то иначе, тут это просто смешно, в этом жутком месте, где царят бетон и суета; впрочем, у Италии есть богатые традиции в строительстве царства теней. «Europcar» и «Sixt» – нынешние арендаторы в преддверии Дантова ада и в запутанных, бесконечных темницах Пиранези. Но стоит только ввести в навигатор название городка Олевано, как сразу вот оно, ощущение счастья, всплывает на дисплее будто из глубины веков: улицы там называются Via Joseph Anton Koch, Carrera Heinrich Reinhold, Via Franz Hornу [54], как будто ничего особенного, но с трудом верится: это важнейшие представители немецкого искусства начала XIX века, которые написали в Олевано свои лучшие картины, которые там любили (Кох), жили (все), умирали (Хорни). Нет сомнений: мне нужно туда. Но что влекло Коха, Горни и Рейнгольда тогда, двести лет назад, в этот Олевано, маленький горный городок с развалинами крепости и извилистыми улочками? Там вроде бы много красивых женщин, даже вызывали карабинеров из-за того, что женщины позировали для немецких художников обнаженными, а по узким переулкам там якобы бегает множество светловолосых и рыжих детей, живых доказательств того, что итальянская муза с большим удовольствием целовала здесь немецких художников. Ну что ж. Ты знаешь ли край, где легенды цветут? [55] Однако даже у Альберто Моравиа самые яркие красавицы спускаются в Рим именно с Сабинских гор, а Антониони искал исполнительниц на роли настоящих итальянок в своих фильмах в Олевано и Палестрине. Женщины тут невероятно гордые и высоконравственные, говорили мне знатоки; ну хорошо, насчет гордости я могу подтвердить, а в остальном не знаю. Моя последняя надежда, дочь изготовителя пасты, прославившаяся благодаря черно-белым фотографиям, всегда где-то пропадала, имелась только ее оглушительно объемная мама, а за неделю невозможно купить столько макарон домашнего приготовления только ради подтверждения какого-то там тезиса (кстати, что касается детей в переулках – все темноволосые, а вот переулки, те да, до сих пор узкие). Отправляемся дальше.
* * *
Для художников, приезжавших в Олевано в 1810, 1820, 1830-х годах, узкие переулки были, конечно, привычны: их много и в Южном Тироле, и в Тюрингии, и в Гейдельберге. Они умели рисовать их, знали, как совмещаются кубы домов, как стены светятся золотом на солнце, а в тени приобретают теплый серый оттенок, сегодня мы сказали бы – пигмент «Elephant’s Breath» [56] компании «Farrow & Ball». А вот что было для художников новым и каждый раз потрясало: вид, открывающийся от «Каза Бальди» и между домами, вниз, на широкий простор, на равнины и теряющиеся в голубой дымке гряды холмов. Мамелы (Monti Ruffi), Вольские горы (Monti Lepini), гора Монте Серроне – все они стали центральными горными массивами немецкого романтизма. Та самая принципиальная смена перспективы, что происходит в Олевано: смотришь как будто с Олимпа, божественным взглядом.
Приходится очень долго петлять вверх по улицам города, как и в паркинге во Фьюмичино, только теперь дорога ведет в гору, по мощеным улицам, ширины которых хватает как раз для одного автомобиля, ты взбираешься выше и выше и радуешься, что можешь положиться на навигатор, а не на свое умение ориентироваться. И в какой-то момент ты оказываешься у врат рая – они открываются (привратник говорит, конечно, на итальянском, как и предполагали Рафаэль с Микеланджело), последний холм, и вот ты оказываешься наверху. У того самого креста на вершине немецкой романтики. И ты неизбежно начинаешь – смотреть. От балюстрады «Каза Бальди» вправо, на Крепостную гору с развалинами, с группой старых домов, которые жмутся друг к другу, как испуганные овцы, точно так, как это написал Генрих Рейнгольд, как это написал Генрих Бюркель, и Альберт Венус, и Александр Канольдт [57], ах, я уже сто раз видел это в масле на холсте и в карандаше на бумаге. Но еще никогда – в натуре на натуре. А затем, пожалуй, еще более ошеломляющий вид: вдаль. Это невероятно. Кажется, я никогда еще не мог видеть так далеко. Я пью эспрессо. Но это по-прежнему невероятно. Ландшафт под Олевано открывается как гигантская чаша, где-то вдали виднеется Палестрина, в остальном видна только зелень, немного коричневого и много дымки. Далее края чаши постепенно поднимаются и заканчиваются далекой грядой холмов, очень изящно смоделированной и заретушированной голубым. «Как на картине», – думаю я невольно. Потому что это тот самый вид, известный по бесчисленным картинам. «Будто специально приспособлено для художника», – охарактеризовал его когда-то Фридрих Преллер [58], большой поклонник Олевано. И вот его написали уже сотни, тысячи художников за прошедшие двести лет. Все время одни и те же виды: на Крепостную гору с ее домами. И вдаль. Все они сидели на террасе «Каза Бальди» и в оливковой роще под ней. Ставили свои мольберты. Были каждый раз заново ошеломлены бескрайним видом на долину Сакко. И создавали все новые и новые картины, незаметно скользя от классицизма Коха к раннему романтизму Рейнгольда и Рихтера, затем к чудесным наблюдениям за природой Ширмера (примерно в 1840 году), к идиллиям Преллера, Канольдта-старшего [59] и, наконец, к архитектурным каскадам Канольдта-младшего в стиле новой вещественности. Мотив пережил все «измы». Он каждый раз освобождается от того, как его воспринимают. И каждый раз снова являет себя изумленным взорам, но теперь смотрим уже мы, родившиеся слишком-поздно, всезнайки с «Википедией» в смартфоне, но тем не менее вечно ищущие.
* * *
Вечером я лежу в маленькой комнате для гостей в «Каза Бальди» и в качестве инициации читаю Рольфа Дитера Бринкмана [60] – эту книгу, создающую необходимое настроение, стипендиаты здесь бережно передают друг другу, как сигарету с марихуаной. Итак, «Рим, взгляды»: это бешеное разрушение утопии, эта безумная зацикленность на себе, напечатанная на макулатурной бумаге. Сорок лет назад этими текстами он пытался сделать более выносимым свое пребывание на «Вилле Массимо». Печатал, делал коллажи, пририсовывал что-то и пытался как-то упорядочить свое неприятие: тут дают плохой кофе, там постоянно лают собаки, а там мигает неоновая трубка. Как все это теперь далеко, как герметично, всего одно поколение спустя. «Рим, взгляды»? Скорее так: слепая озлобленность. Как же хорошо, что из бринкмановских развалин мы выстроили новые утопии: о судьбе художника, об Италии, о красоте. Но кто знает, может быть, для этого были нужны те самые обломки, которые создавал Бринкман, разбивая молотком лоснящееся послевоенное благополучие, имевшиеся якобы колонизаторские замашки немцев в Италии, мир потребления и все уродливое вокруг него. Сегодня эту книгу почти невозможно читать; потом, за бутылкой восхитительно легкого сухого белого вина из Олевано книга читается уже лучше (и быстрее). Под конец рассказчик, назвать которого «героем» не позволяет уважение к автору, действительно оказывается в «Каза Бальди», куда он сбегает из Рима. Наверное, он ничего не знал о богатой истории городка в XIX веке, ничего не знал о значении Олевано для немецких романтиков, иначе он не почувствовал бы себя вдруг таким свободным. В общем, Бринкман пишет из Олевано своей жене и хочет привезти ее сюда, потому что здесь – порядок. Его описания физиономий деревенских жителей, характеристику инфраструктуры невозможно было бы процитировать ни в одном путеводителе по Олевано, но если ты раньше читал, с каким остервенением он ругает Рим, его жителей, шум, фальшь и нелепость, то его отношение к Олевано кажется уже почти дружелюбным. Не сомневаюсь, что его утихомирил вид на простор, открывающийся с «Каза Бальди».
Я засыпаю над книгой, часы на башне своим светлым звоном сообщают такое время, что не хочется считать удары. Чуть позже, во время обеда в подвальчике с Иоахимом Блюером, директором «Виллы Массимо», подают «позднее» радиччио и раннее белое, а мы для разнообразия сидим в Олевано без всякого вида, потому что итальянцы за несколько тысяч лет накопили так много света в своих генах, что предпочитают и просто сидеть, и есть, и смотреть телевизор в темноте, а при необходимости беседовать с «тедески» [61] о разнице между поздним и ранним радиччио, вместо того чтобы рассуждать о раннем и позднем творчестве Йозефа Антона Коха. Блюер тем временем рассказывает: «В комнате, где сейчас живете вы, именно в ней, жил Рольф Дитер Бринкман». Именно здесь, понимаю я, при взгляде на простор, в сторону голубых горных цепей, он и придумал название «Рим, взгляды». Запятая тут нужна не для перечисления, а «взгляды» подразумевают не его разрушительный рентгеновский взгляд на окружающую итальянскую действительность, нет, «взгляды» – это Олевано, его вторая остановка в Италии. Может быть, для такого человека, как Бринкман, глядящего на окружающий мир свысока, нет в этом мире места лучше.
* * *
У немецких романтиков, что начиная с 1820 года после утомительного подъема пешком и на ослах добирались, наконец, до олеванского холма и пили в таверне семьи Бальди первую чашку кофе или, что более вероятно, первый бокал вина, дела обстояли точно так же. Большинство из них не хотели больше никогда уезжать из этого городка с населением три тысячи человек – но остаться удалось только двоим: первый женился на самой красивой девушке в Олевано, Кассандре Райнальди (Йозеф Антон Кох), второй же, более смелый, скончался здесь (Франц Горни). Увидеть Олевано и умереть – таким мог бы быть патетический девиз молодых мечтателей, горячих голов из Дрездена, Мюнхена, Дюссельдорфа и Веймара, отправлявшихся из своих академий на юг; могила Горни стала местом их паломничества. А дикий, романтический ландшафт вокруг Олевано стал их раем – со своей уникальной смесью высоченных каштановых, вязовых и дубовых лесов, там и тут драматично разрезанных долинами и горными хребтами, с небольшими плато, с которых открывается широкий вид; на склонах холмов рожь, виноград и оливки, попадаются мирные овечьи стада, пастухи, крестьяне, виноделы. Небесный покой.
Потом долина Сакко, а за ней, между далеких горных хребтов, слабое голубое мерцание далекого моря.
Первое поколение, то есть Рейнгарт, Кох, потом Рихтер, Рейнгольд и Преллер в 1820-е годы, – они написали картины, определявшие представление об Италии на протяжении всего, такого долгого, XIX века. Вслед за постаревшими мастерами поехали их ученики, они бродили по их тропам, спали на их кроватях – и вот какое чудо: их впечатления не имеют ни малейшего оттенка вторичности, никто не наслаждается ностальгией. Да, те художники, что приезжали в Олевано и в «Каза Бальди» в 40, 50, 60 и 70-е годы XIX века, держали в голове первые художественные «владения» своих предшественников, то есть места с лучшими перспективами и удачные композиции. Но художники не ощущают из-за этого скованности, давления, каждый из них находит свой Олевано. Доменико Риккарди в течение десятилетий педантично, шаг за шагом реконструировал взгляд самого Олевано на немецкую экспансию в городок в XIX веке. Риккарди сумел показать, как собственные переживания в этом особенном месте каждый раз оказываются сильнее, чем предшествующая история искусства. Каждый раз художники, едва начав писать, с трепетом выводят крупными буквами слово OLEVANO в правом нижнем углу холста, будто гордо высекают на камне свидетельство своего присутствия. А потом соседние местечки: Ройяте! Сан-Вито и Генаццано! Палестрина, конечно же, Субиако, Чивителла, Рокка-ди-Папа – это всё еще деревни или уже чистая поэзия? Названия с гордостью наносятся на рисунки, они подтверждают, что их создатель действительно побывал в этих священных местах.
* * *
Да – священных. Удивительно видеть, как скудная земля вокруг Олевано за каких-то десять лет из окраин с выгонами для скота и стройками превратилась в волшебный лес. Но тут, в развалинах крепости над кубиками домов и в рощах каменного дуба в Серпентаре, обитают, судя по всему, не только братья Гримм. Если посмотреть на картины Коха, Преллера, Рихтера, этих тихих, увлеченных натуралистов-первооткрывателей, то здесь, наверху, на высоте 571 метр над уровнем далекого моря, можно увидеть фавнов, прячущихся за деревьями, и античные боги, кажется, спустились с Олимпа на Крепостную гору в Олевано. В общем, Аркадия – это здесь. Тем не менее итальянское сельское семейство, передвигающееся верхом на осле, на многих картинах запросто становится святым семейством, бегущим в Египет, хотя на самом деле они направляются в соседнюю деревню, в Чивителлу. А иногда ты будто оказываешься в Вифлееме. «Ландшафт Серпентары с тремя волхвами» – так называется знаменитая картина Йозефа Антона Коха, другая картина – «Святой Губерт в Серпентаре». Дубовая роща стала олицетворением чего угодно и кого угодно. Или, как пишет сам Кох: «Природа там всюду имеет первозданный характер, каким он представляется при чтении Библии или Гомера». Франц Горни, находясь под впечатлением, уже в первый день в Олевано пишет матери: «Это действительно волшебная страна». Все эти фантазии на тему христианско-мифологически-сказочного волшебного мира в самых тяжелых случаях усугубляются антииндустриальным восхищением невинным сельским бытом современной Италии, а также подмигивающими сборщицами винограда, которые немного напоминают спящую красавицу, еще немного Марию Магдалину, а больше всего – Юнону и Геру. Как все замечательно перемешано! Семиотически, типологически, иконографически и в любом другом аспекте, который только можно вообразить. Голо Маурер [62] первым в 2014 году взглянул на олеванскую живопись пристальным и трезвым взглядом и попытался распутать все пересечения значений и переплетения связей. В своей книге «Италия как реальность и как мечта» он посвятил немецкой колонизации Олевано целую главу – и самым подходящим местом для ее прочтения я считаю шезлонг между оливковых деревьев в саду «Каза Бальди». Солнце греет, на небе ни облачка. Маурер очень освежает тем, что с юмором относится к пафосу художников – но не лишает при этом картины их поэзии. Листья оливок шелестят на ветру, где-то сзади в долине школьная перемена, детский гомон доносится до вершины холма, экономка «Каза Бальди» неустанно подметает огромную террасу, проходит туда-сюда, туда-сюда. Закрою ненадолго глаза в этом месте, где постоянно так хочется раскрыть их пошире. И вот уже вскоре на оливах расселись фавны, а наверху подметает Мария Магдалина, как мне мерещится, но нечего тут: открываю глаза.
* * *
«Весну в Фиальте» Набокова я читаю на следующий день, после обеда, я вообще-то сам не знаю, почему я взял с собой эту книгу. Я лежу в траве на склоне холма близ Серпентары, надо мной сгущаются тучи, передо мной неровные ряды виноградников сорта «чезанезе», слева дубы, громко шумящие на предгрозовом ветру, где-то ужасно высоко Чивителла, которую я отказываюсь называть «Беллегра». Действие чудесного рассказа Набокова происходит, вот сюрприз, в маленьком горном городке в Италии, речь идет об узких улочках и о встрече рассказчика с большой любовью своей юности, которая случайно попадается ему на улице. Городок расположен будто бы сразу и на холме, и у моря, но я думаю, что это одна из обычных уловок автора, чтобы запутать читателя. Тут все понятно, а действие «Весны в Фиальте» разворачивается в сонных послеполуденных переулках, на скачущих вверх-вниз серпантинах дорог. Набоков рассказывает, как оловянная фольга на улице вдруг засверкала и поэтому рассказчик заметил, что солнце наконец разогнало тучи. И тогда все меняется. То есть это рассказ о преображающей силе света. Мне кажется, что действие такого рассказа может происходить только в Олевано.
* * *
Именно свет всегда манил художников в Италию. А в Олевано свет брал их в плен. Потому что здесь свет может полностью реализовать свою власть – сильнее, чем в Риме, где главную роль всегда играет история, или у моря, где свет всегда оказывается в тени морской синевы. Еще Генрих Рейнгольд полностью сосредоточился на этой теме в своих грандиозных этюдах маслом в сентябре 1821 года: он писал хрустальный воздух раннего утра и туман осеннего заката, писал короткие полуденные и длинные вечерние тени. Иоганн Вильгельм Ширмер, тоже в сентябре, но уже в 1839 году, отправляется из города на природу и вроде бы совсем иначе, но так похоже схватывает это утро, и этот полдень, и этот вечер, отражающийся на листве олив и в тенях, что они отбрасывают на скудную землю. И оба они пишут воздух, постоянно преображаемый светом. Во время работы над этими этюдами возникают совершенно разные перспективы, и больше не существует никакой композиции, есть только открытый, восхищенный взгляд на панораму, игру света и одна-единственная тема – солнце, ласкающее землю. Здесь, в Олевано – через каждые десять метров новый свет, новые тени и новые виды: свет преломляется, раскрывается, смягчается и манит к себе. Такой дымчатый вдали, он может внезапно сверкнуть между двумя домами. Он просвечивает сквозь дубы в Серпентаре, на холмах Вольских гор и Мамел чувствуется его теплое голубое мерцание. Ты внезапно замечаешь его на висках танцующих сборщиц винограда и на придорожном распятии по пути в Чивителлу. И конечно, ты видишь его везде, если смотришь на мир сверху, от «Каза Бальди». Свет – главное действующее лицо в Олевано, и все подвластны его чарам.
* * *
Все, кроме одного: это Карл Блехен [63]. Он в любом случае был нетипичным художником первой половины века, он как будто случайно попал в романтическое искусство, а по своему темпераменту, по своей манере был для современников слишком экспрессивным. Во время путешествия в Италию в 1828 году появились его легендарные «Наброски из Амальфи», в которых он изобрел совершенно новаторскую световую живопись: он сделал светом фон бумаги, а все предметы писал коричневым поверх этого света, в результате чего они становились невесомыми и мерцающими. А в Римской Кампании он с помощью коротких и сильных мазков довел жанр этюдов маслом до преждевременной кульминации, за которой могла следовать уже только абстракция, еще в 1828 году он был готов передать эстафету Сезанну, но тот родится только в 1839-м. В общем, этот Карл Блехен, новатор немецкой пейзажной живописи на итальянской земле, тоже приехал в Олевано. Но то, что он тут увидел, было довольно странным. Для него будто невыносим этот романтический шабаш, и вот он пишет в Олевано холодными мазками апокалиптические пейзажи. На скудной земле стоят засохшие деревья, небо белеет, все кажется застывшим и оглушенным, как после падения метеорита. Его работы, написанные за те дни, что он провел в Олевано, в списке произведений художника носят краткие названия: «Голый пейзаж», «Голые деревья» или «Голый горный пейзаж, сверху слева Олевано». That’s it [64]. Разумеется, Блехен не писал ни Серпентару, ни дома, окружающие крепость на горе.
Это был художественный протест против всех козьих стад Йозефа Антона Коха, против винодельческих празднеств Людвига Рихтера, с которыми он был, разумеется, знаком. Это первый бунт против идеализированного образа Италии, для которого Рольф Дитер Бринкман спустя сто пятьдесят лет найдет и подходящие слова.
* * *
В скобках: женщины с корзинами на головах – тайный признак олеванских картин в живописи XIX века. Балансирование помогает им явить всю свою грацию, одна рука поднята и легко придерживает кувшин или корзину, другая уверенным жестом упирается в талию – так женщины Олевано и ходят по улицам, по тропинкам, по полотнам Коха, Преллера, Рихтера, Горни. Босые, накрепко связанные с землей, они спокойно плывут по пейзажу, и только сзади на шее иногда мелькает загорелая кожа. Кажется, что они пришли из далеких эпох и лишь ненадолго показались в нашем времени в своем совершенстве, прежде чем скрыться за поворотом. Сны наяву, мужские фантазии, предшественницы (в прямом смысле слова) тех, кто прогуливается с элегантными зонтиками на полотнах Сёра, Моне, Писсарро, предшественницы «Обнаженной, спускающейся по лестнице» и дам в шляпах Августа Маке. Скобки закрываются.
* * *
Конечно, я слишком много пишу про немцев. Они действительно полюбили Олевано больше всех. Но не только: место за семью горами стало тогда европейским «плавильным котлом». Красота этих мест привлекла особенно много датчан: от Ганзена до Ла Кура [65], они постоянно приезжали сюда из Рима и писали этюды необычного ландшафта, но без всех этих мифологических, христианских и романтических орнаментов, которыми так любили украшать свои работы немцы. Вторую большую группу представляли французы. В 20-е годы, как пишет Людвиг Рихтер, две «национальные команды» отличались прежде всего тем, что немцы ходили по Серпентаре налегке, вооружившись только бумагой и карандашом, а французы, живописцы до мозга костей, таскали с собой тяжелое снаряжение: масляные краски, доски для этюдов, кисти, мольберты. У Рихтера это выглядит карикатурой – он не разглядел, что именно Коро, несмотря на тяжесть снаряжения, сумел во время своего пребывания в Олевано написать на пленэре этюды неземной легкости: дома, деревья, кусты кажутся игрушечными, а природа – сном, и все это схвачено несколькими мазками. И несмотря на 1828 год, у него нет никаких святых семейств, никаких праздников сбора винограда, никаких женщин с кувшинами на голове. Немцы нагружают любой пейзаж содержанием, они не могут иначе. Французы же продолжают традицию Пуссена и Лоррена. Они просто пишут свет, скалы, деревья, дома. Прогуливаясь по улицам Олевано, можно наткнуться на мемориальную табличку: «Здесь, в доме семьи Пратези, жили Генрих Рейнгольд и Камиль Коро». Какая жалость, что Рейнгольд уже умер, когда Коро в 1827 году поднимался на олеванский холм, один раз в апреле и один раз в июле, это могла бы быть уникальная встреча в верхах. Потому что, на мой взгляд, именно эти двое написали самые прекрасные пейзажи из всех, на которых запечатлены мягкие склоны Олевано. У Коро есть только ясный, пристальный взгляд, под которым природа поднимается из глубин земли. А у Рейнгольда мы видим точное описание форм местности, которую он ощупывает своей кистью, как скульптор пальцами – глину.
* * *
Для немцев дело не ограничилось символическим присвоением Серпентары. Нет, в 1873 году им удалось превратить волшебный лес, этот Стоунхендж немецкого романтизма, в настоящую немецкую колонию. 3, 11 и 17 июня большой мастер пейзажей Карл Шух [66] написал из Олевано не менее значительному немецкому пейзажисту Эдмунду Канольдту панические письма, в которых срочно просил того приехать в Италию, если он хочет еще хоть раз увидеть Серпентару. Владельцы леса, крестьяне из Чивителлы, решили его вырубить. Канольдт приехал, ведь это место стало для его учителя Фридриха Преллера и для него самого святыней, и всего за десять дней ему удалось с помощью пожертвований от художников и искусствоведов собрать необходимую сумму и выкупить 28 040 квадратных метров земли с девяноста восемью каменными дубами за 2350 лир. Потом он пошел и гордо нарисовал покупку, а рисунок сразу отправил в Германию с подписью: «Собственность немецких художников». Сказка, похожая на быль. Или наоборот? Вот если бы немцы купили Везувий, потому что так любили его рисовать, или кафе «Греко» в Риме, потому что любили встречаться там? Невозможно себе представить. А Серпентару художники действительно взяли и купили. А поскольку художники – люди ненадежные, особенно на перспективу, в конце концов права собственности после нескольких маневров перешли к государству. И вот на рубеже веков немецкое посольство стало отмечать на склоне с каменными дубами свои праздники, а в 1895 году там установили совершенно абсурдный монумент кайзеру Вильгельму II из известняка. Тут уж, конечно, последние фавны испугались и сбежали за Мамелы.
Тот, кто сегодня ищет Серпентару, должен постараться. Роскошные дубы видны с дороги, но к ним не подойти, нигде никакой таблички, и приходится пролезать под каким-то забором, пробираться мимо пустующих крестьянских домиков, потом открыть железные ворота, за которыми тебя ждут козы. И вот ты вдруг оказываешься в hortus amoenus [67] и не веришь своим глазам. Священная земля, плато, окаймленное известняковыми скалами, на которых растут высокие узловатые дубы. Я хожу туда-сюда, понимая, что все они сидели и стояли здесь: Кох и Преллер, и Рихтер, и Коро, и Рейнгольд, и Канольдт, и Ширмер, и Румор [68], и Горни, и Рейнхарт, конечно, тоже, и Шуха тоже не забыть, и Лукас [69], и Блехен. А потом почти все они ели и спали в «Каза Бальди».
Волшебная земля. Повсюду растут крошечные дубки, только что вылезли из своих желудей, такое впечатление, что они тут все либо однолетние, либо столетние. Под кронами дубов можно смотреть наверх, на Чивителлу, или вперед, на Крепостную гору в Олевано, – все по-прежнему «будто специально устроено для художника». Я выкапываю три саженца, посередине плод, внизу корневище, которое я вытаскиваю из сухой земли, сверху два-три листа, светло-зеленые и с изогнутыми краями. Они проведут ночь наверху, в «Каза Бальди», и их вырванные из Серпентары корешки будут пить «Сан-Пеллегрино», а потом отправятся из немецкой колонии в далекую столицу. Спустя несколько недель я узнал, что имеется, конечно, и нормальный вход в Серпентару, с воротами, вымощенной дорожкой и звонком! А я от волнения прошел мимо. Однако это действительно немецкий лес, если у него есть звонок. Интересно, кто из лесных богов открывает ворота?
* * *
Поздний вечер, после короткого полета я вернулся домой, в Берлин. Неужели я только что был в «Каза Бальди»? Или Серпентара мне только приснилась? Я путешествовал по картинам или в реальности? Мне нужны доказательства, и вот я нахожу на дне дорожной сумки три ростка каменного дуба, вид у них потерянный, что неудивительно. Снимая кроссовки, я нахожу колючки, которые во время хождений по Серпентаре тайком нацеплялись мне на шнурки. И становится понятно: Олевано тебя никогда не отпустит.
Погружаясь в XIX век
Каспар Давид Фридрих Любовное письмо
Дорогой Каспар Давид Фридрих,
Вы сейчас наверняка будете в недоумении тереть глаза, там, наверху, на одном из тех облаков, что Вы писали такими невесомыми, эфирными и тем не менее такими живыми. Когда двести лет назад в Дрездене Вы рисовали небо на своих пейзажах, никто не имел права мешать Вам – нас, потомков, поражает, что Вашей жене приходилось отказывать всем посетителям, потому что Вы объявили: «Рисование неба – это богослужение». Мне кажется, Вы всегда были с небом на «Вы», в отличие от Ваших гениальных друзей-художников из Дрездена, которые начали общаться с ним на «ты». Поэтому Вы, несомненно, поймете, что обращение на «Вы» в любовном письме – знак особого расположения.
А Вы ведь умеете любить, почтеннейший! Во-первых, Вашу жену. Потом Балтийское море, откуда Вы родом, и, наконец, Дрезден, куда Вы так счастливо причалили. Хотя да, счастье – это нечто иное. Скажем так: из своей бездонной меланхолии Вы создавали картины, которые до сих пор рассказывают о болезненно-прекрасной тоске по счастью. Да, сегодня мы знаем, что Вы были величайшим немецким романтиком. «Романтик» – замечательно двусмысленное слово, не правда ли? Но что-то я заболтался, мастер. Лучше я скажу Вам наконец, почему я пишу Вам это любовное письмо. Из-за Гёте. Этому самому Гёте Ваша общая подруга Каролина Бардуа [70] писала в 1809 году: «Этот Фридрих тоже так влюблен в Вас, что ничего не желает более страстно, чем увидеться с Вами». И что же было потом? Потом вы действительно увиделись, он приходил к Вам в мастерскую, вы переписывались, Вы – по-прежнему с некоторой влюбленностью в его «бурю и натиск», он же становился все сдержаннее. Гёте находил Ваши картины чересчур мрачными, полагал, что Вы не поняли, что искусство должно делать жизнь веселее.
А потом, дорогой Фридрих, Ваш кумир неожиданно просит Вас об одной важной услуге: Гёте в то время увлекался научными исследованиями облаков и заказал у Вас картины маслом трех разных видов облаков. Подумать только: Вы могли стать придворным художником при дворе духовного короля Германии. Того короля, в которого Вы даже были когда-то влюблены. Но Вы, глубокоуважаемый Каспар Давид Фридрих, Вы просто ответили «нет». Потому что для Вас изображение неба было чем-то очень естественным и в то же время священным. И потому что Вы знали и сообщили об этом в Веймар, что искусство служит не для того, чтобы иллюстрировать естественно-научные концепции, пусть даже их автором будет наш господин тайный советник собственной персоной. Этим Вы показали не только то, каким небесно-серьезным было Ваше отношение к искусству, этим Вы указали мне на то, что всегда так раздражает меня в Гёте: как он своей любовью к порядку постоянно отбирает у красок, эмоций, скал, облаков и волн пенные гребешки волшебства.
Первые небоскребы. Почему лучшие художники XIX века больше всего любили смотреть на небо
Только одно из прекраснейших стихотворений ХХ века дало ответ на одну из прекраснейших загадок искусства XIX века.
Во время поездки на поезде в Берлин 21 февраля 1920 года Бертольт Брехт выглянул из окна и высоко над бранденбургскими просторами вдруг заметил облачко на небе, после чего взял карандаш и написал в блокноте легендарные строки «Воспоминания о Мари А.». Лицо девушки, которой он поклялся в вечной любви, едва познакомившись с ней в мороженице в Аугсбурге в 1916 году, четыре года спустя он уже забыл – и только облако, висевшее над ними, «такое белое и так невероятно высоко», пока он обнимал ее, только его он помнит: «О нем я помню и буду помнить всегда». В стихотворении Бертольта Брехта три строфы и одна истина: то, что кажется вечным, – мимолетно, а то, что кажется мимолетным, – оказывается вечным.
Именно это чувствовали великие европейские художники на рубеже XVIII–XIX веков, когда эпоха Просвещения подошла к концу и все великие истины философии, религии и общественного устройства растворились в воздухе. Они хотели ухватиться за что-то прочное и парадоксальным образом выбрали облака. Только этим можно объяснить такую страстную любовь, такую сумасшедшую охоту за облаками в европейском искусстве между 1820 и 1850 годом. Это было желание обрести нечто, что является собой и ничем иным, – и при этом является истинным, пусть и существует в этой форме всего сотую долю секунды. Это было ценнее всех сомнительных истин, что столетиями формировали мир и вдруг испарились, как тучи под лучами полуденного солнца. Разумеется, до того момента искусство тоже не жило под безоблачным небом – вспомним хотя бы грозный темный небосвод, что раскидывается у Веронезе над его святыми, или мягкие белые облака над Сикстинской Мадонной Рафаэля. А голландская пейзажная живопись XVII века так точно описывала небо, что метеорологи три столетия спустя на основе этих живописных свидетельств сделали вывод о «малом ледниковом периоде». Но все же отдельное облако никогда не считалось достойным собственной картины.
Таким образом, для отношения к изображению облака как к его портрету художникам рубежа XVIII–XIX веков потребовался новый метод восприятия реальности. Это был момент появления на свет эскиза маслом – новыми быстросохнущими красками можно было за пару минут набросать на бумаге или на картоне свои впечатления от пейзажа. Будто обретя телеобъектив, художники обнаруживали в природе разнообразные микросенсации: освещенные солнцем листья, замысловатые струи воды у берега, тень на стене дома – ну и, разумеется, то самое облако, «так невероятно высоко». Первыми на небо таким взглядом посмотрели французы – в результате революции 1789 года они явно стали лидерами по части разрушения личной картины мира. Рене Декарт сказал, что если можно философствовать об облаках, значит, можно размышлять и о любых других вещах, потому что облака воплощают самую крайнюю форму неуловимого. Таким образом, с понимания облака начинается новое понимание мира – но этот шаг сделали не философы в своих заоблачных эмпиреях, а художники под открытым небом. Первооткрывателями облачных исследований были Пьер-Анри де Валансьен и Симон Дени [71]. Их законченные полотна из мастерских, над которыми они аккуратно работали в течение месяцев и которыми прославились при жизни, кажутся нам сегодня скучными и банальными, а вот их études d’après nature [72] рубежа XVIII–XIX веков, которые они писали для личного пользования и которые стали известны намного позднее, – это своего рода французская революция в искусстве. В своих римских набросках они за два поколения до импрессионистов создали совершенно новый визуальный язык красок и атмосферы – в тот момент скорость стала элементом искусства. И именно облако делает акцент на скорости – потому что оно ежесекундно меняется, исчезает, смещается, и оно вынуждает художника ускорять свою живопись и отдать кисть во власть ветра. Валансьен понял, что облако – главное испытание для современного художника. Он не говорил о красоте. Это подразумевалось само собой.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно выдающиеся художники первой половины XIX века увлеклись облаками. В Англии это были Уильям Тёрнер и Джон Констебл, во Франции наследником Валансьена стал в первую очередь Коро, а в Германии Иоганн Георг фон Диллис, Каспар Давид Фридрих и Карл Блехен пытались выразить языком живописи поэзию облаков. Например, в 1828 году Блехен, Тёрнер и Коро одновременно путешествовали по Италии, чтобы снова и снова ловить облака своей палитрой. Они не были знакомы друг с другом, и только сейчас, ретроспективно, у нас перед глазами возникает эта картина, как три, пожалуй, главных виртуоза масляной живописи своих стран долгими летними месяцами синхронно бродили по горячей Кампанье и смотрели вверх в надежде, что на сияющем голубом небе появится наконец-то хоть одна тучка, а еще лучше – чудесная гроза. Облака доминировали в летней моде 1828 года. Белый, светло-серый, темно-серый – главные цвета сезона.
Однако изучение облаков было не только «самым ярким предзнаменованием современного беспредметного искусства», как это сформулировал Рудольф Арнхейм [73] (потому что от улетучивания облака совсем недалеко до улетучивания любой предметности). Это еще и одна из интереснейших глав в истории культуры XIX века, потому что мы видим тот редкий случай, когда наука и искусство идут в ногу. В то время как живописцы пытались с помощью масляных красок зафиксировать на своих картонках то, что пролетало над ними по небу, метеорологи на рубеже веков возвращали облака из царства мифологии в царство природы. В 1803 году англичанину Люку Говарду в эссе «О видоизменениях облаков» впервые удалось выделить три типа облаков: cirrus (перистые), cumulus (кучевые) и stratus (слоистые), а также смешанные формы. Они носят красивые имена cirro-cumulus, cirro-stratus, cumulo-stratus, а красивее всех – nimbus, оно же cumulo-cirro-stratus (это, конечно, уже никакая не наука, а самая что ни на есть конкретная поэзия). Очень скоро он увлек этой темой всю интеллектуальную элиту Европы – в Германии в первую очередь Гёте. Тот написал работу «Формы облаков по Говарду» и заставил своего великого герцога выстроить обширную сеть метеорологических станций между Рудольштадтом и Веймаром. Гёте видел в классификации Говарда уникальную возможность придать наконец-то неуловимым облакам какой-то смысл – он и сам многократно принимался за изучение облаков и с бюрократической точностью фиксировал типы, например «cirro stratus» или «cumulus кучевые облака» на двух небольших картинках 1817 года, написанных, возможно, у окна с видом на площадь Фрауэнплан. Но они кажутся удивительно безжизненными, такое впечатление, будто Гёте хотел приколоть облака булавками, как мелких насекомых, и разложить навеки по ячейкам специального ящика. Он будто чувствует в непрерывной изменчивости облаков угрозу для выстраивания своей универсальной картины мира. Поэтому он и заказал у Каспара Давида Фридриха из Дрездена, по-другому его здесь и не назовешь, «этюды с облаками по Говарду». Но Фридрих, оказавшись под давлением, отказался повиноваться. Гёте с удивлением записал, что Фридрих не пожелал видеть «легкие и свободные облака принудительно встроенными в эту рабскую иерархию».
Вот это встреча в верхах! Крупнейший поэт страны заказывает у крупнейшего художника страны облачные этюды – но тот отказывается от заказа. Первый, то есть Гёте, видит уникальную возможность в том, чтобы укротить природу с помощью науки и искусства в роли помощницы науки. Второй же, то есть Фридрих, «вдыхает природу, чтобы выдохнуть ее уже в виде искусства» (Вернер Буш [74]). Нет, негоже так бесцеремонно обращаться с облаками, господин тайный советник!
Но Гёте не отступает от плана и берет дело в свои руки. В своей строке «Wie Streife steigt, sich ballt, zerflattert, fällt» [75] он перечисляет все типы облаков, а потом отправляет своего «Фауста» на небо через зоны stratus, cumulus и cirrus, как будто это разные этажи, на которых периодически останавливается фаустовский одноместный лифт. А вот Каспар Давид Фридрих не стал бы в него садиться. Он знал, что на самый верх попадают иначе.
Через его картины тянутся огромные полосы тумана, там громоздятся облака, у него есть, например, потрясающая картина «Проплывающие облака» 1820 года, где чувствуется сила ускорения, с которым серые дождевые облака спешат над неприветливым краем, они так отчетливо занимают свое место, что хочется потрогать их руками. Характерно, что от Фридриха совсем не осталось этюдов маслом, сделанных с натуры, – кроме трех известных экземпляров, которые все изображают облака. Они так интересны, потому что тут мы вдруг видим великого немецкого романтика, знакомого нам только по его готовым, величественным, неземным картинам, как ищущего, переживающего человека. Сентябрьским вечером 1824 года он увидел из своего окна пылающее красное небо с полосами облаков и уже вскоре нацарапал по влажной краске обратным концом кисти слова «Вечер, сентябрь 1824 года». По этим облачным этюдам мы понимаем, что Фридрих так поражает нас всеми своими законченными работами потому, что его самого в такой степени поражали впечатления от природы.
А импульс ему дал сосед по дому – Юхан Кристиан Клаусен Даль, великий норвежский художник, который поселился в Дрездене и после путешествия в Италию, начиная с 1823 года, жил под одной крышей с Фридрихом в доме «На Эльбе, 33». Фридрих жил на четвертом этаже, а Даль занимал верхние два – разумеется, он просто хотел быть ближе к облакам. Здесь он продолжил то, что начал в Италии: в бессчетных этюдах он старался уловить светопреставление на небе над Эльбой – и вдохновил своего соседа снизу на то, чтобы тоже обратиться к потрясающей красоте того мимолетного, что творилось у них над головами. В результате дом «На Эльбе, 33» стал первым небоскребом в истории искусства.
Даль без конца смотрит из окна, берет лист картона, прикрепляет его кнопками к подложке, смешивает краски на палитре и приступает к работе. Вот справа ветер несет черные тучи над долиной Эльбы, временами внизу виднеется река, иногда тополя, а тучи присутствуют неизменно, обычно серые, но часто и черные. Чем хуже погода, тем лучше картина. Вообще-то облака – самое главное на картинах Даля. Когда облака не главное, то есть когда он сидит в мастерской и пишет большие картины, то они выходят перегруженными и банальными. Его искусству шла на пользу ситуация, когда у него было мало времени и тучи стремительно пропадали из виду. Это одна из главных загадок в облачных этюдах: их нужно писать буквально со скоростью ветра, потому что модель на небе, «такая белая и невероятно высоко», непрестанно меняется, но, несмотря на это, этюды являются самыми удачными примерами высокого искусства, никогда не устаревающего.
Когда Карл Густав Карус, художник и теоретик живописи, однажды пришел со своей женой в гости к Далю в дом «На Эльбе, 33», оба супруга были изрядно удивлены: «На следующий день она спросила: этот Даль рисует такие странные небеса, кажется, он не очень-то набожен?» И Карус серьезно отнесся к этому моральному вопросу. Он знал, что его другу Каспару Давиду Фридриху нельзя мешать, когда тот пишет небо, потому что он считает это своего рода богослужением. Именно поэтому так символично, что именно сосед Фридриха Даль убедил Каруса в том, что рисование облака не является богохульством. Вместе с тем по этюдам Фридриха заметно, что он еще медлит, что он не уверен в том, что это действительно так. Карус и его жена были религиозны, как и Фридрих, и у Даля их настораживал такой трезвый, реалистичный взгляд на небо, где как будто нет больше ни ангелов, ни даже госпожи Метелицы. Да, записывает Карус в своем дневнике, художникам вроде Даля, пишущим небо, не хватает «внутреннего смирения», потому что они с голой виртуозностью переносят на бумагу самые загадочные природные явления, и проблема здесь в том, «что они относятся к природе слишком легкомысленно».
Прошло несколько лет, прежде чем Каруса осенила мысль, что самое легкое в данном случае является на самом деле и самым сложным. И не только в плане ремесла. Дело в том, что облако заставляет быть правдивым. Именно их мимолетность приводит к тому, что они, как сказал Вернер Буш, главный немецкий специалист по облачным этюдам, «могут каждый раз получать новое наполнение что в религиозной, что в секуляризированной форме».
Именно такой путь и прошел Карус. В своих «Письмах о пейзажной живописи», спустя несколько лет после отказа от рисования облаков по соображениям морали, он пишет: «Как летящие по небу облака непрерывно изменяются, так меняется и внутреннее состояние человека. Все, что отзывается в его груди, все просветления и помрачения, развитие и распад, созидание и разрушение, все это плывет в формах облаков перед нашим взором».
Наверное, именно тут и кроется вечное чудо разглядывания облаков: они для нас подобны зеркалу. Они были зеркалом для Фридриха, для Даля, для Блехена, для Констебля и для Коро. И для нас тоже, когда мы сегодня смотрим на их облака. Облачные картины ускорили развитие искусства. И они дарят нам момент абсолютной вневременности. На какой-то миг пропадает разница между природой и искусством, потому что взгляд на облако над головой рождает те же эмоции, что и взгляд на картину, написанную двести лет назад. В этой живописи нет вчера, есть только сегодня. Тот, кто стоит внизу – неважно, художник или кто-то из нас, – смотрит наверх. А наверху бесконечная даль, и явления распадаются, собираются вместе, несутся прочь или скручиваются штопором, они сияют, пропуская солнечные лучи, и сгущаются в темно-серые грозовые тучи.
Этюды маслом всего около тридцати лет назад стали отдельной сферой коллекционирования. Художники писали их для собственных нужд, но еще при их жизни этюды зачастую становились объектом обмена между художниками. Коллеги знали, что нигде душа другого человека не проявляется так ясно, как в его спонтанном взгляде на свет, воздух и облака. После смерти художника этюды шли с молотка десятками или сотнями – и лишь немногие знатоки в свое время поняли их значимость. Сегодня же цены на спонтанные эскизы, как правило, намного выше, чем на законченные в мастерских картины тех же самых художников. Такое впечатление, что эти картины сохраняют свежесть на протяжении столетий именно благодаря своему прямому контакту с действительностью. Это произведения искусства, у которых в уголке не проставлен срок хранения. Дух набросков, фрагментарность особенно близки нам, современным людям, воспринимающим действительность только в виде клипов на YouTube, рекламных трейлеров и случайных фотоснимков. Этюды маслом – это short cuts живописи.
Удачные этюды с облаками имеют на художественном рынке совершенно особенный, легендарный статус – они почти никогда не попадают на рынок, в качестве товара они так же мимолетны, как и их объекты. Они трудноуловимы, они будто исчезают, как только попадают в поле зрения. Разумеется, облачные этюды всегда были деликатесом для меланхоликов. И остаются таковыми по сей день. Кьеркегор пишет: «Нет лучшей аллегории облаков, чем мысли, и нет лучшей аллегории мыслей, чем облака, ведь облака – это фантазмы, а мысли – разве они не то же самое? Смотри, от всего остального устаешь, а от облаков нет».
Когда становится тошно (а это случается и в самых благородных семействах) от банальностей современного искусства, которое сегодня кажется деградировавшим до товара, от абсолютной необозримости истории искусства и произвольности оценок, то лекарством может стать один-единственный взгляд на небо – или на небольшой картонный лист с белым облачком на голубом фоне. Уж поверьте мне: от всего иногда устаешь, и только от облачных этюдов нет. О них я помню и буду помнить всегда [76].
Далекая близость. Искусство XIX века
Подзаголовок моего доклада [77] весьма и весьма дерзок. Я собираюсь познакомить вас с «искусством XIX века» – целое столетие за час? Каким же образом?
Никому не пришло бы в голову давать докладу подзаголовок «искусство XX века»: кто бы взялся рассказывать сразу и о «Синем всаднике», и о конструктивизме, об Энди Уорхоле, об Эрнсте Людвиге Кирхнере, о Шарлотте Позенески, о Лучо Фонтана, об Эмиле Нольде, о Пабло Пикассо, о Франце Эрхарде Вальтере, о Дэмиене Хёрсте и об Анри Матиссе? Наверное, кроме Базона Брока [78] и Петера Слотердайка на такое никто не отважится.
Тогда почему сегодня вдруг целый XIX век за один час? Потому что он мельче, малозначительней, не такой многослойный?
Нет.
Он был, и это мой первый тезис, как минимум таким же богатым, как ХХ век, и как минимум таким же значительным. Но есть нюанс: мы забыли о нем. Это судьба, характерная для XIX века. Он еще не успел закончиться, а его искусство было уже так прочно забыто, что легендарной берлинской «Выставке столетия» 1906 года пришлось с трудом вытаскивать на свет божий такие имена, как Каспар Давид Фридрих.
Но второе забвение было гораздо более глубоким, оно длилось до недавних пор. И вот, наконец-то, ветер переменился.
Вопрос о том, почему в Германии искусство XIX века так долго пребывало в забвении, так же интересен, как и вопрос о том, почему теперь к нему испытывают такой невиданный интерес. Разумеется, ответы на оба вопроса тесно связаны друг с другом.
Искусство XIX века было подобно большому залу в огромном замке, в который десятки лет никто не заходил. За прошедшие десятилетия все уже забыли, почему нельзя открывать дверь этого зала. Только долгожители с горящими глазами рассказывали о сокровищах, хранящихся за ней. Но придворное общество начинало шептаться и шипеть, если заходила речь о том, что там скрыто. Однако в какой-то момент, в нашем случае это начало XXI века, пришло новое поколение и стало задавать вопросы: а почему, собственно говоря, дверь в этот зал всегда заперта? Когда ее закрыли и почему? И что же там все-таки спрятано? Самые любопытные осмеливались заглянуть в замочную скважину, они видели там множество золоченых рам, а в них картины, которые выглядели вовсе не опасными, а напротив – красивыми, привлекательными, загадочными. Так началось повторное открытие XIX века: как результат любопытных и непредвзятых взглядов. Мы посмотрели на сияющее небо, и редкие серые облака улетучились – панорама стала ясной.
Но откуда же взялось это проклятие? Оно началось в Германии в послевоенные годы и продержалось до конца XX века. Причина проста: искусство XIX века оказалось беззащитным перед тем фактом, что национал-социалисты очень его ценили и поднимали на щит в борьбе с немецким экспрессионизмом. Гитлер, Шпеер и национал-социалистические идеологи искусства свели Людвига Рихтера, Ганса Тома, Каспара Давида Фридриха и других великих художников XIX века к «немецкости», собирали их работы, восхваляли и собирались воздвигнуть им монумент в виде «музея фюрера» в Линце. Одновременно с этим нацисты вели жестокую борьбу с модернизмом, объявили немецкий экспрессионизм «дегенеративным» и изъяли из немецких музеев. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после окончания правления нацистов музеи всячески старались реабилитировать произведения, заклейменные как «дегенеративные». А также в том, что послевоенное поколение за версту обходило произведения, почитаемые нацистами. Параллельно этому в 60-е и 70-е годы в Германии начали доминировать абстракционизм и модернизм, а искусство XIX века стало считаться устаревшим не только морально, но и эстетически. Музеи больше не собирали искусство XIX века, частные коллекционеры тоже (кроме Георга Шефера из Швайнфурта), в университетах изучали современное искусство или Ренессанс. И в результате искусство XIX века со временем почти полностью исчезло из сознания. На рынке искусства оно тоже на протяжении долгого времени не играло заметной роли. Дверь была закрыта.
То, что произошло потом, лучше всего описать на примере замечательной картины Адольфа Менцеля «Комната с балконом». Когда первые любопытные зашли в зал искусства XIX века, сквозняк из окна разметал гардины, и в зал ворвались свет и воздух. Все больше людей, не загородивших себе взгляд на искусство моралью или идеологией, с удивлением смотрели на произведения, полные жизни и свежести. На этих картинах мы как будто новыми глазами смотрим на природу, как в первый раз – и интереснее всего то, что этот новый взгляд сохранил свою витальность и непосредственность спустя более чем двести лет.
Немецкое искусство XIX века с художественной точки зрения так богато и разнообразно, что по праву может соперничать с французским. Только немцы смогли достойно ответить на эстетические взрывы, произошедшие за сто лет – от Энгра и Давида до импрессионистов. Громким вступлением в XIX век стал романтизм: Рунге и в первую очередь Каспар Давид Фридрих изобрели живопись заново, а параллельно «назарейцы» вернули рисунок на высоту старого немецкого искусства.
Затем довольно быстро заявил о себе ранний реализм в лице таких гигантов, как Карл Блехен и Адольф Менцель, тот самый автор «Комнаты с балконом», который, кстати, в своей картине «Железопрокатный завод» перевел на язык искусства и начавшуюся индустриализацию. Кроме того, в Дюссельдорфе, Мюнхене и Дрездене возникли художественные школы, имевшие большое значение и выдающихся представителей, которые искали в серой зоне между романтизмом и реализмом некий немецкий, символически нагруженный средний путь. В последние десятилетия XIX века в лице Бёклина, Штука, Маре добавились представители «героического» направления и символисты, а параллельно им работали немецкие импрессионисты – Либерман, Уде, Штерль. После целого столетия, полного «икон», экспрессионизм начала ХХ века в лице художников «Моста» и «Синего всадника» посодействовал тому, чтобы искусство XIX века было забыто в первый раз.
Однако, согласно тезису Фрэнсиса Хаскелла, выдающегося историка вкусов, иконой может стать только то, что было забыто. Потому что именно повторное открытие высвобождает основную энергию, а новые взгляды нового времени обнаруживают в произведениях прошлого те измерения, которые были непонятны современникам. Например, в 50-е и 60-е годы XIX века в каталогах Старой национальной галереи очень подробно говорится о художниках, ныне совершенно неизвестных, а «Фридрих из Дрездена» в лучшем случае удостаивается краткого упоминания. Первая реабилитация XIX века произошла в 1906 году на так называемой «Выставке столетия» в Берлине – это была огромная выставка, а большинство журналистов и посетителей изумленно протирали глаза при виде искусства такого качества и красоты. Только после этой выставки Каспар Давид Фридрих получил статус национальной иконы. Мы видим, что включение художника в канон зависит не от актуальных хит-парадов, а от самого строгого судьи – времени. Оно беспощадно, но обладает безупречным вкусом. Для него существует только качество, вне контекста создания произведения.
Принцип канонизации подчиняется биологическим законам. Это древний закон эволюции: дети бунтуют против эстетики родителей и ищут своих, современных репрезентаций. Не менее предсказуем и «откат» поколения внуков: они внезапно обнаруживают сокровища бабушек и дедушек. Именно в этой точке находится сейчас оценка искусства XIX века в Германии с точки зрения истории вкусов. В других крупных культурах Европы процесс забывания и повторного открытия протекал без потрясений: в Англии, Франции, Италии или Испании уже давно почитают искусство XIX века наравне с другими периодами – и что особенно важно, оно высоко ценится на рынке искусства. И только в Германии, где из-за роковой любви национал-социалистов к искусству XIX века и из-за ужасных репрессий против «дегенеративного искусства» произошел вполне понятный и долгосрочный сбой, этот процесс начался с большим отставанием.
У всех у нас на глазах происходит огромный сдвиг вкуса. Музеи реагируют на это и меняют свои постоянные экспозиции: во франкфуртском Штеделе XIX век теперь не такой, более свежий, чем двадцать лет назад, гамбургский Кунстхалле и Дом Ленбаха в Мюнхене активно выставляют те самые этюды маслом, что создавались художниками XIX века прямо на природе и кажутся нам сегодня особенно современными и свежими произведениями, над которыми не властно время. Крупные американские музеи первыми заметили новую тенденцию и взвинтили цены, немецкие коллекционеры и институции тоже открыли для себя новую сферу в коллекционировании.
Можно ли писать свет? Можно ли написать вот этот конкретный свет? Можно ли передать кистью, как солнце Италии заставляет листву светиться, а воздух вибрировать? Тот, кто видит этюды Карла Гуммеля [79], с первого взгляда понимает, какой волшебной силой обладает живопись, когда художник полностью отдается моменту, игре света и красок. Масляные этюды, переживавшие свой расцвет в Германии начиная с 30-х годов XIX века, представляют собой созданные на природе спонтанные заметки художников, с помощью которых они старались расширить свой набор тем, что-то вроде мгновенных снимков, художники старались зафиксировать особенные перспективы и сохранить особенные эффекты, чтобы затем использовать их в мастерских при написании больших полотен. Взгляд Гуммеля на кроны деревьев, через которые проглядывает яркое голубое небо – квинтэссенция всех возможностей этюда. В верхних углах видны следы канцелярских кнопок, которыми художник прикрепил бумагу к доске, расположившись под деревьями, в нижних углах рисунок не закончен – ведь это этюд, личный рабочий материал, не предназначенный для продажи. Он всегда non finito [80], но именно поэтому полон жизни и свежести, даже спустя сто пятьдесят лет после создания.
Летом 1855 года Карл Гуммель отправился на озеро Комо, с 27 июня до 17 августа он гостил у герцога Георга на вилле «Карлотта» – это итальянская форма имени жены герцога, Шарлотты. В течение этих недель, проведенных в обширном парке с видом на озеро, Гуммель создал несколько этюдов маслом и в сепии, относящихся к лучшим работам в его творчестве.
Эти этюды были самыми настоящими рабочими материалами, ни в коем случае не предназначенными для продажи. На распродажах наследия больших художников такие этюды десятками уходили по бросовым ценам. А при жизни художников только их друзья высоко ценили эти работы.
Сегодня мы видим противоположную ситуацию, и теоретик мог бы сказать: то, что было когда-то личным, стало публичным. И наоборот, то, что было публичным, то есть большие картины, написанные в мастерской, роскошные, тщательно проработанные, становится личным – потому что стало неинтересным для нашего взгляда. Происходит тотальный слом вкусовой парадигмы.
При этом канон XIX века создается заново, к старым именам добавляются новые: так, например, искусство дрезденского романтизма уже давно ассоциируется не только с Фридрихом, но и с Карлом Густавом Карусом, Кристианом Клаузеном Далем и Кристианом Фридрихом Гилле. Тот же Гилле, обедневший художник из дрезденской академии, в период с 1830 по 1870 год бродил, почти как бездомный, по окрестностям Дрездена и писал свои стремительные этюды на любых клочках материи или бумаги, которые находил. При жизни он не продал ни одной работы – его взгляд был слишком странным, слишком сосредоточенным на деталях, на второстепенном. А сегодня художественный мир зачарованно смотрит на него – и видит, что в валуне на его картине прячется абстрактный экспрессионизм, Джефф Уолл [81] и Пер Киркебю [82].
То же относится и к такому художнику, как Адольф Менцель. Внезапно всплывают наброски из его мастерской, которых сто пятьдесят лет никто не видел – потому что они остались в семье, полагавшей, что художественный мир не найдет в них ничего ценного. Это быстрые наброски, перечеркнутые рисунки, тут же лишняя краска с кисти. Ты как будто вживую наблюдаешь за созданием произведения. И совершенно неважно, что этот процесс шел сто пятьдесят лет или сто шестьдесят лет назад. И произведения тоже расплываются: акварельные мазки, эти следы большой работы, вдруг превращаются в наших многоопытных глазах, видевших, как абстракционизм появился и исчез, потом снова появился и исчез, в живопись цветового поля avant la lettre [83].
Понимал ли Менцель, что он делал? Считал ли он такие рисунки искусством, или только мы видим сейчас в них искусство? Интересные вопросы. Но так или иначе, это зримые доказательства далекой близости.
Свежие новости из XIX века: Менцель идет в зоопарк, там он вырывает страницу из путеводителя и рисует на ней павлина. Потом еще раз, с другого ракурса, чертова птица опять развернулась. Потом путь Менцеля лежит дальше, к городскому замку. Мы к нему еще вернемся. А пока теоретический экскурс. Я хоть и тружусь на капиталистическом рынке искусства, но раз уж меня сюда пригласил профессор Хан, то я обязан дать небольшой общественный анализ.
Поэтому задам вопрос: является ли любовь к XIX веку крайним консерватизмом?
Разумеется, ни в малейшей степени. Конечно, присутствует некоторая усталость, когда ты уже в пятидесятый раз видишь в интерьерных журналах квартиру со стульями «Эймс» и с фотографией работы Томаса Руффа [84] на стене. Мебель 50-х годов плюс современное искусство – таким был стилистический идеал последних лет, ставший своего рода всемирной эстетической концепцией.
Кроме того, имеется антициклическое движение, которое возникает, когда как бы индивидуальное начинает казаться совершенно обыкновенным.
И вот мой второй тезис: обращение к XIX веку кажется мне возможностью освобождения от ретродоктрины последних десятилетий. Свободно обратиться к нему может только тот, кто живет в современности.
И вот мы вдруг заглядываем за запертую дверь в замке – и видим, что там, в XIX веке, нас ждет не одна комната, а целый парк, а в нем еще один замок. Кстати, о замках. В берлинском городском замке, который сейчас строят заново из бетона, в 1866 году работал тот самый Адольф Менцель. Он провел в замке невероятные четыре года, до 1866-го, работая над огромной картиной, изображающей коронацию Вильгельма.
Для этой работы пришлось отодвинуть к стенам зала личной гвардии все старинное прусское оружие, хранившееся там, как в чулане. В течение четырех лет Менцель жил в окружении доспехов рыцарских времен. Далекая близость во всей красе. Потом, когда огромная картина была готова, ему надо было как-то избавиться от этих воспоминаний, и так родилась серия, относящаяся к лучшему в его творчестве, – «Фантазии оружейной палаты».
И вот фигуры материализуются у нас на глазах из пустоты, в которой они потом могут снова раствориться; и даже яркий, жесткий свет, что отбрасывает полированная сталь, не имеет определенного источника. Художник углубляется в детали, словно одержимый, – оружие, шлемы, железные перчатки. А потом происходит чудо – доспехи оживают, и вот рыцарь едва заметно поднимает руку с мечом. Это еще реальность или уже фантазия? Возвращение рыцаря-джедая, anno 1866. А только Менцель дописал свои фантазии из оружейной палаты, как подоспела реальность: Семинедельная война [85]. Потом Менцель рисовал умирающих и мертвых солдат в богемском лазарете. Да, искусство способно и на такое. Предвидеть то, чего еще никто не знает.
Везувий как центральный массив немецкого романтизма. К вопросу о происхождении одного сюжета: от Гёте до Гётцлофа
В 2013 году в парижском Лувре состоялась выставка «De l’Allemagne» [86], на которой было представлено немецкое искусство с 1800 по 1939 год. Авторы выставки попытались проследить, как немецкое искусство отображало путь к катастрофе. Но разве немецкий романтизм – это фантазия о гибели? Получается, что первые шаги «Танца на вулкане» [87] репетировали еще на рубеже XVIII–XIX веков? Антитезис этому утверждению находится в Южной Италии.
После столетий покоя Везувий ожил в конце XVIII века, до середины XIX века произошел ряд более или менее значительных извержений, самые мощные состоялись в 1766, 1779, 1794, 1804, 1813, 1820, 1822, 1833, 1834 и 1835 годах. В этот период вулкан на берегу Неаполитанского залива стал центральным мотивом итальянской живописи немецких художников. Причем за период с 1774 по 1850 год в практическом восприятии вулкана произошел принципиально важный поворот.
Все началось с рисунка Иоганна Вольфганга фон Гёте, изображающего извержение Везувия в 1787 году. Это импозантная акварель; перед лицом извергающего пламя вулкана Гёте, обычно не слишком умелому рисовальщику, удалось перенести динамику на бумагу. Скромной палитрой, несколькими штрихами и оттенками рисунок передает масштабность впечатления. Предположу, что рисунок был сделан за несколько минут. А для интеллектуальной проработки художественного результата писателю Гёте понадобились годы. Винфрид Веле [88] в своем подробном исследовании реконструировал процесс восстановления Гёте от полученной им своего рода «хлыстовой травмы» [89]. В марте 1787 года бежавший сломя голову из Веймара писатель за две недели трижды поднимался на Везувий, который как раз пробудился ото сна. То есть он не просто хотел пройти по стопам отца, который совершил восхождение на вулкан поколением ранее, и не просто следовал классической программе гранд-тура, в которую в те времена входила поездка к вершине на ослике с ритуальным посещением отшельника. Нет, он стремился максимально приблизиться к природе – и именно в том месте, где можно заглянуть внутрь земли, у кратера пылающего вулкана. Результат, впрочем, был странный: «Зрелище не было ни поучительным, ни отрадным», – пишет Гёте. Запахи, бесформенность камня и лавы «объявляют войну всякому чувству прекрасного». Везувий становится «адской вершиной посреди рая». Иными словами: Гёте, этот исследователь природы, разочарован в природе. И он смог примириться с природой, лишь отойдя на некоторую дистанцию. Безопасное расстояние снижает риск несчастного случая. Его инстинктивное «чувство прекрасного» указывает ему путь, по которому он может совершить интеллектуальное восхождение на Везувий: свое четвертое восхождение Гёте совершает 2 июня 1787 года – но восхождение лишь визуальное. Он смотрит на Везувий с террасы в Каподимонте, смотрит на «ужасное неподвижное облако пара, на молниеносно вырывающиеся массы породы, на пылающие испарения». И тут происходит трансформация непокорной природы в искусство. Итак, Гёте смотрит из окна и пишет: «Я увидел самую чудесную, самую невероятную картину, которую только можно увидеть в жизни». Перед окном замка в Каподимонте вулкан получил «смысловую рамку» в виде оконной рамы и окружающего пейзажа. Поскольку возвышенное, как его описывал Кант, в значительной степени зависит от безопасного расположения наблюдателя, Гёте нашел такую безопасную точку в замке в Каподимонте. И в результате «адская вершина» превращается в «чудесную картину», в «величественный, одухотворенный спектакль». Дело также в «ви´дении увиденного», которое Каспар Давид Фридрих сделал протонарративом романтического искусства. А Гёте говорит, как указывает Веле, еще и об уникальной «культурной работе смотрящего».
Своей дихотомией принципиально различного восприятия природного события то как катастрофического, то как эстетического в зависимости от его близости либо удаленности Гёте дал эстетические стратегии двум последующим поколениям. Смятения чувств в результате непосредственного восприятия можно избежать только с помощью естественно-научного наблюдения – это подход геолога, который берет куски лавы, спускается с ними в долину, а затем раскладывает у себя на столе в гостиничном номере в Неаполе, рядом с букетом в вазе. В принципе, вулкан виднеется за окном, и он может таить в себе угрозу – но если что, всегда можно просто задернуть гардины.
Везувию еще и потому удалось стать центральным массивом искусства классицизма и романтизма, что он стал отражением меняющегося эстетического идеала времени. Благодаря популярности категории «возвышенного», которое даже ужасу приписывало позитивную ценность (согласно красивым выражениям наших соседей – delightful horror либо terreur agréable [90]), воздействие на реципиента стало неотъемлемой частью любой эстетической категории. И в Везувии стали видеть не только постоянную потенциальную катастрофу, не только угрозу повторного разрушения Помпеев и Геркуланума, как во время самого мощного извержения в истории в 79 году н. э., но и источник «приятного ужаса», «трепета», которых мы ищем на краю гибели.
На большой картине Якоба Филиппа Гаккерта [91] «Извержение Везувия в 1774 году» эта категория «возвышенного» находит свое живописное воплощение. Импозантное полотно изображает группу путешественников, совершающих гранд-тур, стоящими у края пылающей лавы, будто это бурный горный ручей. И все же в людях на картине чувствуется благоговение перед лицом стихии. Это нечто вроде естественно-научного наблюдения, при котором люди пытаются разрешить геологические загадки, понять разумом нечто настолько сильное, что его можно только почувствовать. Однако для посланцев Просвещения важно, разумеется, именно преодоление такого эмоционального потопа, этой зачарованности мифологически-народным толкованием вулканов как входов в ад. Нам кажется, что они, как сформулировал Йорг Тремплер [92], как будто «размышляют о последних открытиях вулканологов». Компетентность защищает от эмпатии. И вот под пристальным взглядом туристов вулкан становится естественно-научным объектом наблюдения, а на следующем этапе – сценой, на которой ставится классическое произведение «Извержение Везувия», судя по словам Августа фон Коцебу 1804 года: «Насколько хватало глаз, всюду вулкан распростер свой отвратительный разноцветный покров: желтая сера, черный шлак, ослепительно белая соль, серая пемза, болотно-зеленая медь, металлические блестки, все это в совокупности создавало мозаичную почву преисподней. Из небольшой расселины в нескольких местах прямо передо мной поднимался дым; и там, где он вырывался наружу, от склона периодически отваливались камешки, они скатывались вниз – единственный звук, кроме шипения горы, достигавший человеческого уха. Примерно четверть часа я не без оторопи наслаждался видом этого жутковатого и красивого представления» [93].
Уильям Гамильтон, английский посланник при дворе вице-короля Неаполя, увековеченного Сьюзен Сонтаг вместе с его супругой Эммой как «любители вулкана» [94], был первым, кто окончательно преодолел эту «оторопь» в своих естественно-научных отчетах, которые он отправлял в Лондон, в Королевское общество. Он сравнил извержения вулкана с «фейерверком», хотя лавовые массы и во времена написания его отчетов продолжали уносить человеческие жизни: «Невозможно описать великолепие этих выбросов горящих каменьев, намного превосходящее любой самый удивительный, самый художественный фейерверк», – писал Гамильтон после одной из своих бесчисленных ночных экскурсий на Везувий. И подобно тому, как картина Гаккерта иллюстрирует и «иллюминирует» впечатления Коцебу, так и мастер «иллюминации» Гамильтон нашел своего конгениального партнера в эксцентричной фигуре Августа Копиша (1799–1853). Его гуашь, изображающая извержение Везувия 1828 года, превращает природное явление в all over painting [95] в духе Джексона Поллока, а раскаленная, пылающая стихия становится эффектной декорацией. Да, нам почти кажется, что мы смотрим на вулкан через защитное стекло фотоаппарата, а брызги лавы стекают по стеклу, как капли воды.
Добавим также, что именно Копиш по заказу прусского кронпринца Фридриха Вильгельма IV выступил режиссером дня рождения кронпринцессы на Везувии, при стечении большого количества публики.
Откуда взялись эти вечеринки рядом с потоками лавы? После 1780 года извержение вулкана (природный феномен) и фейерверк (театрализованное представление) объединили под понятием «возвышенного». Эта смена парадигмы воплощена в «парковом королевстве» князя Леопольда Фридриха Франца Ангальтского в Вёрлице. 28 февраля 1766 года князь вместе с Гамильтоном взошел на Везувий, а потом приказал соорудить в Вёрлице уменьшенную копию Везувия – а заодно и виллу Гамильтонов. Стоило нажать кнопку, как этот мини-вулкан, сооруженный на берегу пруда, изображавшего Неаполитанский залив, некоторое время изрыгал огонь. Новалис, посетивший парк, писал в удивлении: «Идея в общем оригинальная и, бесспорно, сумасбродная». Но не менее бесспорно то, что этот скопированный Везувий посреди Саксонии-Анхальт был убедительно приручен. Во всех научных и ненаучных журналах Германии конца XVIII века публиковались статьи о маленьком Везувии. И немецкие художники отправлялись в Италию уже как бы подготовленными: то, что скопировали в уменьшенном масштабе, не могло оказаться таким уж страшным в крупномасштабной реальности.
А потом – разумеется, исподволь – проявляется третий психологический феномен: нормализация в результате повторения. Поскольку про извержения вулкана уже написано в путеводителях, поскольку еще отец Гёте видел, как кратер извергает пламя, а потом за ним последовал и сын, это приводило к тому, что художники, впервые видевшие Везувий, воспринимали лавовые массы и разлетающиеся камни скорее как постоянно действующую инсталляцию, а не как что-то опасное. И к тому, что этот пресловутый Везувий, уничтоживший в 79 году н. э. Помпеи и Геркуланум, теперь годился разве что для приятного, теплого и в то же время грозно-патетического фона. В то время в сознании людей не было образов гибели двух городов, она еще не стала важной темой в исторической живописи. Раскопки начались только в 1748 году. Это одна из причин, почему «картины с вулканом» в течение долгого времени оставались «просто пейзажами».
В период с 1780 по 1850 год Везувий присутствует в искусстве в трех ипостасях. Во-первых, это тот жанр, для которого Йорг Тремплер придумал название «портрет Везувия». Первую картину этого жанра в немецкой пейзажной живописи написал Гаккерт, это была «Гавань Санта-Лючия в Неаполе» 1771 года. В центре этого направления – этюд маслом Карла Блехена 1829 года, маленькая гениальная картина, всего несколько мазков кисти, работа на тему симметрии с двумя горными вершинами в центре, голубым морем перед ними и голубым небом за ними. Тот факт, что Везувий немножко дымится, художник благодарно принимает к сведению, но больше ради композиции, которая без дыма была бы слишком монотонной. Автором же финального кадра в этом каталоге пусть будет Карл Вильгельм Гётцлоф [96]. В своей картине «Над Неаполитанским заливом» (ок. 1850) извержение вулкана уже позади, пейзаж успокоился, торжествуют штиль и умиротворенность. В этом портрете Везувия портретируемый из вулкана стал снова горой.
Второй жанр – тот, который Карл Густав Карус однажды определил понятием «картина землетрясения». Это картины, на которых чувствуется дрожь и грохот земли. Например, на эффектном полотне Иогана Кристиана Даля «Извержение Везувия» 1826 года – особенно тут впечатляет перспектива. Вулкан расположен слева, половина картины в густом темном дыму, а справа открывается вид на очаровательный, озаренный солнцем Неаполитанский залив. Мы видим Неаполь, мыс Позиллипо, а где-то в дымке виднеется даже остров Искья. А еще там есть два туристических гида с осликами, доставившие к кратеру двух своих клиентов – но по сравнению с картиной Гаккерта фигуры стали маленькими. Это уже не жестикулирующие туристы XVIII века, прибывшие сюда с образовательными целями, теперь это две романтические фигуры, повернувшиеся к нам спиной. И это больше не приключение, а новая форма отношений между человеком и природой. Эта картина была написана в мастерской, Даль объединил в этой большой работе свои впечатления, которые он в 1820–1821 годах зафиксировал в экспрессивных этюдах с натуры. Это последний взгляд на Неаполь с вулкана – у других художников направление взгляда меняется, взгляд снова направлен снизу вверх. Например, на картине Франца Людвига Кателя [97] «Неаполитанский залив с продавцами фруктов» все внимание привлечено к стандартному для этого жанра мотиву, к неторопливой итальянской жизни – а Везувий расположился на заднем плане скорее по декоративным и топографическим причинам и играет роль печной трубы с уютным дымком. Такой сдвиг значения присутствует и на двух картинах, написанных на увитой виноградом террасе одного и того же дома в Сорренто. Первая – этюд Юлиуса Гельфта [98], которого эффект вечернего солнца на колонне и тень от винограда на фасаде интересуют куда больше, чем Везувий на заднем плане (он даже прикрывает колонной дым вулкана). Вторая, написанная на той же террасе (что само по себе примечательно), – картина Карла Вильгельма Гётцлофа «Терраса дома в Неаполе» 1833 года. Она была написана за двенадцать лет до работы Гельфта, а у виноградника было тогда только два ствола – а вот водоотвод здания на заднем плане был таким же. Гётцлоф тоже совсем не интересуется Везувием, который почти скрыт в желтоватой дымке. Это жанровая картина, слева игривый разговор юноши и девушки, справа монах и молодая семья, по краям на переднем плане художник демонстрирует свое мастерство в области натюрморта. Гётцлоф как будто специально старается отвлечь внимание от Везувия. Икона этого жанра – картина Кателя «Окно в Неаполе», на которой искусство немецкого романтизма окончательно приручило природную катастрофу. В этой классической «картине с окном» Везувий – всего лишь точка оптической фиксации, он редуцирован до минимума, до эстетического сувенира.
Третий жанр – «геологический». Интересно, что тему, интересовавшую Гаккерта, подхватил в первую очередь Франц Людвиг Катель в своих этюдах с натуры. В акварели с кратером 1834 года художник придает этой теме особый оттенок – он пишет теневую сторону вулкана, лишенную всякой миловидности, это скудный, холодный ландшафт, который особенно сильно впечатляет на контрасте с его жанровыми картинами, написанными в тот же период. Не всякому туристу удавалось преодолеть это личное впечатление от Везувия. Например, видный представитель немецкого романтизма Людвиг Рихтер не оставил нам ни одного изображения Везувия. Он не сумел превратить в «картину» свои «геологические» впечатления – пример такой трансформации в свое время продемонстрировал Гёте, а затем в ней упражнялись еще два поколения. Людвиг Рихтер отправился на Везувий в апреле 1825 года, в обществе Гётцлофа, но в отличие от последнего он так и не стал поклонником вулкана. Он писал: «В обществе Гётцлофа и нескольких швейцарских художников я совершил восхождение на Везувий. Мы переночевали у отшельника и насладились там роскошным закатом. В два часа утра мы отправились по потрескавшейся лаве к подножию пепельного конуса. Подошвы ботинок обуглились, стоило погрузить палку на несколько секунд в этот пепел, как она начинала дымиться. В кратере из многочисленных трещин шел дым. Но довольно быстро сернистые испарения и холод согнали нас вниз». Это называется отрезвлением. Так что у нас нет ни одной картины Везувия Людвига Рихтера – ему больше нравилось вспоминать образ «роскошного заката», которым он наслаждался на горе. А Карл Густав Карус с самого начала держался на безопасной дистанции. Три года спустя, 14 мая 1828 года, он записал в своем дневнике: «Мы переплыли на маленькой барке к скале, и там перед нами открылся коридор, заполненный водой, с естественными сводами и специально расширенный, и мы проплыли по нему. Там были очаровательные световые эффекты, красивые виды через просвет на Неаполь и Везувий, это производило необычайное впечатление». То есть и Карус тоже считает: если найти хорошую рамку, в данном случае это скалистые своды напротив вулкана, то тогда Везувий, сведенный к силуэту в «просвете», станет мотивом для романтической картины с окном.
Практики восприятия Везувия переживают удивительную эволюцию на пути от Гёте до Гётцлофа. Но бегство в эстетику, превращение настоящего в «картинку», которое открыл Гёте, остается излюбленным подходом. Соответствующим образом меняются и позиции наблюдателей в картине: от туристов-ученых, охлаждающих свои эмоции рядом с потоками лавы с помощью дискуссий о геологии, к показанным со спины романтикам у Даля и далее к равнодушным местным жителям на картинах Кателя и Гётцлофа. А автором самого остроумного художественного трюка с превращением вулкана в «эффектное явление», как выразился в 1832 году Фридрих фон Румор, был Эдуард Агрикола. В 1837 году он нарисовал «Ночное извержение Везувия», резко обозначив отношения между горой и реципиентом. Слева на переднем плане на дюне лежат два наблюдателя, растянувшись, как на диване, у них на виду вулкан изрыгает пламя, но он совсем ручной: развлечение для субботнего вечера.
Однако в этой истории с вулканом не хватает одного видного – нет, величайшего представителя романтизма XIX века, потому что Каспар Давид Фридрих никогда не бывал в Италии. Во что превратил бы этот мотив он, «первооткрыватель трагедии в пейзаже» (Давид д’Анже)? Величайший романтик XX века Энди Уорхол в 1980 году приехал в Неаполь и увидел Везувий. И Уорхол счел вулкан достойным его искусства, которое доказывало, что повторение в эпоху воспроизводимости не повреждает, а увеличивает ауру. Так Везувий стал Мерлин Монро среди вулканов. Таким образом, в плане восприятия Уорхол оказался в 1980 году там же, где был Гёте в 1780-м. А в 2013 году появилась картина берлинского художника Бернхарда Мартина [99], который подвел итог двухсотлетней немецкой истории восприятия Везувия и постепенного отхода от зачарованности его демонизмом, дав своей работе с Везувием лаконичное название: «Don’t worry».
Дело вкуса. О статусе Коро и Фридриха в музее Штедель, а также anno 1825, 1913, 2015
Вкус – самая неоднозначная, неуловимая и запутанная категория в истории искусств. Более того: она настолько неоднозначная, неуловимая и запутанная, что некоторые историки искусства готовы даже под пытками отрицать, что «вкус» (здесь в кавычках для необходимой дистанции, как будто само слово нужно брезгливо брать кончиками пальцев) вообще является парадигмой, заслуживающей серьезного внимания.
Причина этого древнего и упорного неприятия вкуса в качестве искусствоведческой категории в том, что он релятивирует то, что мы считаем самой надежной почвой: собственную оценку. Ведь когда мы критикуем недооцененность каких-то художников в прошлом или совершенно необъяснимое с современной точки зрения возвеличивание других художников, мы ступаем на очень скользкую дорожку. Если мы констатируем, что при вынесении мнения об искусстве играет роль не только качество произведения, но и его оценка в условиях соответствующей эпохи, то мы тем самым невольно признаем, что и наше собственное суждение, которое мы высказываем в данный момент, точно так же детерминировано господствующей вкусовой доктриной. И если мы в 2015 году любим искусство немецкого движения «Zero» [100], этюды маслом XIX века и абстрактные работы условного Герхарда Рихтера [101], то это станет для потомков поучительным материалом для таких же выводов о нашем времени, какие мы – с удивлением, интересом и восхищением – делаем о 80-х годах, когда вершиной вкуса считались «Новые дикие» [102], «Кувшинки» Моне и Карл Шпицвег [103].
А вот второе свойство вкуса, делающее его таким опасным: приходится признать, что оценка произведения искусства, которую ты считал в высшей степени индивидуальной, как правило отражает коллективные представления. То, что кажется личным открытием, обычно представляет собой эстетический групповой тур. Именно эта скрытая, но сильная зависимость от вкуса в каждом отдельном суждении об искусстве что прошлого, что настоящего делает эту категорию такой интересной – и объясняет протест против нее.
В искусствоведении сейчас много и охотно говорят об истории восприятия, потому что в результате анализа различных оценок одного и того же произведения мы можем много узнать – о произведении и о времени. И пришло время для того, чтобы принять вкус в качестве серьезной основы восприятия. Он играет роль даже в отношении вершин искусства – таких как горные пейзажи Фридриха и Коро в собрании музея Штедель.
Да, и Каспар Давид Фридрих (1774–1840) был когда-то делом вкуса, каким бы немыслимым это ни казалось нам сегодня. Густав Фридрих Вааген, директор Старого музея в Берлине, пишет в каталоге коллекции берлинского консула Йоахима Вильгельма Вагенера, которая потом оказалась в берлинской Национальной галерее: «Владелец не обошел вниманием и отдельных немецких художников, достаточно значительных, таких как Фридрих и Даль из Дрездена, Шульц из Данцига, Клейн из Нюрнберга, Веллер и Ридель из Рима». То есть крупнейший специалист по истории искусства помещает Каспара Давида Фридриха в этот ряд давно забытых художников – причем не какую-нибудь его второстепенную работу. В собрании консула Вагенера имелась картина «Вацманн», сегодня это жемчужина Старой национальной галереи в Берлине, одно из главных произведений художника, шедевр. Anno 1850, всего через десять лет после смерти, Фридрих был для Ваагена и вкусов эпохи забавным «отдельным» художником без имени и произведений – «Вацманн» не заслужил упоминания.
И тут внимание: откуда мы знаем, что через сто лет истинными сокровищами и шедеврами XIX века не объявят работы Веллера, Клейна и Шульца, что не будут смеяться над любовью к романтизму в начале XXI века, который задним числом объявил Каспара Давида Фридриха мерой всех вещей? История вкуса учит смирению.
«Пейзаж с горой Розенберг в богемской Швейцарии», или «Горная местность / Горы с поднимающимся туманом», Каспара Давида Фридриха из собрания франкфуртского музея Штедель относится к поздним работам художника (ок. 1835). Как и во многих других горных пейзажах Фридриха, мотив задала гора Розенберг в богемской Швейцарии. «Очерчена прекрасными линиями, будто ангелы поиграли в песке», – писал об этих местах Генрих фон Клейст в 1801 году.
У Фридриха пейзаж тоже кажется зачарованным. Нет проработанных контрастов, отсутствуют какие-либо существенные действия или персонажи, которые могли бы прояснить мысль автора. Передний и задний планы, близкое и потустороннее тут не разделены, а плавно перетекают друг в друга. А туман у Фридриха постоянно поднимается, например в его знаменитом изображении утра или на знаменитой картине «Странник над морем тумана» 1818 года из гамбургского Кунстхалле.
И до сих пор скрыто туманом многое из того, что относится к истории этой примечательной картины. Если у картин Коро, которые тоже являются темой этого текста, всегда можно точно определить изображенное место и период создания картины, то в отношении картины Фридриха это не удалось до сих пор. Она всплыла в конце 20-х годов, когда увлечение Каспаром Давидом Фридрихом достигло кульминации – то есть через три поколения, через сто лет после написания. Судя по всему, это константа в истории вкуса: нужны три поколения, чтобы правильно оценить значение произведений прошлого. Картина появилась из «обширного круга родственников художника», именно так замечательно неточно, туманно (в духе нашей картины) сообщают источники. Причина этого семейного хранения проста и заключается в том, что во второй половине XIX века Фридриха совершенно забыли, а его работы ценили только его потомки и родственники. А искусствоведение и тем более художественный рынок – не ценили. И только легендарная «Выставка столетия» 1906 года в Берлине вернула Фридриха в поле зрения общественности и в итоге на Олимп. Вследствие выставки массово начали всплывать его работы, среди них была и картина из Штеделя, которая в 1927 году появилась в берлинской галерее Ван Димен и сразу стала объектом большой журнальной публикации: Курт Карл Эберлейн [104] посвятил этой работе восторженную статью в «Cicerone» за 1927 год. Эффектная фраза в статье: «Я не знаю другой работы Фридриха, которая была бы в нашем смысле просто нарисована». Судя по всему, музею Штедель и его директору Георгу Сварценски удалось приобрести картину прямо из галереи – в документах есть такая запись: «Получена в 1927 году от директора, ранее находилась в галерее Ван Димен, Берлин». Немедленно после приобретения картину опубликовали и в других журналах и выставили в музее – в конце 20-х и начале 30-х Фридрих внезапно вошел в моду, попал в резонанс с потерявшим опоры обществом, а при национал-социализме его вообще объявили отцом-основателем ложно понятого немецкого искусства. Разумеется, искусство Фридриха смогло освободиться от этого захвата, разумеется, на это потребовалось время, как минимум одно поколение, а на самом деле два.
Картина из Штеделя еще не оценена в полной мере с учетом ее исключительного места в творчестве Фридриха. На примере этой картины можно подтвердить любую теорию из тех, что придуманы для Фридриха, – а равным образом и опровергнуть. Это такая неоднозначная и странная работа, что она идеально годится для размышлений о такой похожей на нее категории вкуса.
Туман для Фридриха всегда означает нечто, что рассеется, что должно проясниться. Туман переводит природу в состояние ожидания – а вместе с ней и наблюдателя, по меткому замечанию Вернера Хофмана [105]. Таким образом, туман означает драпировку истины посредством ограничения человеческого разума.
Несмотря на точное наблюдение за природой, лежащее в основе картины, она являет собой фантастический образ. Карл-Отто Конов в своей статье «Исполиновы горы на пейзажах Каспара Давида Фридриха» [106] 1971 года именно в этом смысле приписывает франкфуртской картине особое значение. В плане стиля эта картина, написанная около 1835 года, несомненно, является самой поздней из десяти подобных работ и самой свободной с топографической точки зрения. Она никак не связана с предварительными набросками, ее трудно локализовать, она отрывается от содержания и практически становится просто пейзажем. Воспользуемся прекрасными словами Вернера Буша: Фридрих вдыхает природу и выдыхает ее на картине.
Из моря тумана торчат отдельные ели, те самые ели, которые, как сам Фридрих объяснял в отношении картины «Теченский алтарь», означают для него христиан. Хельмут Бёрш-Зупан [107] говорит: «Натурализм служит здесь укреплению религиозной истины». То есть мы думаем, что перед нами изображение природы, а на самом деле перед нами алтарь? Или во франкфуртской картине, как пишет Конов, нет определенной точки опоры, и «она стремиться выразить религиозные или философские мысли об отношении человека к неземному»?
Состояние парения, в котором оказывается картина с туманом, было именно тем, к чему так стремился Фридрих, – хотя и не находил поддержки у современных ему критиков. Туман не соответствовал вкусу эпохи позднего бидермейера, который требовал ясности. Фридрих говорит в своих записках, что критики «объявили зиме и туману бойкот». Их глаза нечувствительны к «большому белому покрывалу» зимы, под которым природа готовит новую жизнь, а туман для них «всего лишь серость». Фридрих отвечает на это: «Когда туман укутывает ландшафт, этот ландшафт кажется шире, благороднее, он будит фантазию и напряженное ожидание, как девушка под вуалью».
Это второй, свежий уровень интерпретации тумана на картинах Фридриха: помимо неземной религиозности, вуаль означает и глубоко земное бытие, скрытое под ней. Фридрих не был бы воплощением художника-пророка, если бы не обладал тем двойным взглядом, тем переключением уровней, что допускают любую интерпретацию. Его главный посыл – «божественное повсюду» – выражен в его медитативных картинах весьма и весьма тонко. Так тонко, что можно предположить и обратное: а прояснится ли туман на нашей картине, сможем ли мы приблизиться к божественному откровению? Или это только первые облака тумана, к которым будут прибавляться все новые и новые, пока и истина, и горные цепи не сольются в непроницаемой, непроглядной нирване? Или, говоря словами Мартина Мозебаха [108]: «Стремление картин Фридриха растечься по бескрайним, пустынным далям и раствориться в космосе – действительно ли оно истинно христианское?» Ведь можно утверждать, как это делал Курт Карл Эберлейн в 1927 году, во времена, когда на эстетические пристрастия Европы сильно влияло древнее азиатское искусство, что «пейзажи Фридриха по сути своей близки только древнекитайской пейзажной живописи, и как раз наша картина вызывает ассоциации с изобразительным искусством Восточной Азии».
Вот это и есть большое искусство: оно способно устанавливать связь между Исполиновыми горами и Восточной Азией, между христианской символикой и прославлением природы, между импрессионизмом и романтизмом – а вот от вкусовых оценок оно больше не зависит. Или так: каждое новое поколение со своим визуальным опытом способно пополнить семантику картины «Пейзаж с горой Розенберг». Потому что мы видим все более отчетливо, как эти горы Фридриха поднимаются над равниной его современников.
В Германии до сего дня не в полной мере распробовали Камиля Коро (1796–1875). В отношении его значимости царит равнодушие или даже невежество, в публичных собраниях представлены всего несколько его работ. Однако уже его первая поездка в Италию в 1825 году стала художественным событием, коренным образом изменившим живопись XIX века, что продемонстрировал Питер Галасси в своем глубоком исследовании «Коро в Италии» [109]. В собрании Штеделя с 1912–1913 годов находятся два этюда, созданных во время того путешествия: «Вид на Марино в Альбанских горах ранним утром» и «Итальянский осенний пейзаж близ Марино». Обе картины попали в коллекцию музея, как следует из документов, при посредничестве Пауля Кассирера [110]. Один из этюдов Кассирер приобрел на аукционе Руара в Париже в декабре 1912 года и напрямую передал музею – в сохранившихся письмах Пауля Кассирера и директора Георга Сварценски [111] речь идет, к сожалению, только о комиссионных за посредничество и об условиях выплаты. По этим письмам трудно делать выводы о ценности Коро, но в любом случае примечательно то обстоятельство, что Кассиреру прямо из Берлина (а в итоге из музея Штедель) удалось приобрести в Париже на аукционе этюды Коро, картины которого в то время стоили очень дорого. А вот этюды Коро не угодили вкусам публики, да и Пауль Кассирер тоже, вероятно, не верил в то, что эти вкусы скоро изменятся, и поэтому за небольшой гонорар передал картины музею (кроме этюдов Кассирер приобрел на распродаже собрания Анри Руара [112] «Портрет итальянской девушки» Коро). Поскольку в переписке фигурирует только общая цена за работы Коро и Пюви де Шаванна, мы не можем определить стоимость отдельных картин anno 1912–1913. Но примечателен сам факт того, что Георг Сварценски понял значение этюдов Коро в тот момент, когда вокруг него доминировала эстетика авангарда, которую определяли Пикассо и Матисс, «Синий всадник» и «Мост». Он действовал антициклично и с безупречным вкусом (а в отношении картины Фридриха – циклично и с безупречным вкусом).
Как нам известно из источников того времени, Коро стоил особенно дорого перед Первой мировой войной: когда Гуго фон Чуди [113] составил список желательных приобретений для Новой пинакотеки в Мюнхене, на одну работу Коро предполагалось выделить 200 000 марок, на Милле – 100 000 марок, на Делакруа 80 000 и на Моне 60 000 марок. Интересная расстановка, дающая точную картину ситуации со вкусами и ценами на французскую живопись в Германии. Но поскольку этюды маслом в то время еще не оценили, Георгу Сварценски удалось купить их за малую долю от цены за картину Коро: все покупки на аукционе Руара обошлись в 16 000 марок, причем, скорее всего, львиная доля пришлась на картины Пюви де Шаванна «Святая Мария Магдалина в пустыне» и «Портрет итальянской девушки».
С современным багажом знаний мы по-другому смотрим на этюды и видим: прослеживается прямая линия от итальянских этюдов Коро к картинам Поля Сезанна, и дистанция в два поколения тут сжимается до мгновения.
Вернемся, однако, в 20-е годы XIX века: приехав в Рим, Коро первое время ходил по натоптанным тропам, он писал Колизей, церкви, выбирался в Римскую Кампанью. Но результаты его не удовлетворяли. Попытка передать свет, тени и создаваемые ими оттенки наглядно продемонстрировала, как он сам выразился, «всё бессилие» его палитры. Но он сопротивлялся, пытался воплотить в цвете и форме ошеломляющие впечатления от природы.
Коро принадлежал к художественному сообществу Рима, его почтовым адресом было легендарное кафе «Греко». Со своими друзьями-художниками, среди которых были немец Эрнст Фрис и французы Бертен и Робер, он следовал по классическим маршрутам художников: в Неми, в Чивита-Кастеллана, в Субьяко. Немецкие художники, находившиеся в тот момент в Италии, посмеивались над «неимоверным количеством краски», которое расходовали при работе над этюдами Коро и другие французы, а также над их стремлением к «тотальному эффекту». Это важный момент: в 1827 году самые талантливые немецкие художники считали Коро безвкусным.
Спустя одно поколение впервые пришло осознание значимости этюдов: в изданной в 1867 году «Истории современной французской живописи» Юлиуса Мейера [114] отдается должное той важнейшей роли, которую сыграло для пленэра первое итальянское путешествие Коро – картины из Барбизона открыли современникам глаза на великого предшественника. Спустя еще одно поколение, в июле 1900 года, выдающийся эстет и воспитатель вкуса граф Гарри Кесслер описал в своем дневнике, как точно Коро схватывает дух итальянского пейзажа и объявил, что Коро обладает «тонким чувством сакрального». Более точного определения до сих пор не найдено, но нужно помнить о том, что Кесслер был представителем крайне малочисленного, эстетически образованного и тонко чувствующего авангарда. Император Вильгельм в 1908 году гневно заявил, взглянув на картину Коро: «В этой картине вообще ничего нет». И даже столь выдающийся писатель-искусствовед, немецко-французский культуртрегер Юлиус Мейер-Грефе в своей монографии 1905 года [115] отзывается о Коро критически: ему не хватает у Коро революционности, по его мнению, художник мало связан с современностью, в отличие от Менцеля или Констебля. По этому критическому взгляду заметно, как вкус рубежа веков влиял на отношение к работам Коро: автору, живущему в бурной действительности и видящему перед собой живопись вроде Ван Гога или экспрессионизм, Коро кажется спокойной живописью для создания атмосферы: «Кому же не хочется спрятаться от всех этих новых, борющихся друг с другом течений, убежать в пасторальные поля, которые Коро предоставил остаткам нашей нежности». Астрид Ройтер [116] написала в прекрасном каталоге «Камиль Коро. Природа и мечта» [117] для выставки в Карлсруэ, выпущенном по инициативе Маргрет Штуфман [118], что эта позиция Мейер-Грефе до сих пор определяет восприятие Коро в Германии. Тем удивительнее, что Георг Сварценски в 1913 году, невзирая на господствующее мнение, увидел смелость и новизну в этюдах «традиционалиста» Коро.
Особое значение этих этюдов не связано ни с техникой, ни с местами, которые Коро изображал в течение двух итальянских лет. Питер Галасси показал, что Коро (продолжавший дело великого Валансьена) внес в технику этюда маслом новую строгость и формальность, что было связано с задаваемой им структурой. Его этюды, в отличие от этюдов современников, не так ориентируются на переменчивые сочетания света и цвета. Нет, ему удалось заполнить пробел между свежестью живописи на пленэре и организационными принципами классической пейзажной композиции. Образцом для Коро были Пуссен и Лорен, и в своих маленьких этюдах он ориентировался на их композиционные принципы. Именно поэтому он мог придать такое торжественное достоинство какому-нибудь на первый взгляд непритязательному предмету на картине. Казалось бы, его работы являют нам пейзаж в совершенно не приукрашенном виде, мы не замечаем никакой «художественной воли» (Kunstwollen), но та уверенность, с которой он располагает отдельные элементы картины, демонстрирует академическое образование Коро – которое он тут же запросто преодолевает, опуская композицию обратно на уровень природного явления. Коро создавал композицию незаметно, и это одно из главных его достижений. И мне кажется, что мы только теперь, спустя двести лет, начинаем ценить это достижение. Не только потому, что у нас перед глазами есть два столетия живописи, но и благодаря принципиально новому отношению к вопросам естественности и инсценировки.
В ноябре и декабре 1826 года, а также в мае 1827 года Коро во время своих путешествий по Италии приезжал в Марино. Там были написаны два маленьких этюда: «Итальянский осенний пейзаж близ Марино» и «Вид на Марино в Альбанских горах ранним утром», входящие сегодня в собрание музея Штедель.
Давайте сначала взглянем на изумительный осенний пейзаж Коро, который (и это тоже было вопросом вкуса) несколько десятилетий хранился в запасниках музея, прежде чем был в 2013 году переведен в постоянную экспозицию в зале романтизма.
Сразу становится понятно, почему эта картина не вписывалась в представления послевоенной Германии об Италии, почему никто не хотел доставать ее из подвала. Только посмотрите, что за антиидиллия, что за меланхоличный вопросительный знак обращается к нам с этой картины! Пока окружавшие Коро французские и немецкие художники искали в Италии свет и идиллию, он нашел там для нас серость ноябрьского дня. Где-то в глубине леса осень вспыхивает красным, но в целом пейзаж погружен в землистые тона, а над ним грозно собираются темные тучи. Коро с потрясающим живописным мастерством моделирует весь пейзаж из коричневой тьмы. Картина конца света – и начало модернизма в живописи. Смелость этого этюда видна издалека, никому из романтиков и натуралистов, да вообще никому из художников первой половины XIX века не удалось создать картину, полную такой душераздирающей, безысходной тоски. «Осенний пейзаж близ Марино» Коро: ты знаешь ли край, где неврозы цветут [119]?
Впрочем, Штеделю повезло, и он может наряду с темной показать и светлую сторону Коро, неспроста же и выставка, документировавшая особую роль итальянских этюдов Коро, называлась «In the Light of Italy» [120] – так что давайте обратимся к той работе Коро, где над Марино восходит солнце. «Вид на Марино в Альбанских горах ранним утром», так называется небольшая картина, которая в новой развеске получила достойное место рядом с Каспаром Давидом Фридрихом.
Первые лучи солнца озаряют дома и луга, тени еще длинны и темны, но яркая зелень лугов рассказывает о занимающемся дне. А вдали, на бескрайней равнине, коричневые, желтые и синие тона сливаются в чистую художественную абстракцию. Быстрые мазки на переднем плане, особенно зелень и черные тени, нанесены стремительно и уверенно, они слой за слоем формируют тело пейзажа, который возникает перед нами – крепкий и вибрирующий. Объемы домов и церквей складываются из света и тени, как из кирпичей. Несравненный талант Коро состоит в том, чтобы композиционно так сгустить ландшафт, написанный до него множеством художников, что он кажется необычайно мощным и вместе с тем необычайно естественным. Мы, живущие сегодня, эстетически закаленные анимационными эффектами Голливуда и реалити-шоу, можем оценить это совсем по-новому. Потому что мы чувствуем настоящее тепло, медленно поднимающееся на картине, мы видим итальянский свет; визуальный опыт, который оставил нам Коро, всегда очень и очень телесный.
Мы, живущие сегодня, способны восхищаться независимостью Коро, его виртуозностью, с помощью которой он поднял жанр этюда маслом на новые высоты. То, что его земляк и учитель Валансьен вместе с англичанином Томасом Джонсом [121] сделали в Италии в самом конце XVIII века, когда нанесли маслом на бумагу свои, казалось бы, банальные впечатления от природы, три крупных европейских художника – Даль, Блехен и наш протагонист Коро спустя поколение подняли на уровень отдельной формы искусства. Причем такой формы искусства, которую мы оценили только спустя 100–150 лет.
Итальянские этюды Коро с их жадным любопытством к пронзительному свету, с их спокойным пониманием тепла и времени дня стали фундаментом для французского импрессионизма. Вместе с тем в своих композиционных принципах они продолжают линию идиллических пейзажей XVIII века; в прочности и независимости форм на этих этюдах уже узнается Сезанн. Это вершина, и ее имя – Коро: с этой вершины можно оглядываться на XVIII век, а можно и заглядывать вперед, до самого XXI века. Питер Галасси очень точно понял значение Коро и пришел к такому заключению: «Коро интуитивно обратился к той программе, которую Сезанн позднее описывал как восстановление Пуссена в согласии с природой». Таким образом, мы можем провести линию от Коро к Сезанну и далее к кубизму – причем без «обходного пути через импрессионизм».
Мы знаем, что не только немецкие, но и французские художники, окружавшие Коро в 1825–1827 годах, с насмешками реагировали на его этюды: «Вы видели такую наивность: начинающий художник просто копирует природу, вместо того чтобы одеть ее в новое платье по канонам мастеров?» Как показал Оскар Бечман [122], упрек в наивности и в дальнейшем оставался главным упреком критиков по адресу Коро. И только Поль Валери спустя сто лет после написания этюдов окончательно признал благородство этой наивности: «Дух простоты у Коро – это идеальное конечное состояние, которое предполагает, что многослойность вещей и многообразие возможных взглядов и экспериментов сокращаются, что они исчерпаны».
Это и есть Коро. Открытый глаз. Познавший и прошлое, и будущее. Коро еще в 1825–1827 годах почувствовал ту исчерпанность, эстетическую и вкусовую, которую мы, современные люди, только сегодня понимаем в полной мере.
А рядом с ним – Каспар Давид Фридрих. Художник закрытого глаза. Написавший однажды: «Закрой свой телесный глаз, чтобы увидеть картину сначала духовным глазом! А потом вынеси на свет то, что ты увидел в темноте, чтобы оно уже снаружи влияло на то, что у других людей внутри».
И вот теперь, в начале XXI века, они наконец-то висят рядом друг с другом в зале Клауса-Дитера-Штефана музея, два главных художественных таланта Франции и Германии первой половины XIX века. Две пары глаз, совместно раскрывающих тайну большого искусства. И это, в порядке исключения, не дело вкуса.
Адольф фон Менцель. Как расти над собой
Адольф фон Менцель, крупнейший берлинский художник XIX века, был ростом всего 138 сантиметров, да и то, наверное, на цыпочках. По причине «карликовости» он был признан негодным к службе в армии. Как же реагировать на такое унижение? Как можно стать великим, если ты такой маленький? И как сделать это именно в Берлине, в этом гигантском Молохе, который приводится в действие миллионами спешащих людей? Кажется, Менцель выработал две стратегии для достижения успеха – психологическую и художественную.
Да что тут говорить, Менцель до сих пор остается диковинной загадкой, настолько велик спектр его тем и стилей – он годами углублялся в эпоху Фридриха Великого и написал его «концерт для флейты» так, как будто сам его слышал, он зажег световые блики импрессионизма еще в 1845 году в своей «Комнате с балконом» и монументально инсценировал индустриальную эпоху в картине «Железопрокатный завод». А параллельно этому – акварельные портреты ошеломляющей красоты, загадочные изображения собственных ног, картины коронации императора Вильгельма, этюды маслом огромной натуралистической силы – а еще массив рисунков из более чем десяти тысяч листов: на протяжении всей жизни он носил в карманах куртки два-три блокнота для набросков и массу карандашей, карандашные рисунки были его способом воспринимать мир.
Менцелю с детства было суждено видеть жизнь из «лягушачьей» перспективы. Он, низкорослый, смотрел на других людей снизу вверх. Характерна открытка, которую он отправил под Новый год 1844 года своему другу, художнику Эдуарду Бирману. Может быть, это единственное свидетельство во всем его наследии, где он показывает себя самого в масштабе окружающего мира – и показывает маленьким. Глядящим снизу вверх. Разумеется, его взгляд на мир – всегда взгляд снизу. Но Менцель никогда не показывал себя так откровенно в той роли, к которой его принудили гены. В тексте чувствуется и озлобление – трудно понять, о чем идет речь, но вывод ясен: «Пусть в этом Новом году все будет не так, как прежде». Он хочет сказать: я больше не хочу всегда смотреть на других снизу вверх. Я не хочу, чтобы виноград всегда висел слишком высоко для меня. Я-то знаю, что могу нарисовать его лучше вас всех!
Он боролся против этого озлобления с неукротимой страстью и энергией. Поэтому логично, что все свое творчество он посвятил взгляду: разным его направлениям, отведенным, испуганным, добродушным и любопытным взглядам. Менцель постоянно выбирал относительно высокую линию горизонта, чтобы смотреть на передний план немного сверху. Он стоит у своего дирижерского пульта и с этого искусственного возвышения оркеструет взгляды своих моделей. Все его большие и малые фигуры получают свою истинную динамику благодаря их зрительным осям: через оперный бинокль, из лож, из окон, а на его знаменитых рисунках, выполненных толстым плотницким карандашом, сам рисовальщик Менцель смотрит на один и тот же мотив на том же самом листе бумаги из разных перспектив.
Известную литографию Менцеля, на которой мы смотрим с уровня земли в медвежьем вольере берлинского зоопарка наверх, на праздных посетителей, всегда интерпретировали так: тут мы впервые смотрим на человека взглядом животного. А медведи Менцеля – это как бы предшественники пантеры Рильке, чьи мысли за решеткой нам удастся прочитать лишь через пятьдесят лет. Но на самом деле такая противоестественная перспектива медведя, смотрящего на людей в зоопарке, представляет собой естественную перспективу Менцеля, смотрящего на мир. Поэтому рисунок производит такое сильное впечатление: автор глубоко его прочувствовал.
Менцель постоянно тренирует мышцы своей самооценки, заставляя себя смещать угол зрения: на гуаши, написанной несколько позднее, где он смотрит снаружи на того же медведя за решеткой, художник, он же зритель, кажется очень большим и ощущает себя укротителем прирученных диких зверей. Майкл Фрид [123] в своей большой книге о Менцеле [124] размышляет о том, что это значило для маленького Менцеля – с помощью карандаша инкорпорировать мир и тем самым покорить его. А Вернер Буш в своей не менее солидной книге о Менцеле «В поисках реальности» 2015 года сформулировал: «Карлик тянется вверх, может быть, только во время рисования он мог быть самим собой». Художественное творчество было для него телесным самопознанием, «познанием своей инаковости»: если каждый раз, глядя на мир, он вынужденно оказывался связан своим взглядом снизу вверх, то его способность изменить эту перспективу в картинах была для него опытом величия. Даже самая, пожалуй, знаменитая картина Менцеля, «Комната с балконом», вовсе не является, как часто полагают, фиксацией мимолетной игры света, которую Менцель сделал символом целого столетия и модернистского ветра перемен, треплющего занавески XIX века. Нет, Вернер Буш показал, что художник должен был писать эту картину, стоя на стуле или на стремянке, потому что мы смотрим сверху на настенные светильники справа. То есть Менцель в глубине души понимал, что ему нужно в мыслях и образах встать на ходули, чтобы создавать для мира такие картины, которые мир воспримет как свою реальность и свое отражение.
Несомненно, это было питательной почвой и для пристрастия Менцеля к «помощникам для глаз»: люди, которых он изображает с биноклями, удивительным образом кажутся более сильными. Он чувствует свою близость к ним, потому что они могут благодаря оптическим приборам поменять перспективу и увеличить свои возможности – так же, как и он, когда рисует. И мы понимаем, почему только у Менцеля «Бинокль Мольтке с кожаным футляром в разных ракурсах» 1871 года занял место самого полководца и стал свидетелем войны. Бинокль становится символом власти. Это интерпретация франко-прусской войны от Менцеля: победит тот, кто сумеет улучшить свою перспективу. Или так: всегда нужно смотреть на мир сверху вниз. Очень интересно, что эта игра с перспективами продолжалась и в том, как современники воспринимали самого Менцеля. Альфред Керр [125] рассказывал, как однажды маленький Менцель пришел в один из берлинских театров и по рядам побежал шепот: «Все, кто не знали Менцеля, смотрели на него сверху вниз. А все, кто его знали, смотрели высоко вверх». Борьба за правильное направление взгляда – тема всей жизни Менцеля.
Если на этом фоне взглянуть на творчество Менцеля в целом, то мы неожиданно обнаружим, что взгляд у него непрерывно прыгает то вверх, то вниз. Очень редко он смотрит прямо наверх, на небо, хотя такой взгляд на облака сблизил бы его с высокими прусскими парнями – на небо-то все мы смотрим снизу вверх. У Менцеля есть несколько картин ошеломляющей силы с изображением облаков, но создается впечатление, что этот взгляд наверх быстро наскучивал ему. Ему ведь и без того приходилось все время смотреть наверх. А хотел он вот чего: вырасти над самим собой с помощью своего искусства. Поэтому он так любит заглядывать сверху во дворы, смотреть сверху на поезда и на важные события прусской истории. Подмостки для рисования, с которыми мы в первый раз сталкиваемся в его мастерской в Касселе, становятся само собой разумеющейся исходной точкой для его взгляда на тот мир, что он создает. На гуаши «Кронпринц Фридрих поднимается к Пэну на подмостки в Райнсберге» он, добровольный посмертный придворный художник Фридриха Великого, изображает себя как нового Пэна [126], с чувством благодарности за то, что тому тоже нужны подмостки, пусть только для росписи потолка, для создания большого искусства.
Однако взгляд сверху Менцель почти всегда объединяет со взглядом вниз – он как будто старается каждым таким произведением пропагандировать демократизацию угла зрения, показать, что нет одного «правильного» взгляда на действительность, что это всегда сумма многих взглядов. Его графические работы на крошечном пространстве соединяют взгляды одной и той же головы сверху и снизу. На его картинах мы постоянно видим людей, которые залезают на деревья, чтобы оттуда лучше видеть мир. В этом раскрываются стремления самого художника. Кажется, он наслаждается, когда благосклонно взирает на мир, как на рисунке с церковной колокольней в Нюрнберге, – и при этом демонстрирует ему свое мастерство через грандиозное изображение укороченной перспективы.
Глядя с этой колокольни, можно и в его легендарных рисунках собственных рук и ног разглядеть дополнительный смысл. Это не только безжалостное изучение самого себя с помощью карандаша, который уже предчувствует холод «новой вещественности», не только торжество метода pars pro toto [127], то есть фрагмента в качестве настоящего автопортрета. Взгляды на собственные руки и собственные ноги дают Менцелю уникальную возможность: он, карлик, хоть на что-то смотрит сверху. Этим объясняется такая уверенность при создании этих рисунков, гуашей и картин маслом. Тут он обретает свою личную перспективу и при этом не чувствует себя маленьким. Напротив, он может целиком и полностью ощутить величие своей виртуозности. Если мы держим в голове эти наблюдения, то по-новому посмотрим на детские портреты Менцеля. В 40-е и 50-е годы XIX века он часто писал акварельные портреты детей из круга родственников и друзей; характерным является портрет «Дочери министра юстиции Меркера» 1848 года. Перед нами почти десятилетняя девочка, наверное, примерно одного роста с Менцелем (138 см). Чтобы обойти этот неловкий момент, на своей прекрасной акварели он не просто написал девочку сидящей на стуле, нет, кажется, он снова рисовал, забравшись на стремянку, и смотрел вниз, как великан. Все это было нужно для того, чтобы почувствовать себя большим – а чтобы подчеркнуть свое величие, Менцель вручил девочке, рост которой явно не давал ему покоя, «Историю Фридриха Великого» Куглера со своими иллюстрациями. Этот небольшой налет тщеславия в таком интимном портрете показывает, как важна была для него борьба с унижениями из-за малого роста, особенно в раннем творчестве. И как он пытался компенсировать этот недостаток физическим (забираясь на лестницу) и символическим (вручая девочке свою книгу) возвышением.
В 1866 году ему снова довелось посмотреть сверху вниз на людей, которые были выше его: он писал солдат, погибших или истекающих кровью после сражения при Кёниггреце [128]. Они лежали у его ног. Кто знает, может быть, именно то обстоятельство, что он, Менцель, смотрит вдруг сверху вниз на этих некогда гордых мужчин в форме, и возможность продлить этот ужасный, но соблазнительный момент помогли 21 июля 1866 года появиться на свет трем прекрасным акварелям, которые, по словам Вернера Буша, «относятся к самым ужасным изображениям войны, что мы когда-либо видели». Менцель не просто хватается за карандаш, чтобы быстро зарисовать происходящее и убежать, нет, он смешивает акварельные краски и выписывает каждую деталь умирания в точнейших цветовых нюансах, терпеливо и со всеми подробностями. Эти впечатления так же сильно повлияли на Менцеля, как повлиял военный опыт на Кирхнера и Бекмана, но я предполагаю, что в этом ужасе от страданий был и ужас от себя самого, от художественного наслаждения перспективой птичьего полета над павшей мужественностью. От того, что в своем экзистенциальном стремлении вырасти над собой он готов идти по трупам.
Вся жизнь художника Менцеля прошла в Берлине. Но виды Берлина, созданные им за это время, кажутся странными. У Менцеля есть картина «Парижский будний день», а картины с берлинским будним днем нет. В Берлине он пишет только праздники. Придворные торжества. Насыщенность, хаос городской жизни Берлина попадают на картину только тогда, когда художник может дать им какую-то рамку, и, как правило, это происходит в помещении, будь то «Концерт для флейты», «Коронация» или «Бал с ужином». Обратим на это внимание: Менцель живет в столице империи в тот период, когда Берлин готов лопнуть от стремительного роста населения, когда «грюндерские» [129] кварталы растут как грибы после дождя, а на улицах не протолкнуться от людей. Повсюду прокладывают трамвайные линии, на берлинских площадях самое оживленное движение в Европе. А что же Менцель? Менцель пишет природу, которую находит прямо в центре столицы. На берегах Овечьего ручья, рукава Шпрее, который вскоре по проекту Ленне превратился в Ландвер-канал, Менцель нашел те виды Берлина, которые его устраивали: нетронутую природу. Он нашел ее также в саду семьи Кригар-Менцель, и этот сад на его работах похож на заколдованный hortus conclusus [130]. Темпельхофское поле, холм Кройцберг, которому Менцель посвятил виртуозные этюды маслом, выглядят как сонные пейзажи на просторах Бранденбурга. Менцель как пейзажист – такой выставки и книги нам не хватает. Потому что надо обязательно рассказать о способности Менцеля видеть пейзаж там, где давно уже ведется строительство. Чувствовать природу там, где с облаками уже соперничают клубы дыма из близлежащих фабричных труб. Разумеется, Менцель осознает силу модернизации, которая перемалывает город, заставляет Берлин расти дальше и дальше. Но он пытается сопротивляться этой силе, уходя на край ее действия: из города в пригород, из дома во двор, из дворца в парк. Он рисует железную дорогу Берлин – Потсдам, смотрит на дома, предназначенные к сносу, заглядывает в парковый ресторан «Моритцхоф», в сад дворца принца Альбрехта. Он пытается написать ветер в кронах тополей, и это у него мастерски получается. Но всё это, конечно, попытки бегства.
Для него, маленького человека, город был опасным, все эти толпы на улицах, на несколько голов выше его и готовые его растоптать. У него нет ни одной картины нового Берлина, если не считать «Отъезд в армию короля Вильгельма I», который вообще-то представляет собой тротуарный вариант «Бала с ужином». Правда, в поздний период он написал две картины с изображением толпы, но сделал это в Бад-Гаштайне и в Киссингене, вдали от грозного мегаполиса Берлина. Только когда поезд увез его в безопасное место и вдали от родины он смог прийти в себя, Менцель дал свободу чувству задавленности – и переборол его своими, казалось бы, милыми жанровыми сценками Баварии и Австрии в духе бидермейера. А в первую очередь – своей поздней работой «Пьяцца делле Эрбе», написанной в Вероне. Картина именно потому выглядит такой пугающей со своим хаосом и насыщенностью, что тут он, кажется, впервые написал свой страх. Написал чувство опасности, исходящей от толпы. Там, в северной Италии, он попытался в живописи преодолеть свое многолетнее подспудное чувство перенапряжения и угрозы, порожденное берлинской действительностью. Маленькие дети, попавшие под ноги толпе в левом нижнем углу картины – это персонификация глубоких страхов самого Менцеля.
Что же Берлин сделал с Менцелем? Этот вопрос с пронзительной остротой поставил в 1910 году Карл Шефлер в своей книге «Берлин. Судьба города». Он рассматривает феноменальное творчество молодого Менцеля и пишет: «Франция в работах юного Менцеля стала как будто совсем бранденбургской, кажется, что грация и свобода прижились в берлинских песках». Но после провозглашения Германской империи Берлин начинает, по мнению Шефлера, подчинять себе Менцеля. Далекий от религии Шефлер горько сожалеет о том, что из-за долгой жизни в Берлине искусство Менцеля «утратило сакральное». Он пишет о «Комнате с балконом», о ранних пейзажных этюдах из Берлина, о работах гуашью и пастелью 40-х и 50-х годов, нахваливает гениальность Менцеля, а потом подводит итог: «Где в лучших работах Менцеля до 1860 года присутствует то неопределимое чувство необходимости, которое мы называем стилем и которое делает художника пророком и интерпретатором своего времени, там в поздних работах мы видим один лишь академизм, технически бесконечно рафинированный, ставшее бездушным мастерство. Вот и Менцель стал очередной жертвой берлинской мегаломании. Его судьба как художника – обвинение Берлина. Все гениальное в этом человеке погибло из-за скудности традиций и бескультурья столицы».
Немного больно читать это. Прежде всего потому, что Шефлер яснее прочих высказал одну истинную вещь: в гении Менцеля есть трагизм. Насколько велик этот трагизм – вопрос открытый. Но он всегда уменьшается, когда его проговаривают. Мы видим: вопрос о том, что велико, а что мало, действительно был драмой всей жизни Менцеля.
Карл Густав Карус. Излечим ли романтизм?
Даже на чудесной картине «Прогулка на лодке по Эльбе» 1827 года видно, почему у Карла Густава Каруса романтика тянется к шляпе. И, коротко попрощавшись, покидает картину. Потому что как бы ловко ни удалось Карусу запустить игру светотени на атлетичной спине гребца, как бы умело он ни заставлял зрителя смотреть глазами дамы слева и как бы волшебно ни поднимался Дрезден из дымки на горизонте, будто Атлантида (или как минимум Венеция) – в ту секунду, когда мы замечаем лежащую справа в тени шляпу, наши эмоции переживают небольшой крах. Чем больше мы присматриваемся к ней, тем яснее мы видим, что тут налицо пренеприятнейшая педантичность, как будто надо было нарисовать не простое плетеное изделие, а точный портрет шляпы для полицейского отчета. И теперь, как будто это проклятая шляпа переключила наш взгляд с широкоугольного на телеобъектив, мы вдруг замечаем и то, что балки внутри лодки как-то плоховато поддерживают перспективу, зато подведены аккуратненькими черными штрихами. В результате из картины уходит вся романтическая магия. Картина «Прогулка на лодке по Эльбе» 1827 года демонстрирует все мастерство и всю трагедию Карла Густава Каруса.
Можно было бы начать совсем с другого: приятно видеть, с какой энергией и тщательностью государственные галереи Дрездена и берлинские музеи после долгой подготовки представили образцово-показательный обзор творчества Карла Густава Каруса (1789–1869), с которым можно ознакомиться на крупномасштабной выставке с подробным двухтомным каталогом. Выставка откроется летом в Дрездене, а осенью будет демонстрироваться в Старой национальной галерее в Берлине и явит изумленной публике все грани малоизвестного универсального ученого и художника XIX столетия. После такого события мы уже никогда не забудем Карла Густава Каруса.
Естественно, что мы, живущие в эпоху разграничений и узких специализаций, с удивлением смотрим на человека, не знавшего границ: в двадцать два года он одновременно защитил две диссертации: первую о ревматизме, а вторая называлась «Трактат о проекте общего жизненного учения». Будучи руководителем гинекологической клиники в Дрездене, он помог появиться на свет тысячам детей, он тесно общался с Гёте, Гумбольдтом и Шинкелем, написал одинаково важные работы о пейзажной живописи и о римских монетах, найденных археологами. Разработал стул для родов, собирал горный хрусталь и человеческие черепа, а в 1827 году (когда была написана упоминавшаяся прогулка по Эльбе) стал личным врачом семьи короля Саксонии. Днем он составлял календарь женских циклов и подводил фундамент под европейскую философию, а вечером бродил с Каспаром Давидом Фридрихом по пойме Эльбы, чтобы ощутить там романтическую всеобщность, а потом дома писал свою работу «Об ускоренном кровообращении у сетчатокрылых насекомых». В своей работе «Психика» 1846 года он проработал понятие бессознательного, его идеи в области глубинной психологии повлияли на Фрейда. Такое впечатление, что Карус пытался создать раннемодернистское ООО «Я», объединяющее философию, эмпирические исследования, врачебную практику и художественное восприятие. Одним из источников его невероятной энергии было, судя по всему, упрямство: прежде чем он действительно стал профессором, Карусу пришлось пережить множество отказов, из одиннадцати детей он потерял девять, а почитаемый им Гёте регулярно отправлял назад картины, которые Карус отправлял ему в подарок. Темой всей его жизни была борьба за признание. А травмой всей его жизни было то, что Каспар Давид Фридрих в этом признании ему в конце концов отказал.
И через каталог, и через выставку совершенно обоснованно проходят красной нитью художественные и личные отношения двух уникальных фигур дрезденского искусства начала XIX века. Фридрих, старше Каруса на пятнадцать лет, немецкий чемпион мира по романтизму, был для Каруса сначала кумиром, потом любимым другом, а под конец уже соперником, внушающим некоторый трепет. Врач Карус в живописи был самоучкой и жадно впитывал сначала знания Фридриха, затем его символику и образный язык. До сих пор не расшифрованная запись в рукописи Фридриха по теории искусства «Выражение» 1829 года лишь частично проясняет их взаимное отчуждение: «То, что ХХ говорит об искусстве, имеет определенную ценность, поучительно и складно звучит, но то, что он рисует, выглядит плохо и не имеет никакой ценности – ни как достижение духа, ни как изделие». А этот «мистер ХХ», как доказал в своей статье для каталога Хельмут Бёрш-Зупан, есть не кто иной, как Карл Густав Карус. Карус ответил на эту тяжкую обиду, написав друзьям, что Фридрих уже очень стар и стал параноиком. Но если Фридриху, которого явно очень утомили умничанье Каруса и его безоглядное эпигонство, удалось освободиться от этого груза, то Карус, лишившись мотивов и дискуссий об их воплощении на картинах, потерял свой стержень. Когда же Фридрих в 1840 году умер, Карус в последний раз навестил своего друга и снял с него посмертную маску – и Фридрих уже не мог сопротивляться этому последнему и самому радикальному жесту поклонения. Из художественного творчества Каруса после смерти его путеводного светила как будто исчезла всякая самостоятельная энергия, он начал без конца повторять пустопорожние мотивы руин, деревьев и людей, изображенных со спины. В конце концов романтика у Каруса свелась к тому, что на его картинах всегда светит луна. И только в своих приватных этюдах, изображающих в основном пейзажи близ Пильница, он разработал свой собственный романтический образный язык.
Для Фридриха главным принципом искусства была следующая максима: картину нужно не придумать, а «почувствовать». Привлекательность и трагизм творческого пути Карла Густава Каруса заключаются в том, что у него явно имелись специальные антенны, способные «почувствовать», – это подтверждают его письма, сочинения, изображение света и воздуха на его картинах, особенно 1820-х годов (например, невероятное «Окно мастерской» 1823 года). Но вместе с тем почти во всех его картинах, написанных в мастерской, рукой художника неожиданно начинает водить ученый – и горы так же неожиданно становятся образцами пород, а романтическая лодка оборачивается качественным изображением балочной конструкции.
Тут-то и начинается «изделие», о котором говорит Фридрих применительно к Карусу и которое каждый раз производит такое впечатление, что это нарисовал кто-то другой – другое «я» художника. Марианна Праузе [131] уже давно указала на тот парадокс, что Карус в своих дотошных наблюдениях за природой и в своей верности природе был гораздо ближе к Гёте и к классицизму, чем к романтизму. Кроме того, довольно быстро стало понятно, что в этюдах Даля, Блехена или даже французов начиная с 20-х годов XIX века пробивается совсем другой, свободный взгляд на природу. В своих поздних сочинениях Карус даже соглашается с тем, что стиль Фридриха устарел, но, несмотря на это, он, этот чудесный и безнадежный человек, все равно возвращается к своим фигурам со спины, к деревьям, лунному свету и взглядам в бесконечность бытия, когда сам берется за кисть. Произведение искусства как вечный спор между сознанием и подсознанием.
Поэтому я так сформулирую свой последний вопрос к господину профессору, дважды доктору Карлу Густаву Карусу, автору работы «Несколько слов о соотношении искусства болеть и искусства быть здоровым»: доктор, можно ли вылечить от романтизма? И прежде чем он сможет что-то сказать, его творчество уверенно отвечает – нет.
Иоганн Генрих Шильбах. Чувствовать точнее
Мой любимый гессенский художник? Иоганн Генрих Шильбах. Иоганн Генрих… кто?
Родился в 1798-м (в том же году, что и гении романтизма Блехен и Делакруа), умер и забыт в 1851-м. Когда 9 мая 1851 года Шильбах после долгой болезни умер в бедности в маленькой гессенской столице – Дармштадте, то многим казалось, что подошла к концу жизнь среднеодаренного театрального художника, художественные журналы не обмолвились ни словом, уж слишком традиционными были его картины, слишком бидермейер, слишком строгие и старомодные. Его вдова разочарованно прибралась в мастерской и убрала все рисунки, акварели и этюды скончавшегося супруга, которые ему так и не удалось продать при жизни, в ящики – и спустя какое-то время они через наследников попали в Гессенский земельный музей в Дармштадте. Сегодня, спустя сто семьдесят пять лет, мы понимаем, что эти неликвидные остатки из мастерской Шильбаха представляли собой одну из главных сокровищниц немецкого романтизма. В ней было двести пятьдесят этюдов маслом и акварелей, написанных на пленэре, за считанные минуты, виртуозно и со сногсшибательной свежестью: такое впечатление, что с того январского утра, которое Шильбах изобразил на одном из этюдов, прошло не сто семьдесят пять лет, а всего сто пятнадцать дней. Неужели мы действительно видим там зиму 1840 года, а не зиму 2015-го?
В своем доме на Хюгельштрассе, 43, в Дармштадте Шильбах растил восьмерых детей, и можно предположить, что эти восемь детей по утрам просыпались рано, хотя бы потому, что родились в XIX веке, который мы, потомки, называем longue durée [132]. Легко представить себе, как художник, разбуженный детьми еще до зимнего рассвета, недовольно слезает с кровати. Ему холодно, жена уже растопила печку, он трет усталые глаза и выглядывает в окно – и вдруг видит восходящее солнце, там, вдали, над еще темными крышами. И уныние тут же улетучивается, он берет свои масляные краски и переносит этот волшебный момент на крошечный холст, всего 18 × 24 сантиметра. Потом бросает взгляд на термометр и выцарапывает на влажной краске время, то есть «утро, 7», и даже температуру, «7 градусов мороза». Картина, написанная тем январским утром, тоже была, конечно, частью немецкого романтизма. Но все же восход солнца не стал здесь поводом для масштабного романтического образа – он остался восходом солнца. Тут нет божественного света, не наступает новая эпоха. Наступает всего лишь новый день. Все этюды Шильбаха таковы, что ты как будто наблюдаешь за тем, как художник смотрит, как он чувствует. Ты как будто стоишь у него за спиной. Он воспринимает мир всеми органами чувств, записывает на листках бумаги малейшие нюансы, как метеорологическая станция: «очень душно – предгрозовая атмосфера» или «темные тучи, очень неистовые», и потом в точности их зарисовывает.
Если долго разглядывать эту маленькую картину с январским утром в Дармштадте, то станет холодно даже в июне, настолько точно этот мороз прочувствован и схвачен. В этом и состоит особенность его творчества: великолепное умение воссоздавать атмосферу, немногочисленными и уверенными мазками, в сочетании с невероятной любовью к деталям: на нашей картине можно разглядеть каждую покрытую инеем крышу, слева видна башня городской церкви, а справа – купол церкви Людвига. И вот Шильбах снова и снова выглядывает из окна по утрам и вечерам, смотрит на Дармштадт. Рисует крыши, рисует облака над ними – мелкие явления, большое искусство. При жизни художника никто не видел эти этюды, никто не хотел их покупать, они намного опередили свое время. Но теперь, спустя сто семьдесят пять лет, наш вкус наконец-то ликвидировал эстетическое отставание от Шильбаха. Концентрация на деталях, любовь к незавершенности, к non finito, скорость, сверкающая белизна незаполненных поверхностей делают его работы такими невероятно современными. В новой экспозиции Гессенского земельного музея главное место заняли не традиционные картины, а именно эти этюды Шильбаха – а на большой выставке «Романтизм в рейнско-майнской области» в музее Гирша (Франкфурт) он был тайной звездой. Таким образом, летом 2015 года Шильбаху наконец-то удалось выйти в первую лигу, как и футболистам клуба «Дармштадт-98».
Очень приятно, что скоро Гессен окончательно станет главным гнездом романтиков – рядом с домом Гёте во Франкфурте по проекту Кристофа Меклера будет построен Немецкий музей романтизма. Наконец появится специальное место для, пожалуй, самой интересной немецкой главы в европейской истории искусств и наук. И когда этот музей будет готов, то ему не обойтись без Иоганна Генриха Шильбаха, пусть этот житель Гессена и меньше соответствовал художественным идеалам Гёте, чем два других гессенских художника того времени, италофилы Тишбейн и Мартин фон Роден. Но как раз творчество Шильбаха показывает нам, насколько односторонним был взгляд на романтизм у Гёте и у последующих поколений, которые видели только публичное и совсем не видели частного. И если суждено появиться месту, в котором этюды и акварели, созданные для личных нужд художников, то есть частное, станет публичным, – то это должен быть, разумеется, Франкфурт-на-Майне, город, в котором были провозглашены политические требования 1968 года.
Есть замечательный портрет Шильбаха 1823 года, написанный незадолго до его путешествия в Италию, которое продлилось пять счастливейших лет. Мы видим его уверенным в себе, дерзким, с павлиньим пером в соломенной шляпе. Как минимум он сам уже точно знал, что способен создавать необыкновенную красоту. Но понадобилось двести лет, чтобы и остальное человечество осознало, какой шикарный хвост у этого павлина. По Италии он путешествовал с важнейшими представителями немецкого романтизма, они совместно выбирались к морю и в горы, рисовали карандашом и красками. Эти коллеги (Рейнгольд, Фабер, Фриз) были единственными, кто догадывался (со смешанными чувствами, разумеется), какой гений находится рядом с ними, а датский скульптор Торвальдсен был первым, кто купил в Риме картину Шильбаха. Там Шильбах научился схватывать маслом и волшебной голубоватой акварелью огромные чувства на ничтожной поверхности. Море близ Сорренто и Амальфи, погруженное в голубые тона и зафиксированное для вечности, – десятки этих акварелей благополучно оказались в коллекции графики Гессенского земельного музея в Дармштадте, тоже через наследников. В Италии Шильбах нашел свой индивидуальный стиль, полный света и свежести, теплоты и ясности. Его мастерство особенно наглядно проявляется в итальянских этюдах с облаками, впрочем, его этюды с упором на воздух и небо тоже относятся к самым выдающимся примерам этого жанра в Европе. В Италии он почивал на седьмом небе – и писал соответственно. Шильбах в полной мере наслаждался освобождением от дармштадтской тесноты, но когда он в письмах из Рима нахваливает «великолепный глимат», то мы понимаем, что он и под южным солнцем не смог избавиться от гессенского диалекта. К счастью, потом он и в подчас морозном «глимате» Дармштадта продолжал рисовать еще двадцать лет не менее ярко. Вот и преграсно!
Погружаясь в 1913 год
Картинки одного года. 1913, или Являются ли художники пророками?
Если настоящее так запутано, то пусть хотя бы в прошлом будет какой-то порядок, какой-то смысл. Но что нам 1913 год скажет о 1914-м? Где были те потенциальные линии разрыва, по которым мир должен был неминуемо разрушиться? Был ли тот «прекрасный августовский день 1913 года», когда Роберт Музиль начал своего «Человека без свойств», обязательным затишьем перед бурей Первой мировой войны, которая разразилась в один из роковых августовских дней 1914 года?
Издавна принято искать вестников апокалипсиса среди деятелей искусства. И действительно, незадолго до войны Якоб ван Годдис в своем стихотворении кликушествовал о приближающемся «конце света» [133], Людвиг Мейднер [134] начал писать свои «Апокалиптические пейзажи», и Освальд Шпенглер уже начал работу над своим «Закатом Европы». Но приблизится ли к исторической правде тот, кто будет искать «доказательства» такого рода? История, особенно история культуры, – это не уголовное дело. Тот, кто ищет улики и мотивы только с одной стороны, тот неизбежно утратит открытость восприятия. И лишится возможности увидеть другие цепочки мотивов – для всех тех убийств, что так никогда и не были совершены. Современность кишит тезисами и антитезисами. И если заняться ими без страха потерять контроль, то даже одиозный 1913 год может освободиться от своего столь однобокого апокалиптического имиджа.
Потому что главная логическая ошибка во всех попытках сделать из истории некий вывод связана со знаменитым принципом неопределенности Гейзенберга. С тем, что наблюдаемое меняется в результате наблюдения и не является тем, чем оно было раньше. В нашем случае это означает: при рассмотрении 1913 года принципиально важным является вопрос, с какого места мы смотрим и, самое главное, – из какого времени. Например, «Расписание культуры» Штайна [135] 1963 года приводит бесконечный список произведений изобразительного искусства, литературы и музыки 1913 года и называет их важнейшими вехами модернизма – а нам в 2013 году они кажутся второстепенными. Для нас само собой разумеется, что важнейшими ориентирами 1913 года являются первый реди-мейд Марселя Дюшана и первый «Черный квадрат» Малевича.
Это совершенно естественно, на то мы и современные люди, мы не можем думать по-другому: конечно же, Дюшан и Малевич были самыми примечательными всплесками нового искусства в том году. Но мы забываем о том, что мы тоже смотрим из обусловленности нашего мышления, из возможностей (и, что еще важнее, из потребностей) нашего времени. Или, говоря словами Бото Штрауса, – «если бы я только знал, что окажется величайшей наивностью моего времени!»
Того, кто заглянет в каталог «Первого немецкого осеннего салона», который организовал в Берлине в 1913 году Герварт Вальден [136], ждет много удивительного. Эта выставка стала легендарной, она считается собранием элиты предвоенного актуального искусства. И какой же художник представлен на ней обильнее всех? Соня Терк-Делоне, жена Робера Делоне, которой в нынешнем художественном контексте трудно избавиться от имиджа услужливой оформительницы. На выставке больше работ Марсдена Хартли из Нью-Йорка и Франца Гензелера из Кёльна, чем Макса Эрнста или Фернана Леже. Разумеется, мы с благоговением изучим список выставленных работ Франца Марка («Судьбы зверей»! «Башня синих лошадей»! «Волки»!): не иначе как это три главных его шедевра (конечно же, с точки зрения 2013 года), на которых в тот момент еще краска не высохла. Так, и Макке тут есть, Карра, Арп, Шагал, Кандинский. А куда потом пропали Рейнгольд Кюндиг, Якоб Штейнхардт, Курт Штёрмер, Станислав Штюкгольд, Эрих Вихман, представленные на выставке не меньшим числом работ? Мы их забыли. Потому что ни в 1963-м, ни в 2013 году они не соответствовали нашим представлениям о том, каким был 1913 год. А ведь все они были равноправными участниками «Первого немецкого осеннего салона», потому что с точки зрения современников рисовали захватывающие перспективы или храбро ставили диагнозы современности, точь-в-точь как те немногие герои, что до сих пор остались для нас ключевыми представителями авангарда. Но какой же прогресс видели современники, когда смотрели на эти произведения? Никакого. «Frankfurter Zeitung» писала: «Они пытаются создать впечатление, будто на этой выставке есть какие-то интересные, прогрессивные работы. Но эти претензии так же велики, как и беспочвенны».
Современность всегда слепа на один глаз. Причем на тот, который смотрит назад. Потому что только в ретроспективе можно разглядеть красные нити и жирные линии. Только когда дом построен, становится понятно, что послужило фундаментом.
И каждая эпоха обнаруживает новые фундаменты – потому что хочет жить в новых домах. Именно поэтому не только можно, но и нужно постоянно обновлять взгляд на историю, в том числе на историю искусств. Например, уже фирменным знаком нашего времени стало то, что мы пытаемся подходить к истории через некий срез. И что коллаж и мозаика кажутся нам релевантным методом рассказывать об одновременных явлениях без иерархии, на основе сетевого подхода. Начало было задано книгой Ханса Ульриха Гумбрехта [137] «1926», за ней последовали выставки «1914» в Мадриде и «1912» в Марбахе. Изучение 1913 года – тоже продукт именно нашего времени. С помощью нового подхода мы можем заново расшифровать старые картины и старые цепочки ассоциаций. Выставка в музее Франца Марка в Кохеле [138] не просто показывает 1913 год как «большой взрыв» модернизма. Она еще и демонстрирует несинхронность одновременного – точно так же, как «Первый немецкий осенний салон». Чрезвычайно интересно посмотреть на то, как в тот необычный год в Москве и Париже, в Милане и Лондоне, в Берлине и Мюнхене, в Кёльне и Зиндельсдорфе выдвигали и иллюстрировали совершенно разные представления о современном. Мы видим картины, полные предвидений, и картины, полные наивности, – как нам кажется. Видим десятки стилей и «-измов», распадающиеся формы, но при этом большую любовь к буйству красок. Разрушение и восстановление, экзальтация и рассудительность. Пикассо, Матисс, Марк, Малевич, Макке, Дюшан, Кирхнер, Кандинский – сплошь отдельные вселенные, кружащиеся друг вокруг друга.
А вот чего совсем нет в искусстве 1913 года и на этой выставке, так это идеологии. «Мост», крупное объединение художников, распался в мае 1913-го, а у футуристов их любимое будущее уже почти совсем осталось в прошлом. 1913-й был годом личностей и личных мифологий. Поэтому он так богат и так сложен. И это одна из причин, почему каждому поколению приходится заново выбирать себе героев, точки опоры и личные проекции в той эпохе. Это принципиальным образом связано с той позицией, которую занимали художники в 1913 году: они не объединялись во имя какой-то цели или направления, они боролись «всего лишь» за новое искусство, пусть и подразумевали при этом совсем разные вещи. В «Предисловии от участников выставки» (что само по себе любопытно) к «Первому немецкому осеннему салону» Франц Марк, Август Макке и все остальные пишут: «Прошли времена, когда искусство было слугой жизни, и это причина нашего добровольного отказа от тех заказов, которые дает нам мир; мы не хотим смешиваться с ним».
Это примечательное заявление, оно показывает, что как минимум спорно считать художников прошлого неподкупными сейсмографами всех потрясений эпохи. В 1913 году художники видели свою роль вне сферы политики, начинающейся гонки вооружений и национализма. Можно, конечно, развернуть аргументацию и в обратную сторону, как это делает Бото Штраус в своей теории аутсайдера. Согласно последней, именно такая внеположенность по отношению к миру делает возможным ясный взгляд на него.
Голо Манн [139] сказал, что задача историка состоит в том, чтобы броситься в поток событий прошлого и отдаться на его волю, но одновременно с этим пристально наблюдать за потоком, рассматривать его со всех сторон со знаниями потомка. Как же нам наилучшим образом окунуться в бурный поток 1913 года? Во-первых, можно смотреть на картины, написанные в тот год, полные страданий, страха, экстаза и силы. Любые попытки одномерной интерпретации выставки в музее Франца Марка с ее богатой и качественной палитрой будут просто смешны. Во-вторых, на выставке у нас есть возможность заглянуть в почтовые ящики 1913 года. Почтовая открытка умеет фиксировать мимолетное. Первую открытку отправил Пауль Клее 9 сентября 1913 года. В этот день в Венеции умер Герхард Фишер, сын Самуэля Фишера, который только что опубликовал в своем издательстве «Смерть в Венеции» Томаса Манна. В тот же день, 9 сентября 1913 года у острова Гельголанд упал в море первый немецкий военный дирижабль, угодивший в смерч. В Вене Франц Кафка посетил «Второй международный конгресс по предотвращению несчастных случаев и спасательному делу», а в Лондоне Вирджиния Вулф 9 сентября 1913 года попыталась покончить с собой, приняв большую дозу снотворного. Если задаться целью найти в истории предвестия катастрофы, то этот день был богат на них. В тот же день 9 сентября 1913 года Пауль Клее сидел за столом со своим другом-художником Луи Муалье, с которым он в феврале 1914-го отправится в легендарное «Путешествие по Тунису». И вот из бернских гор Пауль Клее шлет Альфреду Кубину открытку с приветом. На открытке изображены горы, а Клее пририсовал несколько милых маленьких зверушек в своем стиле. И мы понимаем: человек, видевший «ангела истории», повернувшийся, по словам Вальтера Беньямина, «спиной к будущему», 9 сентября 1913 года пребывал в прекрасном расположении духа.
А Франц Марк? Марк, этот удивительный адепт прекрасного царства зверей, смотрит на прирученную косулю в своем саду и рисует почтовые открытки – такие нарядные, красивые и отрешенные, что сегодня (в отличие от 1963 года!) они кажутся нам максимально современными. А через год он умер. Может быть, он написал «Волков», с подписью «Балканская война», потому что предчувствовал, что в конце концов всё будет растерзано и что звериное начало не укротить акварельными красками? Или просто потому, что газеты много писали о войне на Балканах, потому что его жена Мария боялась войны и потому что он представил себе волков воплощением зла? Тот, кто рисует войну на Балканах, – предчувствует ли он начало мировой войны? Или мы уже позабыли бы, что на Балканах была какая-то война, если бы она не стала началом мировой? А когда мы, в нашем 2013 году, тратим массу сил и средств на то, чтобы волки снова поселились в нашей стране, – разве мы не романтичнее и не наивнее Франца Марка?
Третья открытка была написана в последний день 1913 года. Написал ее Вильгельм фон Боде, великий музейный генерал из Берлина. Тот, кто видит себя в широком историческом контексте, как этот знаток и любитель Ренессанса, тот тщательно подбирает антураж для перехода в 1914 год. Новогодний привет чете Дювинов в Париж украшен дюреровским портретом матери 1514 года, нарисованным четыреста лет назад. А снизу замечательная приписка – «the old year». Интересно, что подумали Дювины, когда прочитали открытку в первые часы нового года? Так или иначе, это такой взгляд на мир, который требует высочайшего мастерства: оглядываться на будущее, как на прошлое. А у нас такой план: попробуем посмотреть на 1913 год как на странное настоящее.
Рихард Демель. Главная фигура 1913 года в Гамбурге
Сегодня я наконец завершаю книгу «1913». Или, выражусь более осторожно, я наконец написал еще одну главу. Четыре года назад, когда в скоростных поездах из Гамбурга в Берлин и из Берлина в Гамбург я писал и перечитывал свою книгу о том необычном годе, мне постоянно попадался некий Рихард Демель – в переписке Макса Брода, в антологиях крупнейших писателей или в числе основных участников первого журнального проекта Курта Тухольского [140]. В моих документах имеется бессчетное количество упоминаний Рихарда Демеля, а также Иды Демель, а рядом всегда вопросительный знак. «Так кто же это такой?» – спрашивает он.
Погрузившись в культурную жизнь 1913 года, я сразу понял, какое значение имел Демель, насколько повсеместным было эхо его влияния – но источник энергии в центре этого поля оставался для меня неизвестным. Повсюду были следы его присутствия, его витальности, его воздействия – неважно, идет ли речь о Рихарде Штраусе или об Арнольде Шёнберге, который уверял, что все его крупные композиции были вдохновлены стихами Демеля. Эти и многие другие люди постоянно бывали в доме на Вестерштрассе, 5, который сегодня торжественно открывает свои двери.
Но сам Демель так и оставался для меня химерой, время за написанием книги пролетало незаметно, приближался срок сдачи, и поскольку я мог писать только о том, что я изучил или чем я хотя бы увлекся, Рихард Демель остался за рамками моего калейдоскопа событий 1913 года.
Тот факт, что, игнорируя Рихарда Демеля, я позволил себе досадное упущение, я осознал только в ту секунду, когда на публичном чтении фрагментов книги «1913» в Гамбурге ведущий вечера Джованни ди Лоренцо задал мне замечательный, очень искренний вопрос с двойным дном: если я якобы так люблю Гамбург, то почему на протяжении четырехсот страниц книги город Гамбург ни разу не упоминается?
Так что вы понимаете: я испытывал некоторую неловкость, когда Каролин Фогель и фонд Реемтсма обратились именно ко мне с просьбой рассказать здесь сегодня о том человеке, которого я так позорно обошел своим вниманием. Но этот стыд очень быстро обратился благодарностью, потому что эта просьба наконец-то дала мне возможность войти в уникальный мир Демелей и их дома, который (и в этом причина обращения именно ко мне) Рихард Демель получил в подарок в тот самый уникальный 1913 год. Когда в ближайшее время выйдет новое издание книги «1913», то в нем и Гамбург, и Рихард с Идой Демель получат наконец-то причитающееся им место и книга получит еще одну замечательную грань. «Прекрасный дикий мир» – так называется сборник стихов Демеля, вышедший как раз в 1913 году! Как же я мог упустить такое. «Прекрасный дикий мир» – это почти такой же удачный подзаголовок, как «Лето целого века» [141].
Но сейчас на дворе осень, мы собрались здесь, в этом так тщательно и любовно отреставрированном доме, и в его интерьерах мы действительно как будто переносимся в 1913 год. По этой мебели, по обоям, по стеллажам, по картинам и по всему интерьеру мы чувствуем, что в 1913 году, несмотря на парижский кубизм, несмотря на реди-мейды Дюшана, несмотря на первый «Черный квадрат», главной идеей был Gesamtkunstwerk. Все предметы связаны друг с другом: столовые приборы, книги, рамы картин, орнаменты на стенах и на картинах – и только Первая мировая война годом позже жестоко оборвала эти последние лианы югендштиля.
Сегодня мы можем снова ощутить, как страстно жизнелюбивый поэт Демель и его такая вдохновляющая, мудрая, харизматичная жена Ида старались реализовать в этом доме утопию другого, более открытого общества. И как этому дуэту удавалось объединять за ужином всю несинхронную одновременность 1913 года: у них бывали Штефан Георге и Макс Брод, Эльза Ласкер-Шюлер и Арнольд Шёнберг, Эрнст Людвиг Кирхнер и Макс Либерман. Они бывали в этом доме лично – либо это были их письма. Как же я мог упустить прекрасные цитаты из них, они ведь так подошли бы моей книге! Когда, например, Густав Шифлер, известный гамбургский искусствовед, воспринимавший страсти в основном в виде эстампов художников группы «Мост», написал после празднества у Демелей: «Демель танцевала так, что напоминала животное во время течки». Но несмотря на громкую историю с изменой, которая омрачила отношения Рихарда и Иды в тот самый, особенный 1913 год, они не расстались до конца жизни – и даже после смерти их пепел соединился в одной урне. Именно таков священный и бессмертный пафос 1913 года. Бессмертен и этот дом, как мы можем сегодня убедиться. Gesamtkunstwerk, памятник другому, лучшему времени, памятник свободным мыслям и действиям, памятник удивительной любви. Иными словами, памятник 1913 году.
Тем более с учетом того, что сегодня мы знаем, каким образом в тот год дом оказался во владении Рихарда Демеля. Общеизвестно, что 18 ноября 1913 года, в связи с пятидесятилетием Демеля, неизвестные доброжелатели подарили дом Рихарду и его жене. Но благодаря изысканиям Каролин Фогель у нас теперь есть свидетельства той центральной роли, которую Демель играл в духовной жизни немецкоязычных стран предвоенного периода: дарителями были представители культурной и экономической элиты 1913 года. Деньги пожертвовали Стефан Цвейг и Томас Манн, Артур Шницлер и Гуго фон Гофмансталь, берлинские издатели Бруно Кассирер и Самуэль Фишер, промышленники Эдуард Арнгольд, Вальтер Ратенау и Эберхард фон Боденхаузен. В этом списке также гамбургские судовладельцы Альберт Баллин и Отто Блом, банкир Макс Варбург и искусствовед Аби Варбург. И так далее: Анри ван де Вельде, Петер Беренс… Элизабет Фёрстер-Ницше тоже среди дарителей, еще Юлиус Мейер-Грефе и Макс Либерман. Когда читаешь этот список, становится стыдно за свое невежество. Как можно было не считать этого человека частью Олимпа, если все остальные боги окружили его таким почетом?
А если почитать стихи Рихарда Демеля, то… тогда сложность ситуации приобретает еще одно измерение. Потому что сегодняшнему читателю трудно понять то восторженное поклонение, с которым современники встречали его поэзию. Эти стихи кажутся нам слишком экзальтированными, тяжелыми, патетичными, далекими. Но это очередной урок смирения: нам не следует принимать себя, наше разочарование от этих стихов, наше необоснованное высокомерие за объективную истину. Тогда, в 1913 году, самые великие люди считали его одним из них. Кто знает, может быть, наступят такие времена, когда людям это покажется абсолютно естественным и они будут недоумевать, отчего же Демеля так мало ценили в наше странное время. И как хорошо, что в распоряжении будущих поклонников этого человека, которому когда-то принадлежала целая эпоха, всегда будет этот замечательный дом.
Тот факт, что за последние несколько лет с большими затратами сил и средств был отреставрирован в своем изначальном виде дом человека, поэзию которого мы сегодня не можем оценить по достоинству, является ярким свидетельством цивилизационной просвещенности и независимости от сиюминутных вкусов. Если бы мы не уделяли внимания такому «антициклическому» сохранению ценностей, то какой бедной была бы наша культура и ее история, если бы она лишилась всех памятников и документов, в какой-то момент вышедших из моды. Когда мы прикладываем усилия ради сохранения ценностей, даже если нам сейчас не очень понятны их достоинства, то мы действуем ответственно и сознательно. Давайте будем доверять вкусу Гуго фон Гофмансталя, Петера Беренса, Вальтера Ратенау и Курта Тухольского – может быть, они не так уж и ошибались в своем восхищении Рихардом Демелем и его модернистской музой Идой. Вот почему были так нужны реставрация и открытие дома Демеля. И мы должны способствовать тому, чтобы будущее всегда могло заново открыть свое собственное прошлое.
Литература
Готфрид Бенн. Переписка Готфрида Бенна и Фридриха Вильгельма Эльце
«Глубокоуважаемый мастер!» – пишет Фридрих Вильгельм Эльце, с благоговением начиная своим аккуратным почерком новое письмо Готфриду Бенну на сизо-голубой бумаге, а иногда, после бокала розового вина, он выводит: «Cher Maître». Единственно возможное положение тела для приближения к поэту – на коленях. Аккомпанементом звучит: «Боже, славим мы Тебя». А что же Биг Бенн, сам кумир? Он наслаждается, он не молчит, а отвечает: «Уважаемый господин Эльце», – или иногда, после кружки пива в трактире на углу: «Дорогой дядя Эльце».
Всего по этому пути проследовали, предположительно, около двух тысяч писем за период с 1932 года, когда Бенн получил на Боценерштрассе в Берлине первое послание от своего богатого фаната, до кончины Бенна в 1956 году. И вот теперь, спустя двадцать лет после опубликования 748 писем Бенна бременскому коммерсанту Эльце, изданы 569 полученных им ответов. Четырехтомное издание [142], замечательный плод совместных усилий издательств «Klett-Cotta» и «Wallstein», можно отнести к образцовым примерам современной издательской работы: ответственным редактором был Харальд Штайнхаген, лично получивший от Эльце, практически на смертном одре, разрешение на публикацию его писем Бенну, а молодые германисты Штефан Крафт и Хольгер Хоф расшифровали весь массив скрытых аллюзий в этой горе писем, прояснили темные места и бесстрашно заглянули (этому они научились у самого Бенна) во все пропасти. В результате «Письма к Эльце» превратились в «Переписку», и один из самых глубоких, отчаянных и безумных монологов немецкой литературы XX века внезапно снова стал диалогом. С точки зрения истории культуры это, несомненно, важнейшая книга из изданных весной 2016 года.
Разумеется, письма Эльце не соответствуют тем догадкам, что строились вокруг них на протяжении тридцати лет, ведь любые недомолвки возвышают фигуру человека в наших глазах. Запасы Немецкого литературного архива в Марбахе – это не спрятанный вклад Германии в мировой культурное наследие, но там столько трогательного, столько страстей и столько культуууры… а еще столько педантичности и образованщины, что это даже бесит («Благодарствую за безмерность того, чем вы одарили меня и продолжаете одаривать»). Но это все не имеет значения: Эльце прекрасно сыграл свою роль в великом замысле мирового духа поэзии. Он подобрал Бенна, когда тот упал без сил, он любил его бесконечно и отчаянно, он постоянно удивлял и вдохновлял Бенна книгами и неожиданными цитатами, потом он стал кем-то вроде внештатного секретаря и «начальника производства», как называл его Бенн. Но самое главное – он стал адресатом стихотворений, принадлежащих к числу лучших в немецкой поэзии XX века, и эти стихи, скорее всего, сгинули бы, если бы не нашли безопасное убежище в почтовом ящике Эльце. Например, летом 1936 года Бенн пишет свои легендарные стихи на меню ганноверского ресторана «Штадтхалле». На лицевой стороне рольмопс и мороженое-ассорти, а на обороте – всемирная литература. Листок за листком он отправляет их Эльце. Реакция – недоверие, благоговение, покорность. К примеру, в субботу 5 сентября 1936 года Эльце идет к почтовому ящику, вдыхает теплый воздух, поднимающийся от его мрачных рододендронов, обнаруживает письмо из Ганновера, вскрывает конверт и читает: «Einsamer nie als im August…»:
Как никогда ты одинок
средь августовского обилья:
вокруг награждены усилья —
но где ж с твоих полей оброк?
Хлеб убран, небеса чисты,
проникнуто все тихим светом —
но где же признаки победы
тех царств, что представляешь ты?
Где слово «счастье» ловит слух,
где вещность дарит опьяненье,
там винный пар туманит зренье —
несовместим со счастьем дух [143].
И далее написано: «Отвечать на это письмо не нужно. Хорошего воскресенья!» Наверное, стоит попросить у Эльце прощения за наши придирки – ведь что можно чувствовать, кроме немого восторга, когда ты знаешь, что ты единственный кроме автора человек на Земле, кто прочел эти строки, которым не исполнилось и двадцати четырех часов, и предполагаешь, что еще двенадцать лет, то есть на протяжении всей истории тысячелетнего Рейха, ты останешься их единственным свидетелем. Кстати, дорогой читатель, не пугайтесь: для Бенна «быть свидетелем» не значит понимать, что именно он хотел сказать. Еще не родился такой человек, который понимал бы у Бенна каждое слово. «Не нужно отвечать» – на самом деле это означает, что и сам Бенн не все до конца понимал, потому что из него иногда вырывалось то, что было больше него самого.
Это особенные моменты во время чтения книги, когда из массы писем, из эмоций, мелочей, жалоб (у Эльце постоянно высокое давление) и утешений вдруг поднимаются ввысь столпы стихов Бенна. Когда ты, как в свое время Эльце, чувствуешь сам процесс, как из упорных размышлений Бенна о Ницше рождаются сначала точные наблюдения, а потом одна-единственная строчка. Сначала он пишет Эльце: «Дух служит жизни, этой ужасной, дикой, опасной жизни – но дух не думает об этом, Ницше это чувствовал, но не мог, не имел возможности остановиться. И эту неизлечимую антиномию он таскал в себе десятки лет». И из этого (а также из большого опыта жизни и страданий) в какой-то момент родилась строка: «Dienst du dem Gegenglück, dem Geist» [144]. И был человек, который понял это, – тот самый вечно несчастный Эльце, слуга несовместимого со счастьем Бенна.
Редакторы не обращают внимание читателя на то, что в письмах есть и первые наброски лучшего, пожалуй, стихотворения Бенна «Teils-teils». В августе 1939 года он опять был одинок как никогда, он написал, как будто без всякой причины: «Сознание, летом, в каком-то городе, в Бремене, или в Берлине, или в Киле, пятьдесят лет, нет результатов, обустраивает ящик с геранью на террасе кафе». Эти обрывки фраз он, как Ницше, еще несколько лет неизлечимо таскал в себе, чтобы превратить их в эти строки опубликованного в 1954 году стихотворения («По частям»): «Heute noch in einer Großstadtnacht / Caféterrasse / Sommersterne, / vom Nebentisch / Hotelqualitäten in Frankfurt / Vergleiche» [145]. А из слов письма: «Все опускается, наполовину в сторону, наполовину неподвижно», – после долгого примеривания, через пятнадцать лет, получился финальный аккорд стихотворения: «Nun alles abgesunken / teils-teils das Ganze / Sela, Psalmenende» [146]. Это вершина поздней лирики Бенна, красота которой для многих столь невыносима, что они объявляют ее китчем.
И да, после прочтения этих четырех томов уже невозможно читать легендарное вступление «В нашем доме не висел Гейнсборо» [147] без мыслей об Эльце. Очень вероятно, что во всей Германской империи не было ни одного дома, в котором висели бы картины Гейнсборо, но это неважно, ведь в том и состоит великая сила поэзии, чтобы превращать мысли и созвучия в реальность. Конечно же, при написании этих строк Бенн имел в виду Эльце, который выписывал лондонскую «Times» и которого он в своих письмах постоянно именует «господином из Аскота», «его сиятельством в отеле Кларидж», считает воплощением немного жеманных персонажей Гейнсборо – поэтому «Teils-teils» следует понимать как дистанцирование от Эльце. Этот английский аристократизм понадобился Бенну в стихотворении для того, чтобы стилизовать свое простое происхождение, чтобы отделиться. А когда Бенну что-то было нужно для стихотворения, он был безжалостен, тогда он не думал ни о родной матери, ни о «дяде Эльце» – только о красоте строки. В 1954 году Эльце не увидел этого стихотворения перед публикацией, оно попало прямиком в газету «Merkur» и стало для Эльце таким же сюрпризом, как и объявления о свадьбах, которые Бенн два раза присылал ему, никак не упоминая в письмах о событиях, которые приведи к заключению этих браков, – вместо этого он только хвастался любовными похождениями. И да, во время этого четырехтомного погружения во вселенную Бенна приходится мучительно учиться отделять человека от его произведений, неприятного хвастуна от его поэзии. При случае, как, например, в письме своей возлюбленной Элинор Бюллер от 27 января 1937 года, он мог грубо отозваться и о своем эпистолярном друге Эльце, которому только что поверял все свои тайны и лучшие стихи: «Это высокомерный прощелыга, которого нужно держать в черном теле, а не то он возомнит, что и сам тоже не абы кто». Как-то Бенн написал у себя в дневнике о том типаже, к которому принадлежал сам: «Венец творения, свинья, человек».
Кем же был на самом деле для Бенна этот «высокомерный прощелыга», этот «господин Эльце»? Прежде всего сообщником. Который не разозлился из-за его падкости на политические соблазны в 1933 году (потому что и сам был так же соблазнен), он был спасительным берегом, на который Бенн мог отправлять не только отдельные стихотворения, но и все свои рукописи последних лет, как он сделал в 1945 году. Аристократом, которого Бенн вовсе не держал в черном теле, а все больше с ним сближался. Образованным спарринг-партнером, в котором Бенн, находившийся в интеллектуальной изоляции, нуждался для того, чтобы думать и писать, партнером в поклонении Гёте и Ницше и в насмешках над Томасом Манном. Интересно читать об их разногласиях – например, в отношении Генри Миллера: Бенну он нравился, а у Эльце от него волосы вставали дыбом. Или другой объект споров – Рильке.
Эльце постоянно цитирует строки этого поэтического антипода Бенна, но тот реагирует сдержанно. Например, 11 апреля 1949 года Эльце принялся нахваливать точность венецианского стихотворения Рильке: «Мы были там в добрые времена, четыре недели в октябре, и нашли все: коричневую ночь, музыку, золотые капли над дрожащей поверхностью воды». Но Бенн 18 апреля равнодушно отвечает: «Если для того, чтобы прочувствовать стихи, нужно оказаться в определенное время года в определенном месте, то у этих стихов обычно есть существенные изъяны». Лучшая и предельно жесткая литературная критика.
И вот эта переписка тянется десятилетиями, обычно в мрачных тонах, два сердитых интеллигента смотрят из своих нор на бесчувственный и глупый мир снаружи (неважно, правят в Германии нацисты или Аденауэр): Бенн и Эльце выбрали для своего обмена мыслями стиль добровольного одиночества. А письма Бенна и без того так и сочатся самостилизацией. Каким был, например, звездный час поэзии XX века? Вуаля: «Хорошо, что вас там не было! Все было плохо! Слишком большой зал, слишком много народу и жуткая акустика, с задних рядов кричали „громче!“. Сплошной конфуз. Никогда больше не соглашусь на такое!» Ну да. Вот так якобы прошла знаменитая лекция Готфрида Бенна «О проблемах лирики» 21 августа 1951 года в Марбургском университете. Так она прошла с точки зрения Бенна – или он просто хотел показать себя Эльце таким угрюмым и самокритичным. В послевоенной Германии Бенн переживал блестящий, как он сам выражался, «comeback» [148], о нем восторженно писали газеты, ему вручили Бюхнеровскую премию – но его удручают опечатки и рецензенты, он чувствует себя «down» [149], «очень down», «чрезвычайно down», иногда даже «разрушенным». В течении шести лет Бенн написал почти треть всех своих стихов, но при этом он называет себя усталым тюфяком, переживающим нелегкие времена. Сотни писем, полных заклинаний в духе «чур меня». А может быть, под конец он действительно стал тем, за кого себя выдавал? Где граница между осознанием себя и инсценировкой себя? «Двойная жизнь» – так называется автобиография Бенна. Но что происходит с одиночеством, которое было для Бенна экзистенциальным переживанием, которое он культивировал своим непрерывным судом над самим собой, если ты замечаешь, что для окружающего мира ты стал торговой маркой?
Для Эльце же всегда существовал настоящий, one and only [150] Готфрид Бенн, который писал ему письма, он принимал Бенна за чистую монету, и это воздалось ему сторицей: взамен он получил верность на десятки лет. Только когда поклонение Эльце становилось слишком навязчивым, Бенн выставлял локти, но Эльце преданно отвечал: «Я слишком приблизился к свету – хорошо, что Вы меня предупредили и отодвинули».
Бенн шел по жизни с такой прямотой и неприступностью, как будто носил на шее воображаемую деревянную колоду если не с рождения, то уж точно с тех пор, как начал работать патологоанатомом в подвалах западноберлинских больниц, – последствия травмы, которой для него стала сама жизнь. Бенн повидал на своем веку четыре государства, 296 вскрытых трупов, две жесточайшие войны, бесчисленное количество любовных связей и три брака, и вот в 1950 году он сидит в Дании в гостинице на берегу моря, полысевший и немного округлившийся от хорошей жизни – его отвергла дочь, которую он сам отверг, когда та была ребенком. Он вспоминает прежде всего свое огромное политическое заблуждение, свою уступку искушениям в 1932–1933 годах, когда он видел спасение в национал-социалистах и вел себя самым жалким образом. Он стал председателем секции поэзии в Прусской академии и писал жуткие вещи, статьи о пользе селекции людей, а еще «письмо литературным эмигрантам», в котором высмеивал Клауса Манна, – потом он всю жизнь испытывал стыд за это письмо. Эмигрантов, которые предупреждали об опасности Гитлера, он называл «дилетантами от цивилизации», а себя (недолгое время) считал прожженным профессионалом в области исторических процессов. Но скоро все перевернулось: вокруг Бенна и в нем самом. Его стали шельмовать за экспрессионистскую поэзию, Бенн пытался с помощью Эльце доказать, что он не еврей, но все равно вскоре получил запрет на публикации. Он очнулся и 24 июля 1934 года написал Эльце: «У меня нет слов для этой трагедии». И потом Бенн так старался вытеснить воспоминания о своих заблуждениях, что когда одна из поклонниц прислала ему его собственную цитату, он раздраженно и совершенно искренне спросил Эльце: «Неужели это мои слова?» Ответ – да. Это была цитата из статьи «Селекция» 1933 года. Стыд – известная причина частичной амнезии. Эльце, который в кратком постскриптуме к письму точно указывает источник, той «сумбурной весной 1933-го» (слова Бенна) поторопился пройти по тому же самому сумбурному пути – и потом ему пришлось долго возвращаться обратно. Это объединяет. И тем сентябрьским днем на датском побережье Бенн вдруг осознает: «В моей жизни нет никакой человеческой целостности – кроме голубых писем от господина Э. на протяжении вот уже восемнадцати лет». И эта цельность продержится до его смерти. Правда, дистанция между ними станет более ощутимой, потому что после снятия запрета на публикации на роль далекого вдохновителя всё активнее стал претендовать Макс Нидермайер, молодой издатель из Висбадена (издательство «Limes»), а еще потому, что Эльце не оценил прекрасные речитативные стихи 50-х годов так же, как ему никогда не был близок ранний экспрессионизм Бенна. Но последнюю открытку Бенн все-таки отправил своему старому, и тут нам не избежать этого слова, другу. «Уважаемый господин Эльце, – начинает Готфрид Бенн 16 июня 1956 года, вскоре после своего семидесятилетия, смертельно больной, слабый, в номере санатория в Шлангенбаде, скорее лежа, чем сидя. С ним его жена, Ильзе Бенн. Она была его тихой спутницей в последние годы на Боценерштрассе, 20, в берлинском районе Шёнеберг. Они обитали на первом этаже – в задних комнатах работал доктор Готфрид Бенн, в передних – стоматолог, доктор Ильзе Бенн. В семь часов, когда уходили последние пациенты, они делали круг пешком по Байеришер Платц и возвращались домой, либо он заходил в бар на углу и заказывал пиво. «Организмы, создающие жемчужины, закрыты» или «Жить – значит наводить мосты через реки, которые высыхают» – такие вещи он пишет на картонных подставках для пива или, поздно вечером, на листочках для рецептов «врача-специалиста по кожным и венерическим заболеваниям». Он пишет несколько слов – и возносится с первого этажа на Олимп.
Однако весной 1956 года боли усилились, Бенн совсем ослаб после праздника в честь семидесятилетия и отправился в Шлангенбад. Оригинал его последней открытки Эльце не сохранился. В первом издании писем Бенна она была процитирована по воспоминаниям Эльце: «Этот час не будет ужасным, будьте спокойны, мы не упадем, мы вознесемся». Кажется, это действительно его слова – волшебная поэзия и в то же время поза «последнего слова», сознательная манипуляция посмертной славой. Но в новом издании писем таится маленькая сенсация, которую можно найти в послесловии, уже прочитав тысячи страниц. За прошедшее время нашлась еще одна запись текста с последней открытки Бенна из Шлангенбада от 16 июня 1956 года – и этот текст существенно длиннее:
«Относительно моего состояния больше не приходится сомневаться, но мне в общем-то все равно. Я лишь не хочу страдать, боль – это так унизительно. Я добился от жены, которая очень близка мне в эти дни, обещания облегчить мне последние часы – все закончится очень быстро. И этот час не будет ужасным, будьте спокойны, мы не упадем, мы вознесемся. Ваш Б.» Это было заключительное слово. Не хватает только краткого комментария Бенна: «Отвечать на это письмо не нужно». Издатели очень тактично и сдержанно обошлись с этой находкой, которая, судя по всему, действительно передает содержание настоящего послания Бенна, которое было уничтожено – очевидно, чтобы пощадить чувства Ильзе, жены Бенна. Разумеется, Ильзе как врач умела обращаться с морфием и знала, какой его объем будет передозировкой. Так или иначе, из дневниковых записей мы знаем, что Бенн прожил всего несколько часов после того, как узнал окончательный диагноз: рак.
Хольгер Хоф отмечает относительно обнаруженного текста, что Бенн очевидно «желал, чтобы жена помогла ему умереть, в чем отец Бенна отказал его матери более сорока лет назад, когда та вела мучительную борьбу со смертью». Но эта помощь в уходе из жизни, которую, судя по всему, Бенн получил, имеет не только биографическое измерение. Есть и мифологическое. Клаус Тевеляйт [151] в своей масштабной «Книге королей» сделал Готфрида Бенна символом тех поэтов, что ради своего искусства готовы идти по трупам – в том числе по трупам своих жен. Он со всеми подробностями описал, как Бенн перенес в поэзию смерть своей второй жены Герты фон Ведемейер, которая покончила с собой во время хаоса конца войны, потому что считала своего мужа погибшим. Тезис Тевеляйта заключается в том, что создание искусства основано на человеческих жертвах, на женах художников. Кстати, Эльза Ласкер-Шюлер сорока годами ранее тоже едва вышла живой из отношений с Бенном, Альфреду Дёблину пришлось и ей давать морфий – правда, только для успокоения.
Что означает в символическом плане помощь в уходе из жизни, принятая от собственной жены? Это был последний аккорд в жизни холодного патриарха? Того самого Готфрида Бенна, который дважды, в 1922 и 1929 году, знакомился на похоронах жены и любовницы со следующей подругой? Тогда это новая последняя глава в «Книге королей», пусть она называется так: «Кто тут убийца короля, решаю я сам» (или авторские права на такое название уже приобрел Хорст Зеехофер? [152]).
Историю, когда отец отказал матери в помощи с уходом на тот свет, Бенн тоже превратил в нетленные стихи – «Йена» и «Мать», а самоубийство жены – это «Смерть Орфея». Для собственной смерти наш великий режиссер тоже подобрал подходящие строки, причем в тот момент, когда его тело уже знало, что пало жертвой того самого рака, разрушительные последствия которого юный Бенн впервые описал еще в своих радикальных стихах «Из ракового барака». Весной 1956 года, с болями в животе, Бенн записал в своем дневнике: «Am allerschlimmsten: nicht im Sommer / sterben, wo alles so licht und hell / und die Erde für Spaten so leicht» [153]. Вот после этих строк он хотел умереть, а не после тех, из стихотворения «Мужчина и женщина идут по раковому бараку» 1912 года. Когда над мужчиной Бенном нависла угроза отправиться в раковый барак, ему помогла женщина, тоже с фамилией Бенн. Не так: «Hier schwillt der Acker schon um jedes Bett» [154], а так: «Всё закончится очень быстро». 7 июля 1956 года Готфрид Бенн умер в Берлине, на руках своей жены и с ее помощью, а на следующий день под яркими лучами солнца ему вырыли могилу на кладбище «Вальдфридхоф» в Далеме. А что же Бенн? Мое мнение: он не упал, а вознесся.
Георг Тракль. Мирное лето накануне 1914 года
Последнее лето XIX века поначалу выдалось очень теплым. В июне 1913 года потный и нервный Георг Тракль мотался между Зальцбургом и Инсбруком, будто подгоняемый душевной болезнью Ленца [155]. Он хочет встретиться с Гретой, возлюбленной, сестрой, но у него это никак не получается; хочет встретиться с Адольфом Лоосом, с этим борцом с орнаментальностью [156], но и с ним увидеться не может. Он мчится в Вену, 15 июля приступает к работе помощником без жалованья в министерстве обороны, а через несколько дней берет больничный лист. Его терзают смутные подозрения, или даже уверенность, в том, что Грета изменяет ему с его другом Бушбеком [157]. Тракль находит утешение в наркотиках, страданиях и алкоголе, погружается в «пучину собственноручно организованных страданий». Он пишет стихи и уничтожает их, его правки на вырванных страницах похожи на рубцы от ран.
Друзья настаивают, чтобы он отдохнул от самого себя. Тракль отправляется в Венецию. Разумеется, замысел терпит неудачу. Путешествие не приносит никакой радости. Даже почитаемый Траклем Карл Краус, который составил ему компанию в поездке на Лидо, даже Адольф Лоос и Людвиг фон Фикер [158], заботившиеся о нем вместе со своими женами, не смогли взбодрить Тракля, настроение которому еще сильнее испортил Петер Альтенберг [159], тоже отправившийся в Венецию на этот корпоративный выезд австрийской интеллигенции. Середина августа, Георг Тракль бесцельно бродит по острову Лидо. Светит солнце, вода теплая, а поэт Тракль – самый несчастный человек на Земле.
На снимке, сделанном в те августовские дни 1913 года, он неуверенно ковыляет по песку, сложив левую руку в горсть и оттопырив губу. Он повернулся к морю спиной, он явно чувствует себя чертовски неловко в этом купальном костюме и как будто бормочет себе под нос какие-то стихи. И мы почти слышим его, почти видим на заднем плане контуры всей старой Европы, которая тем последним мирным летом так самоубийственно стремилась к краю бездны, – и Венецию как символ эффектного конца.
В начале сентября Тракль вернулся в Австрию. Судя по всему, в Венеции он не написал ни строчки. Зато потом, когда он вернулся на родину, к преступлениям и наказаниям, его прорвало: с сентября по декабрь 1913 года поэзия вдруг начинает вырываться из него потоком, у него прямо-таки лопается голова. Этот экстатический потоп рассказывает о внутреннем аде. Когда год подходил к концу, Тракль выступил на четвертом литературном вечере журнала «Brenner» в зале инсбрукского музыкального общества. И во время выступления он как будто все еще брел по венецианскому песку: «К сожалению, поэт читал слишком тихо, его голос доносился из скрытого, из прошлого, из будущего, и лишь постепенно получалось вслушаться в монотонное, как на богослужении, бормотание этого даже внешне весьма своеобразного человека и вылавливать слова и предложения, а потом даже образы и ритмы, из которых состоит его футуристическая поэзия». Это репортаж Йозефа Антона Штейрера в газете «Allgemeinen Tiroler Anzeiger».
Между этими двумя неудачными выступлениями – на Лидо и в музыкальном обществе – была написана одна из центральных глав немецкоязычной поэзии ХХ века. Между этими событиями те стихи, что входят в третий том нового инсбрукского издания сочинений Тракля [160]. В нем сорок девять стихотворений, главные из них – «Себастьян во сне», «Песня Каспара Хаузера» и «Превращение зла». Редакторы Эберхард Зауэрман и Херманн Цвершина сумели с помощью Сизифа упорядочить бесчисленные варианты рукописей, правки, дополнения и вопросительные знаки в текстах Тракля. На основании разной толщины карандашных линий им удалось выделить разные этапы создания этих текстов. Когда язык затянут в столь тесный корсет, его смысл особенно сильно бросается в глаза.
В глаза бросается то, что какие-то вещи сохраняют устойчивость под пристальным взглядом поэта и остаются неизменным, а где-то «синий» становится «черным», а «тихо» превращается в «дико». Мы видим, как он тянет за собой мотивы, как он пытается встроить их если не в ту строфу, так в эту, а когда все эти попытки оказываются безуспешными, он их вычеркивает и переносит в следующее стихотворение, в следующий год. «Неисправим в лучшем смысле», – так Альберт Эренштейн [161] сказал о Георге Тракле в надгробной речи. Но это неверно. Даже его можно было исправить. Но это мог сделать только он сам.
А другие люди могли только давать ему мотивы. Благодаря этому образцовому изданию мы теперь знаем, где Тракль впитал в себя Гёльдерлина, а где Рембо. Знаем, что он с ними делает, как их голоса продолжают греметь в нем, как он растягивает их руками, прежде чем вернуть на бумагу. Его стихи – коллажи из услышанного, прочитанного, прочувствованного; даже то, что Роберт Михель [162] читал 10 декабря 1913 года в инсбрукском музыкальном обществе после Тракля, частично продолжает жить в лирике Тракля. А бывает у него и так – например, в стихотворении «Преображение» (ноябрь 1913 года): сначала «голубой источник ночью бьет из мертвых камней», а потом он превращается в «голубой цветок», который «тихо звучит в пожелтевших камнях». Романтизм – всегда исходная точка, но она при этом и вожделенная цель тихого голоса Тракля. За одну только осень 1913 года голубой цветок в его стихах распускается девять раз. А вот в его эпитафии Новалису голубой цветок отцветает уже во второй редакции. В четвертой редакции окончательно вянет эпитет «голубой», и цветок начинает меняться: сначала он «ночной», потом «сияющий» и, наконец, «алый». И редакторы решают, каким он будет. В результате такого расщепления на разные слои лирика Тракля будто разбивается на тысячи осколков, но в каждом из них отражается толика глубокого сумрака его жизни.
Стихам Тракля не хватает четкости, чтобы они казались пророческими. Обычно у него переливается всеми цветами обширный словарный запас немецкого языка – во всем своем великолепии, со всей мощью, подобный позднему зальцбургскому барокко, до тех пор пока Тракль не открывает дверь в машинное отделение своего вдохновения и не привносит туда чумной дух угасания, ледяное дыхание своей души. И тогда повсюду гибнут цветы, темнеют леса, разбегаются олени, умолкают голоса.
В стихах так экзистенциально переживается это неотступное ощущение бренности, что их невозможно обвинять в излишней высокопарности и тем более в китче. Тракль выражал себя только в стихах, а его правки и дополнения к ним – это его автобиография. Он рассматривал темную сторону, ловил трудноуловимое, вызывал на разговор необъяснимое. Он заглядывал в себя и стал очевидцем невидимого, а его фантазия стала полностью свободной благодаря интроспекции.
Карандаш Тракля выполняет функцию корня. Он все глубже закапывается в лабиринты воспоминаний и предчувствий. И в то же время Тракль – великий лозоходец, с помощью своего воображения всегда обнаруживающий что-то во внутреннем мире читателя. Инсбрукское издание позволяет нам глубже, чем когда-либо, заглянуть в разорванную ткань и в рыхлую субстанцию траклевской экзистенции, мы можем больше не ограничиваться словами Витгенштейна: «Я вас не понимаю, но ваш тон делает меня счастливым».
Кто знает, может быть, отныне мы будем читать Тракля только в «инсбрукском» варианте. То есть прыгая между разными слоями текста, отслеживая развитие лексических мотивов, чувствуя их языковой центр, искрящийся гласными и разрывающий сам себя. Если мы попробуем сейчас полистать традиционный стихотворный сборник, с его как бы «окончательными версиями», то нас сразу оттолкнут его стерильность и холод. А здесь, в третьем томе со стихами лета и осени 1913 года, язык Тракля словно оттаивает и оживает.
И пусть жизнь для Тракля всегда означает умирание. Нельзя сказать, что работа редакторов позволяет нам открыть Тракля с новой стороны, открыть новые содержательные пласты в его творчестве. Дело, скорее, в том, что множество вариаций одной темы, та одержимость, с которой мотивы прорабатываются на разных этапах создания текста, усиливают наше впечатление, а еще теперь мы можем узнать en détail [163], что именно написал в декабре 1913 года рецензент, которому не понравилось «монотонное, как на богослужении, бормотание». Депрессия всегда была единственной темой Тракля.
Тракль шлифует слова, борется со своим языком до тех пор, пока не сочтет, что может выпустить их в мир. В тот мир, в котором он сам не может выжить. Его стихи не предрекают никаких бедствий, даже если речь в них идет о последних днях человечества. История в них давно уже приняла «самый скверный поворот из всех возможных» в духе Дюрренматта именно потому, что она уже стала материалом для мыслей и для стихов.
Стихотворения Тракля оглядываются на грядущие катастрофы. Двадцать шесть лет было ему в конце лета 1913-го. Через год он умер. Венеция, вечно тонущая машина вдохновения для меланхоликов – она всех подготовила к гибели: Георга Тракля, Габсбургов, XIX век, да и XX тоже. И всех их пережила.
Людвиг Бёрне. Потому что он любит его. Настоятельный совет: не доверяйте Бёрне
Просто перехватывает дыхание от осознания того, что я впервые выступаю в церкви Святого Павла [164], и уверяю вас, когда стоишь тут наверху, то дышится не легче. Поэтому хочу сразу сказать: для меня большая честь получить в этом историческом месте награду, которая носит имя великого Людвига Бёрне.
Я благодарю учредителя премии Бёрне Михаэля Готхельфа и весь фонд Бёрне, благодарю члена жюри, то есть вас, глубокоуважаемый Мартин Майер, за ваш сомнительный выбор лауреата и за вашу несомненно прекрасную речь. Я благодарю город Франкфурт за возможность находиться в этом особенном месте – и если я сейчас осмеливаюсь вопреки плану Михаэля Готхельфа говорить не на гессенском диалекте, а на литературном немецком, то я делаю это исключительно из глубочайшего уважения перед этим диалектом, неповторимые гласные звуки которого Майн столько веков размягчал и растягивал, что только истинным франкфуртским кудесникам слова удается так медленно и смачно произносить их. А люди вроде меня, перебравшиеся в южный Гессен из буковых лесов Фогельберга, не умеют так мастерски отправлять конечное «r» в вибрирующую нирвану, как это делают сотрудники Гессенского радио, с которыми я общался в последние дни и не всегда был уверен, говорим мы о премии Людвига Бёрне или о премии Хольгера Бёрнера [165].
Уважительная сдержанность уместна еще и потому, что Бёрне, по свидетельству общавшегося с ним Генриха Гейне, «никогда окончательно не отрекался от родного диалекта, как и Гёте». И я посвящу, пожалуй, свою благодарственную речь одной важной гессенской, а точнее франкфуртской, теме: вербальным нападкам, которым в течении всей своей жизни Людвиг Бёрне подвергал Иоганна Вольфганга фон Гёте. Сорок шесть лет они жили на этом свете одновременно, и минимум тридцать из них Бёрне пытался словесно атаковать Гёте и даже уличить его в предательстве. В предательстве идей свободы, в предательстве взрывной силы его же ранних произведений и – самое страшное – в предательстве своего сердца искателя приключений. Генрих Гейне интересно высказался о причинах такой позиции: «Его неприязнь к Гёте имеет местные корни, я говорю „корни“, а не причины, потому что если даже тот факт, что Франкфурт – родной город для них обоих, так раздражал Бёрне, то это значит, что его ненависть к этому человеку, разгоравшаяся в нем все сильнее и ярче, была лишь неизбежным следствием глубоких различий в самой натуре этих двух людей».
Воскресенье 10 февраля 1828 года, мрачный и морозный день, всю Европу накрыло холодным покрывалом. Каспар Давид Фридрих рисует в дрезденской мастерской свою знаменитую «Еловую чащу в снегу», Франц Шуберт, только что закончивший свой песенный цикл «Зимний путь», лежит на смертном одре. А Людвиг Бёрне? Людвиг Бёрне кутается в плед на задних местах почтовой кареты, которая везет его в Веймар. В нем идет внутренняя борьба, пока карета медленно катит под гору в долину реки Ильм. Там, в небольшой местной столице, в доме на площади Фрауэнплан готовят обед. Но Людвиг Бёрне не выходит, когда карета делает остановку в Веймаре, он едет дальше, в Берлин, «чужим вошел, чужим и выйду», словно alter ego эмоционально истощенного зимнего путешественника у Шуберта. До этого дня, 10 февраля 1828 года, Бёрне уже очень много сказал и написал о Гёте, и после этого дня он еще очень много скажет и напишет о нем. Но честнее всего был этот жест: он предпочел не встречаться с Гёте лично. Может быть, Бёрне просто боялся его?
Я позвонил Инге Рипман. Возвращение Бёрне в сферу интересов литературоведения и избавление от прежних мифов в его отношении было заслугой этой девяностолетней дамы из фонда Бёрне. Так почему же Бёрне тогда, 10 февраля 1828 года, не вышел в Веймаре из кареты – он испугался? Инге Рипман решительно возражает: «Бёрне никого не боялся». Нет, дело в том, что он не мог примириться с противоречием между творчеством Гёте и его жизнью. По ее мнению, Бёрне не мог войти в дом на Фрауэнплан с таким подобострастным визитом, какой предполагала гётевская иконография. Потому что он, очень прямой и искренний человек, не смог бы просто поприветствовать того, кем восхищался за ранние произведения и кого презирал за придворное сочинительство у провинциального тюрингского герцога. Так что же, Бёрне боялся Гёте или нет? Ответ – нет.
Когда в течение последних двухсот лет речь заходила о Бёрне и Гёте, обычно упоминался не страх, а другое чувство – ненависть. Но всегда нужно сохранять известный скепсис, когда такие глубокие чувства как будто становятся частью формулировок исторического словаря. Например, в «Брокгаузе» 1911 года мы читаем такую предельно лапидарную формулировку: «Свои отрицательные, вредные черты он проявлял в своих политических воззрениях, направленных против династической политики Германии (письма из Парижа), а также в литературных сочинениях (ненависть к Гёте)». Еще больше скепсиса нужно нам потому, что источником слова «ненависть» является сам же Бёрне: «С тех пор, как я научился чувствовать, я ненавидел Гёте, а когда я научился думать, я понял, почему я его ненавижу». Такой вот замечательный афоризм. Однако эта кажущаяся однозначность и эмоциональный заряд понятия приводят к упрощению анализа. Слово «ненависть» перекрывает любые возможности эмоциональной и литературно-исторической дифференциации. Но точно так же, как сам Бёрне хотел, по его собственному выражению, «сорвать одеяло с дремлющей истины», так и я хочу сегодня попробовать хотя бы немного проветрить привычную интерпретацию так называемой «ненависти». Я попытаюсь показать вам, почему не следует во всем верить Бёрне, когда он говорит о Гёте. А он, в общем-то, постоянно говорит о Гёте: Кристоф Вайс в своей вышедшей в 2005 году книге «Людвиг Бёрне: критика Гёте» собрал все его высказывания с 1808 по 1836 год. Гёте всегда разжигал в Бёрне страсть к критике чистого разума. В гётевской теории цвета ему не хватало пылающего красного – за исключением «Вертера» и «Гётца».
Вилли Яспер [166] в своей биографии Бёрне указал на интересный момент: Бёрне, всегда уверенно формулировавший свои мысли, только в высказываниях о Гёте начинал метаться в поисках подходящего слова, менял выражения для своих бурных эмоций, причем даже в рукописях, готовых к набору. Он продолжал вносить коррективы в типографии, стоя рядом с наборщиком. То есть, как мы видим, Гёте никак не отпускал его.
По традиции лауреат должен в этот воскресный день сказать пару слов о своем личном отношении к человеку, в честь которого названа премия. Так что теперь не избежать того, что в помещение ворвется слово «я», хотя неписанные, но очень строгие критерии моей франкфуртской школы, то есть раздела фельетонов «Frankfurter Allgemeine Zeitung», предполагают суровое наказание за излишнее использование этого слова. Именно по этой причине мне пришлось перевести мои размышления о «поколении Гольф» в книжный формат [167], но и там из пиетета перед моим газетным бэкграундом я говорил «мы» вместо «я». А сейчас вы убедитесь в том, что я по-прежнему считаю, что поколенческая модель позволяет нам успешно интерпретировать немецкие конфликты, якобы подчиняющиеся законам природы.
Моя первая встреча с Бёрне произошла октябрьским днем в 1992 году. Над Бонном снова распростерся тот серый облачный покров, под которым задремала не только истина, но и вся Боннская республика. Я только что посетил первое занятие вводного семинара для германистов, но уже по дороге в парк Хофгартен я понял, что оно останется последним. Я не помню, о чем говорили на семинаре, но боюсь, что о Гёте. А даже Фауста можно превратить в Мефистофеля, если перемолоть его на настоящем немецком семинаре. Я к тому моменту прочитал «Избирательное сродство» и начал понимать, почему вот уже двести лет этого автора в Германии по праву относят к титанам, и меня оттолкнул сам факт, что книги, то есть жизнь, вдруг превращаются в германистику, то есть науку. Я в довольно унылом и растерянном настроении шел к вокзалу и по пути рылся в ящиках антикварных лавок. И волею судьбы я наткнулся на книжицу «Insel», гордо носившую на себе штамп «бракованный экземпляр». Я начал читать, признаться, исключительно из-за названия – «Бабские капризы», а не из-за автора, имя которого было мне неизвестно – Людвиг Бёрне. И вот тогда, спустя пятнадцать минут после завершения моей вылазки в германистику, я прочитал стоя несколько строк и во мне возродилась любовь к словам, я обнаружил у автора такой стремительный стиль письма, что всем последователям летел песок в глаза. Я купил книгу за одну марку, и это в то время была для меня значительная инвестиция, потому что единицами измерения для меня были 10 пфеннигов за строчку в газете «Fuldaer Zeitung» и, гораздо реже, 19 пфеннигов за строчку во «Frankfurter Allgemeine». Сегодня я понимаю: я мог бы с полным правом получить налоговый вычет за использование «Бабских капризов» в своей работе свободного автора, потому что вряд ли кто-то другой из авторов прошлого (конечно, наряду с Гейне и, позднее, с журналом «Querschnitt» Германа фон Веддеркопа [168], а еще с пружинящими текстами Тухольского) сильнее повлиял на то, как я пишу о современности. Так что вы понимаете, почему эта премия является для меня особой честью.
Бёрне всегда хотел рассказывать о произошедшем не как о чем-то прошлом, а в настоящем времени, потому что он именно в настоящем времени что-то узнал, прочитал или увидел. Так Бёрне стал для меня тайным распорядителем временных форм, когда я попытался рассказать о 1913 годе как о стремительном настоящем.
Вторая, очень важная встреча с Бёрне произошла ровно через двадцать лет. Одной из первых картин, что мне удалось продать в Берлине на аукционе в качестве арт-дилера, был давно известный мне небольшой портрет Бёрне примерно 1835 года, украшавший во Франкфурте одну солидную частную коллекцию искусства романтизма. Угловатый, неистовый, буйный Бёрне кажется на этом портрете удивительно мягким. Как бы близко ты ни узнавал человека через его слова, все равно это не та близость, что возникает, когда смотришь человеку в глаза. Я увидел тогда в глазах Людвига Бёрне тоску, теплоту и что-то несбывшееся. И с того момента я с недоверием отношусь к мифу о его ненависти к Гёте.
Отмечу в скобках: картина отправилась в Еврейский музей в Берлине, а могла бы пригодиться и франкфуртскому музею романтизма. Скобки закрываются.
Вернемся собственно к искусству. Но не к тому, которым я сейчас занимаюсь ежедневно, то есть к живописи 20-х и 30-х годов XIX века, когда художники и современники Бёрне тоже боролись за свободу – свободу в живописи, не политическую, а эстетическую. Я хочу поговорить об «Искусстве в три дня стать оригинальным писателем». Такое замечательное название дал Бёрне одному из своих эссе. На этой напряженной неделе этот заголовок был для меня очень актуальным, потому что я решал очень похожую задачу: в три дня стать автором оригинальной лауреатской речи. Бёрне в своем коротком эссе выступает за аутентичную запись того, что важно для автора. Зигмунд Фрейд считал этот текст учредительным документом метода свободных ассоциаций в психоанализе. Но и этот текст Бёрне, как всё, вышедшее из-под его пера, таит в себе большую опасность.
Ибо бесчисленные миллионы читательских комментариев в интернете ежедневно демонстрируют ложную интерпретацию призыва Бёрне к тому, чтобы каждый записывал и сообщал другим то, что наварил его котелок. Каждое письмо, каждый афоризм, каждая статья Бёрне учит нас тому, что оригинальным писателем сумеет стать только тот, кто располагает истинной душевной чуткостью, способен к самокритике и критическому суждению, на основе которых он и дает ход своим ассоциациям. А еще, что немаловажно, он готов отвечать за свои слова.
Кроме того, и сам Бёрне знал, конечно, что у любой аутентичности двойное дно. Двойное дно его как будто аутентичного ожесточения против Гёте состояло, на мой взгляд, в следующем: это бунт сына, родившегося во Франкфурте в 1786 году, против отца, родившегося во Франкфурте в 1749 году.
Конечно же, все психологические интерпретации можно деконструировать на основе той же психологии. Но так мы не продвинемся вперед. А в попытке интерпретировать так называемую ненависть Бёрне к Гёте как классический конфликт поколений кроется большой потенциал, как вы сейчас увидите. Бёрне хлопает дверью, слушает громкую музыку и взывает к отцу Гёте, что тот, мол, тоже когда-то был молодым, а теперь все позабыл. Наверное, примерно так. «Бёрне ненавидел Гёте за то, что тот сделал невозможной любовь к нему», – это удачная формулировка Норберта Эллера [169], исследователя конфликтов в истории литературы.
Теперь вернемся обратно в тот февраль 1828 года. Что Бёрне написал своей спутнице жизни Жанетте Воль, что он чувствовал, когда двигался в сторону Гёте, своей звезды, притяжение которой он ощущал на протяжении всей жизни? Любое высказывание Гёте он не просто читал, а впитывал в себя и немедленно комментировал, но цитировал не всегда корректно, то есть, по словам Инге Рипман, он цитировал «не по источнику, а по памяти». Итак: когда Бёрне уже приближался к Веймару и думал о Гёте, ему пришел в голову образ орла. Величественной птицы. Которая парит над всем, что недосягаемо. Запомним: когда Бёрне думает о Гёте, то он представляет себе орла, а не утку.
И вот что он пишет Жанетте Воль, своей спутнице жизни, оправдывая несостоявшуюся встречу в Веймаре: «Когда я сегодня подъезжал к Веймару и город виднелся впереди, со своими красными крышами в лучах зимнего солнца, холодный и приветливый, я подумал, что Гёте живет тут уже более пятидесяти лет, что он никогда не покидал этот город (он не бывал ни в Париже, ни в Берлине), и меня вновь охватила злость к этому покорному, терпеливому, беззубому гению. Он как орел, который устроил гнездо под крышей у портного». Вот таков упрек молодого к старому: я хочу смотреть на тебя снизу вверх, но не могу. Ты орел, но вот уже много лет ты не поднимался на свою высоту крейсерского полета.
Так что дело тут не в орнитологии, а в психологии. И не в ненависти, а вот в чем: в глубоком разочаровании. В ситуации с Гёте он повторяет на публичной сцене ту же драму отчуждения, которую пережил со своим настоящим отцом. Отец Бёрне Якоб Барух был из тех родителей, которых мы сегодня называем «вертолетами», – он постоянно нависал над сыном и старался направить его жизнь в правильное русло. Но постоянно что-то шло не так. Шум пропеллера над головой Бёрне всегда был слишком громким. Уважаемый банкир отправил строптивого сына в Берлин к своему другу, чтобы сын изучал там медицину, но тот вместо этого увлекся Генриеттой Герц, женой друга, и стал страдать от любви. Вскоре из-за больших долгов он поссорился с отцом, и тот велел ему перебраться в Гейдельберг, где его было бы проще контролировать. 24 июля 1807 года Бёрне написал важное «Письмо отцу», но оно осталось без последствий, как и более известное письмо на ста трех страницах, которое спустя двести лет Кафка написал своему отцу. Когда Бёрне снова залез в долги, отец перевел его на место полицейского секретаря во Франкфурте. Тогда его еще звали Иегуда Лейб Барух. В 1818 году, когда антисемитизм набирал обороты, он перешел в лютеранство и сам выбрал себе имя Карл Людвиг Бёрне. Как сказали бы сегодня, сменил идентичность. Он больше не носит фамилию отца.
В ситуации с Гёте он повторил этот конфликт отца и сына в сфере литературы. Маркузе в связи с Бёрне и Гёте говорит о «бесперспективности примирения сторон». Я в этом не так уверен.
Удивительно, как часто Бёрне, сам никогда не имевший детей, затрагивает тему отцовства. Например, в своем отзыве на «Вильгельма Телля» Шиллера он вдруг резко и страстно критикует с позиций морали выстрел отца в яблоко, стоящее на голове дрожащего сына. Отец не может ничего ставить выше жизни своего ребенка, неожиданно пишет он в критической работе о театре. Он кратко и решительно заявляет: «Телль не имел права стрелять, пусть даже и ценой всей швейцарской свободы». Одно из самых удивительных заявлений этого ярого борца за свободу.
Не менее удивительно то, как Бёрне переживает, узнав о смерти сына Гёте Августа, человека одного с ним поколения, который был всего на три года младше. 8 декабря 1830 года он записывает в своем дневнике: «Ужасная история с сыном Гёте!» И далее: «Я чуть не расплакался. Как жестока судьба, погубившая этого сильного человека». Уже здесь мы видим поразительную самоидентификацию с сыном Гёте и с его попытками освободиться от участи сына всемогущего отца, но этим она не ограничивается.
В 1835 году был написан самый объемный текст Бёрне о Гёте, он же и последний. Характерно, что только после смерти Гёте он смог избавиться от желания безудержно комментировать его жизнь и творчество и сумел выразить свое отношение к нему в пространном, законченном тексте. И вполне логично, что за основу для этого текста Бёрне взял именно «Переписку Гёте с ребенком», изданную уже после смерти поэта. Он почти неприкрыто идентифицирует себя с молодой Беттиной фон Арним, состоявшей в переписке с Гёте, когда пишет о ней: «Тот, кто знает Франкфурт, родной город автора, тот поразится тому, как ей удалось взрастить в себе такую свободу ума и сердца». Это, конечно же, автопортрет Бёрне. И в нападках Беттины на холодного, закосневшего Гёте он видит отражение своего отчаяния. Мы же помним слова Генриха Гейне, сказавшего об отношении Бёрне к Гёте: «Он напоминал ребенка, который трогает мрамор греческой статуи и жалуется на холодность, не догадываясь о ее пылающей сути». Или, как сформулировал Марсель Райх-Раницкий [170], видный продолжатель дела Бёрне: «На мой личный взгляд, каждое его слово против Гёте было обоснованным и в то же время несправедливым». Они оба догадывались, что дело было далеко не только в ненависти.
И вот Бёрне предваряет свою пылкую рецензию на «Переписку Гёте с ребенком», написанную в 1835 году, словами из «Прометея» Гёте. Он апроприирует бунт Прометея против Зевса, бога-отца, чтобы направить свой гнев на автора, которого считает закосневшим в самодовольстве: «Мне – чтить тебя? За что? / Рассеял ты когда-нибудь печаль / Скорбящего? / Отер ли ты когда-нибудь слезу / В глазах страдальца?»
Разве это тон человека, который ненавидит? Кафка пишет в своем «Письме отцу»: «Я пишу о тебе, и в своем письме я жалуюсь только на то, на что не мог пожаловаться на твоей груди». И Бёрне ведет себя очень похоже. А что чувствовал сам Гёте, якобы памятник самому себе, когда читал то, что о нем писал Бёрне – например, гневную рецензию на высокопарность и безжизненную классицистичность его переписки с Шиллером?
Есть один источник, из которого мы узнаем, как близко к сердцу принимал Гёте нападки со стороны Бёрне. Главному придворному проповеднику Рёру, которого он выбрал себе для надгробной речи, он признался, явно под впечатлением от критики Бёрне в адрес его переписки с Шиллером: «Это прелюдия к нашей надгробной речи. А вы произнесете для меня другую речь». Гёте не уточняет – речь получше или более правдивую. Он говорит только – другую. Конечно, сам он понимал лучше остальных, что неистовый Бёрне чувствовал в нем непрожитые жизни и бичевал поражения, вызванные отказом от них. То есть он чувствовал в негодовании Бёрне горькую правду прославившейся впоследствии революционной франкфуртской диалектики, согласно которой выступление против (Dagegensein) всегда является и участием (Dabeisein). Гёте был для Бёрне и орлом, и Зевсом. И как тут реагировать, кроме как с яростью, если ты сам стремишься ввысь.
Была в жизни Бёрне еще одна связь, которая по накалу напоминала отношение к Гёте, – связь с Генрихом Гейне. В ней был очень похожий трагизм. Раздор с Бёрне огорошил Гейне, потому что он видел в нем родственную душу. Почему, спрашивал себя Гейне, он так воюет со мной? Краткий и точный ответ дал ему издатель Кампе: «Потому что он вас любит». Я сегодня не мог ограничиться такой краткой формулировкой, мне понадобилось еще несколько слов, но сдается мне (и сейчас я осмелюсь на недопустимое упрощение), что здесь-то и кроется тайная причина так называемой ненависти Бёрне к Гёте: он его любил. Но не волнуйтесь, мы ведь знаем, что это ничего не упрощает.
Жан Поль. Развязать немцам язык
Наше вялое, усталое время подвержено невротическому циклу булимии: безудержное глотание и выплевывание искусства, литературы и репутаций стало главной метафорой культуры. Наше счастье, что хотя бы юбилеи и годовщины иногда дают повод ненадолго задуматься и пожевать. А иногда сама парализующая действительность мотивирует оглянуться назад в поисках утешения и чего-то веселого: без малейшей связи с круглыми датами Германия вдруг воспылала любовью к одному из величайших своих литераторов, который сто семьдесят лет спал в катакомбах забвения, – к Жан Полю (1763–1825).
И начала целовать его, причем страстно. «Во время поцелуя интересы совпадают», – написал как-то Жан Поль. Наверное, это значит, что для поцелуя нужны двое. А в нашем случае – человек, который имеет такую ценность, чтобы его открыли заново, и время (общество, литература и т. д.), которое вдруг обнаруживает, что это очень хорошо, когда у кого-то есть ценность – и не только рыночная. Итак, в 1996 году Германия открыла для себя Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (псевдоним Жан Поль), который утверждал, что «перевел только четверть своего имени». Но и эта четверть дает отличную возможность для языковой игры: «вместо Jean Paul можно писать Pohl, или Schang, или Schang Pohl» [171]. Звучит по-китайски, а стена молчания, окружавшая его имя, была примерно так же длинна, как Китайская (которую, говорят, видно даже из космоса – кстати, как и бельгийские автострады).
Жан Поль ковал и вытачивал немецкий язык, пока тот не начал сверкать и озарять своим светом далекие сферы, вплоть до нашего времени. Нужно только иметь смелость иногда смотреть в зеркало заднего вида. И гляди-ка: этот язык до сих пор блестит. Нужно просто чуть-чуть почистить его, как обычно и поступают с добрым серебром. Этим сейчас филологи и занимаются. Курт Вёльфель и Томас Виртц уже выловили из необозримых архивов с наследием Жан Поля первое серебро – в будущем мы получим шесть увесистых томов, которые помогут нам заглянуть в горы неопубликованных рукописей. Их улов уже велик: раздумья, абсурдные наблюдения, шутки от «самого, пожалуй, гениального мастера афоризмов из всех, что у нас были» (Рольф Фольман [172]).
Но прежде всего он был одержимым писателем. И вот еще важный момент: одновременно с открытием ларца с наследием писателя франкфуртский каталог-рассылка «2001» предложил массовому читателю каноническое собрание сочинений Жан Поля, переизданное издательством «Hanser», по невероятно низкой цене: после дешевых переизданий журнала «Факел» и «Собрания сочинений» Лихтенберга это был очередной подвиг маленького издательства. Жан Поль стал родоначальником новой литературной традиции в Германии – со своим идеальным коктейлем из гротескного юмора, сатиры, буйной фантазии и романа ужасов, со своим паноптикумом из удивительных происшествий и редкостных чудаков, со своими внезапными сменами перспективы, с настойчивым подрывом обывательской идиллии и с искусными отклонениями от темы, которым он научился у Лоренса Стерна.
Каролина Рихтер так описывала первый кабинет своего мужа, в котором посетители наблюдали, как «груши и немытые винные бокалы» складываются в «писательский биотоп»: «Перед канапе Жан Поля стоит стол из сосны, на котором он в только ему ведомом, совершенно непостижимом для чужих глаз порядке разложил все свои письменные принадлежности и бумаги. Справа от стола – этажерка, с которой он может в любой момент достать все, что нужно, не поднимаясь с места, там тщательно расставлены в ряд его рукописи, дневники, выписки и т. д. Без зеркала, без гардин, с плохими стульями – таков был кабинет Жан Поля».
Стоя, сидя или лежа, он постоянно делал записи. Выписывал забавные места из сочинений своих учеников в шварценбахской школе. Записывал болтовню с соседями. Выспренные высказывания филологов. Надписи на стенах туалетов. Почти как учителишка Вуц, наверное, самый известный его герой, из-за нехватки средств написавший собственную библиотеку, Жан Поль на протяжении жизни заполнил выписками и цитатами сто десять толстых томов. Он всё записывал, сохранял в бесконечных извивах и тайных ходах своего мозга и периодически выдавал обратно, уже в новых комбинациях – для собственной продукции ему служили тетради, на обложках которых значилось «Мысли» или «Идеи». Помимо выписок из литературы и разговоров, сохранившихся в бесчисленных тетрадях, Жан Поль находил материал для творчества и в другом, никогда не иссякающем источнике – в наблюдении за миром. В его даре наблюдателя наивная детская неподкупность соединяется с чудачеством: «Даже стоящие часы раз в день показывают правильное время», – записал он однажды, или вот: «Растения принимают пищу и не производят экскрементов».
Современникам нравилось. С 1795 года, когда вышел «Геспер», и до 1815 года он был автором бестселлеров. Только великий поэт Гёте не очень его любил («мозговые судороги»), а это было, как мы знаем, добрым знаком, мы сегодня помним исключительно имена тех, кого Гёте ругал, а не тех, кого он осыпал похвалами.
Жан Поль был сыном деревенского пастора, после ранней смерти которого семья терпела лишения, был студентом в Лейпциге, потом подрабатывал частными уроками в регионе Майнингена, затем перебрался в Веймар, откуда уехал в некотором разочаровании (Шиллер сказал, что он «будто с Луны свалился»). Разочарованы были и покинутые им женщины, вместе с которыми белокурый дамский угодник (как и позднее при баварском дворе) организовал «эротическую академию» – цель этой организации до сих пор остается неясной.
И вот в 1804 году он наконец-то осел в Байройте, недалеко от родины, недалеко от любимого пива. Последовали женитьба, дети, круглый живот зажиточного человека. Но его активность по части острословия по-прежнему высока, он становится «магистром франконской возвышенности» (Штефан Георге).
Есть только одна конгениальная немецкая биография этого необычного литератора, который не только искал жемчужины, как все прочие искатели приключений, но и тщательно нанизывал их на нитку: это биографическое эссе Рольфа Фольмана, который постарался в своей многогранной прозе уловить юркий гений Жан Поля.
Жан Поль всю свою жизнь посвятил, как он сам однажды написал, одной-единственной цели: «Развязать немцам язык». И за эту языкастость немцы ему по сей день бесконечно благодарны.
Фонтане и изобразительное искусство. Изобретение визуального человека
Когда видишь такие восклицательные знаки, то хочется убавить звук: «Поэзию Фонтане, – пишет Петер-Клаус Шустер [173], – невозможно отделить от темы „Фонтане и изобразительное искусство“!» Шустер пишет это в своей статье для каталога [174] большой выставки в Новой национальной галерее берлинского «Культурфорума». И выставка пытается хоть как-то оправдать этот восклицательный знак. Но в конечном счете остается большой вопросительный знак.
Мило оформленная выставка и могучий каталог выдвигают два основных тезиса. Первый: Теодор Фонтане играл важную роль в популяризации искусства прерафаэлитов и конкретно произведений Тёрнера в Германии. Второй, еще более смелый тезис утверждает, что визуальный опыт юного Фонтане стал важнейшим элементом его литературного творчества. Оба тезиса абсолютно надуманны. Ровно двадцать лет назад Шустер написал очень умную книгу о том, что в «Эффи Брист» Фонтане прослеживаются образы из христианской иконографии. Когда был объявлен «год Фонтане», он вспомнил об этом и раздул свои интересные наблюдения до размеров большой выставки. Но стоит уколоть ее в любом месте, и весь горячий воздух выйдет.
В залах «Культурфорума» мы видим попытку реконструкции «воображаемого музея» (musée imaginaire) Фонтане на фоне красивой настенной росписи в духе бидермейера. Предполагается, что у Фонтане такой музей имелся. В первом зале нашим глазам предстают картины с большой выставки «Art Treasures Exhibition» в Манчестере, которую Фонтане посетил в 1857 году в качестве зарубежного корреспондента (в следующих залах разместилась современная берлинская живопись). Впечатляет, какое количество первоклассных, важнейших работ прерафаэлитов удалось заполучить в Берлин для этой реконструкции. Меньше впечатляет то обстоятельство, что в каталоге обнаруживается только немецкий перевод статьи Ульриха Финке, английский оригинал которой вышел почти пятнадцать лет назад [175] и в которой Фонтане даже не упоминается. Притом что Фонтане подробно рассказывал об этой выставке в своих репортажах для немецкой публики.
И эти журналистские тексты Фонтане, который, кстати, не меньше внимания уделял погоде и дорожному строительству в Манчестере, не были для немецкой публики чем-то примечательным. Тёрнер в конце 50-х годов уже давно был общепризнанным художником, прерафаэлиты были в моде, а тексты Фонтане были дежурной обязанностью зарубежного корреспондента, который в предшествующие выставке годы никогда не интересовался искусством. Вернее, перестал интересоваться на какое-то время. А то, что теперь эти тексты Фонтане объявляют первой попыткой «рассказать об истории современного английского искусства с немецкой точки зрения», как пишет в каталоге Шустер, это как минимум досадно: неужели в Берлине забыли книгу «Произведения искусства и художники Англии» Густава Фридриха Ваагена, первого директора Берлинской художественной галереи, который еще в 1837 году подробнейшим образом познакомил немецкую публику с Тёрнером и современным английским искусством (и на которого ссылается сам Фонтане)? А в 1857 году Вааген написал объемный путеводитель по выставке в Манчестере, которая стала важнейшим смотром английского искусства XIX века, и очень жаль, что организаторы берлинской выставки не уделили внимания тому, насколько Фонтане в своих описаниях картин ориентировался на этот путеводитель.
Фонтане присылал из Манчестера качественные репортажи, в чем ему помогло чтение Ваагена, «Современных художников» Рёскина, выдающихся статей Лейарда [176] об искусстве и многих других авторов. Когда же он сам решается выносить суждения об искусстве, то они производят странное впечатление. При всей любви к нему мы не обнаруживаем ни грана той проницательности и остроумия, которые он демонстрировал во время салонных обсуждений Бодлера или Гейне: в Англии он так же не замечал Констебля, как в Пруссии ругал Каспара Давида Фридриха, надушенные картинки Эдвина Ландсира [177] он ставит выше Тёрнера, академиста Эдуарда Гильдебрандта [178] выше Менцеля. Кроме того, каталогу не хватает критического анализа расплывчатых категорий Фонтане: «природную достоверность» он приписывает и Хогарту, и писавшему на исторические темы Бенджамину Уэсту [179], прерафаэлитам и Карлу Блехену.
Менцель и Блехен – две главные фигуры, представленные в подземных залах, которые посвящены художественному окружению Фонтане в Берлине. Вопреки утверждениям авторов выставки, в отношении местных художников основной интерес Фонтане был совершенно очевидно направлен «не на художественную критику, а на биографию», как он сам признавал в случае с Блехеном. Художники интересовали его как иллюстрации к его «Странствиям по марке Бранденбург», как инкарнации прусского духа, а также любопытными особенностями своего характера. Это становится особенно заметно по рецензии, впервые опубликованной в каталоге, в которой историк искусства Карл Шнаазе характеризует работу своего современника Фонтане (будучи далеким от этой тематики) как «повествование, заряжающее патриотизмом». Потом оказывается, что самыми талантливыми деятелями искусств Шнаазе считал Рауха, Шадова и Тика [180], мотивы творчества которых были тоже глубоко прусскими.
Каталог и выставка трактуют Фонтане как «визуального человека», он якобы «чувствует и думает образами». Но с этим спорит не только Вольф Йобст Зидлер [181] в кратком комментарии. Возражает и сам Фонтане – своим творчеством. Все ассоциации Фонтане находятся в плоскости литературы, а не изобразительного искусства. Прерафаэлиты напоминаю ему о Адальберте Штифтере, Дэвида Уилки [182] он называет «Вальтером Скоттом с палитрой». Постоянно упоминает Диккенса. Он не воспринимает картины как произведения искусства, а принимает их за чистую монету, ругает содержание, радуется юмору. Только такому писателю, как Фонтане, могло прийти в голову похвалить малозначительную работу Менцеля за то, что она написана «четко и внятно», как будто речь идет о выработке дикции. Для Фонтане, гениального рассказчика и языкового новатора, всегда важнее всего было это измерение: как можно перенести мир (а искусство было для него, как и для всякого разумного человека, частичкой мира) в язык, в диалог, в сюжет. И только в полученном экстракте, то есть в стиле, заключается значение Фонтане для истории искусства, о чем и свидетельствует то уважение, с которым к нему относились такие видные фигуры, как Панофски, Краутхаймер и Харальд Келлер [183].
Фонтане писал, например, что испанцам он завидует «из-за Мурильо и лука». Хорошо, что в каталоге отмечается, что Фонтане, кажется, больше интересовался луком, чем Мурильо, но для многих экспонатов потребовались головокружительные натяжки. Так, о картине Фрэнсиса Дикси [184] с изображением интерьера написано: «Мы не знаем точно, знал ли Фонтане вообще о существовании художника Дикси», а о женщине на берегу моря авторства Скабрины мы читаем: «Фонтане не упоминает об этой картине, но почему бы не предположить, что он был в восторге от этой дамы». Особенно же гротескной выглядит ситуация с триптихом Августа Эгга [185], изображающим семейную трагедию («Прошлое и настоящее», 1857–1858).
Триптих Эгга – идеальный материал для пространного рассуждения о том, как тема падших, неверных жен в английском искусстве 50-х годов дала импульс для создания Фонтане таких женских образов, как Эффи Брист. Правда, авторам каталога и в данном случае приходится констатировать, что Фонтане в своих статьях о выставке в Манчестере ни разу не упомянул эту картину, и поэтому гипотеза, согласно которой данная картина тридцать лет спустя (!) вдохновила его на создание персонажа романа, не является такой уж абсолютно достоверной.
Да и в целом нелегко убедить нас в родстве между прерафаэлитскими дамами и персонажами романов Фонтане. В этих глубоко религиозных картинах (тоже, кстати, аспект, который Фонтане игнорировал) мы не обнаруживаем ни одной женщины, которая наводила бы нас на мысли о Лене, Кете, об Эффи Брист или тем более о Женни Трайбель. Только очень странное представление о силе воображения Фонтане и его процессе творчества позволяет поверить в то, что при создании главных героинь немецкого романа конца века он черпал вдохновение из тех картин, что видел (может быть) тридцать лет назад на английской выставке, будучи журналистом. Перенос конкретных картин в прозу, так неожиданно обнаруженный Жаном Сезнеком [186] на примере Флобера, в случае Фонтане терпит крах из-за отсутствия доказательств.
Главной исходной точкой для Фонтане всегда была действительность. Она же была и единственной легитимацией рождения литературных героев, о чем свидетельствует его реакция на Эллиду из пьесы Ибсена «Женщина с моря»: «Сейчас есть такие дамы, а раз такие дамы есть, то они по праву стали персонажами на нашей сцене».
Является ли изобразительное искусство персонажем на сцене у Фонтане? «Второстепенное, – возражает профессор Шмидт в „Женни Трайбель“, – ничего не значит, если оно лишь второстепенно, если в нем не заложен какой-то скрытый смысл». Изобразительное искусство второстепенно для Фонтане. И даже эта берлинская выставка тут ничего не изменит.
Новые герои
Энди Уорхол. Как смотреть из будущего на настоящее, как на прошлое
Энди Уорхол никогда не был нашим современником. Он был лишь гостем в Америке XX века. Как и немногие другие крупные фигуры, приходившие из будущего и уже помнившие катастрофы, еще только ожидающие человечество, он серьезнее относился к жирным линиям прошлого, чем к современным каракулям. Его художественные оценки и диагнозы были такими точными, потому что они, как бы парадоксально это ни звучало, всегда были основаны на том телесном и ментальном опыте, которым тогда еще никто не мог обладать. Энди Уорхол сумел сделать то, что не удавалось никому: взглянуть из будущего на настоящее.
И еще один момент, придающий ситуации дополнительное измерение: он мог смотреть из будущего и на прошлое, то есть, в нашем случае, на «Мону Лизу». Вот уже почти пятьсот лет эта картина Леонардо да Винчи является частью культурной памяти мира, пожалуй, это первая поп-икона западного мира. Когда в 1963 году она демонстрировалась в Америке, Энди Уорхол, этот уникальный летописец будущих страстей и катастроф, тоже поддался ее чарам. Конечно же, его поразила и особая роль «Моны Лизы» в истории искусства, и ее повсеместное присутствие. Поэтому для Уорхола было особенно интересно самому воспроизвести наиболее часто воспроизводимую картину в истории человечества. И осознанно воспеть этот процесс с помощью многократного повторения «Моны Лизы» на своем холсте.
Наша картина, этот квартет из четырех «Джоконд», созданный в конце 70-х годов, имеет очень резкий и современный характер. Шероховатость покрытого черной краской холста бросается в глаза и диссонирует с мягкостью и отрешенностью улыбки «Моны Лизы». Уорхол в дальнейшем не менял эту картину, оставив ее в первозданном виде. Белая полоса в области глаз нижней «Моны Лизы» создает дополнительное пространство ассоциаций: специфическое черно-белое изображение и само по себе напоминает далекие времена черно-белого телевидения, а в нижней части холста мы видим практически имитацию дрожащего телеэкрана. Появляется ощущение, что мы видим не картину, а телепередачу о «Моне Лизе» и ее мультиплицировании. Причем Уорхол счел бы это не изъяном, а достоинством – ему удалось средствами живописи создать на холсте эффект средств телекоммуникации.
Уорхол и без того первым понял, что массовое распространение искусства – неважно, «Моны Лизы» или его собственных работ – не уменьшает их значение. Его искусство воспроизводится, подобно компьютерному вирусу, на кофейных стаканчиках, галстуках и плакатах, причем аура работ при этом не улетучивается, а растет. Одно из важнейших достижений Уорхола, о котором другим художникам остается только мечтать: он навсегда захватил контроль над восприятием своих работ. Наверное, это стало возможным потому, что его работам было глубоко безразлично то воздействие, которое они оказывают на публику, как и предполагал Дон Делилло еще в 1993 году в своей книге «Мао II». Чем сильнее сжимаются вокруг нас бесконечные и бессмысленные визуальные удавки электронных медиа, тем более пророческими нам кажутся бесконечные цепочки Мэрилин, суповых банок и «Джоконд».
Это не было революцией – спустя сорок лет после Дюшана нарисовать банку с супом. Но революция была в том, чтобы перенести механизмы производства этого супа на производство картин. Уорхол был прекрасным рисовальщиком, и он похитил краски Матисса для мира потребления. Его серии шелкографий демонстрируют, что Уорхол как художник обладал тонким чувством цвета, ритма и чередования. Но его уникальность заключается прежде всего в том, что во времена очередного культа абстрактных экспрессионистов он объявил повторение условием существования любого произведения искусства. Его творения – неважно, были это десятки «Джоконд», десятки электрических стульев или десятки его собственных ассистентов – доказывают каждым своим цветовым пигментом и каждым волокном, что индивидуальность – всего лишь иллюзия.
Уорхол отменяет противопоставление ауры и массового производства. Этому он научился у своей матери. Больше всего она восхищалась затасканной, такой привычной репродукцией «Тайной вечери» Леонардо, которая служила ей закладкой в сборнике церковных песнопений. Когда Энди Уорхол в конце жизни приступил к работе над большим циклом «Last Suppers» («Тайные вечери»), то за основу он взял не саму фреску и не качественную репродукцию. Он взял закладку своей мамы. Его большой мечтой было самому написать икону, которой поклонялось бы все человечество. И в нашем случае он опять обратился к великому Леонардо да Винчи. Четыре «Моны Лизы» рассказывают отнюдь не о воспроизводимости славы, не о вынужденных повторах в истории искусства, а о том, что дело обстоит ровно наоборот. «Мона Лиза» на нашей картине подобна телеведущей, белые полосы на ее лице как будто мерцают, словно кто-то нажал на кнопку «пауза» во время демонстрации бесконечной ленты, что именуется культурой или историей человечества. И мы понимаем: если все можно растиражировать – всю культуру, весь быт, всю историю, даже «Мону Лизу», то в конце концов остается только один действительно уникальный человек – единственный и неповторимый Энди Уорхол.
Иоганн Лисс. Иоанн Безземельный
Великий кинопродюсер Сэмюэл Голдуин говорил, что «начинать нужно с землетрясения, а потом напряжение должно нарастать».
Попробую так и сделать. Самой лучшей фразой на открытии великолепной художественной галереи в столице Германии будет такая: «Мы, немцы, к сожалению, не способны к живописи».
А единственным способом нарастить напряжение было бы вежливо сказать в качестве второй фразы: «А еще мы, немцы, не умеем произносить торжественные речи», – и все могут отправляться к столам с закусками.
Еще одна возможность нарастить напряжение – сказать вам, что выставка «Тегеранской коллекции» [187] действительно откроется сегодня, как и указано в ваших приглашениях. Но мы знаем, что этому событию помешали вполне реальные потрясения.
Но самое главное, и это отпечатано жирным шрифтом на пригласительных билетах, это должен быть «предрождественский вечер». А что наиболее характерно для предрождественского времени? Ожидание. Или, иными словами, – способность людей раз в году придавать ожиданию некоторый, или даже высший, смысл.
Люди почти забыли об этом в нашей столице бессмысленного ожидания. Все мы ждем столичный роман. Все мы ждем столичный аэропорт. Все мы ждем своей очереди в центре государственных услуг. А вы сейчас ждете, когда же я наконец перейду к делу.Итак: мы, немцы, не способны к живописи. Вот графика – это да, рисовать-то мы всегда умели: Дюрер, Кранах, Гольбейн, это уникальное искусство, Каспар Давид Фридрих или Кирхнер – все они истинные виртуозы линии.
Но все-таки был один человек, так талантливо владевший красками и кистью, как будто он был итальянцем. Или как минимум голландцем.
Родился он примерно в 1597 году (кажется, там, где сейчас Шлезвиг-Гольштейн, там как будто водится немецкий ген живописи, если вспомнить более поздние времена и Эмиля Нольде). Умер он 5 ноября 1631 года – от чумы.
А в промежутке между этими двумя датами он, как говорят, жил, развратничал и пил.
Вы полагаете, это неподходящий персонаж для торжественной речи в предрождественский вечер? Не торопитесь.
Иногда он еще и рисовал, и этому есть, к счастью, подтверждения, а то, что он успевал в эти часы набросать на холст, принадлежит к самым оригинальным и ценным пиршествам красок за всю историю немецкой живописи. Вот это и есть тот угол зрения, который должен был броситься вам в глаза уже на пригласительном билете.
Современники неспроста называли его «Паном». А на самом деле его имя было Иоганн Лисс.
В первый раз слышите? Естественно. Но сегодня это не важно. Моя задача в том, чтобы вы его больше никогда не забыли.
В берлинской картинной галерее есть одна картина Иоганна Лисса – «Экстаз святого Павла». И я хочу ее вам наконец-таки показать.
Итак, Иоганн Лисс – пожалуй, главный художник немецкого барокко (рисовать карандашом он, кстати, совсем не умел). Но можно ли назвать его в принципе немецким художником?
Еще юношей он отправился сначала в Харлем, потом в Амстердам, оттуда через Париж в Венецию и Рим. Потом назад в Венецию. Как владелец билета «Interrail» во времена почтовых карет.
И вот Иоганн Лисс впитывал, как губка, в этих художественных центрах Европы всё, до чего мог дотянуться. В Венеции он уже так напитался, что его самого можно было выжимать – чем активно и занимались Пьяццетта и Тьеполо. Какие-то отголоски дошли и до Германии. А потом конец. О нем все забыли.
Это просто, когда мало знаешь. А мы едва ли знаем о каком-то гениальном художнике меньше, чем о Иоганне Лиссе. Иоахим фон Зандрарт [188], живший с Лиссом в 1629 году в общей съемной квартире в Венеции, оставил нам только одно прилагательное: «непутевый». Он якобы часто бродил днями и ночами по городу, пока у него не кончались деньги, а потом возвращался домой и писал картины как одержимый, без набросков и исправлений. Он рисовал то, что увидел за предшествующие дни и ночи: азартные игры, пирушки, куртизанок. А если он брался за библейскую тему, то предпочитал рисовать сцены из Содома и Гоморры. Такой деятель не получает государственных заказов. Он получает прозвище «Пан».
Но оно подразумевало не только близость к земле и жизнерадостность аркадийского Пастуха, но и художественную виртуозность – Лисс рисовал как юный бог. В своих художественных открытиях он в полной мере использует различные образцы, но переплавляет их и создает новые художественные конструкции.
В искусстве Иоганна Лисса невероятно много телесности. Но эта телесность всегда очень естественная, что нехарактерно для барокко. Его великим наставником был Караваджо. «Венера перед зеркалом» из дворца Поммерсфельден была написана, вероятно, в римский период и, помимо местного колорита, в котором чувствуется влияние Аннибале Карраччи, в ней заметно множество отголосков тех лет, что он провел на севере, произведений Гольциуса и Йорданса, но в первую очередь – Рубенса.
Помимо всех влияний и образцов, эта картина демонстрирует могучую фантазию Лисса. Есть бесчисленные венецианские, римские и нидерландские интерпретации этой темы – красавица в ванной комнате. Но тут художник всё увидел и расставил по-новому. Так рисовать может только тот, кто пишет женское тело с натуры, а не с античных статуй. Игривая чувственность этой работы заставила Вентури [189] предположить, что «Венера перед зеркалом» – работа Буше, то есть французский XVIII век. И только великий Боде узнал в ней Лисса и убедительно атрибутировал картину как его произведение.
Мы прямо-таки чувствуем радость Боде, когда читаем его сообщение, датированное октябрем 1919 года в ежегодном альманахе Прусских собраний искусства о приобретении этой картины Лисса.
Но был ли Лисс действительно немецким художником? Или он был настолько художником, что вынужден был уехать из Германии? У его исследователей есть очень странные идеи на этот счет: например, Курт Штайнбарт [190] в 1940 (!) году попытался «вернуть Рейху» творчество этого художественного гастарбайтера. Он заявил, что «Венера перед зеркалом» являет собой «воплощенный немецкий идеал красоты». Ну…
В последний период своей жизни, за последние пять лет в Венеции, Лисс создал свое лучшее и важнейшее произведение – «Видение святого Иеронима».
В 1628 году он получил единственный в жизни заказ от церкви – алтарь церкви Сан-Никола-да-Толентино. Это огромное изображение «Видения святого Иеронима». Как мы сразу видим, эта картина напрямую связана с нашим «Экстазом святого Павла».
Рюдигер Клесман, знаток творчества Лисса, пишет: картина не только «выдающаяся», она в то время «не имела аналогов, и не только в Венеции». Именно это и называется гением. Посмотрим на «Экстаз святого Павла»: апостол смотрит в простор небес, где музицируют ангелы. Если кто-то хочет узнать, как выглядят «ангелы, ликующие в небесном хоре», то пусть посмотрит на эту картину.
То есть я постепенно подхожу к предрождественской тематике.
Цветовая гамма разворачивается от темно-фиолетового цвета одеяний Павла до зеленого обрамления и нежнейших облачных оттенков – желтого, розового и голубого. Насыщенные и смешанные, теплые и холодные цвета сплетаются в удивительное многоголосие. Свет широким потоком льется слева и сверху, от него загораются все краски, тела выступают на передний план и начинают играть блики. Триумф барочной фантазии форм и красок, предвосхитивший достижения великих Пьяццетты и Тьеполо. Каждой картине Лисса присуща своя собственная динамика, но в этой картине особенно: определенность долго вызревавшего композиционного плана и интенсивность стремительного воплощения. Результат: упоение невиданными, божественными звуками и красками.
Литературной основой изображения было жизнеописание святого Павла («Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление», Деян. 22:17) с некоторой скрытой автобиографической подоплекой: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12:2–6).
Этот человек и был он сам. Поэтому средневековые теологи были убеждены в том, что исступление Павла имело другую природу, чем исступление Петра в Деяниях апостолов. Потому что только Павлу было дозволено узреть непосредственно самого Бога. Павел был единственным, кто заглянул на третье небо, которое находится еще дальше ангелов. И там он увидел Бога-отца, Сына и Святой Дух.
Мы видим экстаз. Ученый отшатнулся, книги падают, ангелы музицируют, а небо раскрывается. Мы как будто слышим эту музыку сфер. Когда мы еще видели такую динамику, такую мощь на такой небольшой картине? Не говоря уже о красках.
А теперь перейдем к моей любимой фигуре на этой картине. Вам пришлось долго ждать, пока я перейду к основной теме. А еще вы долго ждали, пока я употреблю в своем выступлении слово «я» – а я ведь знаю, что на этих предрождественских вечерах полагается говорить как раз таки о своем личном отношении к какому-либо художнику.
Во время подготовки к этому выступлению я осознал, что сам нахожусь в уже довольно почтенном возрасте: если ты видишь в газетном архиве, что твоя первая статья о Иоганне Лиссе вышла в тот год, когда родился опорный полузащитник сборной Германии по футболу, то невольно удивляешься.
Не менее удивительным для меня стало то, что девятнадцать лет спустя после моих первых восторгов от этой берлинской картины я и теперь прихожу в экстаз от работ ее автора.
Получается, что тема картины, о которой мы сегодня говорим, захватила меня и как зрителя. Надеюсь, многие последуют моему примеру!
Лисс был не только великим новатором по части визуальных осей, динамики картины, но и невероятно точным описателем самого процесса смотрения. Как сосредоточенно один из ангелов смотрит на свою скрипку, как потрясенно смотрит в небо Павел, какой шаловливый вид у ангела, который отодвигает занавес и на всякий случай посматривает наверх, чтобы проверить, хорошо ли Павел видит Бога. Вот мы и подошли к моей любимой фигуре на этой картине.
Впечатляет благородство, уникальное для немецкого барокко и не только, с которым написаны перья крыльев на спине этого ангела, но еще сильнее впечатляет виртуозный переход к развевающимся одеждам, написанный так, как будто нет ничего необычного в том, что на спине растут перья, и вот мы, если прислушаемся, сможем услышать шелест развевающейся белой ткани на картине.
Этот ангел выныривает из ниоткуда, из облаков у него за спиной, и парит в пространстве, непостижимый и в то же время очень телесный. Правой рукой он отводит в сторону тяжелый занавес, а ногами, вероятно, опирается на летящее облако. Но больше всего мне нравится этот проверяющий взгляд ангела, который очевидно является тайным режиссером всего действа и проверяет, глядя поверх своего локтя, все ли видно Павлу, он следит, чтобы Иисус и Бог в верхнем левом углу в нужный момент посмотрели вниз, на исступленного Павла. Даже если мы не найдем тому подтверждений у исследователей творчества Лисса, я предположу, что мы имеем дело с автопортретом Лисса – ведь кто же еще, как не сам художник, может быть той фигурой, которая тайно режиссирует происходящее на картине, отводит в сторону занавес и показываем смертным божественное. Я думаю, что на картине мы видим глаза и нос великого Иоганна Лисса.
Теперь никто из вас не сможет сказать, что никогда не слышал имени Иоганна Лисса. Потому что вы с ним даже познакомились лично.
К счастью (тут я полностью доверяю силе его искусства), эта картина так отпечатается у вас в памяти, что вы никогда не забудете Иоганна Лисса. Как опровержение тезиса, что у нас не было великих немецких живописцев.
Раймунд Гирке. Как белизна течет по картинам
Творчество Раймунда Гирке течет через послевоенное немецкое искусство, как широкая, могучая река. Ручей, в середине 50-х взявший начало из камней информализма, уже к концу 50-х пробил себе собственное русло, в котором белое и черное сталкивались, как волны. В начале 60-х в его белизну добавляется блеск, восточно-азиатское мерцание, а потом на пути могучего потока встают первые горизонтали, которые, будто плотины, накапливают энергию. Но эти плотины не могут надолго задержать живопись, сначала строгие линии постепенно размягчаются, и в конце концов все пространство картины растворяется в поверхностях, чистых, как вода. В середине 70-х подул легкий ветерок и на белой поверхности появились завитки, появилась структура, отдельные мазки стали сильнее. Потом добавилась даже синева воды, она втекает в картины, «затапливает» их, как сказал бы сам Гирке. Но это по-прежнему тот же самый поток, который в 1953 году пробился к свету из очень глубокого источника. Он оставался собой и тогда, когда река картин Гирке в конце 80-х и в начале 90-х годов как будто протекала через сумерки, через ночь, и белизна лишь просвечивала из темноты, потом снова принялась танцевать в паре с чернотой, как в 1959–1960 годах. А в конце, когда река впадает в море и соединяется с мировым океаном, она снова стала широкой, мазки кисти начали размываться перед растворением – медитативная живопись, трансцендентный опыт. Белизна – как вода, в ней отражается небо.
* * *
Мы видим, что белизна на протяжении шести десятилетий переживает приливы и отливы в картинах Гирке, она сгущается и растворяется, она буквально течет – в этом и состоит загадка живописи Раймунда Гирке. Или лучше скажем так: одна из загадок.
* * *
Нелегко подобрать слова для того, что рисовал Раймунд Гирке. Потому что он довел до предела не только живопись. В языке тоже не хватает средств для описания того, как Гирке удалось на протяжении всей жизни творить с такой последовательностью и постоянством и при этом никогда не останавливаться и не повторяться. Неисчерпаемые возможности одного и того же. Сам Гирке сказал о себе чрезвычайно важную вещь: его картины должны «излучать покой». И подчеркнул – «не скучный, а напряженный покой». Напряженный покой. В этом ложном парадоксе кроется ключ к искусству Гирке – это такой покой, который знает о беспокойстве. И это такая живопись, которая слишком хороша, чтобы заботиться об успокоении. Нет, она стремится к легкому, сосредоточенному напряжению, которое охватывало тело и руки Раймунда Гирке во время рисования, которое он переносил на холст – и которое передается всякому зрителю, который подходит к картине с открытыми глазами и открытым сердцем. Гирке пишет такие легкие картины, что даже незаметно, как они тяжелы.
* * *
В известной пьесе Ясмины Резы [191] «Искусство» речь идет о белой картине и о том, что она делает с людьми. Как она прожигает дыру в мире. В пьесе говорится о «белой картине с белыми полосами». То есть о картине Гирке. Она демонстрирует нам, как невидимое в картине всё делает видимым – в зрителе. Можно открыться этому. Или убежать. Поэтому искусство Гирке для многих так опасно.
* * *
Последовательность – вот что в первую очередь гордо демонстрирует нам творчество Гирке. Оно ни разу не сбилось с пути. Продолжало движение и благодаря этому всегда возвращалось к своим корням. Он как будто застревал на годы в своем собственном Мальстрёме, но продолжал рисовать. Рисовать белые картины, когда все рисовали разноцветные. Когда все перестали рисовать. Когда все видят мир в черных тонах. Когда болезнь подчиняет себе тело. Когда живопись якобы умерла. Рисовать белым снова и снова, потому что это каждый раз не тот белый, что был вчера. Иногда поражаешься, на что способен белый цвет, если он вышел из-под кисти Раймунда Гирке. «Сила цвета» – так он назвал одну из самых лучших белых картин, потому что чувствовал, что белый – это цвет света, энергии и в конечном счете содержит в себе все остальные цвета.
* * *
Когда мы говорим о живописи Раймунда Гирке, то неизбежно начинаем конкурировать с тончайшим интерпретатором его произведений – с самим Раймундом Гирке. Все, что он сказал с 60-х годов в текстах и стихах о сущности белого цвета и об основном напряжении своих работ, чрезвычайно точно и поэтично. И каждый раз он незаметно возвращается к двум главным источникам силы – «движению» и «покою». Это два полюса его искусства, а между ними на протяжении шести десятилетий разворачивалась целая вселенная полутонов, сближений и ускользаний, отторжения и притяжения, текучих мазков и восточно-азиатской тишины. Ценный опыт, который получает зритель перед картинами Раймунда Гирке, состоит в том, что они увлекают зрителя тем сильнее, чем они тише, и в том, что мы становимся тем тише, чем быстрее и увлеченнее Гирке водит по холсту своей кистью. Вот такой конкретной оказывается в конечном счете магия этой абстрактной живописи.
Петер Рёр. Рецидивист
Он уже лежал в больнице, тогда, зимой 1966/1967 года, ему было двадцать три года, он медленно угасал, отворачивался, прощался с миром. И тут ему позвонил отец, который уже давно не объявлялся, и растеряно спросил, не прислать ли ему апельсинов. «Нет, – ответил Петер Рёр, – не надо присылать апельсинов. Сделай мне лучше металлические панели». Его отец занимался металлообработкой и выполнил просьбу. Привез десять хромированных металлических панелей с обработанными краями, размером 119 × 119 сантиметров, как просил сын. Сын в последнее время стал каким-то странным, он знал это от бывшей жены. Отец хотел выполнить желание сына. И он не догадывался, что оно окажется последним. Когда Петер Рёр вышел из больницы, он знал, что ему осталось жить всего несколько месяцев. Он взял металлические панели и наклеил им на переднюю сторону черные картонки. Так были созданы «Десять черных панелей», кульминация творчества Рёра и, как мы сегодня понимаем, одно из центральных произведений в немецком искусстве после 1945 года.
Панели дважды выставляли при жизни Рёра. В первый раз – на несколько дней в марте 1967-го, в домашней галерее легендарного Адама Зайде [192] во Франкфурте-на-Майне. Чуть позже – еще один короткий показ в «Маленькой галерее» в Швеннингене. Это были последние работы Петера Рёра. В них Рёр «почти достиг состояния дзена», говорит Пауль Менц, его друг, главный наставник и управляющий его наследием. Рёр понимал, что после этих работ больше ничего не будет. Кроме смерти. В начале августа 1968 года он попытался покончить с собой, попытался опередить рак лимфатической железы. Его удалось спасти, но он уже не вышел из больницы. Он умер 15 августа, спустя две недели после своего двадцатичетырехлетия. На серой гранитной плите, закрывающей урну с его прахом на главном франкфуртском кладбище, написано только «Петер Рёр» и даты жизни – «1944» и «1968». Так он сам решил. Он не хотел и после смерти никакой сентиментальности, его позиция не допускала никакого благоговения. Да оно было бы и неуместно. Когда Рёр умер, он был практически никому не известен.
Когда Пауль Менц [193] через несколько дней после смерти Рёра приехал к его матери на Фишбахерштрассе, 8, во франкфуртском районе Галлус, чтобы выполнить свои обязанности управляющего наследием художника, забрать и каталогизировать все его работы, мама, которую сын отучил от проявлений сентиментальности, сказала: «Наконец-то у нас станет попросторнее». Рёр, живший в крайне стесненных условиях, годами использовал мамину кухню в качестве мастерской, работал там за столом ножницами и клеем. Рекламные проспекты, которые он разрезал, приносил ему Пауль Менц, этикетки от посылок он сам приносил с почты, банки из-под молока для него собирала женщина, работавшая в соседнем кафе. В результате за пять лет образовалось огромное количество работ – более шестисот. На самом деле они были созданы за более короткий промежуток времени, потому что после того, как в двадцать два года Рёр тяжело заболел, он практически не мог работать. И несмотря на такую скоротечность, как и у других рано ушедших художников – Карла Филиппа Фора и Франца Горни в XIX веке, Франца Марка, Августа Макке, Ива Кляйна, его творческое наследие оказалось абсолютно завершенным. Еще сильнее, чем огромное количество работ, впечатляет их радикальность: каждая отдельная работа подчинена сериальному принципу. «Торопитесь» – эта почтовая этикетка наклеена на одной из работ Рёра в нескольких десятках экземпляров. И он очень торопится: это был тайный девиз его стремительной жизни, которая находила покой только в художественном творчестве.
Пауль Менц, тогда двадцатичетырехлетний арт-директор в рекламном агентстве «Young & Rubicam», познакомился с двадцатилетним студентом Петером Рёром, когда тот работал в агентстве на жалкой должности курьера, чтобы заработать на жизнь. В течение года они были на «вы» и присматривались друг к другу. Может быть, именно в результате этой дистанции возник тот заостренный взгляд Менца, потому что он признавался в том, что поначалу почти ничего не понимал в работах деятельного, беспокойного и умного студента. «Может быть, вам попробовать хотя бы наклонить какой-нибудь объект?» – спрашивал он Рёра. Но вскоре он почувствовал, сколько смелости кроется в идее монотонности, сколько настойчивости кроется в ее воплощении, сколько в ней силы. И вскоре, по словам Менца, «мы почувствовали созвучность наших беспокойных и амбициозных душ». Интенсивная профессиональная дружба связывала Рёра также с видной художницей и скульптором Шарлоттой Позененске, они вместе боролись за новые формы искусства, за артикуляцию критики общества в духе франкфуртской школы и Адорно. Но жизнь – это одно, а искусство – другое. «Мои картины затрагивают сферы, лежащие вне активности и пассивности», – говорил двадцатилетний Петер Рёр. Невероятная фраза, в ее точности, в ее смелости, но прежде всего в ее истинности. Именно это стремление к абсолютной нейтральности делает его искусство одним из главных источников энергии современного немецкого искусства.
Рёр был одержим своей художественной миссией сериального повтора. Почему? «Потому что я полагаю, что любая вещь обладает осязаемыми свойствами, которые мы редко замечаем. А когда мы видим вещь во множестве экземпляров, друг за другом, или рядом друг с другом, то мы замечаем эти свойства», – говорил Рёр в 1965 году. Чтобы как можно точнее ухватить это чувство, он непрерывно искал новые модули для своих серий. После долгих поисков он обнаружил в центральном немецком офисе IBM во Франкфурте одну из первых электрических пишущих машинок. Ему разрешили пользоваться ей во время обеденных перерывов, он садился и в течении сорока пяти минут печатал одно и то же слово, одни и те же буквы. Когда сотрудники IBM после обеда возвращались к своим пишущим машинкам, они крутили пальцем у виска. Им казалось, что машинка попала в руки к сумасшедшему. Они не догадывались, что Рёр своими сериями букв демонстрировал, что индивидуальность их работы иллюзорна: TTTTTTTTTTTT. NNNNNNNNNN. Или так: WWWWWWWWWW. И только один человек понял Петера Рёра еще при жизни – Хельмут Маасен. Когда Рёр в 1965 году получил в подарок сто рекламных проспектов «Фольксвагена» и воспользовался ими для сериальных коллажей из фотографий задних окон и багажников, он поблагодарил фирму «Фольксваген» и послал ее представителям фотографии своих работ. Сотрудник «Фольксвагена» Маасен, явно эстет, ответил ему 22 апреля 1966 года: «Уважаемый господин Рёр, отлично, господин Рёр! Отлично, господин Рёр! Отлично, господин Рёр!» И так еще сорок два раза.
Для Рёра всегда было важно одно и то же – и повторение этого одного и того же. Принцип монтажа, выстраивания серии из одинаковых элементов может показаться сковывающим фантазию, но для него он был средством освобождения – освобождения от проблем и сложных вопросов формы, композиции, культа гения, творческого духа. Он хотел исчезнуть как художник, ему не нужна была его «подпись» под произведением, которое должно растворяться в ряду форм. Он считал себя кем-то вроде официанта, который подает вещи на подносе, лучше всего квадратном, и потом скромно выходит из помещения.
Итак, Рёр вырезал и наклеивал. Из проспектов, почтовых этикеток. Принципиально важным было промышленное происхождение исходного материала, чтобы избежать любого проявления уникальности. Ее Рёр ненавидел, как чуму, как пафос. «Эстетический предмет тут полностью отрицается – важен только эстетический метод», – так писал о нем Вернер Липперт. «Я меняю материал, повторяя его», – говорил Рёр. То есть он доводит до предела знаменитые слова Вальтера Беньямина о «произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости»: его произведения – не что иное, как воспроизведение технической репродукции. Именно это отличает его от современников – Энди Уорхола, Армана, Дональда Джадда или Карла Андре [194], которые похожим образом приближались к принципу повторения. Но у них еще существовал «художник», стоящий за произведением, индивидуальность, композиция. Рёр даже Уорхола считал романтиком, потому что тот слишком творчески использовал шелкографию, потому что в его методе техника в конечном счете подчинялась живописи. И, разумеется, потому, что Уорхол желал, чтобы его воспринимали как художника. Идеал Рёра – «чтобы автор стал неузнаваемым за невыдуманными работами». Сегодня приходится признать, что этой цели он не достиг.
В своей книжке Беньямина Рёр в 1963 году особенно жирно подчеркнул одну фразу: «Количество перешло в качество». Это его кредо. Нет основных тем, нет никаких метафор, никакой морали и никаких вопросов, нет никаких выводов и, самое главное, нет никакого катарсиса. Глаз зрителя безуспешно ищет хоть какую-то неровность, какой-то смысловой сдвиг, какую-то ошибку. Но работы безупречны. Их поверхностная структура идентична их глубинной структуре. «Я меняю материал, повторяя его без изменений, суть моей работы – поведение материала в зависимости от частоты его повторения». Самоанализ Петера Рёра – такой же фундаментальный и ясный, как его произведения. На каждой его работе, перед каждым его высказыванием должно следовать предупреждение: «Внимание! За этим ничего нет».
Петер Рёр был очень реалистичным, серьезным, упорным человеком, он отказался от службы в армии и избегал скоропалительных выводов. Он покинул и церковную общину, и художественный контекст. «Я не знаю, является ли то, чем я занимаюсь, искусством, – сказал он однажды, – с другой стороны, я не знаю, чем бы это еще могло быть». Рёр был симпатичным, несколько долговязым молодым человеком, густые черные волосы напоминали о болгарских корнях. Он был «революционером», ответившим на близкую смерть радикальной интенсивностью своей жизни. Он работал как сумасшедший, хотя никто не интересовался его творениями. Он был открыт всем влияниям: кино, музыка, литература. Он монтировал коллажи из звука и кинопленки, подчиняя все своему принципу серийности. Просил пилотов «Люфтганзы» привозить ему журналы из Америки. Совместно с Паулем Менцем организовал выставку «Серийные формации» и вместе с ним же открыл во Франкфурте, разогретом студенческими бунтами конца 60-х годов, первый в Германии хэдшоп.
Наряду с Паулем Менцем и Шарлоттой Позененске важную роль в жизни Петера Рёра играл франкфуртский художник Томас Байрле [195]. Байрле в середине 60-х руководил издательством «Gulliver-Presse» и издавал Базона Брока, Франца Мона и Эрнста Яндля [196]. Рёр помогал ему в развозке печатной продукции, он тогда закончил обучение на художника по вывескам, без особого энтузиазма посещал художественно-промышленное училище в Висбадене и постоянно был на мели. Томас Байрле рассказывает, что во время многочасовых поездок на машине они перемывали косточки современному искусству: «Пока средняя полоса монотонно исчезала под колесами нашего „Форда Транзита“, мы говорили о „Флюксусе“ [197], минимал-арте, Дональде Джадде, Соле Левитте [198], Джоне Кейдже…» Уже тогда, говорит Байрле, он воспринимал искусство Рёра так, будто тот «до такой степени сжимает окружающую его „общественную реальность“, что в результате возникает что-то вроде белых или черных отверстий, прямо-таки дыр».
И действительно, в «черной дыре» Рёра тонет еще больше, чем в легендарном «Черном квадрате» Малевича. Потому что Малевич, несмотря на всю редукцию, утверждает своей картиной все ту же веру в творческий акт художника и в значимость отдельной картины. Рёр в своих «Черных панелях» преодолевает и это: не только отдельные части состоят из уже готового материала, но и произведение в целом повторяется десять раз. Концептуальная исходная точка Рёра – объединение одинаковых элементов – достигает своей идеальной кульминации в неизменном повторении идентичных наборов. Подчеркивая, что важны не картины, а выставка в целом, он назвал ее просто «Выставка-выставка». И сорок лет спустя мы говорим: отлично, господин Рёр, отлично, господин Рёр.
Эта выставка-выставка доводит до предела радикальность и пророчества Рёра: это уже не искусство, а художественный процесс – и ничего удивительного, что он сам быстро стал художником-художником. Для каталога и афиши выставки перед произведениями по его просьбе позировали фотомодели, одетые в духе лондонской Карнаби-стрит, а сам он тоже присутствует в кадре, проходит мимо, Пауль Менц тоже стоит там в солнечных очках. И только на заднем плане виднеются черные панели, будто далекая улыбка Малевича. На вернисаже был установлен телевизор, показывавший программу «Beat, Beat, Beat» – «чтобы люди могли наконец с чистой совестью повернуться спиной к моим работам», – говорил Рёр. Модели хлопали своими накрашенными ресницами и танцевали под музыку. Всё это кажется прямой противоположностью строгому художественному методу Рёра, но является его утверждением – ex negativo [199]. «Девушки», объяснял Рёр, «никак не связаны с работами, это высказывание, направленное против благоговейного трепета перед искусством». «Картины как предлог» – так охарактеризовал происходящее Петер Иден [200] в своей умной рецензии для «Frankfurter Rundschau».
Сегодня «Черные панели» висят во франкфуртском музее Штедель, в центральном музее искусства периода после 1945 года, причем не только его родного города. Из предлога они превратились в иконы. Сорок лет развития искусства непрерывно заряжали их. Когда смотришь на них, чувствуешь их взрывную силу.
Мы знаем, что Петер Рёр читал Готфрида Бенна. И мы видим по работам Рёра, что он понял его как мало кто другой. Бенн знал, что Маркс был неправ, утверждая, что история повторяется в виде фарса. Это казалось ему слишком сентиментальным, слишком романтичным. Ибо история, полагал Бенн, повторяется в виде истории. А фарс – в виде фарса. Нет никакого развития. Но это не так уж и плохо. В повторении Бенн видел базовый фон жизни, лишенный какой-либо морали: «Только повторяемость ведет к искусству. Вынужденные повторы, только они дают стиль, только они дают публике ощутить в произведении искусства неизбежное и судьбоносное».
Петер Рёр создал образы этих «вынужденных повторов». Правда, он полагал, что никакой «публики» больше нет, но Бенну было лучше знать. И мне кажется, что восприятие произведений Рёра только подтверждает необходимость повтора для канонизации. Авангардисты, последовавшие за Рёром – поп-арт, минимал-арт, концептуализм, апроприация, – своим повторением метода Петера Рёра сделали уникальным его искусство повторения. Но нам не следует сильно благоговеть перед ним. К сожалению, это желание самого Петера Рёра. Но это будет нелегко для всех, кто увидит тридцать семь работ из этого более чем необычного собрания, которому посвящены этот каталог и эта выставка [201].
Йоханнес Грюцке. Когда музы носят дирндль
Абсурд – его принцип разума. Так тоже можно понимать мир. Или даже только так. Но кто стремится к большому, должен начинать с малого. Лучше всего – с самого себя. «Я рисую человечество, – говорит берлинский художник Йоханнес Грюцке, – а в качестве примера я могу брать себя». Так что его мастерская с самого начала была зеркальным залом. Отовсюду с картин Грюцке улыбалось его же лицо – в виде женщины, ребенка или злого дяди, иногда целых четыре раза на одном холсте: широкое, но заостренное лицо с большим носом под массивными очками, между бледных щек с рыбье-серыми проблесками щетины. Господин Йоханнес Кто-Угодно.
Кажется вполне логичным, что живопись, возникающая исключительно перед зеркалом, обращает себе на пользу соответствующие оптические эффекты: работы Грюцке полны иронических преломлений, искажений, нарциссического самолюбования, гримасничанья. В то же время такая эгоистичная форма труда является продолжением дедовского дела другими средствами: у деда была в Берлине своя зеркальная мануфактура. В детстве Йоханнес Грюцке рисовал в основном грузовики. Когда с 1957 по 1964 год он числился студентом западноберлинской Академии художеств, абстрактные картины у него не получались. А реализм уже тогда был никому не нужен, и он пошел работать на почту, по вечерам играл на скрипке и подрабатывал актером. Он попробовал открыть свой бар в Бонне, но неудачно. Бонн – это же не Берлин. Но попытка создать в Берлине объединение художников тоже в принципе провалилась. Берлин – это же не Веймар.
Художники из группы «Школа нового великолепия», к сожалению, не добились прорыва. Прорвался только Грюцке – вероятно, потому что так много упражнялся перед зеркалом. А еще потому, что учился у старых мастеров.
Удивительно, каким мощным и разнообразным потенциалом обладал реализм в начале 70-х годов в Германии: с одной стороны колоритнейший Грюцке, с другой – мистический Вернер Тюбке [202]. Выставка Грюцке 1974 года, показанная в разных городах, задним числом кажется одним из самых новаторских и креативных явлений за последние тридцать лет. В те времена, когда люди с такой наивностью и энтузиазмом воспитывали в себе общественную солидарность, никто из художников не показал с такой злой откровенностью мучения индивидуума в навязанной ему роли, как Грюцке в своей «Демонстрации» 1968 года, где мы видим группу озлобленных Йоханнесов Грюцке, синхронно марширующих на месте. Двумя годами позже он написал чудесный портрет Вальтера Ульбрихта [203] в виде садового гнома, являвшийся также портретом скукожившейся, обывательской страны, в которой музы носят дирндль, а оскал принимают за улыбку. Творчество Грюцке – один из самых содержательных документов духовной истории ФРГ. Его настенная роспись во франкфуртской церкви Святого Павла виртуозно объединяет несбывшиеся надежды демократов 1848 года с тусклой аполитичностью конца XX века. И совершенно абсурдным было решение отказаться от картин Грюцке на большой берлинской выставке «Образы Германии».
Поэтому теперь это задача ретроспективы в аахенском «Людвиг-Форуме» – напомнить о значении Грюцке, этого талантливого уленшпигеля. Его шедевры первой половины 70-х годов, тонкие по содержанию и изощренные по композиции, опять покажут нам здесь свое «затягивающее» действие, которому автор научился у Караваджо и Йорданса. На картинах Грюцке все наше общество видит себя в зеркале, видит свои позы, мимику и жесты, которые художник ухватил так точно и хладнокровно, как ковбой захватывает корову своей веревкой. Важная тема Грюцке – давление группы и механизмы обольщения. В конце 70-х годов он изгоняет со своих полотен скабрезность и начинает громоздить голые тела, как слои в торте «Наполеон», но эти тела всё равно выглядят тщательно вылизанными. Только в 80-е годы его почерк становится более резким, грубым, лихим; это последствия работы над декорациями для Петера Цадека [204]. Его стиль становится таким открытым, что вся тонкость начинает исчезать. Грюцке в этом, конечно, не виноват. Он ведь пришел в этот мир для того, чтобы «документировать человечество», вот он и документирует тот факт, что эстетику едва ли возможно поставить на ноги, когда человечество думает, что сорвалось с катушек.
Гюнтер Фрутрунк. Эго должно присутствовать на картине
Нет ничего более неотразимого, чем искусство, время которого пришло. Сейчас пришло время Гюнтера Фрутрунка. Почему?
Когда он умер в 1982 году, художественный мир, очарованный «Новыми дикими», итальянским трансавангардом и наслаждавшийся моментом, принял эту смерть к сведению, пожимая плечами. Когда десять лет спустя Национальная галерея в Берлине и Дом Ленбаха в Мюнхене устроили ретроспективу по случаю его семидесятилетия, она прошла практически незамеченной. Никакого отклика, нигде. Казалось, что наступила эпоха, наконец-то преодолевшая Фрутрунка. Десятки лет он был обязательной частью программы эстетического возрождения ФРГ, его воспевал в своей конкретной поэзии Ойген Гомрингер [205], его интерпретировал Макс Имдаль [206], он дружил с Юргеном Хабермасом, о нем восторженно писал еженедельник «Die Zeit». Его полоски усеяли всю страну – особенно в виде многочисленных графических работ и украшения архитектурных проектов. Идеальное воплощение стиля издательства «Suhrkamp» – таким мы видим Фрутрунка на фотографии, сделанной в его мастерской: он уверен в себе и самокритичен, одет во все черное, за спиной у него хаос, а на столе перед ним предметы складываются в абстрактный узор. Когда журнал «Stern» в 1981 году напечатал карикатуру на канцлера Гельмута Шмидта, на стене в домике канцлера неожиданно вместо Нольде оказалась работа Фрутрунка. А тот факт, что в конце 70-х годов федеральное правительство в качестве официального подарка решило украсить фойе совета безопасности ООН в Нью-Йорке характерными полосками Фрутрунка, ясно свидетельствует о его неофициальном статусе государственного художника социально-либеральной ФРГ.
В какой степени Фрутрунк на протяжении всей жизни служил кем-то вроде оформителя Боннской республики, выяснилось уже на ретроспективе в 1993 году, в аннотации к которой мы читаем: «Своим творчеством он пытается восполнить лакуны, оставшиеся после национал-социализма». Воистину! Если и было искусство, программно отражавшее картину мира поколения 68-го года, то это был именно он: преодоление национал-социализма через абстракцию (наверное, так нужно), улучшение мира с помощью просвещенного искусства, жесткие краски против размягченных душ. Типичные семидесятые!
А теперь? Теперь Фрутрунка открывают для себя те, кто родились тогда, в конце 70-х, в начале 80-х. Его искусство как будто освободилось от идеологических оков и с явным облегчением готово вернуться к нам в виде масла на холсте. И встретить публику, которая после десяти лет увлечения немецкой группой «Zero» и послевоенным итальянским авангардом теперь по-другому воспринимает его работы. Например, Нора Гомрингер [207], молодая лауреатка премии Ингеборг Бахман, выросшая в окружении конкретного искусства из собрания своего отца, так пишет о красно-зеленой картине Фрутрунка из собственной кухни: «Если все остальные картины давно „осыпались“, то эта сохранила свою силу, свою тайну, потому что она высказывается не только в пространстве, но и во времени». Возможно, фигура Гюнтера Фрутрунка осталась в ФРГ, но его искусство вдруг стало частью нашего времени. А то время для него не созрело. Мы тогда еще не созрели. Сейчас – другое дело. Что Удо Киттельман [208] в Берлинской национальной галерее, что Хильке Вагнер [209] в дрезденском Альбертинуме – все восторженно достают из запасников картины Фрутрунка. И Макс Холляйн [210] говорит: «Я большой поклонник Фрутрунка». В 2017 году Петер Кирхгоф выпустил в издательстве «Deutscher Kunstverlag» каталог печатной графики, а Зильке Райтер – каталог его картин в издательстве «Hirmer». Через немецкие аукционные дома «Lempertz, Karl & Faber» и «Ketterer» на рынок вышли несколько значительных картин Фрутрунка – яркий индикатор смены вкусов. В их числе была работа из серии Фрутрунка «Hommages à Duccio», кватроченто, редуцированное до красного и лилового, экстракт из истории искусства, потрясающая вещь.
Но что же именно нас потрясает? Что делает эти полоски, эти яркие цвета, эту контрастность такими особенными? Если вы любите теоретизировать, то я скажу так: картины Фрутрунка призывают нас считать свое восприятие процессом и непрерывно пересматривать увиденное. Это похоже на «Тексты об искусстве»? Да. Тогда так: «Эго должно присутствовать на картине», так Фрутрунк сформулировал требование к самому себе. Но его публика давно поняла, что и ее туда тоже затягивают. Это делает его искусство таким безумно тяжелым. А еще делает его искусство таким невероятно устойчивым. Потому что оно содержит в себе субстанцию для длительного интереса. Потому что оно непрерывно провоцирует. И нет ничего страшного в том, что какому-то поколению приходится подождать, пока время не созреет, не дорастет до его искусства. Это удивительно, говорит мюнхенский галерист Вальтер Штормс, с 2013 года управляющий наследием Фрутрунка, как стремительно следующее поколение открывает для себя этого художника.
«Эго», которое должно было попасть на картины, мало кому знакомо – в том числе и потому, что сам Фрутрунк предпочитал его прятать. Он не посещал свои же вернисажи, для него были невыносимы хвалебные речи в его честь. Фрутрунк пытался полностью раствориться в своей живописи. Если не получается заслонить свое «Я» произведением, то он закрывается руками от взгляда фотографа. На знаменитой черно-белой фотографии вспышка ярче всего осветила именно его руку, за которой видны только фрагменты лица – защитный рефлекс как подлинный портрет художника. Его кредо: «Если хочешь хорошо сделать свою работу, убери свое эго». А это опасно для жизни, ведь что будет, если художник не справится со своей задачей? Что будет, если художнику нужно не только реализовываться в своих работах, как утверждал почитаемый Фрутрунком Андре Жид, но и жертвовать собой ради искусства? Будет вот что: 12 декабря 1982 года Гюнтер Фрутрунк покончил с собой в своей мастерской, в Мюнхенской академии художеств. По легенде он ел ядовитую краску. На мольберте осталась стоять картина «Фундамент чувств». Фрутрунк принес себя в жертву на алтарь искусства.
Так закончилась жизнь этого художника: человек потерял свой фундамент. Все его картины вибрируют, потому что в них вписана эта страстная борьба против неудач.
Он родился в 1923 году на улице Счастья (Glückstraße), что оказалось скорее насмешкой: его родители рано расстались, потом он участвовал во Второй мировой войне в Финляндии, на полярном фронте. Там его душа пережила немало обморожений, а тело получило немало ран. Маленький шрам на руке напоминает об агрессивной овчарке, а большой, на голове – об обезумевшем мире. В перерывах между боями Фрутрунк писал акварели. Льдины на воде, первая зелень, искусство как жадное желание выжить.
И после войны он хочет просто жить – но продолжается бесконечная битва на полярном фронте. Он нашел свое место в Париже 50-х годов, там он в 1954 году написал «Памятник Малевичу». Первое произведение, которое пощадил его безжалостный взгляд. Художник, желавший поставить финальную точку, стал для Фрутрунка источником нового начала. В Париже он работал ассистентом Жана Арпа и пытался привести в движение геометрические формы на своих картинах. Арп говорил, что волшебное парение кругов и прямоугольников на картинах Фрутрунка показывало «опьянение и экстаз Ницше». Отметим: в живописи Фрутрунка уже довольно рано находила выражение литература, так же как и музыка – например, Иоганна Себастьяна Баха. Ева-Мария Фрутрунк, первая жена художника, рассказывает о том времени у Арпа: она помогала Арпу во всех письменных хлопотах, а Фрутрунк вырезал для него формы, из которых одряхлевший художник составлял свои грациозные коллажи. Фрутрунк считал Арпа примером «ясности, пронизанной глубокой искренностью», рассказывает Ева-Мария Фрутрунк, а еще ему нравилось в Арпе его сочетание «точности и терпения».
С начала 60-х годов формы на его картинах начали располагаться в таком порядке, как будто над ними находится большой магнит. Черные металлические опилки собираются в блестящие вертикальные структуры, нет больше ни переднего плана, ни заднего. Как будто опустились диагональные жалюзи. Если навострить уши, то еще можно услышать отзвук. Например, на маленькой желто-черной картине «Без названия» 1963 года, которая стала для Мартина Энглера, куратора послевоенного искусства во франкфуртском Штеделевском музее, одним из первых приобретений. Он с воодушевлением говорит о том, как Фрутрунк заставляет картину двигаться, как он одним из первых в Европе «позволил композиции определять форму картины, вырываться из рамы». Это фактически живопись фигурного холста (shaped canvas), которую мы знаем по работам того же периода Эллсворта Келли или Фрэнка Стеллы [211]. Фрутрунк продолжал развивать свои диагональные структуры, желтый цвет остался главным внешним фактором, вместе с прочими яркими, несмешанными цветами, совершенно нехарактерными для живописи того времени. 1968-й стал для него годом международного прорыва, его работы демонстрировались на «documenta 4» и на биеннале в Венеции – а немногим позже, в конце 60-х – начале 70-х Фрутрунк окончательно нашел свой почерк, неподвластный времени: яркие картины с полосами, параллелями, перпендикулярами и диагоналями, полные невероятного напряжения между конструктивностью и экспрессивностью. Скорее всего, работы Фрутрунка сегодня так актуальны для нас потому, что в них горит совсем другой огонь, чем во многих сухих произведениях геометрического искусства. Это продолжение немецкого экспрессионизма в новой форме: цвет как чистая экзистенция. Кричащие оттенки розового и зеленого от Эрнста Людвига Кирхнера, теплые тона красного и черные контуры художников группы «Мост» превращаются у Фрутрунка в дистиллят.
Эго должно присутствовать на картине, и напряжение, которое мы чувствуем на больших и маленьких картинах, – это напряжение художника. Это разорванный образ самого себя, части которого слеплены друг с другом, как цветовые дорожки на его картинах. Он был красивым и сильным человеком, носил строгую темную одежду. Укрощенная страсть, взрывное присутствие, «аскеза» – но как он сам признавался, «только в художественной форме». Как личность он был так же непрост, как и любая из его картин. Вегетарианец и запойный читатель. У него было целых три набора полного собрания «карманной» серии издательства «Suhrkamp»: один в мастерской в Периньи-сюр-Йер под Парижем, второй в Академии и третий в его мюнхенской квартире на Хартхаузерштрассе, 85. Его разрывало то надвое, то натрое. Он, как идеальный демократ, стал автором дизайна пакетов сети супермаркетов «Альди-Норд», а потом всю жизнь ненавидел себя за это. Он любил, когда время в его мастерской замирало, любил и гонять на своей «Альфа-Ромео» из Мюнхена в Периньи-сюр-Йер, добираясь за рекордное время и заклеив спидометр пластырем. Он слушал Баха – но на оглушительной громкости. В нем была «агрессивная страсть к формальностям» и «формализованная страстность», по выражению Дитера Хониша [212]. Он выезжал на шоссе на рассвете, мчался в сторону Зальцбурга, потом вдруг сворачивал с шоссе где-то в Верхней Баварии, чтобы набрать на поле снега, чистого белого снега, который он потом дома растапливал и заваривал чайник особенного чая. Вечная жизнь на полярном фронте. Абсолютное безумие. Абсолютная последовательность.
Все картины Фрутрунка живут благодаря напряжению между конструктивностью и экспрессивностью. И если на лицевой стороне холста он еще как-то контролировал краски и фиксировал их слоями и сочетаниями, то на обратной стороне у него зачастую наблюдается настоящий катаклизм. Это не подписи, а взрывающиеся буквы. Извержения, длящиеся, пока на кисти остается краска. Название картины и обозначение, где у нее верх, а где низ, тоже скорее набросаны на поверхность, а не написаны. Как будто автор сам больше не понимает, где верх, а где низ, и приходится кричать. Это чистый экспрессионизм – наляпать сокращение своего имени «FTK» кистью, которая вулканоподобно пытается сбросить с себя недели художественной дисциплины. «Эго должно присутствовать на картине» – хотя бы на оборотной стороне. Потому что только так, через соединение того, что спереди, и того, что сзади, то есть обращенности к миру и сосредоточения на себе, может возникнуть настоящее искусство. Поэтому тот, кто смотрит на лицевую сторону, всегда чувствует эту бешеную вибрацию обратной стороны, даже если никогда не заглядывает назад. Да и лицевая сторона впечатляет в полной мере: ледяные комбинации красок, которые вообще-то не ладят друг с другом и борются за доминирование на картине, а между ними всегда черный – величественный, загадочный, властный, агрессивный, грозный. Фрутрунк как никто другой знает, какие цвета конфликтуют друг с другом. И он чувствует внутреннюю потребность воплощать в живописи раны, возникающие в результате этих конфликтов. Он заключает цвета в черные или синие, тонкие или толстые линии, он как будто отправляет их за решетку, поэтому энергия конфликтов навечно остается на картине. И стоит лишнюю секунду посмотреть на картину, как эта энергия передается зрителю. «Мои картины, – говорил Фрутрунк, – это прыжок, зов, покой, напряжение и критика всего этого».
Разумеется, Фрутрунк, этот экзистенциальный пессимист, всё видел и рисовал в черном цвете – наверное, после 1945 года не было художника, не считая великого Эда Рейнхардта [213], с такой страстью посвятившего себя черному цвету. Он сделал черный цвет равнодушным пеплом, рассказывающим об угасших надеждах. А с помощью блестящего лака Фрутрунк превращал его в поле, на котором растет будущее, потому что слева и справа от цветных полос он провел тонкие красные или синие линии, оживляющие темноту. Приятно наблюдать за тем, как тонко он работает с цветом. Черный цвет, который в экспрессионизме и у Бекмана вернулся в живопись как линия контура, стал у Фрутрунка само собой разумеющимся и послушным, почти благовоспитанным. Потому что он, получивший во время Второй мировой войны в Финляндии тяжелое ранение в голову, которое всю жизнь не давало ему забыть о черноте, прекрасно знал, что значит бороться с темными силами.
Разумеется, мы смотрим на творчество Фрутрунка с конца, с его самоубийства в 1982 году. Разумеется, в его живописных и графических работах нам бросается в глаза радикальность, с которой он относился к себе. Безжалостность по отношению к себе и к своим полотнам. А еще – поиски красоты в нейтральности, гармонии в дисгармонии, эмоций в холодильнике. За строгостью у Фрутрунка всегда горит огонь. Художник и сам часто с помощью двусмысленности заставлял вибрировать названия своих работ: «Элементарное противопоставление», так называется одна из ранних картин, «Разделяющий белый» – другая, или, например, «Эмоция», «Кратко», «Переворот», «Страсть». «Токсично» – слово из названия еще одной его картины. Фрутрунку иногда приходилось неделями бороться с картиной, чтобы получить то слово, которое потом вечно будет сопровождать ее, как эхо.
Все творчество Фрутрунка пронизано стремлением к контролю. Решающими для него стали переживания и ранения, полученные на Второй мировой войне, хаос, внезапные разрывы снарядов и неисповедимые пути судьбы. Этому опыту он противопоставляет свое искусство. В своих произведениях он хочет «обойтись без природных законов случайности». С помощью терпения. Точности. Самодисциплины. Это невыполнимая задача – но можно ведь попытаться. А если ты большой художник, как Гюнтер Фрутрунк, то можно перенести эти попытки на картину в виде напряженного покоя. Он постоянно цитировал слова Гегеля о «скорби из-за потери себя». В этой теме он был знаток. «Иллюзия причины» – так называется его картина, хранящаяся в дрезденском Альбертинуме и написанная в 1980 году, на ней цвета начинают растворяться, а контуры расщепляются. Почти жутко наблюдать, как художник теряет контроль над своим творчеством (и своей жизнью). В 1981 году он написал «Орфея»: несколько тонких линий пытаются дать глазу опору, они будто призваны предотвратить падение в бездну. Позднее, в 1982 году, в год его смерти, появилась работа с экзистенциалистским названием «Картина» – мы видим только две красных полосы, вторгающихся справа в центр пространства картины, подобно гильотине. Пугающе красиво: живопись как хроника объявленной смерти.
Разумеется, эта чрезвычайно строгая и последовательная эстетика не имеет ничего общего с эффектами оп-арта или с жесткой, бездушной строгостью конструктивистских программ, с которыми часто сравнивают Фрутрунка. У него постоянно присутствует видимость регулярности, стабильности – но они нужны именно для того, чтобы исчезнуть при ближайшем рассмотрении. Невозможно расшифровать принципы композиции в его работах, их логика всякий раз оказывается ложной, а порядок – иллюзией. Каждое отдельное произведение реализует ту самую «невозможность защищенности», которую художник однажды назвал своим эстетическим и этическим фундаментом. А мы? Нас тоже качает. Мы смотрим на эти картины и испытываем восхищение, удивление, недоумение, потрясение – но все это в ясном сознании. Что же заставляет вибрировать этот холст? Как ему пришло в голову дать такой розовый рядом с таким желтым? Каким образом это наслоение красок, которое когда-то казалось таким громким, будто нанесенным на холст с помощью бензопилы, стало вдруг таким тихим и благородным? The answer, my friend, is blowin’ in the wind [214].
Когда Юрген Хабермас выступал со своей речью «Модерн – незавершенный проект», он постоянно вспоминал о картинах Гюнтера Фрутрунка. Может быть, потребовалось дождаться нового поколения зрителей, чтобы завершить модернистскую миссию этих картин, освободить их от временных рамок, от идеологического давления 70-х и 80-х годов. Как это всегда бывает со значительными произведениями, самое главное – смотреть на них. А когда мы смотрим на картину Фрутрунка, то мы можем посмотреть на себя смотрящих. Разве этого недостаточно?
Кристоф Шлингензиф. Покажи свои раны. Воспоминания об удивительном человеке
«Теперь мне смешно вспоминать, что когда-то я отскабливал с тоста подгоревший слой или отрезал и выбрасывал кусок сыра из-за зеленого пятнышка плесени», – такое SMS написал Кристоф Шлингензиф в 1:57 ночи 31 января 2010 года, когда узнал о новых метастазах в своем теле. «Во мне есть тяжелый ком, на который я иногда кричу от тоски. А сейчас демон снова встал у меня на пути». Сегодня, спустя семь месяцев, демон окончательно перекрыл все пути возврата к жизни. Кристоф Шлингензиф умер.
Не знаю, можно ли цитировать SMS только что скончавшегося человека. Если чьи-то все-таки можно, то в первую очередь Кристофа Шлингензифа, который был воплощением отмены границ между частным и публичным, между театральным и реальным, он использовал свои рентгеновские снимки в качестве декораций к своим спектаклям, а содержанием спектаклей становились его душераздирающие телефонные разговоры с отцом. Он пытался достучаться до публики именно рассказами о собственном экзистенциальном опыте. «Покажи свою рану» – это цитата из Йозефа Бойса [215], которую Шлингензиф любил больше всего. На самом деле все его звонки, все сообщения, которые расходились по непрерывно растущему кругу его друзей и знакомых, представляли собой демонстрацию его ран, его страхов, его страданий. Каждый раз это были маленькие пьесы, идущие от сердца, премьеры которых состоялись задолго до того, как три года назад он узнал свой диагноз – рак. Эти пьесы были моноспектаклями. Монологами. Но в них было столько сердечного тепла, столько глубочайшего, иногда нежного юмора, что за нарциссизмом Шлингензифа чувствовался гуманист и даже моралист. «Раньше, – сказал он недавно, – я думал, что надо объяснять людям, будто стремление к счастью – это обман. А теперь я считаю, что пусть они лучше сознательно обманываются».
Он по-настоящему гордился тем, что был режиссером в Байройте, входил в жюри на «Берлинале», а в следующем году должен был оформлять немецкий павильон в Венеции. Он понял, что его любовь-ненависть к своей стране и ее культуре удивительным образом не осталась безответной, что его соль на раны и срывание масок теперь кажутся людям не дешевой провокацией, а горячим стремлением к истине.
Его издевки были адресованы западным европейцам с их заржавевшими антеннами.
Когда я в 1999 году в Берлине познакомился с Кристофом Шлингензифом, мы вместе придумали для него колонку «Реанимация» в «Берлинских страницах» газеты «Frankfurter Allgemeine». Именно такое название показалось мне соответствующим его необычайно интенсивному образу жизни. Мы вспоминали об этом проекте потом, когда реанимация из метафоры стала частью его реальной жизни, и он сказал, что уже тогда, когда он согласился ставить в Байройте «Парсифаля», он знал, что это приведет к раку. В такие секунды его удивительные глаза по-особому блестели, вероятно, слезы от смеха смешивались в них со слезами отчаяния. Но мы непременно должны запомнить Кристофа Шлингензифа как человека, который умел смеяться. Который приходил в ступор и смеялся над самолюбованием людей вроде Мишеля Фридмана [216] в легендарной телепрограмме «Сегодня ночью с…» («Durch die Nacht mit…»); который по-детски шаловливо хихикал, когда уехал на «Веспе» от древнего Вольфганга Вагнера, главного оперного режиссера в Байройте; который мог выдерживать собственные отчаянные монологи только с добавлением таких абсурдных шуточек, что окна в реальность снова широко распахивались.
На протяжении всей жизни он был невероятно скромным, гигантскими были только его художественные амбиции. Он был одержим работой, он работал ночами, погружался в тексты, проблемы, партитуры, движимый страстью к труду и к самореализации, всегда открытый новому. «Мы, жители Западной Европы с нашими ржавыми антеннами», – саркастично шутил Шлингензиф, когда говорил о нашей недостаточной чувствительности к глубинным энергиям и силам. Себя-то он мог и не иметь в виду – он впитывал все эмоции, импульсы, позитивную и негативную энергию без всяких фильтров, пока не перегорел. Да, он всегда был тепловой электростанцией: он производил энергию и излучал тепло. Отрицательные рецензии на его постановки, особенно упреки в недостаточной серьезности, глубоко ранили его.
Кристоф Шлингензиф не мог остановиться в своем поглощении мира, он пробовал его на вкус и пробовал себя на разных сценах: здесь – театр, в Африке – оперная деревня, еще группа взаимопомощи больных раком в интернете, работа над автобиографией… Он до последнего момента пытался одолеть ракового демона своей безумной активностью; и только его фантастической жене в последние годы иногда удавалось мягко, но уверенно останавливать бег этого сумасбродного, но великого художника, приводить в гостиницу и кормить макаронами.
Кристоф Мария Шлингензиф, таково было его полное имя, был глубоко религиозным человеком. Его дневник, в котором он описывал свою борьбу с раком, называется «Так хорошо, как здесь, на небесах, просто не может быть!», и в нем мы видим спор автора с Богом, поиски божественного мастер-плана. Опыт болезни усилил его старое стремление к честной, более человечной католической церкви, которая относилась бы к неудаче как к возможности. Он послал свою книгу римскому папе Бенедикту и надеялся убедить его снять Марию с постамента, чтобы она стала ближе людям, чтобы ей можно было молиться. К сожалению, он не получил ответа от представителя Бога на земле. Но теперь он сможет на небесах обратиться напрямую.
Кристоф Шлингензиф всегда следовал четвертой заповеди: почитай отца твоего и мать твою. Когда у него была подруга в альпийской деревне в Южном Тироле и он хотел познакомить ее родителей со своими родителями, которые жили в Оберхаузене и были оба вынуждены передвигаться на креслах-колясках, то он на последние деньги заказал вертолет, который доставил их в горную деревню. А когда в 2000 году в специфической программе канала MTV «U 3000» он несколько раз раздевался догола перед камерами в метро, через несколько дней после съемок программы он позвонил мне. Сказал, что ему неловко просить меня об одолжении, но для него это жизненно важно. Я тогда работал во «Frankfurter Allgemeine», а его отец сорок лет был подписчиком этой газеты, и он попросил меня позвонить из моего офиса в Оберхаузен, его отцу Херману Йозефу, и сказать ему, что это все искусство. Чтобы отец мог и дальше гордиться им. Кто бы мог подумать, что это будет главной заботой человека, которого считали главным немецким провокатором.
Знакомство с Кристофом Шлингензифом было настоящим счастьем. Поэтому я так рад, что к этому чувству в прошлом декабре приобщилась вся редакция еженедельника «Die Zeit». Мы пригласили его редактировать специальный выпуск «Die Zeit», который дал бы старт его проекту «оперной деревни» в Африке. Он провел в гамбургской редакции неделю, и первым результатом его пребывания стал очень оригинальный спецвыпуск газеты. Вторым же результатом стала его аура, которая за неделю распространилась из комнаты на шестом этаже по всему зданию – через коридоры, через людей, с которыми он контактировал. Шлингензиф часами сидел за компьютером, чтобы поменять крошечную деталь, которая ему не нравилась, параллельно говорил по телефону с Патти Смит, спорил с редакторами и верстальщиками. Этот революционер был еще и перфекционистом. А если он хотел передохнуть, то шел в магазин электроники «Сатурн» на Мёнкебергштрассе и покупал там новый фотоаппарат, новый диктофон или новый провод. Главное, чтобы это было устройство, которое помогло бы ему еще глубже, еще лучше узнать себя и мир. И потом работа продолжалась, с высочайшей интенсивностью, концентрацией, уважением и теплотой к другим людям. В конце недели, когда мы хотели поблагодарить его, оказалось, что это он принес для всех нас подарки. А поздно вечером, когда проект был завершен, он с искорками в глазах нарисовал маркером на солидной серебряной вывеске «Die Zeit» у входа веселых человечков. А потом пропал в ночи.
После смерти Кристофа Шлингензифа в прошлую субботу в немецкой культуре стало холоднее. А тот, кто сочтет эту фразу слишком патетичной, тот просто не был лично знаком с Кристофом Шлингензифом.
Примечания
1
Ханс Бельтинг (род. 1935) – немецкий историк искусства, антрополог, специалист по теории коммуникации. – Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Вольфганг Ульрих (род. 1967) – немецкий историк искусства.
(обратно)3
Ганс фон Маре (1837–1887) – немецкий художник-символист.
(обратно)4
Христианский миссионер Бонифаций срубил священное для германцев дерево – Дуб Донара (Дуб Тора). Присутствовавшие при этом язычники ожидали гнева своего бога, но напрасно. Они были поражены тем, как легко пала их святыня.
(обратно)5
Мартин Варнке (род. 1937) – немецкий историк искусства.
(обратно)6
Ансельм Фейербах (1829–1880), Вильгельм Лейбль (1844–1900), Ханс Тома (1939–1924) – немецкие художники.
(обратно)7
Elson, Simon. Der Kunstkenner Max J. Friedländer. Biografische Skizzen. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2015.
(обратно)8
Вильгельм фон Боде (1845–1929) – немецкий историк искусства, основатель берлинского Музея императора Фридриха (ныне Музей Боде).
(обратно)9
Алоиз Гаузер (1831–1909) – немецкий реставратор, живописец.
(обратно)10
Адольф фон Менцель (1815–1905) – немецкий художник; речь идет, вероятно, все-таки о раннем Менцеле, авторе исторических полотен в духе романтизма.
(обратно)11
Непременное условие (лат.).
(обратно)12
Ян Госсарт (по прозвищу Мабюзе; 1479–1541) – нидерландский живописец, график.
(обратно)13
Гюнтер Буш (1917–2009) – немецкий историк искусства, директор Бременской картинной галереи (1945–1984).
(обратно)14
Бернард Беренсон (1865–1959) – американский историк искусства, художественный критик, специалист по итальянскому Ренессансу.
(обратно)15
«Набросок к автопортрету» (англ.).
(обратно)16
«Похороны (Посвящение Оскару Паницце)» (1917–1918).
(обратно)17
Вальтер Ратенау (1867–1922) – министр иностранных дел Германии (с 1 февраля по 24 июня 1922 года); сын промышленника.
(обратно)18
Рихард Демель (1863–1920) – немецкий поэт, писатель; сын лесника.
(обратно)19
«Союз Спартака» – революционная марксистская организация, участвовавшая в организации Январского восстания в Берлине (5–12 января 1919 года). Роза Люксембург была одной из основателей «Союза Спартака».
(обратно)20
Допрос Розы Люксембург проводился в гостинице «Эден», откуда она была конвоирована в тюрьму Моабит, по дороге ее посадили на катер, застрелили и бросили в Ландвер-канал.
(обратно)21
Рут Сен-Дени (настоящая фамилия Деннис; 1879–1968) – американская танцовщица, хореограф.
(обратно)22
Людвиг фон Гофман (1861–1945) – немецкий художник, график, дизайнер.
(обратно)23
Жозефина Бейкер (1906–1975) – американская танцовщица, певица, актриса.
(обратно)24
«Masse Mensch» – драма Эрнста Толлера 1919 года.
(обратно)25
Спокойствие (франц.).
(обратно)26
«Заказчики и художники» (англ.).
(обратно)27
«Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien: das Altarbild, das Porträt in der Malerei, die Sammler» (1898).
(обратно)28
«Повторные открытия в искусстве» (англ.).
(обратно)29
Николас Пенни (род. 1949) – английский историк искусства, куратор.
(обратно)30
Николаус Певзнер (1902–1983) – английский историк архитектуры.
(обратно)31
Статья написана в апреле 1998 года для «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
(обратно)32
Городок, примыкавший к Берлину и впоследствии поглощенный им.
(обратно)33
Scheffler, Karl. Berlin, ein Stadtschicksal. [1910]. Berlin: Suhrkamp, 2015.
(обратно)34
Районы Берлина.
(обратно)35
Давид Гугерли (род. 1961) – швейцарский историк, специалист по истории технологий.
(обратно)36
Удо Линденберг (род. 1946) – немецкий рок-певец, писатель, художник.
(обратно)37
«Pack die Badehose ein», песня Конни Фробёсс (1951).
(обратно)38
Карл Фридрих Шинкель (1781–1841) – немецкий архитектор, художник.
(обратно)39
Бото Штраус (род. 1944) – немецкий драматург, прозаик, эссеист.
(обратно)40
«Час ноль» – период после 8 мая 1945 года в Германии и Австрии, начало послевоенной эпохи.
(обратно)41
Статья написана в ноябре 2009 года для «Die Zeit».
(обратно)42
Астрид Гельхоф-Клес (1928–1911) – немецкая писательница, поэтесса.
(обратно)43
Статья написана в апреле 2002 года для швейцарской «Sonntagszeitung».
(обратно)44
«Природа хочет создавать свои вишни; / даже если в апреле так мало цветов, / она откладывает свои семена / до лучших времен. / Никто не знает, чем питаются ростки / и зацветет ли когда-нибудь крона, – / терпение, ожидание, становление / темным, старым, постлюдией» (нем.).
(обратно)45
«Поднимись из ряда женщин, / что цветут по всей стране, / ты выделяешься, ты освящена, / как призванная к любовному огню» (нем.).
(обратно)46
«Кто упивается тобою и кто познал тебя / в твоей вечности из желания и печали – / ты что же, ждешь бога? Жди меня» (нем.).
(обратно)47
«Нёбный персиковый сок» («Gaumenpfirsichsaft») – цитата из стихотворения Бенна «Das sind doch Menschen» («Это же люди»).
(обратно)48
Имеется в виду фамилия писательницы, литературного критика и телеведущей Эльке Хайденрайх (буквально «Языческое царство»).
(обратно)49
Прошлое, которое наступит (англ.).
(обратно)50
Текст написан для каталога выставки Базелица в парижской Галерее Тадеуша Ропака.
(обратно)51
Фердинанд фон Райски (1806–1890) – немецкий художник-портретист, график.
(обратно)52
Ловис Коринт (1859–1925) – немецкий художник, график.
(обратно)53
«Коробка в чемодане» (франц.).
(обратно)54
Йозеф Антон Кох (1768–1839), Генрих Рейнгольд (1788–1825), Франц Хорни (1798–1824) – немецкие художники-романтики.
(обратно)55
Отсылка к строке из «Песни Миньоны» Гёте: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?» («Ты знаешь ли край, где лимоны цветут?»).
(обратно)56
«Дыхание слона» (англ.).
(обратно)57
Генрих Бюркель (1802–1869), Альберт Венус (1842–1871), Александр Канольдт (1881–1939) – немецкие художники.
(обратно)58
Это высказывание принадлежит другому немецкому художнику, писавшему Олевано, Людвигу Рихтеру (1803–1884).
(обратно)59
Георг Ширмер (1816–1880), Фридрих Преллер (1804–1878), Александр Канольдт (1881–1939) – немецкие художники.
(обратно)60
Рольф Дитер Бринкман (1940–1975) – немецкий поэт, писатель, переводчик, издатель; ниже речь идет о его книге «Rom, Blicke» (Reinbek: Rowohlt, 1979).
(обратно)61
Немцы (итал.).
(обратно)62
Голо Маурер (род. 1971) – немецкий историк искусства.
(обратно)63
Карл Блехен (1798–1840) – немецкий художник-романтик.
(обратно)64
И всё (англ.).
(обратно)65
Петер Ганзен (1868–1928), Янус Ла Кур (1837–1909) – датские художники.
(обратно)66
Карл Шух (1846–1903) – австрийский художник.
(обратно)67
Контаминация латинских выражений hortus conclusus (закрытый сад; образ, восходящий к Песни Песней, символ Девы Марии в средневековой и ренессансной литературе и живописи) и locus amoenus (приятное место; общеевропейский топос, восходящий к идиллиям Феокрита и эклогам Вергилия).
(обратно)68
Карл фон Румор (1785–1843) – немецкий художник, историк искусства, писатель, меценат, историк сельского хозяйства, кулинар.
(обратно)69
Иоганн Рейнхарт (1761–1847), Август Лукас (1803–1863) – немецкие художники.
(обратно)70
Каролина Бардуа (1781–1864) – немецкая художница, ее кисти принадлежат, в частности, портреты Гёте и Каспара Давида Фридриха.
(обратно)71
Пьер-Анри де Валансьен (1750–1819), Симон Дени (1755–1813) – французский и бельгийский художники.
(обратно)72
Этюды с натуры (франц.).
(обратно)73
Рудольф Арнхейм (1904–2007) – американский психолог искусства, киновед.
(обратно)74
Вернер Буш (род. 1944) – немецкий историк искусства.
(обратно)75
«Как полосы поднимаются, кучкуются, разлетаются, падают» (нем.). Из стихотворения Гёте «Howards Ehrengedächtnis» («Памяти Говарда»).
(обратно)76
«Die weiß ich noch und werd ich immer wissen» – цитата из стихотворения Брехта «Воспоминания о Мари А.», упоминавшегося выше.
(обратно)77
Доклад был прочитан в Берлинском университете искусств 6 ноября 2014 года.
(обратно)78
Базон Брок (Юрген Брок; р. 1936) – немецкий теоретик искусства, критик, художник.
(обратно)79
Карл Гуммель (1821–1906) – немецкий художник-пейзажист, гравер.
(обратно)80
Не окончен (итал.).
(обратно)81
Джефф Уолл (род. 1946) – канадский фотохудожник
(обратно)82
Пер Киркебю (1938–2018) – датский скульптор.
(обратно)83
Как это назовут позже (франц.).
(обратно)84
Томас Руфф (род. 1958) – немецкий фотограф, художник.
(обратно)85
Конфликт Пруссии и Италии с Австрийской империей за Венецию, Триест, Триент и Южный Тироль (14 июня–23 августа 1866 года).
(обратно)86
«Из Германии» (нем.).
(обратно)87
«Tanz auf dem Vulkan» – немецкий фильм 1938 года.
(обратно)88
Винфрид Веле (род. 1940) – немецкий писатель, литературовед.
(обратно)89
Хлыстовая травма – повреждение шеи вследствие ее форсированного резкого разгибания с последующим резким сгибанием.
(обратно)90
Приятный ужас (англ. и франц.).
(обратно)91
Якоб Филипп Гаккерт (1737–1807) – немецкий художник-пейзажист.
(обратно)92
Йорг Тремплер (род. 1970) – немецкий историк искусства.
(обратно)93
Из «Итальянского путешествия» (1804).
(обратно)94
См. роман Сонтаг «Поклонник вулканов».
(обратно)95
Сплошная (или ковровая) живопись (англ.).
(обратно)96
Карл Вильгельм Гётцлоф (1799–1866) – немецкий художник-пейзажист.
(обратно)97
Франц Людвиг Катель (1778–1856) – немецкий художник, скульптор по дереву.
(обратно)98
Юлиус Гельфт (1818–1894) – немецкий художник-пейзажист.
(обратно)99
Бернхард Мартин (род. 1966) – немецкий художник, автор инсталляций.
(обратно)100
«Zero» – группа европейских художников, сформировавшаяся вокруг одноименного немецкого журнала в конце 1950-х – начале 1960-х годов.
(обратно)101
Герхард Рихтер (род. 1932) – немецкий художник.
(обратно)102
«Новые дикие» – художественное направление, возникшее в Германии в конце 1970-х годов.
(обратно)103
Карл Шпицвег (1808–1885) – немецкий художник, иллюстратор.
(обратно)104
Курт Карл Эберлейн (1890–1945) – немецкий историк искусства.
(обратно)105
Вернер Хофман (1928–2013) – австрийский историк искусства.
(обратно)106
См.: Neue Folge. Bd. 57 (1971).
(обратно)107
Хельмут Бёрш-Зупан (род. 1931) – немецкий историк искусства.
(обратно)108
Мартин Мозебах (род. 1951) – немецкий писатель, поэт, сценарист.
(обратно)109
Питер Галасси (род. 1951) – американский историк искусства, главный куратор отдела фотографии MoMA (1991–2011); книга «Коро в Италии» («Corot in Italy: Open-Air Painting and the Classical-Landscape Tradition») вышла в 1991 году в издательстве Йельского университета.
(обратно)110
Пауль Кассирер (1871–1926) – немецкий издатель, галерист.
(обратно)111
Георг Сварценски (1876–1957) – немецкий историк искусства, директор музея Штедель (1906–1933).
(обратно)112
Анри Руар (1833–1912) – французский художник, коллекционер, инженер.
(обратно)113
Гуго фон Чуди (1851–1911) – швейцарский историк искусства, музейный куратор, директор берлинской Национальной галереи (1896–1909) и Новой пинакотеки в Мюнхене (1909–1911).
(обратно)114
Юлиус Мейер (1830–1893) – немецкий историк искусства; речь идет о его книге: Geschichte der modernen französischen Malerei seit 1789, zugleich in ihrem Verhältniß zum politischen Leben, zur Gesittung und Literatur. Leipzig: E. A. Seemann, 1867.
(обратно)115
Corot und Courbet: ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der modernen Malerei. Leipzig: Insel, 1905.
(обратно)116
Астрид Ройтер – куратор художественного музея в Карлсруэ.
(обратно)117
Camille Corot: Natur und Traum. Heidelberg: Kehrer Verlag, 2012.
(обратно)118
Маргрет Штуфман (род. 1936) – немецкий историк искусства.
(обратно)119
Kennst du das Land, wo die Neurosen blühen? (нем. «Ты знаешь ли край, где неврозы цветут?») – отсылка к строке из «Песни Миньоны» Гёте: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?» («Ты знаешь ли край, где лимоны цветут?»). См. с. 74 наст. изд.
(обратно)120
«В итальянском свете» (англ.). Выставка проходила в Национальной картинной галерее с 26 мая по 2 сентября 1996 года.
(обратно)121
Томас Джонс (1742–1803) – валлийский художник-пейзажист.
(обратно)122
Оскар Бечман (род. 1943) – немецкий историк искусства.
(обратно)123
Майкл Фрид (род. 1939) – американский историк искусства.
(обратно)124
Menzel’s Realism: Art and Embodiment in Nineteenth-Century Berlin. London and New Haven: Yale University Press, 2002.
(обратно)125
Альфред Керр (1867–1948) – немецкий театральный критик.
(обратно)126
Антуан Пэн (1683–1757) – придворный художник прусского короля.
(обратно)127
Часть вместо целого (лат.).
(обратно)128
Сражение при Кёниггреце (Битва при Садове) – самое крупное сражение Семинедельной войны 1866 года (см. с. 110 наст. изд.).
(обратно)129
Эпоха грюндерства – время бурного экономического развития Германии и Австрии во второй половине XIX века.
(обратно)130
См. примеч. на с. 88 наст изд.
(обратно)131
Марианна Праузе (1918–1999) – немецкий историк искусства; речь идет о ее книге «Carl Gustav Carus: Leben und Werk» (Berlin, 1968).
(обратно)132
Шутка, использующая категорию Фернана Броделя «долгое, медленное [историческое] время» (франц.).
(обратно)133
Якоб ван Годдис (наст. имя Ханс Давидзон, 1887–1942) – немецкий поэт-экспрессионист; речь идет о его стихотворении «Weltende» («Конец света», 1911).
(обратно)134
Людвиг Мейднер (1884–1966) – немецкий художник-экспрессионист; серия «Апокалиптические пейзажи» начата в 1912 году.
(обратно)135
Вернер Штайн (1913–1993) – немецкий биофизик; речь идет о его синхронистических таблицах по истории.
(обратно)136
Герварт Вальден (наст. имя Георг Левин, 1878–1941) – немецкий писатель, композитор, художественный критик, издатель, галерист, меценат.
(обратно)137
Ханс Ульрих Гумбрехт (род. 1948) – немецко-американский писатель, историк культуры; речь идет о его книге «1926. Ein Jahr am Rand der Zeit» (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2001).
(обратно)138
Выставка «1913. Bilder vor der Apokalypse» (13 октября 2013 – 19 января 2014).
(обратно)139
Голо Манн (1909–1994) – немецкий историк, эссеист, сын Томаса Манна.
(обратно)140
Курт Тухольский (1890–1935) – немецкий журналист, писатель; речь идет о его журнале «Die Weltbühne» (1905–1933).
(обратно)141
Книга Флориана Иллиеса «1913» (2013) имеет подзаголовок «Лето целого века».
(обратно)142
Benn G., Oelze F.W. Briefwechsel, 1932–1956 (2016).
(обратно)143
Перевод О. Тамариновой.
(обратно)144
«Несовместим со счастьем дух» (нем.).
(обратно)145
«Сегодня в ночи большого города / терраса кафе, / летние звезды за соседним столиком, / лучших отелей Франкфурта / достойные» (нем.).
(обратно)146
«Теперь все пропало / по частям, все, / Cэла, окончание псалма» (нем.).
(обратно)147
Начало стихотворения «Teils-teils».
(обратно)148
Возвращение (англ.).
(обратно)149
Уставший (англ.).
(обратно)150
Eдинственный и неповторимый (англ.).
(обратно)151
Клаус Тевеляйт (род. 1942) – немецкий социолог, писатель; речь идет о его книге «Buch der Könige» (Stroemfeld, 1988–2003).
(обратно)152
Хорст Зеехофер (род. 1949) – немецкий политик, с 14 марта 2018 года министр внутренних дел Германии. У автора аллюзия на фразу «Кто тут еврей, решаю я», приписываемую Герингу.
(обратно)153
«Хуже всего: умереть не летом, / когда все светло и свежо / и земля так легко поддается лопате» (нем.).
(обратно)154
«Здесь погост взбухает вокруг каждой кровати» (нем.). Строка из стихотворения «Мужчина и женщина идут по раковому бараку».
(обратно)155
Отсылка к рассказу Георга Бюхнера «Ленц», герой которого, страдавший душевным расстройством поэт и драматург Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751–1792), не находя себе места, отправляется в путешествие по горам. Слово Lenz в немецком языке имеет также значение «весна».
(обратно)156
Адольф Лоос (1870–1923) – австрийский и чехословацкий архитектор; здесь ироническая отсылка к его эссе «Орнамент и преступление».
(обратно)157
Эрхард Бушбек (1889–1960) – австрийский писатель, драматург.
(обратно)158
Людвиг фон Фикер (1880–1967) – австрийский писатель, издатель.
(обратно)159
Петер Альтенберг (наст. имя Рихард Энглендер, 1859–1919) – австрийский писатель.
(обратно)160
Вышло в 2014 году в издательстве «Stroemfeld».
(обратно)161
Альберт Эренштейн (1886–1950) – австрийский писатель, поэт.
(обратно)162
Роберт Михель (1876–1957) – австрийский писатель, поэт.
(обратно)163
В подробностях (франц.).
(обратно)164
Во Франкфурте-на-Майне.
(обратно)165
Хольгер Бёрнер (1931–2006) – немецкий политик, министр-президент Гессена в 1976–1987 годах.
(обратно)166
Вилли Яспер (род. 1945) – немецкий публицист; речь идет о его книге: Ludwig Börne. Keinem Vaterland geboren. Eine Biographie. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1989.
(обратно)167
См. книги Флориана Иллиеса о поколении 1970 года «Generation Golf. Eine Inspektion» (2000) и «Generation Golf zwei» (2003).
(обратно)168
Герман фон Веддеркоп (1875–1956) – немецкий писатель, издатель.
(обратно)169
Норберт Эллер (род. 1936) – немецкий германист.
(обратно)170
Марсель Райх-Раницкий (1920–2013) – немецкий литературный критик, публицист.
(обратно)171
Цитата из автобиографии Жан Поля.
(обратно)172
Рольф Фольман (род. 1934) – немецкий писатель, литературный критик.
(обратно)173
Петер-Клаус Шустер (род. 1943) – немецкий историк искусства, куратор, директор Государственных музеев Берлина и Новой национальной галереи (1999–2008).
(обратно)174
Fontane und die bildende Kunst: Katalog der Ausstellung der Nationalgalerie, der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz. Berlin: Henschel Verlag, 1998.
(обратно)175
Finke U. The Art-Treasures Exhibition // Art and architecture in Victorian Manchester: Ten illustrations of patronage and practice. Manchester University Press, 1985.
(обратно)176
Остин Генри Лейард (1817–1894) – английский археолог, историк искусства, политик, дипломат.
(обратно)177
Эдвин Ландсир (1802–1873) – английский художник, скульптор.
(обратно)178
Эдуард Гильдебрандт (1818–1868) – немецкий художник, профессор Берлинской академии художеств.
(обратно)179
Бенджамин Уэст (1738–1820) – американский и английский художник.
(обратно)180
Кристиан Даниэль Раух (1777–1857), Иоганн Готфрид Шадов (1764–1850), Кристиан Фридрих Тик (1776–1851) – немецкие скульпторы.
(обратно)181
Вольф Йобст Зидлер (1926–2013) – немецкий писатель, издатель.
(обратно)182
Дэвид Уилки (1785–1841) – шотландский художник.
(обратно)183
Рихард Краутхаймер (1897–1994), Харальд Келлер (1903–1989) – немецкие историки искусства.
(обратно)184
Фрэнсис Дикси (1853–1928) – английский художник, иллюстратор.
(обратно)185
Август Эгг (1816–1863) – английский художник.
(обратно)186
Жан Сезнек (1905–1983) – французский историк искусства и литературы; речь идет о его книге: Nouvelles Etudes sur «La Tentation de Saint Antoine». London: Warburg Institute, 1949.
(обратно)187
Запланированная, но отмененная Ираном выставка из коллекции Тегеранского музея современного искусства в Берлине (2016).
(обратно)188
Иоахим фон Зандрарт (1606–1688) – немецкий художник, график, историк искусства.
(обратно)189
Лионелло Вентури (1885–1961) – итальянский историк искусства, художественный критик.
(обратно)190
Курт Штайнбарт (1890–1981) – немецкий историк искусства.
(обратно)191
Ясмина Реза (род. 1959) – французская актриса, драматург, писатель.
(обратно)192
Адам Зайде (1929–2004) – немецкий галерист, издатель, писатель, театральный критик.
(обратно)193
Пауль Менц (род. 1939) – немецкий галерист, коллекционер, публицист.
(обратно)194
Арман (Арман Фернандес, 1928–2005) – французский художник и скульптор, член группы «Новые реалисты»; Дональд Джадд (1928–1994), Карл Андре (род. 1934) – американские художники-минималисты.
(обратно)195
Томас Байрле (род. 1937) – немецкий художник, график, видеохудожник.
(обратно)196
Франц Мон (род. 1926), Эрнст Яндль (1925–2000) – австрийские поэты-экспериментаторы, близкие к дадаизму и конкретной поэзии.
(обратно)197
«Флюксус» – акционистское движение в искусстве 1950–1960-х годов.
(обратно)198
Сол Левитт (1928–2007) – американский художник, минималист и концептуалист.
(обратно)199
От противного (лат.).
(обратно)200
Петер Иден (род. 1938) – немецкий театральный и художественный критик.
(обратно)201
«Петер Рёр. 37 работ» (Мюнхен, Villa Grisebach Auktionen, 18 января – 10 февраля 2017).
(обратно)202
Вернер Тюбке (1929–2004) – немецкий художник, график.
(обратно)203
Вальтер Ульбрихт (1893–1973) – немецкий политик, руководитель ГДР (1950–1971), инициатор строительства Берлинской стены.
(обратно)204
Петер Цадек (1926–2009) – немецкий режиссер театра и кино, сценарист.
(обратно)205
Ойген Гомрингер (род. 1925) – немецкий поэт-конкретист.
(обратно)206
Макс Имдаль (1925–1988) – немецкий историк искусства.
(обратно)207
Нора Гомрингер (род. 1980) – немецкий поэт, директор Международного дома деятелей искусств «Villa Concordia» в Бамберге.
(обратно)208
Удо Киттельман (род. 1958) – директор Национальной галереи Берлина (с 2008-го).
(обратно)209
Хильке Вагнер (род. 1972) – директор Альбертинума (с 2014-го).
(обратно)210
Макс Холляйн (род. 1969) – австрийский историк искусства, с 2018 года директор Метрополитен-музея.
(обратно)211
Эллсворт Келли (1923–2015), Фрэнк Стелла (род. 1936) – американские художники.
(обратно)212
Дитер Хониш (1932–2004) – немецкий историк искусства, директор Новой национальной галереи (1975–1997).
(обратно)213
Эд Рейнхардт (1913–1967) – американский художник; речь идет о его монохромных черных картинах начала 1950-х годов.
(обратно)214
Ответ, мой друг, знает ветер (англ.). Строчка из песни «Blowin’ in the Wind» Боба Дилана.
(обратно)215
Йозеф Бойс (1921–1986) – немецкий художник-акционист, один из основателей движения «Флюксус».
(обратно)216
Мишель Фридман (род. 1956) – немецкий юрист, политик, публицист; программа «Durch die Nacht mit…» с участием Шлингензифа и Фридмана состоялась 24 января 2003 года.
(обратно)
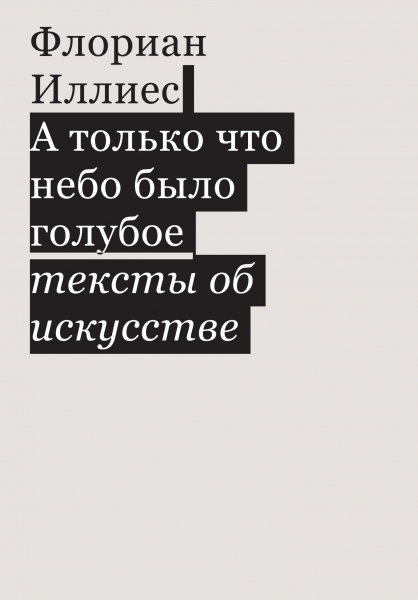

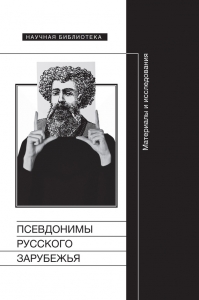


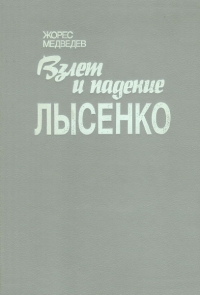
Комментарии к книге «А только что небо было голубое. Тексты об искусстве», Флориан Иллиес
Всего 0 комментариев