А. Н. Афанасьев Древо жизни
Введение. А. Н. Афанасьев — фольклорист, гражданин, демократ
Широкому кругу читателей Александр Николаевич Афанасьев известен как издатель: "Народных русских сказок". Менее известно, что он издал также "Народные русские легенды" и "Русские заветные сказки". И пожалуй, только специалисты знают, что он был автором большого трехтомного исследования "Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов". Забегая вперед, отметим, что подобного труда до А. Н. Афанасьева не знала не только русская, но и зарубежная наука.
А. Н. Афанасьев скромно назвал свое исследование опытом, но этот опыт до сих пор никем не превзойден. По богатству материала и оригинальности замысла с ним не могут соперничать даже такие фундаментальные и широко известные в нашей стране труды, как "Золотая ветвь" Дж. Фрэзера, дважды издававшаяся в советское время, и "Первобытная культура" Э. Тэйлора. Мы с полным основанием можем сказать, что "Поэтические воззрения славян на природу" являются одной из классических работ не только русской мифологической школы XIX века, но и мировой науки о фольклоре вообще.
Особое значение труда Афанасьева заключено в богатстве громадного собранного материала, в установлении живых связей языка и предания в их историческом развитии. Этот бесценный материал почерпнут из истории, этнографии, мифологии, словотворчества десятков народов. В этом смысле "Поэтические воззрения", говоря по-современному, глубоко интернациональны.
Исследование Афанасьева имеет огромную познавательную ценность, и, как всякое подлинное явление культуры, оно не только воскрешает для нас далёкое прошлое, но и служит дню сегодняшнему. Книга обратит читателя к истокам нашего современного языка и бытового поведения, раскроет многие "темные места" и метафоры литературы, фольклора и обычаев. (Приведем хотя бы один простой пример. Провожая кого-нибудь в дорогу, мм машем ему рукой. Что означает этот жест? Нередко от него уже отказываются как от бессмысленного... Но ведь прежде, да иногда и сейчас, махали не рукой, а платком, и означало это, что провожающие желают путнику удачи, ровной и гладкой, как полотно, дороги. Ср.: полотно — плат — платок.)
Книга воскрешает корни и раскрывает словообразовательные возможности нашего языка и тем самым будет препятствовать его порче, засорению.
Наконец, она просто интересна, увлекательна. Это не сухой научный" труд, а произведение сложного жанра, где сливаются в полноводную реку Память и Слово.
Необходимость в переиздании "Поэтических воззрений" назрела давно. Это уникальное, ценнейшее исследование практически недоступно молодым ученым, тем более — широкому кругу читателей, людям, интересующимся отечественной историей, проблемами языка. Между тем нет ни одного сколько-нибудь заметного труда по истории славянской народной культуры, где не упоминались бы работы А. Н. Афанасьева. Сошлемся хотя бы на самый свежий пример: в замечательном исследовании академика Б. А. Рыбакова "Язычество древних славян" (М., "Наука", 1981) широко используются материалы книги Афанасьева "Поэтические воззрения славян на природу". К труду Афанасьева обращались многие русские писатели: А. Н. Толстой, Блок, Бунин, Мельников-Печерский, Есенин, Горький и др. И можно не сомневаться, что книга, которую читатель держит сейчас в руках, станет такой же необходимой, неотъемлемой частью жизни многих и многих, как создание другого выдающегося современника Афанасьева — "Толковый словарь живого великорусского языка" В. И. Даля.
Александр Николаевич Афанасьев родился 11 июля 1826 г. в уездном городке Богучаре Воронежской губернии. Вскоре семья переехала в город . Бобров той же губернии, где отец будущего ученого долгое время был стряпчим (т. е. ходатаем по судебным делам). Он любил читать и постоянно выписывал "Библиотеку для чтения", у знакомых брал журналы "Отечественные записки", "Москвитянин", "Пантеон". Кроме того, у него была "довольно порядочная" по тому времени библиотека, оставшаяся от деда. "Отец, — вспоминал Александр Николаевич, — решил дать каждому из нас, четырех братьев, полное воспитание и с малыми своими средствами всю жизнь хлопотал об этом..."[1]
Маленький Александр рано пристрастился к чтению. В своих воспоминаниях он писал: "Пользуясь дедовской библиотекой, я рано, с самых нежных детских лет, начал читать, и как теперь помню, бывало, тайком от отца (мать моя умерла очень рано) уйдешь на мезонин, где помещались шкапы с книгами, и зимою в нетопленой комнате, дрожа от холода, с жадностью читаешь... Как прежде, так и теперь, готов был я долго просиживать за книгою и забывал самый голод, и нередко приходил отец и прогонял меня с мезонина, отнимая книги, читать которые он постоянно запрещал, в чем и прав был: книги были не по возрасту. Но запрещения эти действовали плохо; шкапы не запирались, и страсть неугомонно подталкивала идти в мезонин".
"Чтение это, — писал А. Н. Афанасьев, — сменило для меня сказки, которые, бывало, с таким наслаждением и трепетом слушал я прежде, зимой по вечерам, в углу темной комнаты, от какой-нибудь дворовой женщины".
Брат будущего ученого Николай Николаевич Афанасьев также писал, что в юном возрасте Александр Николаевич проявлял "чрезвычайную жажду к чтению", что ему он "посвящал все свое время, уделяя для отдыха лишь непродолжительные вечерние часы да какой-нибудь час после обеда". Александр "постоянно имел при себе бумагу и карандаш и аккуратно записывал свои заметки и все такие записи тщательно сберегал".
Зато учителя юного книгочея, несмотря на усилия отца, оставляли желать лучшего. Сначала два тамошних попа, как впоследствии вспоминал А. Н. Афанасьев, вполне пояснили своему юному воспитаннику, что корень умения горек. За незнание и шалости учащихся ставили на колени, били линейкой по руке, оставляли без обеда, драли за волосы и за уши и т. д. и т. п. Священники выучили Афанасьева, как он сам об этом писал, бегло читать по-русски и по-латыни, познакомили с двумя десятками латинских слов, немного с арифметикой и священной историей, и только.
Дальше обучение продолжилось дома под руководством одного из педагогов уездного училища, который "действительно кое-что знал", но из-за пьянства занимался своим подопечным плохо. Этот учитель научил А. Афанасьева читать и писать по-немецки.
В 1837 году, когда Александру исполнилось одиннадцать лет, отец отвез сына в воронежскую губернскую гимназию, в которой тот проучился семь лет — от первого до последнего класса. От пребывания в воронежской гимназии у А. Афанасьева остались самые безотрадные впечатления. В своих воспоминаниях он довольно подробно описал порядки в гимназии, рассказал о грубости и невежестве учителей, перечислил те ужасные наказания, которым подвергались учащиеся, наконец, охарактеризовал уровень преподавания, в том числе и литературы:
"Мал...н (А. Н. Афанасьев не называет полностью фамилии учителя. — В. С.) был человек добрый, но недалекий; впрочем, в этом виновато более воспитание его в Харьковском университете, не давшее ему тех правильных взглядов на искусство и историю, до которых трудно дойти самому. Он, взамен Греча, дал нам собственные записки по истории русской литературы и чуть ли при составлении их не пользовался студенческими тетрадками. Записки эти были и не полны, и бессвязны, и поверхностны; видно было отсутствие специального изучения. Марлинский был похвален, Гоголь невыгодно выставлен; его комедия "Женитьба" названа сальною; древняя литература до Ломоносова признана несуществующею. Он привел только какие-то два стихотворения о Перуне и бабе-яге, весьма недавнего и плохого сочинения, в пример мифологических преданий о древнейшей словесности! О Кирше Данилове и народных песнях он не заикнулся".
Так в гимназические годы знаменитый впоследствии исследователь изучал русскую литературу и фольклор!
В 1844 году, окончив гимназию, А. Н. Афанасьев уехал в Москву и поступил — по настоянию отца — в Московский университет, на юридический факультет.
В России, как и во всей Европе, был период общественного оживления.
На эти годы пришелся расцвет деятельности Белинского; сложился кружок Петрашевского. Шли острые споры между славянофилами и западниками о путях дальнейшего развития России.
В университете А. Н. Афанасьев застал цвет тогдашней гуманитарной науки: он слушал лекции П. Г. Редкина и К. Д. Кавелина (курс истории русского законоведения), Т. Н. Грановского (курс всеобщей истории средних веков) и С. М. Соловьева (курс русской истории).
Т. Н. Грановский читал именно тот знаменитый первый публичный курс лекций, заключение которого, по воспоминаниям Герцена, сопровождалось "настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете"[2]. Герцен приводит в "Вылом и думах" слова Чаадаева. "Лекции Грановского, — сказал мне Чаадаев, выходя с третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским обществом, — имеют историческое значение"[3].
Некоторые лекции студенты-юристы слушали совместно со словесниками. Историю литературы, теорию красноречия и поэтики читал профессор С. П. Шевырев — бывший поэт-"любомудр", ценитель Пушкина и Гоголя, перешедший, однако, к этому времени на реакционные позиции. О. М. Бодянский — крупный ученый-славист, издатель древнерусских и древнеславянских литературных и исторических памятников — читал курс славянских языков.
В университете преподавали молодые профессора, которых, при всей разности их взглядов, объединяла забота о будущем России, глубокий интерес к народной культуре; по словам Герцена, они принесли с собою "горячую веру в науку и людей... и кафедры для них были святыми налоями, с которых они были призваны благовестить истину". "Они, — писал Герцен, — сильно двинули вперед Московский университет, история их не забудет"[4].
Несомненно, большое влияние на направленность интересов А. Н. Афанасьева оказали лекции Ф. И. Буслаева — выдающегося филолога-русиста, фольклориста и историка искусства, тогда молодого преподавателя Московского университета. "Его филологическое образование, — писал А. Н. Афанасьев, — основанное на результатах знаменитых немецких умов, весьма прочно..."
Неудивительно, что в такой творческой атмосфере уже в годы учебы в университете у А. Н. Афанасьева проявился интерес к научной деятельности.
В 1847 году в журнале "Современник" он опубликовал две работы: "Государственное хозяйство при Петре Великом" (№ 6 и 7) и "Псковская судная грамота" — неподписанная рецензия (№ 12). В 1848 году — статью "О вотчинах и поместьях" ("Отечественные записки", № 6 и 7) и рецензию (без подписи) на книгу "История финансовых учреждений гр. Толстова" ("Современник", № 4).
Итак, два крупнейших журнала России начали печатать работы молодого автора. Казалось, что перед А. Н. Афанасьевым — талантливым молодым исследователем — будет открыта широкая дорога научной деятельности. Но судьба его оказалась такой же, как и многих талантливых людей царской России. Сложности возникли сразу после окончания университета. Это был 1848 год. Царское правительство, напуганное французской революцией, усилило репрессии. "Положение наше, — писал Грановский А. И. Герцену в 1850 году, — становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами... Университеты предполагалось закрыть... Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например, лицею. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением"[5].
В сентябре 1848 года в Москву приехал министр народного просвещения граф Уваров осматривать университет. Он слушал лекции профессоров и после каждой лекции, вспоминал Афанасьев, "входил в рассуждения с профессором об ее предмете в частности и о предмете всей науки вообще, о современном ее состоянии и главных деятелях и, наконец, о духе, в каком она должна быть преподаваема". Министр слушал также самых способных студентов и кандидатов (лиц, окончивших университет): они должны были выступить перед ним с сообщениями на избранные ими темы.
Прочитал лекцию и кандидат А. Н. Афанасьев на тему "Краткий очерк общественной жизни русских в три последних столетия допетровского периода". Судя по записи в дневнике Афанасьева, это были размышления о роли самодержания в установлении и развитии крепостного права. Впоследствии он вспоминал: "Лекция эта вызвала несколько замечаний со стороны министра, о которыми, однако, я не догадался сейчас же согласиться. Шевырев с братиею нашли в ней то, чего в ней не было и быть не могло. Весьма благодарен, что печатно отозвался он о моей лекции с равнодушным хладнокровием, а в непечатных отзывах, по слухам, куда недоставало этого хладнокровия".
М. П. Погодин в редактируемом им "Москвитянине" писал о лекции Александра Николаевича: "Афанасьев явился полным представителем нотах, как говорят, воззрений на русскую историю. "Москвитянин" имеет мнение о ней почти противоположное, известное читателям, а поэтому удерживается говорить о чтении, как судья, может быть, пристрастный". Эти ионии воззрения принадлежали историкам К. Д. Кавелину и С. М. Соловьеву.
Год и два месяца после чтения лекции А. Н. Афанасьев не мог устроиться на службу, испытывая большие материальные трудности. В это время большое участие и его судьбе принимал К. Д. Кавелин, который ужо работал в Петербурге. "Расскажите всю подноготную ваших финансовых дел, — писал он Афанасьеву, — может быть, вместе что-нибудь выдумаем. Не теряйте, главное, присутствия духа и не хандрите. Это величайшая беда. Вы имеете знания; ваши работы положительно хороши... Будьте же откровенны, пишите все, ваша участь меня сильно занимает и лежит близко к сердцу". Однако направленность интересов молодого ученого была ему чужда.
К. Д. Кавелин настоятельно советовал А. Н. Афанасьеву заняться послепетровской эпохой. "Теперь первейшая необходимость настоит иметь сочинение о новом русском законодательстве со времени Петра... Нужно над этим работать; надо вывести итог Петровской эпохи. Это — требование времени", — писал он. Кавелин не видел актуальности в стремлении Афанасьева изучать корни народного миросозерцания, а следовательно, и путей национального, народного самосознания. Интересы своего молодого подопечного он назвал "археологией", путем "в болото" и "к усыплению".
Однако к этому времени Афанасьев уже избрал свой путь, он сознательно и целенаправленно работал в области мифологии и изучения фольклора.
В 1849 году А. Н. Афанасьев был, наконец, принят на службу в Главный московский архив министерства иностранных дел. Через шесть лет он был назначен начальником отделения, а вскоре и правителем дел состоящей при архиве комиссии печатания государственных грамот и договоров.
Служба в архиве давала А. Н. Афанасьеву возможность заниматься любимым делом — исследованием истории, права, литературы, народной поэзии, изданием произведений фольклора. Именно в этот период (с 1849 по 1862 г.) А. Н. Афанасьев написал и опубликовал большую часть своих исследований, составил и напечатал сборники "Народные русские сказки", "Народные русские легенды", "Русские заветные сказки" и некоторые другие[6].
В это время А. Н. Афанасьев печатался в большом количестве журналов: "Современник", "Отечественные записки", "Временник Общества истории и древностей российских", "Архив историко-юридических сведений, относящихся до РОССИИ", изд. Калачева; альманах "Комета", "Известия Академии наук по Отделению русского языка и словесности", "Русский вестник", "Атеней", "Русская речь", "Чтения Общества истории и древностей российских", "Библиографические записки", а также в газетах "Московские ведомости" и "Санкт-Петербургские ведомости".
После 1862 года количество печатных органов, в которых А. Н. Афанасьев публиковал свои работы, резко сокращается. Увы, тому были свои причины, о которых мы еще скажем. Его статьи печатаются в журналах "Библиотека для чтения", "Отечественные записки" (большой труд "Русские журналы 1769—1774 годов" — в трех номерах за 1865 г.), "Книжный вестник" (две рецензии), "Филологические записки" и в газете "Санкт-Петербургские ведомости" (две рецензии).
Круг научных интересов А. Н. Афанасьева был довольно широк — история России, история литературы, журналистики, народные верования и народная поэзия. Однако основное внимание он уделял изучению народных верований и фольклора. В своих исследованиях А. Н. Афанасьев был наиболее ярким представителем так называемых младших мифологов, т. е. школы сравнительной мифологии[7].
Мифологическая школа была первым широким направлением в научной мифологии. Она возникла в Германии в конце XVIII — начале XIX века и опиралась там на идеалистическую философию Шеллинга и братьев Шлегелей. Представители этой школы видели в мифах источник национальной культуры и объясняли посредством их происхождение и смысл устной народной поэзии. Однако немецкая мифологическая школа, возникшая в период романтизма, носила идеалистический и в известной мере националистический характер. В России интерес к мифологии зародился еще до возникновения мифологической школы (см. работы М. Д. Чулкова, А. С. Кайсарова, И. М. Снегирева, А. Ф. Вельтмана, И. П. Сахарова и др.) и продолжался после того, как она утратила свое значение как научное направление.
Мифологическая школа в России сложилась на рубеже 40—50-х годов XIX века. Основоположником ее был крупнейший ученый, профессор Москонского университета Ф. И. Буслаев (1818—1897). В русле ее работали также А. Н. Афанасьев, О. Ф. Миллер, А. А. Котляревский, А. А. Потебня, к ней относятся ранние работы А. Н. Пыпина, А. Н. Веселовского и др. Русские ученые ставили перед собой важную гражданскую задачу изучения мифов как проявления процессов самосознания народа. Известный советский фольклорист и исследователь истории русской науки о народной поэзии М. К. Азадовский писал: "Различны были и корни русской и западноевропейской, в частности германской, мифологической школы. Первая сложилась в процессе формирования русской передовой науки в 40-х годах, создавшейся под влиянием Белинского, Герцена, Грановского; вторая возникла в недрах немецкого романтизма и связана главным образом с деятельностью так называемого гейдельбергского кружка романтиков"[8].
Обращение русских мифологов к изучению народной словесности, как справедливо подчеркивают современные исследователи, "меньше всего было вызвано чисто академическими интересами"[9]. Объективно, а нередко и сознательно деятельность представителей мифологической школы служила решению важнейших политических задач, стоявших перед русским обществом 50-х годов. Ф. И. Буслаев писал: "Заботливое собирание и теоретическое изучение народных преданий, песен, пословиц, легенд не есть явление, изолированное от разнообразных идей политических и вообще практических нашего времени: это один из моментов той же дружной деятельности, которая освобождает рабов от крепостного ярма, отнимает у монополии права обогащаться за счет бедствующих масс, ниспровергает застарелые касты и, распространяя повсеместно грамотность, отбирает у них вековые привилегии на исключительную образованность..."[10].
А. Н. Афанасьев увлекся новым направлением в филологической нayке вскоре после окончания университета. Юрист по образованию, он уже в 1850—1851 годах выступил в печати с несколькими серьезными работами о верованиях и обычаях наших далеких предков: "Дедушка домовой" ("Архив историко-юридических сведений...", 1850, кн. 1), "Колдовство на Руси в старину" ("Современник", 1851, № 4), "Религиозно-языческое значение избы славянина" ("Отечественные записки", 1851, № 6), "Ведун и ведьма" ("Комета", 1851), "Ответ г-ну Кавелину" ("Отечественные записки", 1851, № 8) и некоторые другие. Проблемами русской мифологии он занимался в течение всей своей жизни.
Уже первые исследования А. Н. Афанасьева были написаны на богатом материале — русском и других народов. Эти труды по мифологии, равно как и по истории, поставили молодого ученого в один ряд с известными исследователями. Так, К. Д. Кавелин в своей рецензии отмечал, что статья А. Н. Афанасьева "Ведун и ведьма" чрезвычайно интересна, что автор "впервые тщательно свел об этом предмете множество данных, рассеянных в разных источниках, и первый представил опыт научного исследования дела". К. Кавелин назвал эту статью "прекрасным трудом"[11]
Тогда же, в 1851 году, А. Н. Афанасьев задумал издать, а несколько позже и издал русские народные сказки. Это был первый опыт научного издания сказок с комментариями, в которых русские сказки сопоставлялись со сказками других народов и — вновь впервые — с привлечением столь обильного материала, в духе мифологической школы объяснялось их происхождение. В 60-е годы А. Н. Афанасьев, несколько переработав статьи и комментарии к сказкам, объединил их в книгу "Поэтические воззрения славян на природу".
Уже современники оценили громадные масштабы проделанной А. Н. Афанасьевым работы. А. А. Котляревский писал: "В отношении материала он (труд Афанасьева. — Б. К.) представляет такой систематический свод фактов по славянской и преимущественно русской мифологической древности, какого не имела еще наша наука"[12].
"Труды г. Афанасьева, — писал рецензент "Вестника Европы", — принадлежат к числу тех, которые, прежде всего, вносят в литературу и в науку громадную массу новых познаний, фактов, а следовательно, говорят много для мыслящего человека и вызывают многих к новому труду... богатую сокровищницу представляет его труд, делающий честь нашему времени и дающий богатую и здоровую пищу как мысли научной, историческим заключениям и выводам, так и творческой фантазии поэта, который захотел бы облечь древние, величавые образы космогонии и теогонии бесконечно отдаленного от нас времени в новую форму"[13].
Но современники же отмечали и недостатки методологии Афанасьева: отрыв ряда толкований мифов от их бытовой, жизненной основы, увлечение "метеорологической" теорией, антиисторизм. Первым серьезные замечания сделал учитель и друг А. Н. Афанасьева К. Д. Кавелин. В упомянутой выше рецензии 1851 года на статью "Ведун и ведьма" он, в частности, писал о натяжках, вовлекших автора "в лабиринт толкований и предположений, как нам кажется, совершенно произвольных", о невнимании исследователя к "ходу и постепенности развития язычества у славян", указывал на отрыв некоторых положений мифологической школы от реальной действительности. "Автор весьма подробно и учено выводит, — писал К. Д. Кавелин, — что... поверье о доении коров ведьмами не должно принимать буквальио: это есть не что иное, как затемненный позднейшими переделками миф о том, что ведьмы (то есть жрицы) своими жертвоприношениями и мольбами призывали на землю плодотворные лучи солнца и дождь, дар божеств светлых... Где, в котором из наших народных поверий можно встретить подобные символы? Все эти поверья объясняются житейскими фактами, явлениями природы: непосредственный их смысл — всегда ближайший и вернейший. И в этой-то, самой первобытной, языческой религии из всех нам доселе известных у народов индоевропейского племени автор сумел отыскать философский миф. Удивительно"[14].
В 1854 году в обширной рецензии на "Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Калачовым (вып. 2, ч. 2)" Н. Г. Чернышевский подробно рассмотрел проблемы возникновения мифрлогической школы в Германии и России, проанализировал работу Ф. И. Буслаева о русских пословицах (критически оценив попытку ученого объяснять русские пословицы путем сопоставления их е индусскими верованиями) и высказал свое отношение к работам А. Н. Афанасьева. Н. Г. Чернышевский, в частности, писал, что на исследования А. Н. Афанасьева многие смотрят е недоверчивостью, "а между тем... у него часто встречаются объяснения, с которыми нельзя не согласиться". Н. Г. Чернышевский указал, что таких сближений много и в статье А. Н. Афанасьева "Мифологическая связь понятий: света, зрения" и проч. "Но желание отыскать во всем следы древней мифологии вредит успеху его исследований"[15].
О чрезмерном увлечении А. Н. Афанасьева отысканием в русских сказках остатков мифов писал и А. Н. Пыпин в рецензии на первый выпуск "Народных русских сказок".
"Сравнения наших сказочных мотивов с чужими у г. Афанасьева вообще очень метки и удачны; но в объяснениях мифического значения разных сказок он, кажется нам, идет уже слишком далеко, желая даже мелким подробностям дать место в мифических представлениях народа... Иногда сказка требует объяснения в другом, уже немифическом смысле". В качестве примера А. Н. Пыпин привел сказку "О злой жене". Эта сказка, писал он, основана на всем известном поверье, приписывающем болезнь действию нечистой силы, которая может поселиться в человеке, "и рассуждение автора об олицетворениях болезней в виде ужасных духов ничего не прибавляет к пониманию сказки, очевидно выросшей на новейшей почве[16].
Как видим, замечания критиков в основном совпадали. Наиболее резко они были высказаны К. Д. Кавелиным; может быть, поэтому в печати А. Н. Афанасьев ответил именно ему. Он указал на причины трудности и сложности исследования мифов. "Мифология, — писал он, — такая же науки, как наука о допотопных животных: она воссоздает целый организм но разрозненным остаткам старины".
А. Н. Афанасьев отверг ошибочное утверждение К. Д. Кавелина, что у него нет общего взгляда на явления и нет определенного метода: "...у нас есть и общий взгляд, и метод, основанные на древнейшей связи языка с развитием верований". В дальнейшем, в первой главе "Поэтических воззрений славян на природу", А. Н. Афанасьев подробно объяснит принятую им методику исследования.
Ответил А. Н. Афанасьев и на замечание о том, что русские предания и верования в статье объясняются как мифические представления, сравниваются с индусскими верованиями, в то время как они порождены реальной действительностью. Он писал: "Не то чтоб мы отвергали в народных преданиях присутствие естественных условий — нет, в предания много вошло из непосредственного наблюдения явлений природы; но, кроме того, в них много и такого, что не может быть объяснено никаким естественным явлением и что имеет только смысл мифический"[17].
Таким образом, А. Н. Афанасьев и в самом начале своей научной деятельности не отрицал связи народных преданий с реальной действительностью. Наоборот, он утверждал, что "в предания много вошло из непосредственного наблюдения явлений природы". Но его как исследователя интересовали остатки мифов в народной поэзии, он их пытался выявить и, как мог, объяснить. Подчеркиваем — как мог, потому что делались только первые шаги в исследовании фольклора. На этом этапе были естественны и ошибки, и увлечения... В 1854 году Н. Т. Чернышевский предостерегал представителей мифологической школы: "Науке молодой, какова у нас историческая филология, трудно удерживаться от увлечений; но она должна опасаться их еще более, нежели науки, установившие свою репутацию: на нее многие смотрят недоверчиво уже и потому, что не успели еще привыкнуть к ней; как же много может она повредить себе, если, с одной стороны, будет высказывать неумеренные притязания на превосходство над всеми другими науками, а с другой — не будет остерегаться положений слишком смелых в шатких"[18].
Скептическое отношение ряда критиков к методике исследования, а иногда и к работам ученого в целом, непонимание их научной ценности глубоко и болезненно переживались А. Н. Афанасьевым. 12 ноября 1858 г. он писал М. Ф. Де-Пуле:
"О мифологии я и сам тужу: приготовлено довольно, а делать еще больше осталось; а между тем разве подобные работы вызывают у нас не говорю сочувствие, но хоть должное уважение? Я столько наслушался нелепых сомнений в пользе этих разысканий, что и рукой махнул. В этой области у нас образцовая отсталость: новая филологическая метода не принимается, о языке встретишь самые странные рассуждения на страницах лучших журналов, о поэзии и (народной в особенности) — тоже. По поводу издания моего "Сказок" я уже довольно начитался разных статей, основанных на совершенном незнакомстве с этими вопросами и с трудами немецких ученых. Можно и должно исключить только статьи Пыпина, действительно прекрасные и дельные[19]. При такой обстановке работать не слишком приятно, и, чтоб нравственно отдохнуть, надо было взяться, хотя на время, за что-либо другое, и я взялся за историю литературы"[20].
Издание "Народных русских сказок" наряду с исследованиями по мифологии можно без преувеличения назвать научным и жизненным подвигом А. Н. Афанасьева, и, надо отметить, многие из современников поняли истинное значение этих работ. Сам факт издания сказок, широта представленного материала приветствовались в целом ряде рецензий; возражения вызывали примечания (или комментарии), уязвимые в методологическом отношении.
Идея издания большого свода русских народных сказок родилась у А. Н. Афанасьева еще в 1851 году. 14 августа он писал А. А. Краевскому — редактору журнала "Отечественные записки": "Есть у меня одно предложение для Вашего журнала. Не согласитесь ли Вы уделить в Ваших "Записках" место в Смеси или другом отделе для русских народных сказок... Идание будет ученое, по образцу издания бр<атьев> Гриммов. Текст сказки будет сопровождаться нужными филологическими и мифологическими примечаниями, что еще больше даст цены этому материалу; кроме того, тождественные сказки будут сличены с немецкими сказками по изданию Гриммов, и аналогичные места разных сказок указаны. Войдет сюда также сличение сказок с народными песнями. Изданию я предпослал бы большое предисловие о значении сказок и метода их ученого издания. Одна сказка через три или через два номера, — смотря по возможности, — не займет в журнале много места. Притом предмет этот не чужд интереса"[21].
Как видим, к этому времени А. Н. Афанасьев уже тщательно продумал основные принципы подготовки к печати русских народных сказок. Редактор "Отечественных записок" согласился е его предложением, однако публикации в журнале не появились, потому что замысел издания и объем материала, которым вскоре уже располагал А. Н. Афанасьев, далеко превосходил возможности журнала.
23 февраля 1852 г. Совет Русского географического общества постановил передать А. Н. Афанасьеву, который уже был членом РГО по отделению этнографии, имевшееся в распоряжении Общества собрание народных сказок. В предисловии к первому выпуску первого издания "Народных русских сказок" А. Н. Афанасьев так характеризовал полученный материал: "Это прекрасное собрание представляет много в высшей степени любопытного. Многие из этих сказок записаны превосходно, с удержанием всех особенностей народного говора; другие хотя и записаны языком более книжным, нежели простонародным, и не всегда грамотно, но чужды всякого произвольного, нарочно придуманного искажения".
Кроме сказок, полученных в РГО, в распоряжении А. Н. Афанасьева были сказки, записанные и переданные ему В. И. Далем (около 1000), собранные П. И. Якушкиным и другими, а также безвестными сейчас собирателями. Качество и принципы записей были очень разными, поэтому отбор вариантов, систематизация и подготовка издания в целом требовали очень большого труда. Сказок, записанных самим А. Н. Афанасьевым, было немного — десять—двенадцать.
Первое издание "Народных русских сказок" выходило отдельными выпусками с 1855 по 1863 год (всего было восемь выпусков). В них вошло более 600 сказок — это было самое полное издание сказок не только в России, но и за ее пределами (отметим, что издание "Немецких сказок" братьев Гримм, на которое ссылались и сам А. Н. Афанасьев, и его рецензенты, было почти втрое меньше, в нем не было вариантов, каждый сюжет представлен по одному разу). В первом издании сказки публиковались Афанасьевым без какой-либо классификации (как, впрочем, и братьями Гримм). В рецензии на первый выпуск Ф. И. Буслаев писал: "Это так и быть должно, потому что не пришло еще время для какой бы то ни было классификации наших народных произведений. Сначала нужно их привести в известность, то есть издать"[22].
При подготовке второго издания "Народных русских сказок" (вышедшего уже посмертно, в 1872 году) А. Н. Афанасьев продумал и осуществил классификацию материала. Сказки были распределены по разделам: животный эпос, мифологические сюжеты, сюжеты былинные и навеянные историей, суеверные рассказы о колдунах и мертвецах, сказки с бытовой и юмористической окраской. Это было, подчеркиваем, первое издание, в котором сказки систематизированы. В дальнейшем классификацию упростили (сказки о животных, волшебно-фантастические, социально-бытовые), но в ее основе остается принцип, выработанный А. Н. Афанасьевым.
Демократическая и антиклерикальная направленность работы Афанасьева вызывала острое недовольство властей и духовенства. Афанасьев хотел издать сказки в том виде, как они были записаны. Ученый прогрессивных убеждений, он кроме собрания сказок выпустил "Народные русские легенды", носящие антицерковный характер, а в Женеве вышел анонимно составленный им сборник "Русские заветные сказки" — антипоповского и антибарского содержания (возможно, к его изданию имел отношение А. И. Герцен).
Царская и духовная цензура вставала на пути к осуществлению замыслов, буквально душила требованиями "охранить религию и нравственность от печатного кощунства и поругания", как изъяснялся обер-прокурор святейшего синода по поводу деятельности А. Н. Афанасьева.
Несколько лет назад было опубликовано письмо А. Н. Афанасьева от 31 октября 1861 г. П. П. Пекарскому. В нем, в частности, говорилось:
"Посылаю Вам новый (пятый) выпуск моих сказок. Пятый и шестой выпуски должны были появиться вместе на божий свет, но мерзопакостная цензура задержала одну книжку; только на днях получил половину рукописи, израненную и обагренную кровавыми чернилами. Все, что искалечено, я вынужден был выбросить вовсе и затем приступил к печатанию уцелевшего. Ах, если бы видели заседание здешнего Цензурного комитета! Что за лица! Баранье тупоумие так и прыщет из каждой черты...[23]
Издание сборника Афанасьева было большим событием в научной и общественной жизни России. С рецензиями выступили крупнейшие ученые того времени: Пыпин, Буслаев, Котляревский, Срезневский, Миллер и другие. Высоко оценила издание Афанасьева и революционно-демократическая критика в лице Н. А. Добролюбова. В 1858 году (по выходе первых четырех выпусков) он писал о сборнике как об "исполненном добросовестно и с любовью... Сборник г. Афанасьева превосходит другие по своей полноте и по точности, с какою старался издатель придерживаться народной речи, даже самого выговора". И несколько дальше: "Вы читаете у г. Афанасьева подлинные сказки русского народа, без прикрас и почти без пропусков, расположенные более или менее удачно, сообразно с их содержанием".
Недостатком сборника А. Н. Афанасьева, как и других, Н. А. Добролюбов считал "отсутствие жизненного начала" в комментариях. Он требовал большего внимания к явлениям социального порядка: материальному положению и настроениям крестьянства. Н. А. Добролюбов писал, что важно указывать, как народ относится к тому, что рассказывает. Думают ли сказочники и их слушатели о действительном существовании чудного тридесятого царства, с его жемчужными дворцами, кисельными берегами и пр.? Или же это говорится для красы слова?.. Только живой ответ на подобные вопросы, утверждал критик, "дает возможность принять народные сказания как одно из средств для определения той степени развития, на которой находится народ". "Нам кажется, — писал далее Добролюбов, — что всякий из людей, записывающих и собирающих произведения народной поэзии, сделал бы вещь очень полезную, если бы не стал ограничиваться простым записыванием текста сказки или песни, а передал бы и всю обстановку, как чисто внешнюю, так и более внутреннюю, нравственную, при которой удалось ему услышать эту песню или сказку"[24].
Здесь была сформулирована целая программа для собирателей народной поэзии. Требования, высказанные Н. А. Добролюбовым, не утратили своего значения до сих пор.
Годы пребывания на службе в Главном архиве иностранных дел были самыми плодотворными в жизни А. Н. Афанасьева. Но постоянный интерес его к языческим верованиям и творчеству народа, пропаганда фольклора вызывали, как уже говорилось, резкое недовольство властей — церковных и светских. В 1862 году, по доносу провокатора, он был уволен из архива без пенсиона и с запрещением впредь состоять на государственной службе. Материальные лишения, тяжелые жилищные условия, болезни, распродажа прекрасно подобранной и необходимой для работы библиотеки — нужны были средства для жизни и продолжения работы... И труд, труд тяжелый, изнурительный, над переработкой, дополнением ранее написанных исследований. "Я сижу теперь за славянской мифологией, но работа подвигается медленно, и не знаю, успею ли нынешнее лето приступить к печатанию первого тома", — писал он П. П. Пекарскому 19 мая 1865 г.[25]
Результатом этой работы стало трехтомное издание "Поэтических воззрений славян на природу".
Это громадное исследование было последним трудом А. Н. Афанасьева. 23 октября 1871 г. он умер от чахотки. Похоронен А. Н. Афанасьев в Москве, на Пятницком кладбище.
Все, что говорилось выше об отдельных статьях А. Н. Афанасьева и о комментариях к сказкам, относится, естественно, и к "Поэтическим воззрениям". Следует отметить только еще один важный момент: материалистический взгляд Афанасьева на проблему происхождения мифов, других видов народной поэзии. Огромный фактический материал, который был в его распоряжении, приводил ученого к материалистическому выводу о том, что в основе мифов, мифических образов, всех олицетворений лежат наблюдения людей над их собственной жизнью, трудовой деятельностью. А. Н. Афанасьев, в частности, писал:
"Олицетворяя грозовые тучи быками, коровами, овцами и козами, первобытное племя ариев усматривало на небе, в царстве бессмертных богов, черты своего собственного пастушеского быта: ясное солнце и могучий громовник, как боги, приводящие весну с ее дождевыми облаками, представлялись пастырями мифических стад"[26].
Суждения о том, что в основе мифологических воззрений лежали явления материальной действительности, повседневного быта народов, неоднократно встречаются в исследовании А. Н. Афанасьева. Например: "Первобытное, младенческое племя усматривало на небе свой пастушеский быт, во всей его житейской обстановке". Несколько дальше А. Н. Афанасьев утверждал, что народная фантазия создавала мифические образы не иначе как на основании сходства и аналогии их с действительными явлениями[27]. Количество подобных примеров можно было увеличить.
Советский этнограф С. А. Токарев отмечал, что А. Н. Афанасьев "понимал... что в основе того олицетворения небесных явлений, к которому мифологи любили сводить всякую религию, лежали все же явления земной материальной действительности"[28]. Основу эту, продолжал С. А. Токарев, Афанасьев видел в пастушеском быте древних ариев.
Однако в этом же исследовании встречаются и прямо противоположные мысли. Приведем несколько примеров.
Сказка, по А. Н. Афанасьеву, чужда всего исторического; предметом ее повествований был не человек, не его общественные тревоги и подвиги, а разнообразные явления всей обоготворенной природы[29].
Предания о кладах, по А. Н. Афанасьеву, составляют обломки древних мифических сказаний о небесных светилах, скрываемых нечистою силою в темных пещерах облаков и туманов. С течением времени, объясняет исследователь, когда народ утратил живое понимание метафорического языка, когда мысль уже не угадывала под золотом и серебром блестящих светил неба, а под темными пещерами — туч, предания эти были низведены на землю и получили значение действительных фактов. Аналогично и в другой части исследования. Забывая первоначальный смысл метафорических выражений, народ низвел мифическое сказание о небесных кладах до простого, буквального объяснения; облачные скалы и вертепы обратились в его убеждениях в настоящие горы, из которых добываются благородные металлы, в курганы и могильные холмы, где вместе с умершими зарывалась и часть их сокровищ, в пещеры и подземелья, куда древний человек прятал свои драгоценности, чтобы обезопасить их от вражьего похищения. Там, по мнению А. Н. Афанасьева, было и со множеством других верований: небесная корова заменилась простою буренкою, ведьма-туча — деревенскою бабою и т. д.
"Таким образом, древние мифические предания, е течением времени, сводятся народом к простым объяснениям, заимствуемым из его действительной жизни"[30].
Да, А. Н. Афанасьев во многом заблуждался, его методология устарела, мы не можем согласиться и со многими объяснениями исследователем тех или иных поверий, верований, произведений народной поэзии. Однако глубоко неверно было бы исходить из этих ошибок при оценке научного наследия А. Н. Афанасьева в целом, как это иногда имело место в недалеком прошлом. Здесь уместно напомнить заключительную часть работы, в которой Афанасьев акцентировал внимание на том, что "духовная сторона человека, мир его убеждения и верований в глубокой древности не были вполне свободным делом, а неизбежно подчинялись материальным условиям, лежавшим столько же в природе окружающих его предметов и явлений, сколько и в звуках родного языка"[31].
Закончил Афанасьев свое исследование словами, в которых звучало ясное понимание общественного значения его труда: "Часто из одного метафорического выражения, как из зерна, возникает целый ряд примет, верований и обрядов, опутывающих жизнь человеческую тяжелыми цепями, и много-много нужно было усилий, чтобы разорвать эту невидимую сеть предрассудков и взглянуть на <...> мир светлыми очами!"[32]
Общественное значение труда А. Н. Афанасьева отметил и его современник профессор А. А. Котляревский. "Есть и еще одна добрая сторона в труде г. Афанасьева, которую нельзя оставить без внимания, — писал он, — Я разумею общее нравственное значение книги: приведя массу суеверий, опутывающих народную жизнь, к их источникам и простым причинам, показывая, как возникли и сложились они, автор в корне подрывает и их обольщения и силу, которою они владычествуют не над одними не искушенными наукой умами"[33].
Высоко ценил исследование А. Н. Афанасьева А. М. Горький. Он горячо советовал писателям читать и изучать его. В мае 1910 года Горький писал Л. А. Никифоровой с Капри: "Так как наш народ — герой, что бы там ни кричали модники, то для знакомства с его духом, с его творчеством хорошо знать книгу Афанасьева: "Поэтические воззрения славян на природу" — старая, но добрая книга и сделана с любовью"[34]. В письме к П. X. Максимову (август 1911-го, Капри): "Если попадется Вам в руки книга Афанасьева "Поэтические воззрения славян на природу" — хватайте и читайте внимательно"[35].
Исследование А. Н. Афанасьева, столь высоко оцененное А. М. Горьким, ни разу не переиздавалось и стало библиографической редкостью. Нынешнее, сокращенное, издание познакомит любителей народной поэзии, всех интересующихся отечественной историей не только с основным трудом одного из талантливых и последовательных представителей мифологической школы в России, методологией исследователя, но и с огромным количеством произведений фольклора (преданий, легенд, сказок, заговоров, былин), верованиями народа в прошлом, его праздниками.
...По мере того, как отдаляется от нас XIX век, все яснее вырисовывается — и не только перед историками литературы — истинное значение многотрудной деятельности А. Н. Афанасьева на ниве отечественной культуры. По этому поводу один из современных исследователей народного словотворчества недавно писал: "Афанасьев жил политическими событиями времени, горячо сочувствовал угнетенным крестьянам, питал вражду к помещичьему всевластию, был критиком царской реформы, презирал духовенство, понимал, какую роль оно играет, охраняя существующие порядки. Только одно это дает Афанасьеву право на почетное имя демократа — сторонника решительных освободительных преобразований в России"[36].
Вот почему книгами Афанасьева зачитывался Лев Толстой.
Вот почему его работами — среди множества забот и обязанностей по созданию первого в мире свободного государства рабочих и крестьян — интересовался Владимир Ильич Ленин. В Кремлевской библиотеке Ленина под № 6760 хранится I том собрания сочинений А. Н. Афанасьева, выпущенный в Казани в 1920 году.
Вот почему всему, что создал Афанасьев, суждена долгая жизнь.
В. П. Кирдан
В тексте А. Н. Афанасьева встречаются следующие сокращения:
болг. — болгарский белорусск. — белорусский воронеж. — воронежский вятск. — вятский галицк. — галицкий греч. — греческий губ. — губерния древн. — древний костромск. — костромской лат. — латинский малорус. — малорусский мн. др. — многое другое напр. — например нижегор. — нижегородский областн. — областной оренбур. — оренбургский перм. — пермский проч. — прочее рукоп. — рукопись санскр. — санскритский сербск. — сербский старин. — старинный тамбов. — тамбовский тыс. — тысяч уменьшит. — уменьшительный черниг. — черниговскийПроисхождение мифа, метод и средства его изучения
Богатый и можно сказать — единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражениями. Чтобы показать, как необходимо и естественно создаются мифы (басни), надо обратиться к истории языка...
Еще до сих пор в наших областных наречиях и в памятниках устной народной словесности слышится та образность выражений, которая показывает, что слово не всегда есть только знак, указывающий на известное понятие, но что в то же время оно живописует самые характеристические оттенки предмета и яркие, картинные особенности явления. Приведем примеры: зыбун — неокреплый грунт земли на болоте, пробежь — проточная вода, леи (от глагола лить) — проливные дожди, сеногной — мелкий, но продолжительный дождь, листодер — осенний ветер, поползуха, — метель, которая стелется низко по земле, лизун — коровий язык, куроцап — ястреб, каркун — ворон, полоз — змей, изъедуха — злобный человек и проч.; особенно богаты подобными речениями народные загадки: мигай — глаз, сморкало, сопай и нюх — нос, лепетайло — язык, зевало и ядало — рот, грабилки и махалы — руки, понура — свинья, лепета — собака, живулечка — дитя и многие другие, в которых находим прямое, для всех очевидное указание на источник представления. Так как различные предметы и явления легко могут быть сходны некоторыми своими признаками и в этом отношении производят на чувства одинаковое впечатление, то естественно, что человек стал сближать их в своих представлениях и придавать им одно и то же название, или, по крайней мере, названия, производные от одного корня. С другой стороны, каждый предмет и каждое явление, смотря по различию своих свойств и действий, могли вызвать и в самом деле вызывали в душе человеческой не одно, а многие и разнородные впечатления. Оттого, по разнообразию признаков, одному и тому же предмету или явлению придавалось по нескольку различных названий. Предмет обрисовывался с разных сторон, и только во множестве синонимических выражений получал свое полное определение. Но должно заметить, что каждый из этих синонимов, обозначая известное качество одного предмета, в то же самое время мог служить и для обозначения подобного же качества многих других предметов и таким образом связывать их между собою. Здесь-то именно кроется тот богатый родник метафорических выражений, чувствительных к самым тонким оттенкам физических явлений, который поражает нас своею силою и обилием в языках древнейшего образования и который впоследствии, под влиянием дальнейшего развития племен, постепенно иссякает. В обыкновенных санскритских словарях находится 5 названий для руки, 11 для света, 15 для облака, 20 для месяца, 26 для змеи, 35 для огня, 37 для солнца и т. д. В незапамятной древности значение корней было осязательно, присуще сознанию народа, который с звуками родного языка связывал не отвлеченные мысли, а те живые впечатления, какие производили на его чувства видимые предметы и явления. Теперь представим, какое смешение понятий, какая путаница представлений должны были произойти при забвении коренного значения слов; а такое забвение рано или поздно, но непременно постигает народ. То сочувственное созерцание природы, которое сопровождало человека в период создания языка, впоследствии, когда уже перестала чувствоваться потребность в новом творчестве, постепенно ослабевало. ...Удаляясь от первоначальных впечатлений и стараясь удовлетворить вновь возникающим умственным потребностям, народ обнаруживает стремление обратить созданный им язык в твердо установившееся и послушное орудие для передачи собственных мыслей... Забвение корня в сознании народном отнимает у всех образовавшихся от него слов их естественную основу, лишает их почвы, а без этого память уже бессильна удержать все обилие словозначений; вместе с этим связь отдельных представлений, державшаяся на родстве корней, становится недоступною. Большая часть названий, данных народом под наитием художественного творчества, основывалась на весьма смелых метафорах. Но как скоро были порваны те исходные нити, к которым они были прикреплены изначала, метафоры эти потеряли свой поэтический смысл и стали приниматься за простые, непереносные выражения и в таком виде переходили от одного поколения к другому. Понятные для отцов, повторяемые по привычке детьми, они явились совершенно неразгаданными для внуков. Сверх того, переживая века, дробясь по местностям, подвергаясь различным географическим и историческим влияниям, народ и не в состоянии был уберечь язык свой во всей неприкосновенности и полноте его начального богатства: старели и вымирали прежде употребительные выражения, отживали век грамматические формы, одни звуки заменялись другими, родственными, старым словам придавалось новое значение. Вследствие таких вековых утрат языка, превращения звуков и подновления понятий, лежавших в словах, исходный смысл древних речений становился все темнее и загадочнее, и начинался неизбежный процесс мифических обольщений, которые тем крепче опутывали ум человека, что действовали на него неотразимыми убеждениями родного слова. Стоило только забыться, затеряться первоначальной связи понятий, чтобы метафорическое уподобление получило для народа все значение действительного факта и послужило поводом к созданию целого ряда баснословных сказаний. Светила небесные уже не только Е переносном, поэтическом смысле именуются "очами неба", но в самом деле представляются народному уму под этим живым образом, и отсюда возникают мифы о тысячеглазом, неусыпном ночном страже — Аргусе[37] и одноглазом божестве солнца; извилистая молния является огненным змеем, быстролетные ветры наделяются крыльями, владыка летних гроз — огненными стрелами. В начале народ еще удерживал сознание о тождестве созданных им поэтических образов с явлениями природы, но с течением времени это сознание более и более ослабевало и наконец совершенно терялось; мифические представления отделялись от своих стихийных основ и принимались как нечто особое, независимо от них существующее. Смотря на громоносную тучу, народ уже не усматривал в ней Перуновой колесницы, хотя и продолжал рассказывать о воздушных поездах бога-громовника и верил, что у него действительно есть чудесная колесница. Там, где для одного естественного явления существовали два, три и более названий — каждое из этих имен давало обыкновенно повод к созданию особенного, отдельного мифического лица, и обо всех этих лицах повторялись совершенно тождественные истории; так, например, у греков рядом с Фебом находим Гелиоса[38]. Нередко случалось, что постоянные эпитеты, соединяемые с каким-нибудь словом, вместе с ним прилагались и к тому предмету, для которого означенное слово служило метафорой: солнце, будучи раз названо львом, получало и его когти, и гриву и удерживало эти особенности даже тогда, когда позабывалось самое животненное уподобление. Под таким чарующим воздействием звуков языка слагались и религиозные, и нравственные убеждения человека. "Человек (сказал Бэкон[39]) думает, что ум управляет его словами, но случается также, что слова имеют взаимное и возвратное влияние на наш разум. Слова, подобно татарскому луку, действуют обратно на самый мудрый разум, сильно путают и извращают мышление". Высказывая эту мысль, знаменитый философ, конечно, не предчувствовал, какое блистательное оправдание найдет она в истории верований и культуры языческих народов. Если переложить простые, общепринятые нами выражения о различных проявлениях сил природы на язык глубочайшей древности, то мы увидим себя отовсюду окруженными мифами, исполненными ярких противоречий и несообразностей: одна и та же стихийная сила представлялась существом и бессмертным и умирающим, и в мужском и в женском поле, и супругом известной богини и ее сыном, и так далее, смотря по тому, с какой точки зрения посмотрел на нее человек и какие поэтические краски придал таинственной игре природы. Ничто так не мешает правильному объяснению мифов, как стремление систематизировать, желание подвести разнородные предания и поверья под отвлеченную философскую мерку... Миф есть древнейшая поэзия, и как свободны и разнообразны могут быть поэтические воззрения народа на мир, так же свободны и разнообразны и создания его фантазии, живописующей жизнь природы в ее ежедневных и годичных превращениях...
Следя за происхождением мифов, за их исходным, первоначальным значением, исследователь постоянно должен иметь в виду и их дальнейшую судьбу. В историческом развитии своем мифы подвергаются значительной переработке. Особенно важны здесь следующие обстоятельства:
а) раздробление мифических сказаний. Каждое явление природы, при богатстве старинных метафорических обозначений, могло изображаться в чрезвычайно разнообразных формах; формы эти не везде одинаково удерживались в народной памяти: в разных ветвях населения выказывалось преимущественное сочувствие к тому или другому сказанию, которое и хранилось как святыня, тогда как другие сказания забывались и вымирали. Что было забываемо одною отраслью племени, то могло уцелеть у другой, и наоборот, что продолжало жить там, то могло утратиться здесь. Такое разъединение тем сильнее заявляло себя, чем более помогали ему географические и бытовые условия, мешавшие близости и постоянству людских сношений;
б) низведение мифов на землю и прикрепление их к известной местности и историческим событиям. Те поэтические образы, в каких рисовала народная фантазия могучие стихии и их влияние на природу, почти исключительно были заимствуемы из того, что окружало человека, что по тому самому было для него и ближе и доступнее; из собственной житейской обстановки брал он свои наглядные уподобления и заставлял божественные существа творить то же на небе, что делал сам на земле. Но как скоро утрачено было настоящее значение метафорического языка, старинные мифы стали пониматься буквально, и боги мало-помалу унизились до человеческих нужд, забот и увлечений и с высоты воздушных пространств стали низводиться на землю, на это широкое поприще народных подвигов и занятий. Шумные битвы их во время грозы сменились участием в людских войнах; ковка молниеносных стрел, весенний выгон дождевых облаков, уподобляемых дойным коровам, борозды, проводимые в тучах громами и вихрями, и рассыпание плодоносного семени — дождя — заставили видеть в них кузнецов, пастухов и пахарей; облачные сады и горы и дождевые потоки, вблизи которых обитали небесные боги и творили свои славные деяния, были приняты за обыкновенные земные леса, скалы и источники, и к этим последним прикрепляются народом его древние мифические сказания. Каждая отдельная часть племени привязывает мифы к своим ближайшим урочищам и чрез то налагает на них местный отпечаток. Низведенные на землю, поставленные в условия человеческого быта, воинственные боги утрачивают свою недоступность, нисходят на степень героев и смешиваются с давно усопшими историческими личностями. Миф и история сливаются в народном сознании; события, о которых повествует последняя, вставляются в рамки, созданные первым; поэтическое предание получает историческую окраску, и мифический узел затягивается еще крепче;
в) нравственное (этическое) мотивирование мифических сказаний. С развитием народной жизни, когда в отдельных ветвях населения обнаруживается стремление сплотиться воедино, необходимо возникают государственные центры, которые вместе с тем делаются и средоточиями духовной жизни; сюда-то приносится все разнообразие мифических сказаний, выработанных в различных местностях; несходства и противоречия их бросаются в глаза, и рождается естественное желание примирить все замеченные несогласия... Так возникает канон, устрояющий царство бессмертных и определяющий узаконенную форму верований. Между богами устанавливается иерархический порядок; они делятся на высших и низших; самое общество их организуется по образцу человеческого, государственного союза, и во главе его становится верховный владыка с полною царственною властью. Степень народной культуры оказывает несомненное влияние на эту работу...
Так называемые индоевропейские языки, к отделу которых принадлежат и наречия славянские, суть только разнообразные видоизменения одного древнейшего языка, который был для них тем же, чем позднее для наречий романских был язык латинский — с тою однако ж разницей, что в такую раннюю эпоху не было литературы, чтобы сохранить нам какие-нибудь остатки этого праязыка. Племя, которое говорило на этом древнейшем языке, называло себя ариями, и от него-то, как многоплодные отрасли от родоначального ствола, произошли народы, населяющие почти всю Европу и значительную часть Азии. Каждый из новообразовавшихся языков, развиваясь исторически, многое терял из своих первичных богатств, но многое и удерживал, как залог своего родства с прочими арийскими языками, как живое свидетельство их былого единства...
Большая часть мифических представлений индоевропейских народов восходит к отдаленному времени ариев; выделяясь из общей массы родоначального племени и расселяясь по дальним землям, народы, вместе с богато выработанным словом, уносили с собой и самые воззрения и верования. Отсюда понятно, почему народные предания, суеверия и другие обломки старины необходимо изучать сравнительно. Как отдельные выражения, так и целые сказания и самые обряды не везде испытывают одну судьбу: искаженные у одного народа, они иногда во всей свежести сберегаются у другого; разрозненные их части, уцелевшие в разных местах, будучи сведены вместе, очень часто поясняют друг друга и без всякого насилия сливаются в одно целое...
Славяне, о которых нам придется говорить преимущественно пред всеми другими народами, — славяне, прежде нежели явились в истории как самобытное, обособившееся племя, жили единою, нераздельною жизнью с литовцами; славяно-литовское племя выделилось из общего потока германо-славяно-литовской народности, а эта последняя составляет особо отделившуюся ветвь ариев. Итак, хотя славяне и состоят в родстве со всеми индоевропейскими народами, но ближайшие кровные узы соединяют их с племенами немецким и еще более — литовским.
Изо всего сказанного очевидно, что главнейший источник для объяснения мифических представлений заключается в языке. Воспользоваться его указаниями — задача широкая и нелегкая; к допросу должны быть призваны и литературные памятники прежних веков, и современное слово во всем разнообразии его местных, областных отличий. Старина открывается исследователю не только в произведениях древней письменности; она и доныне звучит в потоках свободной, устной речи. Областные словари сохраняют множество стародавних форм и выражений, которые столько же важны для исторической грамматики, как и для бытовой археологии; положительно можно сказать, что без тщательного изучения провинциальных особенностей языка многое в истории народных верований и обычаев останется темным и неразгаданным...
Особенною силою и свежестью дышит язык эпических сказаний и других памятников устной словесности; памятники эти крепкими узами связаны с умственными и нравственными интересами народа, в них запечатлены результаты его духовного развития и заблуждений, а потому, вместе с живущими в народе преданиями, поверьями и обрядами, они составляют самый обильный материал для мифологических исследований... Поэтому считаем небесполезным предпослать несколько кратких заметок о памятниках народной литературы, свидетельствами которых придется нам постоянно пользоваться.
1. Загадка. Народные загадки сохранили для нас обломки старинного метафорического языка. Вся трудность и вся сущность загадки именно в том и заключается, что один предмет она старается изобразить чрез посредство другого, какой-нибудь стороною аналогического с первым. Кажущееся бессмыслие многих загадок удивляет нас только потому, что мы не постигаем, что мог найти народ сходного между различными предметами, по-видимому, столь не похожими друг на друга; но как скоро поймем это уловленное народом сходство, то не будет ни странности, ни бессмыслия. Приведем несколько примеров: "Черненька собачка свернувшись лежит: не лает, не кусает, а в дом не пускает" (замок); "Лежит баран — не столько шерсти на нем, сколько ран" (колода, на которой дрова рубят); "В хлеву у быка копна на рогах, а хвост на дворе у бабы в руках" (ухват с горшком); "Сивая кобыла по полю ходила, к нам пришла — по рукам пошла" (сито). С первого взгляда кажется нелепостью назвать замок — собакою, колоду — бараном, ухват — быком, сито — кобылою; но если вглядимся пристальнее, то увидим, что собака послужила метафорой для замка, потому что она так же сторожит хозяйское добро, как и запертый замок; крепкий удар бараньего лба заставил уподобить этому животному деревянные орудия, употреблявшиеся в старину для разбития стен и оград, а потому и всякая свая, колода могла назваться бараном; ухват своими распорками (вилами) напоминает рога быка, почему в некоторых областных наречиях он называется рогач; сито приготавливается из конского волоса, и в приведенной загадке целое поставлено вместо части...
Стройный эпический склад народных загадок, необыкновенная смелость сближений, допускаемых ими, и та наивность представлений, которая составляет их наиболее характеристическое свойство, убедительно свидетельствуют за их глубокую древность... В них запечатлел народ свои старинные воззрения на мир: смелые вопросы, заданные пытливым умом человека о могучих силах природы, выразились именно в этой форме. Такое близкое отношение загадки к мифу придало ей значение таинственного ведения, священной мудрости, доступной преимущественно существам божественным. У греков задает загадки чудовищный сфинкс; в скандинавской "Эдде"[40] боги и великаны состязаются в мудрости, задавая друг другу загадки мифического содержания, и побежденный должен платить своей головою. Славянские предания загадыванье загадок приписывают бабе-яге, русалкам и вилам; как лужицкая полудница наказывает смертью того, кто не сумеет отвечать на ее мудреные вопросы, так и наши русалки готовы защекотать всякого, кто не разрешит заданной ими загадки...
2. Пословицы, поговорки, присловья, прибаутки мало представляют осязательных намеков на языческие верования; но они важны, как выразительные, меткие, по самой форме своей наименее подверженные искажению образцы устной народной речи и как памятники издавна сложившихся воззрений на жизнь и ее условия... Пословицы и поговорки сливаются со всеми другими краткими изречениями народной опытности или суеверия, как-то: клятвами, приметами, истолкованиями сновидений и врачебными наставлениями. Эти отрывочные, нередко утратившие всякий смысл изречения примыкают к общей сумме стародавних преданий и в связи с ними служат необходимым пособием при объяснении различных мифов.
Примета всегда указывает на какое-нибудь соотношение, большею частью уже непонятное для народа, между двумя явлениями мира физического или нравственного, из которых одно служит предвестием другого, непосредственно за ним следующего, долженствующего сбыться в скором времени. Главным образом приметы распадаются на два разряда:
а) во-первых, приметы, выведенные из действительных наблюдений. По самому характеру первоначального быта, пастушеско-земледельческого, человек всецело отдавался матери-природе, от которой зависело все его благосостояние, все средства его жизни. Понятно, с каким усиленным вниманием должен был он следить за ее разнообразными явлениями, с какою неустанною заботливостью должен был всматриваться в движение небесных светил, их блеск и потухание, в цвет зари и облаков, прислушиваться к ударам грома и дуновению ветров, замечать вскрытие рек, распускание и цветение деревьев, прилет и отлет птиц и проч., и проч. Живое воображение на лету схватывало впечатления, посылаемые окружающим миром, старалось уловить между ними взаимную связь и отношения и искало в них знамений грядущей перемены погоды, приближения весны, лета, осени и зимы, наступления жары или холода, засухи или дождевых ливней, урожая или бесплодия. Не зная естественных законов, народ не мог понять, почему известные причины вызывают всегда известные последствия; он видел только, что между различными явлениями и предметами существует какая-то таинственная близость, и результаты своих наблюдений, своей впечатлительности выразил в тех кратких изречениях, которые так незаметно переходят в пословицы и так легко удерживаются памятью. Приметы эти более или менее верны, смотря по степени верности самих наблюдений, и многие из них превосходно обрисовывают быт поселянина. Приведем несколько примеров: если в то время, когда пашут землю, подымается пыль и садится на плечи пахаря, то надо ожидать урожайного года, т. е. земля рыхла и зерну будет привольно в мягком ложе. Частые северные сияния предвещают морозы; луна бледна к дождю, светла — к хорошей погоде, красновата — к ветру; огонь в печи красен — к морозу, бледен — к оттепели; если дым стелется по земле, то зимою будет оттепель, летом — дождь, а если подымается вверх столбом — это знак ясной погоды летом и мороза зимою: большая или меньшая яркость северных сияний, цвет луны и огня и направление дыма определяются степенью сухости и влажности воздуха, отчего зависят также и ясная погода или ненастье, морозы или оттепель. На том же основании падение туманов на землю сулит непогоду, а туманы, подымающиеся кверху, предвещают вёдро. Если зажженная лучина трещит и мечет искры — ожидай ненастья, т. е. воздух влажен и дерево отсырело.
б) Но, сверх того, есть множество примет суеверных, в основании которых лежит не опыт, а мифическое представление, так как в глазах язычника, под влиянием старинных метафорических выражений, все получало свой особенный, сокровенный смысл. Между этими приметами, на которые наталкивали человека его верования и самый язык, и приметами, порожденными знакомством с природою, таится самая тесная связь. Древнейшее язычество состояло в обожании природы, и первые познания об ней человека были вместе и его религией; поэтому действительные наблюдения часто до того сливаются в народных приметах с мифическими воззрениями, что довольно трудно определить, что именно следует признать здесь за первоначальный источник. Многие приметы, например, вызваны, по-видимому, наблюдением над нравами, привычками и свойствами домашних и других животных. Нельзя совершенно отрицать в животных того тонкого инстинкта, которым они заранее предчувствуют атмосферные перемены; предчувствие свое они заявляют различно: перед грозой и бурей рогатый скот глухо мычит, лягушки начинают квакать, воробьи купаются в пыли, галки с криком носятся стаями, ласточки низко ширяют в воздухе и т. д. Еще теперь поселяне довольно верно угадывают изменения погоды по хрюканью свиней, вою собак, мычанью коров и блеянью овец. Народы пастушеские и звероловные, обращаясь постоянно с миром животных, не могли не обратить внимания на эти признаки и должны были составить из них для себя практические приметы. Но, с другой стороны, если взять в соображение ту важную роль, какую играют в мифологии зооморфические олицетворения светил, бури, ветров и громовых туч, то сам собою возникает вопрос: не явились ли означенные приметы плодом этих баснословных представлений? О некоторых приметах, соединяемых с птицами и зверями, положительно можно сказать, что они нимало не соответствуют настоящим привычкам и свойствам животных, а между тем легко объясняются из мифических сближений, порожденных старинным метафорическим языком; так, например, рыжая корова, идущая вечером впереди стада, предвещает ясную погоду на следующий день, а черная — ненастье.
Древность народных примет подтверждается и их несомненным сродством с языческими верованиями и свидетельством старинных памятников, которые причисляют их к учению "богоотметному", еретическому... Самое полное исчисление суеверных примет встречаем в статье, известной под названием "О книгах истинных и ложных". Большинство списков этого индекса относится к XVI и XVII столетиям; здесь осуждаются: "Сонник, волховник — волхвующе птицами и зверьми, еже есть се: стенотреск, ухозвон, вранограй, куроклик (т. е. крик воронов и пение петухов), окомиг, огнь бучит, пес выет, мышеписк, мышь порты изгрызет, жаба вокоче (воркочет, квогчет), мышца подрожат, сон страшен, слепца стряцет, (встретит), изгорит нечто, огнь пищит, искра из огня (прянет), кошка мявкает, падет человек, свеща угаснет, конь ржет, вол на вол (вскочит)..."
Когда метафорический язык утратил свою общедоступную ясность, то для большинства понадобилась помощь вещих людей. Жрецы, поэты и чародеи явились истолкователями разнообразных знамений природы, глашатаями воли богов, отгадчиками и предвещателями. Они не только следили за теми приметами, которые посылала обожествленная природа независимо от желаний человека, но и сами допрашивали ее. В важных случаях жизни, когда народ или отдельные лица нуждались в указаниях свыше, вещие люди приступали к религиозным обрядам: возжигали огонь, творили молитвы и возлияния, приносили жертву и по ее внутренностям, по виду и голосу жертвенного животного, по пламени огня и по направлению дыма заключали о будущем; или выводили посвященных богам животных и делали заключения по их поступи, ржанию или мычанию; точно так же полет нарочно выпущенных священных птиц, их крик, принятие и непринятие корма служили предвестиями успеха или неудачи, счастья или беды. Совершалось и множество других обрядов с целью вызвать таинственные знамения грядущих событий. Подобно тому как старинное метафорическое выражение обратилось в загадку, так эти "религиозные обряды перешли в народные гадания и ворожбу. Сюда же относим мы и сновидения: это та же примета, только усмотренная не наяву, а во сне; метафорический язык загадок, примет и сновидений один и тот же. Сон был олицетворяем язычниками как существо божественное, и все виденное во сне почиталось внушением самих богов, намеком на что-то неведомое, чему суждено сбыться. Поэтому сны нужно разгадывать, т. е. выражения метафорические переводить на простой, общепонятный язык...
Чтобы нагляднее показать то важное влияние, какое имели на создание примет, гаданий, снотолкований и вообще поверий язык и наклонность народного ума во всем находить аналогию, мы приведем несколько примеров...
Не должно кормить ребенка рыбою прежде, нежели минет ему год; в противном случае он долго не станет говорить: так как рыба нема, то суеверие связало с рыбною пищею представление о долгой немоте ребенка.
Не должно есть с ножа, чтобы не сделаться злым, — по связи понятий убийства, резни и кровопролития с острым ножом. Если при весеннем разливе лед не тронется с места, а упадет на дно реки или озера, то год будет тяжелый; от тяжести потонувшего льда поселяне заключают о тяжелом влиянии грядущего лета: будет или неурожай, бескормица, или большая смертность в стадах, или другая беда. Вообще падение сулит несчастье, так как слово падать, кроме своего обыкновенного значения, употребляется еще в смысле умереть: падеж скота, падаль... Не должно варить яиц там, где сидит наседка; иначе зародыши в положенных под нее яйцах так же замрут, как и в тех, которые сварены. Сходно с этим: кто испечет луковицу прежде, чем собран лук с гряд, у того он весь засохнет.
В случае пореза обмакивают белую ветошку в кровь и просушивают у печки: как высыхает тряпица, так засохнет, т. е. затянется, и сажая рана. Сушить ветошку надо слегка, не на сильном огне, а то рана еще пуще разболится. В былое время даже врачи не советовали тотчас после кровопускания ставить кровь на печку или лежанку, думая, что от этого может усилиться в больном внутренний жар, воспаление.
Когда невеста моется перед свадьбою в бане и будут в печи головешки, то не следует бить их кочергою; не то молодой муж будет бить свою суженую. Для пояснения этой приметы прибавим, что пламя очага издревле принималось за эмблему домашнего быта и семейного счастья...
Два человека столкнутся нечаянно головами — знак, что им жить вместе, думать заодно (Воронеж. губ.).
Принимая масть за целое, народные приметы соединяют с волосами представление о голове: не должно остриженных волос жечь или кидать зря, как попало, от этого приключается головная боль. Крестьяне собирают свои остриженные волоса, свертывают вместе и затыкают под стреху или в тын. Чьи волоса унесет птица в свое гнездо, у того будет колтун, т. е. волоса на голове собьются также плотно, как в птичьем гнезде... Как с волосами, так и с шапкою, назначенною покрывать голову, следует обращаться осторожно: кто играет своей шапкою, у того заболит голова.
Нога, которая приближает человека к предмету его желаний, обувь, которою он при этом ступает, и след, оставляемый им на дороге, играют весьма значительную роль в народной символике. Понятиями движения, поступи, следования определялись все нравственные действия человека; мы привыкли называть эти действия поступками, привыкли говорить: войти в сделку, вступить в договор, следовать советам старших, т. е. как бы идти по их следам; отец ведет за собою детей, муж — жену, которая древле даже называлась водимою, и, смотря по тому, как они шествуют за своими вожатыми, составляется приговор о их поведении; нарушение уставов называем проступком, преступлением, потому что соединяем с ним идею совращения с настоящей дороги и переступания законных границ: кто не следует общепринятым обычаям, тот человек беспутный, непутевый, заблуждающийся; сбившись с дороги, он осужден блуждать по сторонам, идти не прямым, а окольным путем. Выражение: "перейти кому дорогу" — до сих пор употребляется в смысле: повредить чьему-либо успеху, заградить путь к достижению задуманной цели. Отсюда примета, что тому, кто отправляется из дому, не должно переходить дороги; если же это случится, то не жди добра. Может быть, здесь кроется основа поверья, по которому перекрестки (там, где одна дорога пересекает другую) почитаются за места опасные, за постоянные сборища нечистых духов. В тот день, когда уезжает кто-нибудь из родичей, поселяне не метут избы, чтобы не замести ему следа, по которому бы мог он снова воротиться под родную кровлю. Как метель и вихри, заметая проложенные следы и ломая поставленные вехи, заставляют плутать дорожных людей, так стали думать, что, уничтожая в дому следы отъехавшего родича, можно помешать его возврату. По стародавнему верованию, колдун может творить чары "на след"; "повредить или уничтожить след" означало метафорически: отнять у человека возможность движения, сбить его с ног, заставить слечь в постель... В народных гаданиях и приметах нога и обувь вещают о выходе из отеческого дома: "Подколенки свербят — путь будет", — сказано в старинном сборнике при исчислении различных суеверий...
Ворота указывают на предстоящий отъезд; то же предвещание соединяют и с дверями. У лужичан[41] девица, становясь посреди избы, бросает свой башмак через левое плечо к дверям, и если он вылетит вон из комнаты — то быть ей вскоре просватанной, а если нет — то оставаться при отце при матери. На Руси мать завязывает дочери глаза, водит ее взад и вперед по избе и затем пускает идти, куда хочет. Если случай приведет девушку в большой угол или к дверям — это служит знаком близкого замужества, а если к печке — то оставаться ей дома, под защитою родного очага...
Сваха, являясь с предложением к родителям невесты, старается усесться на лавку так, чтобы половица из-под ее ног шла прямо к двери; думают, что это содействует успеху дела, что родители согласятся выдать невесту. Кто, выходя из дому, зацепится в дверях или споткнется на пороге, о том думают, что его что-то задерживает, притягивает к этому дому, и потому ожидают его скорого возврата. Любопытна еще следующая примета: перед поездом к венцу невеста, желающая, чтобы сестры ее поскорее вышли замуж, должна потянуть за скатерть, которою покрыт стол. Метафорический язык уподобляет дорогу разостланному холсту; еще доныне говорится: полотно дороги. Народная загадка: "Ширинка — всему свету не скатать" — означает "дорогу"... Когда кто-нибудь из членов семейства уезжает из дому, то остающиеся на месте махают ему платками, чтобы "путь ему лежал скатертью" — был бы и ровен, и гладок. "Потянуть скатерть" означает, следовательно: потянуть за собою в дорогу и других родичей... У нас замечают: кто из молодой четы — жених или невеста — вступит во время венчания прежде на разостланный плат, тот и будет властвовать в доме; здесь как бы решается вопрос, кто из новобрачных за кем будет следовать по жизненному пути. О мужьях, послушных женам, говорится, что они "под башмаком", "под туфлею". В крестьянском быту доныне совершается на свадьбах древний обряд разувания жениха невестою.
Если чешутся глаза — придется плакать, если лоб — кланяться с приезжим, губы — кушать гостинец, ладонь — считать деньги, ноги — отправляться в дорогу, нос — слышать о новорожденном или покойнике; понятия "слуха" и "чутья" отождествляются в языке: малороссийское чую — слышу, наоборот, великорусы говорят: "Слышу запах"; у кого горят уши — того где-нибудь хулят или хвалят, т. е. придется ему услышать о себе худую или хорошую молву...
3. Заговоры суть обломки древних языческих молитв и заклинаний и потому представляют один из наиболее важных и интересных материалов для исследователя доисторической старины. Без сомнения, они не могли дойти и не дошли до нас во всей своей свежести, полноте и неизменности; наравне с другими устными памятниками и они подверглись значительным искажениям - отчасти вслесдствие сокрушительного влияния времени, отчасти вследствие того разрыва, какой произвело в последовательном развитии народных убеждений принятие христианства. Несмотря на это, заговоры сохранили нам драгоценные свидетельства...
В то время как, песни и сказки сделались средством развлечения, усладою досуга, низошли с своей эпической высоты и потому удобное могли быть подновляемы в языке и в обновке главного содержания - - заговоры удержали за собою тот строгий характер, который не дозволяет никаких намеренных отступленни и профанации. Они непригодны для забавы и, как памятники вещего, чародейного слова, вмещают в себе страшную силу, которую не следует пытать без крайней нужды; иначе наживешь беду. Заговоры поэтому вышли из общего употребления и составили предмет тайного ведения знахарей, колдунов, лекарок и ворожеек; к ним и обращается народ в тех случаях, когда необходимо прибегнуть к помощи старинных заклятий. Могучая сила заговоров заключается именно в известных эпических выражениях, в издревле узаконенных формулах; как скоро позабыты или изменены формулы — заклятие недействительно.Это убеждение заставило с особенною заботливостью оберегать самое слово заговора, хранить его, как святыню. В помощь памяти стали заносить заговоры на тетрадки, и редкий народный целебник или травник найдется без заговоров; подобные рукописи, написанные большею частью безграмотно, составляют истинный клад для науки. К сожалению, они не восходят ранее XVIII столетия; допетровская Русь сурово относилась к народному суеверию и вместе с колдунами и ведьмами жгла и их волшебные тетрадки.
4. Из отдела народных лирических песен для исследователя старины особенно важны обрядовые, названные так потому, что ими сопровождаются семейные и праздничные обряды. Это песни свадебные, похоронные заплачки и причитания, колядки, веснянки, троицкие, купальские и т. п. Они служат необходимым пояснением различных церемоний и игрищ, совершаемых в том или другом случае, и сохраняют любопытные указания на старинные верования и давно отживший быт. Впрочем, таких указаний немного, потому что песни эти подверглись значительному подновлению; большая часть из них, очевидно, позднейшего происхождения и ничего не дает для науки. Причина такого явления заключается в подвижности, изменчивости личного чувства, которым, главным образом, определяется содержание лирических песен.
Другое должно сказать о песнях эпических — богатырских, состаящих в самой тесной связи с народными преданиями и сказками. Основа их — древнее мифическое сказание, и если станем ближе в них всматриваться и сличать их вариации, живущие там и здесь у народов родственных, то необходимо убедимся, что влияние христианства и дальнейшей исторической жизни коснулось только имен и обстановки, а не самого содержания: вместо мифических героев подставлены исторические личности или святые угодники, вместо демонических сил — названия враждебных народов, да в некоторых местах прибавлены позднейшие бытовые черты. Но самый ход рассказа, его завязка и развязка, его чудесное остались неприкосновенными. Древние эпические сказания чужды личного произвола; они не были собственностью того или другого поэта, выражением его исключительных воззрений на мир, а, напротив, были созданием целого народа. Вот что в течение долгих веков оберегало народный эпос от окончательного падения и давало ему необыкновенную живучесть. Действительным поэтом был народ; он творил язык и мифы и таким образом давал все нужное для художественного произведения — и форму, и содержание; в каждом названии уже запечатлевался поэтический образ, и в каждом мифе высказывалась поэтическая мысль. Отдельные лица являлись только пересказчиками или певцами того, что создано народом: одаренные от природы способностью хорошо рассказывать или петь, они передавали в своих повестях и песнях давно всем известное и знакомое. Даже в выборе слов и оборотов они не были совершенно свободны; народный певец постоянно чувствовал неудержимо влекущую его силу предания: характеристические эпитеты, меткие уподобления, картинные описания — все это, однажды созданное творческим гением народа, тотчас же обратилось в общее достояние и стало повторяться без малейшей перемены. Множество готовых выражений и целых стихов значительно облегчали труд составления песни и делали ее, при самом ее рождении, для всех близкою, родною. Неразлучным товарищем эпической песни были у славян гусли, до сих пор составляющие необходимую принадлежность почти каждого дома в гористых местах Сербии, Боснии, Герцеговины и Черногорья; у малороссиян для этого служит бандура. Старинные поэтические сказания возглашались под звуки музыкальных инструментов; размер стихов и напев постоянно оставались неизменными, а чуткость уха, любовь к мелодии заставляли дорожить каждым словом...
Народные эпические герои — прежде чем низошли до человека, его страстей, горя и радостей, прежде чем явились в исторической обстановке — были олицетворениями стихийных сил природы; отсюда объясняются и те громадные размеры, и та сверхъестественная сила, которые придаются им в былинах и сказках; и в этом нет ничего странного, антихудожественного: поэтический образ создавался фантазией согласно с громадностью и могуществом естественных явлений и надолго удерживал за собою их существенные признаки. Воспевая подвиги богатырей, народный эпос рассказывает, как единым взмахом меча-кладенца побивают они несчетные рати и как за единый дух выпивают чару зелена вина — в полтора недра... Как в "Ведах" Индра, а в "Эдде" Тор[42], богатыри наши поражают враждебные рати несокрушимым мечом-молнией и не в меру упиваются дождем, который метафорически назывался медом и вином. На древние мифические основы сказаний и у славян, как у всех других народов, историческая жизнь накладывает свое клеймо. Хранимое в памяти народа, передаваемое из поколения в поколение, эпическое предание необходимо заимствует частные, отдельные черты из действительного быта и сливает их со стародавним содержанием; вместо облачных духов фантазия заставляет своих богатырей сражаться с полчищами татар и других кочевников и самого богатыря, представителя весенних гроз, подставляет каким-нибудь прославленным витязем или героем из казацкой вольницы. Тем не менее старина ярко выступает из-за этих новых представлений, которые далеко не приходятся ей по мерке...
Народные духовные песни, известные на Руси под именем стихов, могут дать полезные указания для разъяснения мифов, так как мотивы христианские более или менее сливаются в них с древнеязыческими... Из числа духовных песен, сбереженных русским народом, наиболее важное значение принадлежит Стиху о Голубиной книге[43], в котором что ни строка — то драгоценный камень на древнее мифическое представление... Самая форма, в какой передается содержание стиха — форма вопросов или загадок, требующих разрешения, отзывается значительною давностью. Как в "Эдде" владыка богов Один задавал мудрые вопросы великану Вафтрудниру: откуда создались земля и небо, месяц, и солнце, ночь и день, и что будет при кончине мира? — так и в нашем стихе предлагаются и разрешаются подобные же космогонические вопросы царем Давидом и Волотом Волотовичем, имя которого означает великана; позднее оно заменено именем князя Владимира. Поводом к такому разговору послужило чудесное явление Голубиной книги: с восточной стороны посходила туча грозная, из той тучи выпадала книга Голубиная. Народная фантазия изображает ее в таких чертах:
Приподнять книгу — не поднять будет, На руках держать — не сдержать будет, А по книге ходить — всю не выходить, По строкам глядеть — всю не выглядеть...Небесный свод наводил человека на вопросы: откуда солнце, лука и звезды, зори утренние и вечерние, облака, дождь, ветры, день и ночь? И потому с народным стихом, посвященным космогоническим преданиям, соединено сказание о гигантской книге, в которой записаны все мировые тайны и которой ни обозреть, ни вычитать невозможно...
5. До последнего времени существовал несколько странный взгляд на народные сказки. Правда, их охотно собирали, пользовались некоторыми сообщаемыми ими подробностями, как свидетельством о древнейших верованиях, ценили живой и меткий их язык, искренность и простоту эстетического чувства; но в то же время в основе сказочных повествований и в их чудесной обстановке видели праздную игру ума и произвол фантазии, увлекающейся за пределы вероятности и действительности. Сказка — складка, песня — быль, говорила старая пословица, стараясь провести резкую границу между эпосом сказочным и эпосом историческим. Извращая действительный смысл этой пословицы, принимали сказку за чистую ложь, за поэтический обман, имеющий единою целью занять свободный досуг небывалыми и невозможными вымыслами. Несостоятельность такого воззрения уже давно бросалась в глаза. Трудно было объяснить, каким образом народ, вымышляя фантастические лица, ставя их в известные положения и наделяя их разными волшебными диковинками, мог постоянно и до такой степени оставаться верен самому себе и на всем протяжении населенной им страны повторять одни и те же представления. Еще удивительнее, что целые массы родственных народов сохранили тождественные сказания, сходство которых, несмотря на устную передачу их в течение многих веков от поколения к поколению, несмотря на позднейшие примеси и на разнообразие местных и исторических условий, обнаруживается не только в главных основах предания, но и во всех подробностях и в самих приемах. Что творится произволом ничем не сдержанной фантазии, то не в состоянии произвести такого полного согласия и не могло бы уцелеть в такой свежести; творчество не остановилось бы на скучном повторении одних и тех же чудес, а стало бы выдумывать новые. Доказательством служат все искусственные подделки под народные рассказы, подделки, в которых чудесное близко граничит с нелепицей и бессмыслием. И к чему народ стал бы беречь как драгоценное наследие старины то, в чем сам бы видел только вздорную забаву? Сравнительное изучение сказок, живущих в устах индоевропейских народов, приводит к двум заключениям: во-первых, что сказки создались на мотивах, лежащих в основе древнейших воззрений арийского народа на природу, и, во-вторых, что, по всему вероятию, уже в эту давнюю арийскую эпоху были выработаны главные типы сказочного эпоса и потом разнесены разделившимися племенами в разные стороны — на места их новых поселений, сохранены же народною памятью — как и все поверья, обряды и мифические представления. Итак, сказка не пустая складка; в ней, как и вообще во всех созданиях целого народа, не могло быть и в самом деле нет ни нарочно сочиненной лжи, ни намеренного уклонения от действительного мира. Точно так же старинная песня не всегда быль; она, как уже замечено выше, большею частью переносит сказочные предания на историческую почву, связывает их с известными событиями народной жизни и прославившимися личностями и чрез то вставляет стародавнее содержание в новую рамку и придает ему значение действительно прожитой былины. Сказка же чужда всего исторического; предметом ее повествований был не человек, не его общественные тревоги и подвиги, а разнообразные явления всей обоготворенной природы. Оттого она не знает ни определенного места, ни хронологии; действие совершается в некое время в тридевятом царстве в тридесятом государстве; герои ее лишены личных, исключительно им принадлежащих характеристических признаков и похожи один на другого как две капли воды. Чудесное сказки есть чудесное могучих сил природы; в собственном смысле оно нисколько не выходит за пределы естественности, и если поражает нас своею невероятностью, то единственно потому, что мы утратили непосредственную связь с древними преданиями и их живое понимание...
Свет и тьма
На раннем утре своего доисторического существования пранарод, от которого произошли индоевропейские племена (в том числе и славяне), был погружен в ту простую, непосредственную жизнь, какая устанавливается матерью-природою. Он любил природу и боялся ее с детским простодушием и с напряженным вниманием следил за ее знамениями, от которых зависели и которыми определялись его житейские нужды. В ней находил он живое существо, всегда готовое отозваться и на скорбь и на веселье. Сам не сознавая того, он был поэтом; жадно вглядывался в картины обновляющегося весною мира, с трепетом ожидал восхода солнца и долго засматривался на блестящие краски утренней и вечерней зари, на небо, покрытое грозовыми тучами, на старые девственные леса, на поля, красующиеся цветами и зеленью. Нам кажутся детскими встречающиеся в "Ведах" выражения : "Взойдет ли солнце? возвратится ли заря, наш давнишний благодетель? восторжествует ли божество света над темными силами -ночи?" Ж когда наконец восходило солнце, изумленный зритель задавал себе вопросы: "Каким образом, едва родившись, оно является столь могучим, что, подобно Геркулесу, еще в колыбели одерживает победу, над чудовищами ночи[44]? как идет оно по небу? отчего нет пыли на его дороге? отчего не скатится вниз с своего небесного пути?" Но все эти вопросы понятны и трогательны по своей искренности в устах народа, еще не знакомого с мировыми законами. Длинный ряд последовательной смены дня и ночи должен был успокоить взволнованное чувство, и взоры человека привыкли встречать восход солнца поутру и пророжать его закат вечером, Но зато редко повторяющиеся затмения долгие годы, даже до позднейшего времени, пробуждали в народах смутное чувство ужаса и сомнений: может быть, благотворное светило дня погибнет навеки и никогда более не озарит своим светом земли и неба. Первые наблюдения человека, первые опыты ума принадлежали миру физическому, к которому потому тяготели и его религиозные верования и его начальные познания; и те и другие составляли одно целое и были проникнуты одним пластическим духом поэзии, или прямее: религия была поэзией и заключала в себе всю мудрость, всю массу сведений первобытного человека о природе. Оттого в наивных представлениях старины и в сказаниях, возникших из мифических сенов, так много изящного, обаятельного для художника. Такое отношение к природе, как к существу живому, нисколько не зависело от произвола и прихоти ума. Всякое явление, созерцаемое в природе, делалось понятным и доступным человеку только чрез сближение с своими собственными ощущениями и действиями, и как эти последние были выражением его воли, то отсюда он естественно должен был заключить о бытии другой воли (подобной человеческой), кроющейся в силах природы. Иной образ мышления, который мог бы указать ему в природе те бездушные стихии, какие мы видим в ней, был невозможен, ибо требует для себя уже готового отвлеченного языка, который бы не властвовал над фантазией, а был бы покорным орудием в устах человека. Но такой язык, как известно, создается медленными усилиями развития, цивилизации; в ту же отдаленную эпоху всякое слово отличалось материальным, живописующим характером. Мы и доселе выражаемся: солнце восходит или садится, буря воет, ветер свистит, гром ударяет, пустыня молчит; доселе говорим о силах природы как о чем-то свободно действующем и только благодаря современным научным сведениям не придаем этим старинным, освященным привычкою выражениям — буквального смысла. Мы низвели эти и тысячи других метафорических речений, ежедневно повторяющихся в живой речи, до значения простых формул, обязанных указывать на то или другое явление неодушевленной природы, и произнося их, никому и в голову не приходит, чтоб солнце обладало ногами для ходьбы, чтоб оно восседало на престоле, чтобы ветер производил свист губами, гром бросал молнии рукою, а море действительно могло чувствовать гнев и так далее. Не таково было положение наших доисторических предков; на сущность их мысли язык оказывал чарующее влияние; для них достаточно было, следуя замеченному сходству явлений, сказать: "буря воет", "солнце восходит", как тотчас же возникали в мыслях и те орудия, при посредстве которых совершаются подобные действия человеком и другими животными. Следовательно, при самом начале творческого создания языка силам природы уже придавался личный характер. Такой способ выражения мы называем поэтическим и в метафорах его видим преувеличение; но для тех, которые создавали язык, ничего не могло быть простее и естественнее. Чтобы лишить природу ее живого, одушевленного характера, чтобы в быстро несущихся облаках видеть одни туманные испарения, а в разящей молнии — электрические искры, нужно насилие ума над самим собою, необходима привычка к рефлексии, а следовательно, до известной степени искусственное образование. Потому-то и дитя и простолюдин неспособны к отвлеченному созерцанию, мыслят и выражаются в наглядных пластических образах. Ушибется ли ребенок о какую-нибудь вещь, в уме его тотчас же возникает убеждение, что она нанесла ему удар, и он готов отплатить ей тем же; катящийся с пригорка камень кажется ему убегающим; журчание ручья, шелест листьев, плеск волны — их говором. Первобытный человек, по отношению к окружающему его миру, был также дитя и испытывал те же психические обольщения. Прибавим к этому, что в древнейших языках каждое из имен существительных имеет окончание, обозначающее мужской или женский род (имена среднего рода позднейшего образования и отличаются от мужских и женских форм большею частью только в именительном падеже), а это должно было породить в уме соответственную идею о поле, так что названия, придаваемые различным явлениям природы, получали не только личный, но и половой тип. Последствием было то, что пока в языке продолжался процесс творчества, до тех пор невозможно было говорить об утре или вечере, весне или зиме и других подобных явлениях, не соединяя с этими понятиями представления о чем-то личном, живом и деятельном. Итак, и язык, и тесно связанный с ним образ мышления, и самая свежесть первоначальных впечатлений необходимо влекли мысль человека к олицетворениям, играющим такую значительную роль в образовании мифов. Человек невольно переносил на божественные стихии формы своего собственного тела или знакомых ему животных, разумеется, формы более совершенные, идеальные, соответственно действительному могуществу стихий. Понятно, что в воззрениях древнейшего народа не могло быть и не было строгого различия между побуждениями и свойствами человеческими и приписанными остальной природе; в его мифах и сказаниях вся природа является исполненною разумной жизни, наделенною высшими духовными дарами: умом, чувством и словом; к ней обращается он и со своими радостями, и со своим горем и страданиями и всегда находит сочувственный отзыв. По нашим народным преданиям, сохранившимся доныне и тождественным с преданиями всех других племен, звери, птицы и растения некогда разговаривали, как люди; поселяне верят, что накануне Нового года домашний скот получает способность разговаривать между собою по-человечески, что пчелы во всякое время могут разговаривать с маткою и друг с другом, что дятел стучит в дерево с отчаяния и т. д. В песнях и сказках цветы, деревья, насекомые, птицы, звери и разные неодушевленные предметы ведут между собою разговоры, предлагают человеку вопросы и дают ему ответы. В шепоте древесных листьев, свисте ветра, плеске волн, шуме водопада, треске распадающихся скал, жужжании насекомых, крике и пении птиц, реве и мычании животных — в каждом звуке, раздающемся в природе, поселяне думают слышать таинственный разговор, выражения страданий или угроз, смысл которых доступен только чародейному знанию вещих людей.
Противоположность света и тьмы, тепла и холода, весенней жизни и зимнего омертвения — вот что особенно должно было поразить наблюдающий ум человека. Чудная, роскошная жизнь природы, громко звучащая в миллионах разнообразных голосов и стремительно развивающаяся в бесчисленных формах, обуславливается силою света и тепла; без нее все замирает. Подобно другим народам, наши праотцы обоготворили небо, полагая там ее вечное царство; ибо с неба падают солнечные лучи, оттуда блистают и луна и звезды и проливается шгодотворящий дождь... Народная фантазия, создавшая для разнообразных явлений, связанных с небом, различные поэтические олицетворения, представляла их и в едином, нераздельном образе. Варуна, божество неба, по индийским преданиям, устраивает свет и времена, выводит в путь солнце и звезды; солнце — его глаз, а ветер, колеблющий воздух, — его дыхание. По литовскому преданию, божество это олицетворялось в женском образе королевы Каралуни. Каралуни — богиня света, юная, прекрасная дева; голову ее венчает солнце; она носит плащ, усеянный звездами и застегнутый на правом плече месяцем; утренняя заря — ее улыбка, дождь — ее слезы, падающие на землю алмазами. По указаниям, сохраненным для нас в высшей степени любопытным Стихом о Голубиной книге, такое воззрение, общее всем индоевропейским народам, не чуждо и славянам: солнце красное (читаем в этом стихе) от лица божьего, млад светел месяц от грудей божьих, звезды частые от риз божьих, зори белые от очей господних, ночи темные от опашня всевышнего, ветры буйные от его дыхания, громы от его глаголов, дробен дождик и росы от его слез...
Литовское сказание о Каралуни, изображая небо — девою, очевидно, сливает все его атрибуты с прекрасным образом богини Зари и Лета; собственно же, по общеарийскому представлению, небо олицетворялось в мужском поле. Его очевидное для всех влияние на земные роды (урожаи) невольно возбуждало в уме мысль о супружеском союзе отца Неба с матерью Землею. Небо действует как мужская Плодотворящая сила, проливая на землю свои согревающие лучи и напояющий дождь, издревле уподобляемый плотскому семени; а земля принимает весеннюю теплоту и дождевую влагу в свое лоно и только тогда чреватеет и дает плод. Согласно с этим, небо обозначалось словами мужского, а земля — женского рода, слова среднего рода (как наше небо) образовались позднее. У славян отец Небо получил название Сварога: он верховный владыка вселенной, родоначальник прочих светлых богов, прабог. Подмечая различные проявления элемента тепла и света, анализируя их, ум человеческий должен был раздробить блестящее, светлое небо и присущие ему атрибуты на отдельные божественные силы. Такое деление, вносимое познающею способностью, не противоречило поэтическому чувству, которое стремится облекать все в живые образы. Дело ума поэтически выразилось в естественной форме рождения новых богов от Сварога. В Ипатьевской летописи находим вставку из греческой хроники Малалы, где Гелиос переводится Дажъбогом: "И после (после Сварога) царствова сын его именем Солнце, его же наричают Дажьбог... Солнце-царь, сын Сварогов, еже есть Дажьбог, бе бо муж силен". Дажьбог, упоминаемый Нестором[45], "Словом о полку Игореве" и другими памятниками в числе славянских богов, есть, следовательно, солнце, сын неба, подобно тому как Аполлон почитался сыном Зевса... Другой сын Сварога-неба был огонь-молния (Агни-Индра). На новых богов, рожденных отцом Небом, переносятся его различные атрибуты и признаки; вместе с этим им присваивается и владычество над миром; Сварог, по древнему сказанию, предается покою, предоставляя творчество и управление вселенною своим детям.
Обожание солнца славянами засвидетельствовано многими преданиями и памятниками... Исчезающее вечером, как бы одолеваемое рукою смерти, оно постоянно каждое утро снова является во всем блеске и торжественном величии, что и возбудило мысль о солнце как о существе неувядаемом, бессмертном, божественном. Как светило вечно чистое, ослепительное в своем сиянии, пробуждающее земную жизнь, солнце почиталось божеством благим, милосердным; имя его сделалось синонимом счастья...
В народных сказках к солнцу, месяцу и звездам обращаются герои в трудных случаях жизни, и божество дня, сострадая несчастью, помогает им. Вместе с этим солнце является и карателем всякого зла, т. е. по первоначальному воззрению — карателем нечистой силы мрака и холода, а потом и нравственного зла — неправды и нечестия. С этою стороною мифического представления слилась мысль о вредоносном влиянии жары, производящей засуху, истребляющей жатву и влекущей за собою неурожай и моры. Губительное действие зноя приписывалось гневу раздраженного божества, наказующего смертных своими огненными стрелами — жгучими лучами. Выражение "воспылать гневом" указывает, что чувство это уподоблялось пламени. Сами названия солнца, указывающие на понятия огня, горения, порождали в уме мысль о его разрушительных свойствах: как в разведенном пламени видели пожирание горючих материалов всеистребляющим огнем (слова гореть и жрать филологически тождественны), так нередко и солнце в народных преданиях представляется готовым пожрать тех сказочных странников, которые приходят к нему с вопросами. Вот почему возникли клятвы, призывающие на голову виновного или супротивника карающую силу солнца... Поэтическое заклятие, обращенное Ярославною к солнцу, дышит этою древнею верою в карающее могущество дневного светила: "Светлое и тресветлое Солнце! Всем тепло и красно еси. Чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладе вои? В поле безводне жаждею имь лучи (луки) съпряже, тугою им ту ли затче?.."
Ночные светила: месяц и звезды, как обитатели небесного свода и представители священной для язычника светоносной стихии, были почитаемы в особенных божественных образах... Наравне с солнцем в заговорах находим частые обращения и к звездам, и к месяцу: "Месяц ты красный! звезды вы ясные! солнышко ты привольное!"; "Месяц ты месяц! сними мою зубную скорбь" и прочее. Обоготворение светил и ожидание от них даров плодородия, ниспосылаемого небом, влекли простодушных пахарей и пастухов древнейшей эпохи к усиленным наблюдениям за ними. По справедливому замечанию Якова Гримма[46], изменения или фазы месяца уже в глубочайшей древности должны были обратить на себя особенное внимание, и так как по ним гораздо легче, сподручнее было считать время, чем по солнцу, то естественно, что первоначальный год был лунный, состоящий из тринадцати месяцев; недели и месяцы определялись лунными фазами; самое слово это убедительно доказывает, что луна служила издревле для измерения времени, была (по выражению М. Мюллера[47]) золотой стрелкою на темном циферблате неба. Русские поселяне узнают время ночи по течению звезд, преимущественно по Большой Медведице, и создали себе много разных замечаний о погоде и урожаях но сиянию звезд и месяца...
Солнце и Месяц были представляемы в родственной связи — или как сестра и брат, или как супруги... По литовскому преданию, Солнце — "божья дочка" — представляется женою Месяца; звезды — их дети. Когда неверный супруг начал ухаживать за румяной Денницею (Аушрине — утренница, планета Венера), богиня Солнце (по другой вариации это сделал сам громоносец Перкун) выхватила меч и рассекла лик Месяца пополам... Предание в высшей степени поэтическое! Художественная фантазия передала в нем поразившие ее естественные явления природы: когда восходит поутру солнце — месяц исчезает в его ярком свете; а когда удаляется оно вечером — месяц выступает на небо, и перед самым утренним рассветом он действительно один блуждает по небу с прекрасною денницею. Бледно-матовый свет месяца постоянно возбуждает в поэтах грустные ощущения, и потому с именем луны неразлучен эпитет печальный ("печальная луна"). Форма полумесяца невольно наводила фантазию на думу о рассеченном его лике; в наших областных наречиях умаляющийся после полнолуния месяц называется перекрой (от кроить — резать). Беспрестанные изменения, замечаемые в объеме месяца, породили мысль об его изменчивом характере, о непостоянстве и неверности в любви этого обоготворенного светила, так как и нарушение супружеских обетов выражается словом измена. В ярко-багряном диске восходящего солнца видели пламенеющий гневом лик небесной царицы; чистота солнечного блеска возбуждала представление о девственной чистоте богини, выступающей на небо в пурпуровой одежде зари и в сияющем венце лучей как богато убранная невеста. В славянских преданиях мы находим черты, вполне соответствующие литовскому сказанию. Олицетворяя солнце в женском образе, русское поверье говорит, что в декабре месяце, при повороте на лето, око наряжается в праздничный сарафан и кокошник и едет в теплые страны, а на Иванов день (24 июня) Солнце выезжает из своего чертога на встречу к своему супругу Месяцу, пляшет и рассыпает по небу огненные лучи: этот день полного развития творческих сил летней природы представляется как бы днем брачного союза между Солнцем и Месяцем...
По народному поверью, Солнце и Месяц с первых морозных дней (с началом зимы, убивающей земное плодородие и, так сказать, расторгающей брачный союз Солнца) расходятся в разные стороны и с той поры не встречаются друг с другом до самой весны; Солнце не знает, где живет и что делает Месяц, а он ничего не ведает про Солнце. Весною же они встречаются и долго рассказывают друг другу о своем житье-бытье, где были, что видели и что делали. При этой встрече случается, что у них доходит до ссоры, которая всегда оканчивается землетрясением; наши поселяне называют Месяц гордым, задорным и обвиняют его, как зачинщика ссоры. Встречи между Солнцем и Месяцем бывают поэтому и добрые, и худые; первые обозначаются ясными, светлыми днями, а последние — туманными и пасмурными. Заметим, что в весенних грозах, сопровождающих возврат солнца из дальних странствований в царстве зимы, воображению древнейших народов рисовались: с одной стороны, брачное торжество природы, поливаемой семенем дождя, а с другой — ссоры и битвы враждующих богов; в громовых раскатах, потрясающих землю, слышались то клики свадебного веселья, то воинственные призывы и брань...
Как по литовскому, так и по славянским преданиям, от божественной четы Солнца и Месяца родились звезды. Малорусские колядки, изображая небесный свод великим чертогом или храмом, называют видимые на нем светила: месяц — домовладыкою, солнце — его женою, а звезды — их детками...
Уцелела замечательная песня о том, как девица просила перевозчика переправить ее на другую сторону:
Перевощик, добрый молодец! Первези меня на свою сторону. — Я первезу тебя — за себя возьму.В ответ ему говорит красная девица:
Ты спросил бы меня, Чьего я роду, чьего племени? Я роду ни большого, ни малого: Мне матушка — красна Солнушка, А батюшка — светел Месяц, Братцы у меня — часты Звездушки, А сестрицы — белы Зорюшки.По одной литовской песне, сама Денница является уже не соперницею Солнца, а его дочерью.
Эти родственные отношения не были твердо установлены; они менялись вместе с теми поэтическими воззрениями, под влиянием которых возникали в уме человека и которые в эпоху созидания мифических представлений были так богато разнообразны и легко подвижны, изменчивы. Названия, придаваемые месяцу и звездам, так же колебались между мужским и женским родом, как и названия солнца...
Как месяц представляется мужем богини солнца, так луна, согласно с женскою формою этого слова, есть солнцева супруга — жена Дажьбога. "Солнце — князь, луна — княгиня" — такова народная поговорка, усвоивающая солнцу тот же эпитет князя, который у нас употребляется для обозначения молодого, новобрачного супруга. Еще у скифов луна была почитаема сестрою и супругою бога солнца и называлась тем же именем, какое придавалось и солнцу, только с женским окончанием. Этим названием скифский бог солнца роднится с греческим сребролуким Аполлоном[48], а богиня луны с его сестрою — Артемидою (Дианою[49]).
Солнце постоянно совершает свои обороты: озаряя землю днем, оставляет ее ночью во мраке; согревая весною и летом, покидает ее во власть холоду в осенние и зимние месяцы. "Где же бывает оно ночью? — спрашивал себя древний человек, — куда скрываются его животворные лучи в зимнюю половину года?" Фантазия творит для него священное жилище, где божество это успокаивается после дневных трудов и где скрывает свою благодатную силу зимою. По общеславянским преданиям, сходным с литовскими и немецкими, благотворное светило дня, красное солнце, обитает на востоке — в стране вечного лета и плодородия, откуда разносятся весною семена по всей земле; там высится его золотой дворец, оттуда выезжает оно поутру на своей светозарной колеснице, запряженной белыми огнедышащими лошадьми, и совершает свой обычный путь по небесному своду. Подобно грекам, сербы представляют Солнце молодым и красивым юнаком; по их сказаниям, царь — Солнце живет в солнечном царстве, восседает на златотканом, пурпуровом престоле, а подле него стоят две девы — Заря Утренняя и Заря Вечерняя, семь судей (планеты) и семь вестников, летающих по свету в образе "хвостатых звезд"; тут же и лысый дядя его — старый Месяц. В наших сказках царь-Солнце владеет двенадцатью царствами (указание на двенадцать месяцев в году или на двенадцать знаков зодиака); сам он живет в солнце, а сыновья его в звездах; всем им прислуживают солнцевы девы, умывают их, убирают и поют им песни... Солнцевы девы умывают солнце и расчесывают его золотые кудри (лучи), т. е. разгоняя тучи и проливая дождь, они прочищают лик дневного светила, дают ему ясность. Тот же смысл заключается и в предании, что они метут двор Месяца, т. е. разметают вихрем потемняющие его облака. Обладая бессмертным напитком (живою водою дождя), солнцевы девы сами представляются вечно прекрасными и никогда не стареющими.
Заря олицетворялась у славян в образе богини и называлась сестрою Солнца, как это видно из песенного к ней обращения:
Заря ль, моя Зоринька, Заря, солнцева сестрица!..Согласно с наглядным, ежедневно повторяющимся указанием природы, миф знает двух божественных сестер — Зарю Утреннюю и Зарю Вечернюю; одна предшествует восходу солнца, другая провожает его вечером на покой, и обе таким образом постоянно находятся при светлом божестве дня и прислуживают ему. Утренняя Заря выводит на небесный свод его белых коней, а Вечерняя принимает их, когда оно, совершивши свой дневной поезд, скрывается на западе...
У эстонцев возжением и погашением солнцева светильника заведывают Зори. Верховный бог-прадед, по сотворении мира, поручил своей дочери принимать заходящее Солнце, отводить его на покой и хранить его светильник в продолжение ночи, а сыну своему — снова возжигать этот светильник при наступлении утра и отпускать Солнце в дневное его странствование. Весною, когда на севере дни бывают самые долгие и утро почти сливается с вечером, сестра, принимая светильник Солнца, должна тотчас же передавать его из рук в руки своему брату. При одной из этих встреч они пристально взглянули друг другу в очи, пожали взаимно руки и коснулись устами. "Будьте счастливыми супругами!" — сказал им отец; но дети просили не нарушать радости стыдливой любви и оставить их вечно женихом и невестою. С тех пор, когда они встречаются весною и сливают свои уста в сладком поцелуе — румянец покрывает щеки невесты и отражается по небу розовым блеском, пока жених не зажжет дневного светильника. Время этой встречи празднует вся природа: земля убирается в зелень и роскошные цветы, а рощи оглашаются песнями соловьев. Итак, миф отождествляет зарю с звездой, денницею, по сходству издревле присвоенных им названий, или правильнее — переносит на планету Венеру представления, созданные поэтическою фантазией о заре.
В гимнах "Вед" и в мифических сказаниях греков Заря изображается то матерью, то сестрою, то супругою или возлюбленною Солнца. Матерью она представлялась потому, что всегда предшествует восходу солнца, выводит его вслед за собою и таким образом как бы рождает его каждое утро... Простое, естественное явление, что при восходе солнца заря гаснет, скрывается — на метафорическом языке ариев превращалось в поэтическое сказание: прекрасная дева Заря бежит от восходящего Солнца и умирает от лучезарных объятий и жаркого дыхания этого пламенного любовника. Так юная Дафна[50] убегает от влюбленного Аполлона и умирает в его объятиях, т. е. лучах, ибо в числе других уподоблений лучи солнечные назывались также золотыми руками. Тот же смысл заключается и в следующих метафорических выражениях: "Солнце опрокинуло колесницу зари", "Стыдливая Заря скрывает свое лицо при виде обнаженного супруга — Солнца". Ярко сияющее солнце казалось обнаженным, в противоположность другой метафоре, которая о солнце, закрытом темными облаками, говорила как о божестве, накинувшем на себя одежды (облачение, покрывало). Покинутое Утренней Зарею, одинокое Солнце совершало свое шествие по небу, напрасно отыскивая свою подругу, и только приближаясь к пределам своей дневной жизни, готовое погаснуть (умереть) на западе, оно снова, на краткие мгновения, обретало Зарю, блиставшую дивной красотою в вечерном сумраке.
Приведенные свидетельства наглядно говорят, что в то древнее время, когда над веем строем жизни владычествовали патриархальные, кровные связи, человек находил знакомые ему отношения и во всех естественных явлениях; боги становились добрыми семьянинами, были отцы, супруги, дети, родичи. Олицетворяя божественные силы природы в человеческих образах, он перенес на них и свои бытовые формы. Но такие родственные связи богов были плодом не сухой, отвлеченной рефлексии, а живого, поэтического воззрения на природу, и смотря по тому, как менялось это воззрение — менялись и взаимные отношения обоготворенных светил и стихий: одно и то же божество могло быть то отцом, то сыном другого, быть рожденным от двух и более матерей и т. д. Вот почему даже там, где под влиянием успехов народной культуры вызвана была деятельность ума к соглашению различных мифических представлений (например, у греков), даже там поражает нас запутанность и противоречие мифов, Очевидно, что у народов, стоявших на значительно низшей ступени развития, еще явственнее должны выступать черты, указывающие на неопределенность и неустановившееся брожение мысли. Уже отсутствие у славянских племен таких названий для месяца, утренней и вечерней зари и звезд, которые бы из нарицательных, с течением времени, обратились в собственные, нелегко распознаваемые в своем первоначальном коренном значении, свидетельствует, что мы имеем дело с эпохою самых широких и свободных поэтических представлений, присутствуем, так сказать, при самом зарождении мифических сказаний.
Та же творческая, плодородящая сила, какую созерцал язычник в ярких лучах летнего солнца, виделась ему и в летних гробах, проливающих благодатный дождь на жаждущую землю, освежающих воздух от удушливого зноя и дающих нивам урожай. Множество разнообразных поверий, преданий и обрядов, несомненно, свидетельствует о древнейшем поклонении славян небесным громам и молниям. Торжественно-могучее явление грозы, несущейся в воздушных пространствах, олицетворялось ими в божественном образе Перуна-Сварожича, сына прабога Неба; молнии были его оружие — меч и стрелы; радуга — его лук; тучи — одежда или борода и кудри; гром — далекозвучащее слово, глагол, раздающийся свыше; ветры и бури — дыхание; дожди — оплодотворяющее семя. Как творец небесного пламени, рождаемого в громах, Перун признается и богом земного огня, принесенного им с небес в дар смертным; как владыка дождевых облаков, издревле уподоблявшихся водным источникам, получает название бога морей и рек, а как верховный распорядитель вихрей и бурь, сопровождающих грозу, — название бога ветров. Эти различные названия придавались ему первоначально как его характеристические эпитеты, но с течением времени обратились в имена собственные; с затемнением древнейших воззрений, они распались в сознании народном на отдельные божеские лица, и единый владыка грозы раздробился на богов грома и молний (Перун), огня (Сварожич), воды (Морской царь) и ветров (Стрибог). Вместе с низведением мифических представлений и сказаний о небесном пламени молний на земной огонь, о дождевых потоках на земные источники само собой возникло обожание домашнего очага, рек, озер и студенцов[51].
В таких образах поклонялся славянин всесоздающим силам природы, которые для живого существа суть благо, добро и красота. Человеку естественно чувствовать привязанность к жизни и страх к смерти. Обоготворив, как благое, все связанное с плодородием, развитием, он должен был инстинктивно с тревожною боязнью отступить от всего, что казалось ему противным творческому делу жизни. С закатом дневного светила на западе как бы приостанавливается вечная деятельность природы, молчаливая ночь охватывает мир, облекая его в свои темные покровы, и все погружается в крепкий сон — знамение навсегда усыпляющей смерти; с помрачением ярких лучей солнца зимними туманами и облаками начинаются стужи и морозы, небо перестает блистать молниями и посылать дожди, земная жизнь замирает, и человек осуждается на тяжелые труды: он должен строить жилище, селиться у домашнего очага, заготовлять пищу и теплую одежду. У первобытных племен сложилось убеждение, что мрак и холод, враждебные божествам света и тепла, творятся другою могучею силою — нечистою, злою и разрушительною. Так возник дуализм в религиозных верованиях; вначале он истекал не из нравственных требований духа человеческого, а из чисто физических условий и их различного воздействия на живые организмы; человек не имел другой мерки, кроме самого себя, своих собственных выгод и невыгод. Нравственные основы вырабатываются позднее и прикрепляются уже к готовым положениям дуализма, порожденного древнейшим воззрением на природу. Таким образом отдаленные предки наши, круг понимания которых необходимо ограничивался внешнею, материальною стороною, все разнообразие естественных явлений разделили на две противоположные силы. У западных славян это двойственное воззрение на мир выразилось в поклонении Белбогу и Чернобогу, представителям света и тьмы, добра и зла... Уцелевшие географические названия и народные предания свидетельствуют, что верование в Белбога и Чернобога было некогда общим у всех славянских племен, в том числе и русских...
О древнем Белбоге доселе сохраняется живая память в белорусском предании о Белуне. Белун представляется старцем с длинною белою бородою, в белой одежде и с посохом в руках; он является только днем и путников, заблудившихся в дремучем лесу, выводит на настоящую дорогу; есть поговорка: "Цёмна у лесе без Белуна". Его почитают подателем богатства и плодородия. Во время жатвы Белун присутствует на нивах и помогает жнецам в их работе. Чаще всего он показывается в колосистой ржи с сумою денег на носу, манит какого-нибудь бедняка рукою и просит утереть себе нос; когда тот исполнит его просьбу, то из сумы посыплются деньги, а Белун исчезает. Поговорка "Мусиць посябрывся (должно быть, подружился) з'Белуном" — употребляется в смысле: его посетило счастье. Это рассыпание Белуном богатств основывается на древнейшем представлении солнечного света золотом...
Со светлыми, белыми божествами славянин чувствовал свое родство, ибо от них ниспосылаются дары плодородия, которыми поддерживается существование всего живого на земле; наше жито — одного корня со словами: живот (жизнь) и Жива — богиня весны. "Слово о полку Игореве" говорит о славянах как о внуках солнца — Дажьбога. Представители творчества и жизни, боги света были олицетворяемы фантазией в прекрасных и большею частью в юных образах; с ними связывались идеи о высшей справедливости и благе. Напротив, с темною силою природы, с черными божествами было соединяемо все старое, безобразное, лукавое и злое; они враждебны жизни и ее нравственным основам. Черная душа означает человека бесчестного, криводушного; мрась — негодяй; черный день — день бедствия, несчастья. Главным олицетворением нечистой силы была Мо/а/рена или Мо/а/рана (от санскр. mri — умираю) — богиня смерти, зимы и ночи, имя, родственное со словами: мрак/морок, мор — повальная болезнь, мора — тьма, марать, мары — носилки для покойников, жара — призрак, нечистый дух, мерек или мерет — черт, мерещиться — темнеть, смеркаться, мерковать — ночевать, меркоть — ночь, потемки, мерекать — мало знать, собственно: не распознавать за темнотою; сравни: "темный человек" ; помора — отрава, поморщина — большая смертность, смрад, смердеть...
Краледворская рукопись[52] сравнивает смерть с ночью и зимою. Здесь кроется, между прочим, основание той тесной связи, в какую поставила народная фантазия болезни, особенно повальные, с нечистою силою, почему она олицетворяет их в безобразных уродливых формах...
Все чары, при совершении которых призываются злые духи, и собирание волшебных зелий на погубу людей и животных совершаются в полночь. Ненавистница жизни, исконный враг праведных светлых богов, нечистая сила, по русскому поверью, не знает семейных уз, этих единственных форм, которые у племен патриархальных поддерживали и воспитывали нравственные отношения; она блуждает по свету, не имея мирного пристанища. Понятно, почему Чернобог, по свидетельству Гельмольда[53], отождествлялся с дьяволом; с именем его народные верования славян должны были сочетать представления ночи, зимы и потемняющих небо туч, с которыми сражается молниеносный Перун.
Между богами света и тьмы, тепла и холода происходит вечная, нескончаемая борьба за владычество над миром. День и Ночь представлялись первобытным народам высшими, бессмертными существами; как День — первоначально верховное божество света — солнце, с которым слово это тождественно и по названию, так Ночь — божество мрака. "Эдда" повествует, что День родился от Ночи, что согласно с древнегреческим мифом о рождении восходящего Солнца из темных недр Ночи и с русским преданием... Показываясь ранним утром на краю неба, одетого ночною пеленою, Солнце казалось как бы рождающимся из тьмы; наоборот, захождение его вечером уподоблялось смерти: скрываясь на западе, оно отдавалось во власть Морены, богини ночи и смерти...
У славян День и Ночь, согласно мужскому роду одного слова и женскому другого, олицетворялись как брат и сестра. Народная загадка, означающая "год", произносится так: "Я стар, от меня родилось двенадцать сыновей (месяцы), у каждого из них по тридцати сыновей красных, по тридцати дочерей черных (дни и ночи)"; другая загадка, означающая "ночь и день", выражает мысль свою в этой форме: "Сестра к брату в гости идет, а брат от сестры пятится" (или: "в лес прячется"). В гимнах "Ригведы"[54] Ночь — сестра Зари. Несмотря на родство, в которое ставит фантазия День и Ночь, они в преданиях, как и в самой природе, друг другу враждебны; народная загадка называет их раздорниками (т. е. ссорющимися): "Двое стоячих (небо и земля), двое ходячих (солнце и месяц), да два здорника (день и ночь)". Еще прямее выражено это в следующей загадке, занесенной в одну старинную рукопись: "Кои два супостата препираются? — День и Ночь"...
У словаков рассказывается такое знаменательное предание: когда Солнце готово выйти из своих чертогов, чтобы совершить свою дневную прогулку по белому свету, то нечистая сила собирается и выжидает его появления, надеясь захватить божество дня и умертвить его. Но при одном приближении Солнца она разбегается, чувствуя свое бессилие. В этой поэтической форме рассказано, как первые солнечные лучи, прорезавшие темный горизонт, прогоняют мрак ночи; будто испуганный, бежит он и прячется в расщелины скал, подземные пещеры и глубокие бездны. Каждый день повторяется борьба, и каждый раз побеждает царь Солнце, почему скандинавские поэты дают ему эпитеты "радость народов и страх тьме". По общему германскому и славянскому поверью, собирать лечебные травы, черпать целебную воду и произносить заклятия против чар и болезней лучше всего на восходе ясного солнца, на ранней утренней заре, ибо с первыми солнечными лучами уничтожается влияние злых духов и рушится всякое колдовство; известно, что крик петуха, предвозвещающий утро, так страшен нечистой силе, что она тотчас же исчезает, как только его заслышит.
Подобно тому как дневной свет и жар, ночная тьма и прохлада определялись суточным движением солнца, так летняя ясность и теплота, зимние туманы, помрачающие небо, и все мертвящие морозы — годовым его движением. Как с утром соединялось представление о пробуждающемся солнце, о благотворной росе, падающей на нивы, поля и дубравы, о воскресающей повсюду деятельности, так с весною связывалась мысль о воскресении согревающей силы солнца, о появлении грозовых туч, проливающих на землю дождь, о восстании природы от зимнего сна: земля наряжается в зелень и цветы, из далеких стран прилетают птицы, мир насекомых наполняет воздух, и животные, подверженные спячке, встают из своих нор. С другой стороны, и во время ясного летнего дня собирающиеся на небо тучи вдруг помрачают солнечный свет и как бы превращают день в ночь и, пока не будут разбиты могучим оружием гневного Перуна, задерживают в своих затворах золотые лучи солнца и драгоценную влагу дождевых ливней. Эти аналогические признаки, запечатленные в языке родственными названиями (сличи сумерки, мрак ночной и морок — облако, туман, тьма ночная, темень — тучи, туман и мн. др.), послужили к сближению и даже отождествлению в мифических представлениях всех означенных явлений. Весеннее просветление солнца и явление его из-за мрачных туч стали уподобляться утреннему рассвету, весна и богиня летних гроз — утренней заре или восходящей деве солнца, а зима и тучи — темной ночи; та же борьба, какую созерцал человек в ежедневной смене дня и ночи, виделась ему и в смене лета и зимы, и в громозвучных ударах Перуна, умолкающих на зиму и снова раздающихся с приходом весны. По чешскому поверью, Солнце ведет постоянную войну с злою стригою (ведьмою, представительницею ночного мрака, темных туч и зимы), побеждает се, но и само терпит от ран, наносимых ею. "Зиме и лету союзу нету", — говорит народ пословицею и в пластических обрядах изображает их взаимную борьбу. В июне месяце, в пору самого полного развития творческой деятельности природы, Солнце, следуя непременному закону судеб, поворачивает на зимний путь, дни постепенно умаляются, а ночи увеличиваются; власть царственного светила мало-помалу ослабевает и уступает Зиме. В ноябре Зима уже "встает на ноги", нечистая сила выходит из пропастей ада и своим появлением производит холода, метели и вьюги: земля застывает, воды оковываются льдами, и жизнь замирает. Но в декабре, когда, по-видимому, Зима совсем победила, Солнце "поворачивает на лето", и с этого времени сила его снова нарождается, дни начинают прибывать, а ночи умаляться. Как бы чувствуя возрастающее могущество врага" Зима истощает все свои губительные средства на борьбу с приближающимся летом: настают трескучие морозы, страшные для садов и озимых посевов, умножаются простудные болезни и падежи скота... Тщетно Зима напрягает усилия; в свое время является весна, воды сбрасывают ледяные оковы, воздух наполняется живительной теплотою, согретая солнечными лучами земля получает дар производительности, и возрожденная природа предстает в чудном великолепии летних уборов, пока новый поворот солнца не отдаст ее снова во власть злой Зимы. Возврат весны сопровождается грозами; в их торжественных знамениях всего ярче представлялись фантазии те небесные битвы, в какие вступало божество весны, дарующее ясные дни, плодородие и новую жизнь, с демонами стужи и мрака. В черных тучах признавали нечистую силу, затемняющую ясный лик солнца и задерживающую дожди; подобно ночи, туча в поэтических сказаниях народа есть эмблема печали, горя и вражды... В раскатах грома слышались древнему человеку удары, наносимые Перуном демонам-тучам, в молниях виделся блеск его несокрушимой палицы и летучих стрел, в шуме бури — воинственные клики сражающихся. По русскому поверью, черти бьются на кулачки в полночь, т. е. нечистая сила выступает на борьбу во мраке туч, подобных черной ночи. Бог-громовник разит ее своими огненными стрелами и, торжествуя победу, возжигает светильник солнца, погашенный лукавыми демонами (туманами и облаками). Оба явления: сияние летнего солнца и блеск молнии — возбуждали так много сходных, одинаковых впечатлений, что необходимо должны были сливаться в мифических представлениях. Солнце растит нивы, от него столько же зависят урожаи, как и от дождей, изливаемых владыкою молний; засуха, истребляющая нивы, столько же приписывалась жарким лучам солнца, как и Перуну, скрывающему дождевые облака; значение божества карающего равно прилагается и к дневному светилу, которое своими лучами, словно стрелами, прогоняет ночь и туманы, и к громовнику, поражающему мрачные тучи; поэтические выражения об утреннем рассвете, как о треске разрываемых божеством дня цепей, нашли соответствующее себе представление в звуках громовых ударов, разбивающих зимние оковы...
Солнечные и лунные затмения были объясняемы тою же борьбою светлых богов с темными, как и небесные грозы. Эти чрезвычайные, редкие явления, к которым не так легко мог привыкнуть человек, как к ежедневному захождению солнца и к естественной смене годовых времен, постоянно возбуждали тревожное чувство страха: нечистая сила нападала на божественное светило, захватывала его в свою пасть и готовилась пожрать пред очами смущенного язычника. "Погибе, съедаемо солнце!" — вот обычное выражение, с которым старинные летописцы относились к солнечному затмению. В затмениях солнца и луны до самого позднейшего времени видели "недобрые знамения".
Такое двойственное воззрение на природу, в царстве которой действуют и добрые и злые силы, должно было наложить свою неизгладимую печать на все религиозные представления. Поклоняясь стихийным божествам, человек одни и те же явления различал по мере участия их в создании и разрушении мировой жизни, по степени ближайшей или отдаленнейшей связи их с элементами света и тепла. Так, опустошительные бури и зимние вьюги почитались порождением нечистой силы — рыщущими по полям бесами, тогда как весенние ветры, пригоняющие дождевые облака и очищающие воздух от вредных испарений, признавались благодатными спутниками Перуна, его помощниками в битвах со злыми духами; из далекой страны вечного лета они приносили на своих крыльях семена плодородия на землю, навевали в сердца юношей и дев горячую любовь и своим дыханием восстанавливали здоровье болеющих. У болгар северный ветер называют черным, а южный — белым. Мартовскому снегу приписывается целебное свойство — только потому, что он выпадает в первый месяц весны. Согретые лучами летнего солнца облака, как вместилища плодотворной влаги дождя, представлялись прекрасными, полногрудыми женами, любви которых так страстно ищет бог-громовник; но те же облака, как омрачители ясного неба, приносители града и снега, рисовались воображению в образах демонических.
Небо и земля
Небо, видимое очами смертного, представляется огромным блестящим куполом, обнимающим собою и воды, и сушу, круглою прозрачною чашею, опрокинутою над землею. Потому обыкновенно оно называется:
а) Небесным сводом; в "Беовульфе"[55] употреблено выражение "шатер неба"... По народному воззрению, небо — терем божий, а звезды — очи взирающих оттуда ангелов; эпическая поэзия воспользовалась этими данными и дает прекрасное изображение космоса теремом, а небесных светил — обитающею там семьею.
Чудо в тереме показалося:
На небе солнце — в тереме солнце, На небе месяц — в тереме месяц, На небе звезды — в тереме звезды, На небе заря — в тереме заря И вся красота поднебесная.Округло-выпуклая форма небесного свода послужила основанием, опираясь на которое доисторическая старина уподобила его, с одной стороны, черепу человеческой головы, а с другой — высокой блестящей горе.
б) Индийский миф утверждает, что небо создано из черепа Брамы[56], а по сказанию "Эдды", оно произошло из черепа великана Имира[57], с чем аналогично греческое предание об Атласе[58], который на своей голове держит небесный свод. Подобные представления известны и у других народов Востока. Вместе с этим облака и тучи были уподоблены мозгу, наполняющему гигантский череп-небо, или покрывающим его волосам. Безоблачное, ясное небо в религиозных воззваниях сибирских шаманов удерживает за собою знаменательный эпитет лысого; при жертвоприношениях они обращаются к небу с такою молитвою: "Отец лысое Небо! младший сын плешивого Неба! сделайте, чтобы я (имярек) был богат скотом, счастлив в промыслах и имел бы большую семью". Припомним наши обиходные выражения: "Плешь просвечивает", "Лысина светится" и народную загадку о месяце: "Лысый жеребец через прясла глядит", т. е. месяц (в мифическом образе коня), не затемненный облаками, светит на двор. Белое пятно на лбу животных (лошадей и коров) называется лысиной или звездочкой. Сербы величают месяц старым лысым дедушкою, т. е. круглый блестящий диск полнолуния уподобляют лысой голове старика. Как обломки древних мифических представлений, в нашем народе уцелели названия "Лысый бес" и "Лысая гора", на которую слетаются ведьмы и нечистые духи творить чары и которая есть не что иное, как самое небо... Дым, застилающий небо, в народной загадке сравнивается с кудрявыми волосами: "Мать — гладуха, дочь — красуха, сын — кучерявый" (печь, огонь и дым); а очи, закрытые ресницами и бровями — нахмуренные, — русский язык уподобляет небесным светилам, помраченным тучами: сравни хмура и хмара...
Распущенные волосы, как эмблема дожденосных туч (дождь-слезы), сделались символическим знамением печали; потому женщины, причитывая похоронные воззвания, припадают к могилам с распущенными косами. В старину опальные бояре отращивали волосы и распускали их по лицу и плечам... Так как с тучами соединялись идеи плодородия и богатства, то обилие волос принимается за счастливую примету: срослись ли у кого брови, или грудь его обросла густыми волосами — это верный знак, что он уродился счастливцем...
Метафорическое сближение дождевых облаков с мозгом отразилось и в самом языке: мозг, мзга — худая, мокрая погода и плакса, мозглый, мозгливый и мозглявый — дождливый, пасмурный, мозгнутъ — делаться мозглою (о погоде), намозгнутъ, намозгляветъ — киснуть, загнивать. Вместо выражения: "Что ты задумался?" — доселе говорится: "Что ты отуманился?"...
в) Сравнивая небо с горою, народная фантазия породнила эти разнородные понятия и в языке, и в мифе. Слово горе значит: вверх, к небу; белорусская песня поет: "Солнце колесом у гору идзетсь"; в народной загадке, означающей "дым", небо называется горою: "Без ног, без рук на гору дерется"...
В одном заговоре читаем следующую заклинательную формулу: "Еду на гору высокую, далекую, по облакам и водам, а на горе высокой стоит терем боярский, а во тереме боярском сидит красная девица (Заря)... Закрой ты, девица, меня своею фатою от силы вражьей, от пищали, от стрел, от борца, от кулачного бойца". Эта высокая гора, на которую надо ехать по облакам и водам (дождевым источникам), есть небесный свод. То же представление греки соединяли с Олимпом, на вершинах которого бессмертные боги основали свои обители... Гомер называет эту гору светлою, блестящею и прямо — великим небом; о богине Заре поэт выражается, что она восходит на Олимп, возвещая своим приходом утренний свет. Итак, небо представлялось горою. Эта мифическая гора часто упоминается в сказочных преданиях славян и германцев. Соответственно впечатлению, производимому небесным сводом, она называется стеклянною или хрустальною... Рассказы о стеклянной горе известны в Польше, Белоруссии и Литве; на ней стоят золотые палаты, растет дерево с золотыми яблоками, кожица которых мгновенно заживляет раны; живая вода (дождь) бьет ключами, а золото, серебро и драгоценные каменья лежат там в несметном количестве. В солнце, месяце и звездах древний человек видел сияющие в небесном чертоге драгоценные камни и золотые или серебряные украшения; блеск неба, озаренного яркими лучами солнца, напоминал ему блеск металлов, и финский эпос сообщает предание, что небесный свод был выкован хитрым кузнецом божественной породы. У Гомера небо называется медным: в мифических представлениях блестящая медь и золото имеют тождественное значение. Название небесной горы железною указывает на отуманенное, потускнелое небо, каким оно обыкновенно бывает в ненастную осень и зимнюю пору: в современной речи мы навыкли называть его "свинцовым". О зиме, запирающей дождевые источники, миф выражается, что она налагает на облака железные оковы. Никто из простых смертных не в состоянии достигнуть вершины стеклянной горы даже на сильном, остроподкованном коне; смельчак, решившийся подняться на нее, падает при начале пути и платит жизнью за безрассудную отвагу. Были, однако, молодцы, которые взбирались на гору, прикрепляя к рукам и ногам когти рыси; взлетали на нее на крыльях сокола, на волшебном коне или ковре-самолете: все это — мифические образы быстролетных облаков, вихрей и грозы. В лубочной сказке о золотой горе или трех царствах: медном, серебряном и золотом — повествуется о том, как царевич, отправляясь в означенные царства, достиг до страшно высокой и крутой горы и влез на нес с помощью железных когтей, прикрепленных к ногам и рукам. Олицетворяя грозовые явления хищными птицами и зверями, фантазия, сблизившая молнии с острыми стрелами, начинает видеть в этих стрелах железные когти; только вооруженный такими когтями, сказочный герой (древний громовник) может взойти на небо и освободить из-под власти злых демонов чудную красавицу — богиню весны...
Рядом с сейчас указанными представлениями неба как блаженной обители богов и праведных оно было олицетворяемо и в живом божественном образе. Плодотворящая сила солнечных лучей и дождевых ливней, ниспадающих с небесного свода, возбуждает производительность земли, и она, согретая и увлажненная, растит травы, цветы, деревья и дает пищу человеку и животным. Это естественное и для всех наглядное явление послужило источником древнейшего мифа о брачном союзе Неба и Земли, причем Небу придан воздействующий, мужской тип, а Земле — воспринимающий, женский. Летнее Небо обнимает Землю в своих горячих объятиях, как невесту или супругу, рассыпает на нее сокровища своих лучей и вод, и Земля становится чреватою и несет плод; не согретая весенним теплом, не напоенная дождями, она не в силах ничего произвести. В зимнюю пору она каменеет от стужи и делается неплодною; с приходом же весны Земля, по народному выражению, "принимается за свой род". "Не Земля родит, а небо", — выражается пахарь пословицею, обозначая тем, что без влияния благоприятных условий, посылаемых небом, земля бессильна дать урожай...
В эпическом языке сказок и песен постоянно повторяющееся выражение мать сыра земля означает землю увлажненную, оплодотворенную дождем и потому способную стать матерью. Слово природа (natura — рождающая), употребляемое теперь кат; понятие отвлеченное, собственно, указывает на землю, материнская утроба которой не устает рождать от начала мира и до наших дней. Идея плодородия так тесно слилась с представлением о богине Земле, что, по литовскому сказанию, она не может оставаться равнодушною при мысли, что у нее есть соперница: из зависти к одной матери, одаренной чудесным свойством рождать детей изо всех частей тела, Земля втянула ее в трясину - и несчастная женщина превратилась в вербу.
Небо у древних славян олицетворялось в мужском образе Сварога... Сварог, как олицетворение неба, то озаренного солнечными лучами, то покрытого тучами и блистающего молниями, по указанию наших памятников, признавался отцом солнца и огня. Во мраке туч он возжигал пламя молний и, таким образом, являлся творцом небесного огня; земной же огонь, по древнему преданию, был божественный дар, низведенный на землю в виде молнии; отсюда понятно, почему славянин молился огню, как сыну Сварога. Далее: разбивая громовыми стрелами тучи, Сварог выводил из-за них ясное солнце, или, выражаясь метафорическим языком древности, возжигал светильник солнца, погашенный демонами тьмы; это картинное, поэтическое представление прилагалось и к утреннему солнцу, выходящему из-за черных покровов ночи, так как ночной мрак постоянно отождествлялся с потемняющими небо тучами. С восходом солнца, с возжением его светильника соединялась мысль о его возрождении, и потому Сварог есть божество, дающее жизнь Солнцу — рождающее Дажьбога...
Свято- или Свето-вит — имя, образовавшееся по той же форме, как и другие названия языческих богов: Поревит, Яровит, Руевит; последний слог составляет суффикс (сравни прилагательные: яро-витый, плодо-витый, ядо-витый), основа же имени (свят — свет) указывает в Святовите божество, тождественное Диву и Сварогу: это только различные прозвания одного и того же высочайшего существа. По свидетельству Саксона Грамматика[59], в богатом арконском храме стоял огромный идол Святовита, выше роста человеческого, с четырьмя бородатыми головами на отдельных шеях, обращенными в четыре разные стороны; в правой руке держал он турий рог, наполненный вином. Тут же висели принадлежащие богу седло, мундштук и огромный меч; сверх того, при храме содержался посвященный Святовиту белый конь, на котором он выезжал по ночам разить врагов славянского племени. В 1851 году сделался известным ученому миру открытый на Збруче Святовитов истукан, грубой работы, с четырьмя лицами; все, что было посвящено Святовиту арконскому, на этом истукане изображено в рисунке (чертами): на одной стороне бог держит в правой руке рог, на другой — висит у пояса меч, а Под ним видно изображение коня с подбрюшником. Четыре головы Святовита, вероятно, обозначали четыре стороны света и поставленные с ними в связи четыре времени года (восток и юг — царство дня, весны, лета; запад и север — царство ночи и зимы); борода — эмблема облаков, застилающих небо; меч — молния; поезды на коне и битвы с вражьими силами — поэтическая картина бурно несущейся грозы; как владыка небесных громов, он выезжает по ночам, т. е. во мраке ночеподобных туч, сражаться с демонами тьмы, разит их молниями и проливает на землю дождь. С этим вместе он необходимо признается и богом плодородия; к нему воссылались мольбы об изобилии плодов земных; по его рогу, наполненному вином (вино — символ дождя), гадали о будущем урожае. Таким образом у славян, как и у прочих арийских народов, с верховным божеством неба связывались представления ожесточенной борьбы с демонами и благодатного плодородия, разливаемого им по земле; вот почему время зимнего поворота солнца, предвещающее грядущее торжество Святовита над нечистою силою, получило название святок, а весенний праздник пробуждения природы, появления молниеносных облаков и дождевых ливней — название святой или светлой недели. Те же самые представления соединяла фантазия и с отдельным олицетворением бога-громовника (Перуна); так как именно в весенней грозе видел древний человек источник жизни, начало мирового творчества, то понятно, что воинственный громовержец должен был выдвинуться в его сознании вперед и занять первостепенное, почетнейшее место между другими богами. Вместе с главнейшими атрибутами божества Неба на него переносится и понятие о старейшинстве; он является творцом и правителем вселенной, получает имя деда и представляется в виде бородатого старца.
Признавая Небо и Землю супружескою четою, первобытные племена в дожде, падающем с воздушных высот на поля и нивы, должны были увидеть мужское семя, изливаемое небесным богом на свою подругу; воспринимая это семя, оплодотворяясь им, Земля чреватеет, порождает из своих недр обильные, роскошные плоды и питает все на ней сущее... Слово семя означает в нашем языке и зерно растительного царства, и оплодотворяющие соки человека и животных; с другой стороны, и понятие зерна распространяется отчасти на царство животное, ибо о рыбах говорится, что они "мечут зерно"; жидкой икре дается название "зернистой". В "Ведах" весьма часто высказывается мысль, что в виде дождя небо проливает свое животворное семя; так, например, в гимне "Ригведы", обращенном к богу-громовнику, находим следующее любопытное место: "Бушует ветер, блистает молния, распускаются злаки, небо изливается, вся тварь получает подкрепление, когда Парьянья (Перун) оплодотворяет землю своим семенем". От небесных, дождевых потоков религиозное обожание перешло и на земные источники и реки; воды Нила, ежегодно разливающиеся на всю окрестную страну и напояющие ее плодоносною влагою, почитались у египтян за мужское семя Озириса[60]; когда река эта выступала из берегов, на изображения Изиды[61] навешивались амулеты в знак ее беременности. По народной примете, если дождь смочит молодую чету в самый день брака, то это предвещает новобрачным чадородие и богатство. При таком воззрении на дождь, как на родительское семя, понятно, что в молнии, разящей тучи и чрез то низводящей на землю небесные воды, фантазия первобытных народов узнавала мужской детородный член; понятно также, что оплодотворяющая сила неба почти исключительно присваивалась божествам весенних гроз: у германцев — Водану и Тору, у славян — Перуну; к ним обращались с молитвами об урожае, в честь их совершались на пашнях и жнивах религиозные обряды, от их непосредственного участия зависели успехи земледелия...
На древнем поэтическом языке травы, цветы, кустарники и деревья назывались волосами земли. Признавая землю за существо живое, самодействующее (она родит из своей материнской утробы, пьет дождевую воду, судорожно дрожит при землетрясениях, засыпает зимою и пробуждается с возвратом весны), первобытные племена сравнивали широкие пространства суши с исполинским телом, в твердых скалах и камнях видели ее кости, в водах — кровь, в древесных корнях — жилы и, наконец, в травах и растениях — волосы. По преданию индийских брахманов, земные воды создались из соков Брамы, камни — из его костей и растения — из волос. Скандинавский миф о происхождении мира утверждает, что земля сотворена из мяса убитого первозданного великана Имира, море — из потоков его крови, горы, скалы и утесы — из костей и зубов, леса — из волос. Наоборот, предания о происхождении человека, равно принадлежащие всем индоевропейским народам, в том числе и славянам, говорят, что тело человеческое взято от земли и в нее же обращается по смерти, кости — от камня, кровь — от морской воды, пот — от росы, жилы — от корней, волосы — от травы. Верование это так высказано в Стихе о Голубиной книге:
Телеса наши от сырой земли, Кости крепкие взяты от камени, Кровь-руда от черна моря.Народные загадки метафорически называют волосы — лесом, а траву — волосами... В стихе о Егории Храбром сказано, что у его сестер "власы, как кавыль-трава". Сербы называют лес — шума, потому что в нем слышится постоянный шелест листьев. С указанными метафорами тесно связывается поверье о зеленых волосах русалок, водяных и леших и тот часто встречаемый в народных сказках мотив, по которому щетка, кинутая героем во время бегства от враждебных преследователей, превращается в лес: из каждого волоска вырастает дерево. Русалки, как водяные нимфы, наделены зелеными косами, подобно римским божествам рек и финскому царю волн, которые представлялись с травяными бородами; т. е. зелень, растущая по берегам рек и источников, рассматривалась как волосы водяных богов и богинь. Малорусская загадка, означающая "камыш", изображает это растение в таком поэтическом образе: "Стоит дид над водою, колыхав бородою"...
Богиня земного плодородия, вступающая в брак с богом небесных гроз в счастливое время весны, теряет своего супруга в период холодной зимы и прекращает свои роды; отсюда создалось у германцев прекрасное сказание о том, как Фрея, в белой развевающейся одежде, плача и жалуясь, шествует через горы к долы, неустанно ищет своего скрывшегося мужа, находит его и потом снова теряет и принимается за те же поиски. Миф этот развит во многих народных сказках. У греков благодатная свадьба Зевса[62] и Геры[63] праздновалась каждую весну...
Из всего сказанного очевидно, что рядом с поклонением небу должно было возникнуть и утвердиться религиозное почитание земли. Следы этого обоготворения сохранились и у славян... Богатыри, поражающие лютых змеев, в ту минуту, когда им грозит опасность быть затопленными кровью чудовища, обращаются к земле с просьбою: "Ой, ты еси мать сыра земля! расступися на четыре стороны и пожри кровь змеиную" — и она расступается и поглощает в себя потоки крови...
Весною, когда земля вступает в брачный союз с небом, поселяне празднуют в ее честь духов день; они не производят тогда никаких земляных работ, не пашут, не боронят, не роют землю и даже не втыкают кольев, вследствие поверья, что в этот день земля — именинница и потому надо дать ей отдых...
Как всеобщая кормилица, земля есть источник сил и здоровья; она же растит и целебные травы. Тот, кто приступает к собиранию лекарственных зелий и кореньев, должен пасть ничком наземь и молить мать-сыру землю, чтоб она благоволила нарвать с себя всякого снадобья... Чтобы нечистая сила не поселилась в нивах и не выжила с пастбища стад (т. е. не повредила бы тем и другим), хозяева в августе месяце выходят раннею зарею на поля с конопляным маслом и, обращаясь на восток, говорят: "Мать сыра земля! Уйми ты всяку гадину нечистую от приворота и лихого дела"; затем выливают на землю часть принесенного масла. Обращаясь на запад, продолжают: "Мать сыра земля! Поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие, в смолу горячую"; на юг произносят: "Мать сыра земля! Утоли ты все ветры полуденные со ненастью, уйми пески сыпучие со метелью" и, наконец, на север: "Мать сыра земля! Уйми ты ветры полуночные со тучами, содержи (сдержи) морозы со метелями". За каждым обращением льют масло, а в заключение бросают и самую посудину, в которой оно было принесено. У литовцев в эпоху язычества было обыкновение приготовлять осенью (после уборки хлеба) пиво и часть его выливать на землю с такою мольбою: "Цветущая земля! Благослови дело рук наших". Это жертвенное возлияние масла и пива имело символическое значение влаги, проливаемой небом и дарующей нивам урожай; ибо и "масло" и "пиво" были метафорическими названиями дождя. Увлажненная дождем земля сулила обилие, богатство и счастье; потому при избрании кошевого, если на ту пору случалось быть ненастью, казаки мазали голову избранного грязью, почитая это за доброе предзнаменование.
По свидетельству Титмара[64], славянские жрецы, нашептывая какие-то слова, раскапывали пальцами землю и по встречающимся приметам гадали о будущем. Народные русские сказки упоминают о старинном обычае: произнося клятву, есть землю, чтобы таким действием еще тверже скрепить нерушимость произносимого обета или справедливость даваемого показания. Хроника Титмара говорит, что славяне при утверждении мирных договоров подавали пучок сорванной травы или клок обрезанных волос; трава, как волосы матери-земли, и волоса, как метафора травы, употреблялись здесь за символические знамения самой богини — в удостоверение того, что мир будет соблюден свято и границы чужих владений останутся неприкосновенными. В старину на Руси вместо обыкновенной присяги долгое время в спорных делах о земле и межах употреблялся юридически признанный обряд хождения по меже с глыбою земли: один из тяжущихся клал себе на голову кусок земли, вырезанный вместе с растущею на ней травою на самом спорном поле, и шел с ним по тому направлению, где должна была проходить законная граница; показание это принималось за полное доказательство...
Взятая с поля глыба и дерн были символами матери-земли, а с тем вместе и поземельной собственности; по всему вероятию, как было у других народов, так и у нас — при уступке и продаже полей и пашен кусок земли или дерн передавался из рук в руки от продавца покупщику, как видимый знак перехода права владения от одного лица к другому. На это указывает старинное выражение: продать в дерн или одерень, т. е. продать в полную и вечную собственность. У римлян в случае тяжбы о поземельном владении противники отправлялись на спорное поле, брали из него глыбу и приносили к претору, который должен был рассудить их; у германцев в подобном случае также вырывали глыбу из спорной земли, приносили пред феодала и, вступая в судебный поединок, прикасались к ней своими мечами. От общего представления о Земле народ земледельческий переносит свое религиозное почитание на отдельные родовые участки, подобно тому как культ огня склонился к обоготворению домашнего очага; земля, на которой селился род, которая возделывалась его руками и которая действительно была его кормилицей, становилась ему родною. Уходя на чужбину, древние предки наши брали с собою горсть родной земли и хранили ее, как святыню: обычай, доселе соблюдаемый болгарами. К ней тяготели общие интересы родичей; даруя им необходимые средства жизни, она тем самым привязывала их к определенной местности и теснее скрепляла семейный союз... Со словом земляк до сих пор соединяется у нас что-то родственное, близкое.
Стихия света в ее поэтических представлениях
Солнечный свет дает возможность видеть и различать предметы окружающего нас мира, их формы и краски; а темнота уничтожает эту возможность. Подобно тому зрение позволяет человеку осматривать и распознавать внешнюю природу, а слепота погружает его в вечный мрак; без глаз так же нельзя видеть, как и без света. От того стихия света и глаза, как орудие зрения, в древнейшем языке обозначались тождественными названиями: зреть, взор, зоркий, зорить — присматриваться, наблюдать, прицеливаться, зорька — прицел на ружье, обзаритъся — промахнуться из ружья, зыритъ — зорко смотреть, зирятъ — оглядываться, зирк — глядь, зирок — зрачок, зорный — имеющий хорошее зрение, и зо(а)ря, зирка (малорус.), — звезда, зирка с метлою — комета, зо(а)рница (зирныця, зарянка) — утренняя или вечерняя звезда, планета Венера; зарница — отдаленная молния (малор. блискавиця, которой приписывают влияние на созревание нив и которую потому называют хлебозоркою: глагол "зреть, созревать" указывает на мысль, что поспевающие хлеба, окрашиваясь в желтый, золотистый цвет, чрез то самое уподобляются солнечному блеску; зрелый — собственно: светлый, блестящий); зорить — о молнии: сверкать и помогать вызреванию нив; зорить — прочищать, прояснять, напр., "зорить масло" — дать ему отстояться, очиститься; зазоритъ — зажечь, засветить свечу, зарный (свето-зарный) — горячий, страстный, зарево — отражение пламени, зорко (вятск.) — ясно; дозор — присмотр и дозоры (перм.) — зарница. Слово зрак, означающее у нас глаз, у сербов значит: солнечный луч...
В следующем поверье слово глядеть употребляется в значении "светить": если, замечают крестьяне, новый месяц обглядится до трех дней, то во все время до следующего нарождения этого светила будет стоять ясная погода; а если на новый месяц польет дождь и тучи помешают ему оглядеться, то в продолжение четырех недель погода будет дождливая.
Белъты — глаза, от слова белый — светлый; зеница ока — зрачок, зенки, зенъки — глаза и зенка — стекло, от глагола зе(и)ятъ — блестеть: здесь глаз сближается со стеклом на том нее основании, на каком ясное небо названо было "стеклянною горою".
Луна, луниться — светать, белеть и лунитъ — хлопать главами. Постоянный эпитет, сопровождающий очи — ясные, светлые; малорусы говорят: "Свитить очима", а в литературной и разговорной речи обыкновенны выражения: сверкать глазами, посыпались искры из очей и т. п.
Из такого сродства понятий света и зрения, во-первых, возникло мифическое представление светил небесных — очами, а во-вторых, родилось верование в чудесное происхождение и таинственную силу глаз. Представление светил очами равно принадлежит народам и Старого и Нового света. Во многих языках восточного архипелага названия, даваемые солнцу, означают: око дня. Скандинавские поэты солнце, луну и звезды называют глазами неба и, наоборот, глаза человека уподобляют солнцу и луне, а лоб (череп) его — небесному своду, что встречается и в наших старинных рукописях: "Яко на небеси светила солнце и луна, гром ветр, сице и в человеке во главе очи, и глас, и дыхание, и мгновение ока, яко молния..." В "Ведах" солнце называется глазом Варуны (неба), самое божество дневного света именуется златоглазым, а в некоторых гимнах солнце и луна представляются двумя очами неба. Верховный бог германцев Один (Водан) назывался одноглазым: в человеческом образе его олицетворено дышащее бурями грозовое небо, с высоты которого солнце, словно громадное всемирное око, озирает землю. Подобно тому у персов оно представлялось глазом Ормузда[65], у египтян — Демиурга[66], у греков — Зевса. Отсюда в средние века явилось то обычное изображение божества в виде всевидящего ока, испускающего из себя кругом солнечные лучи, которое вошло в церковную символику и удержалось до настоящего времени; на иконах оно доныне рисуется среди облаков. Эпитет "всевидящего" придавался солнцу еще индусами, и эта характеристическая черта постоянно соединяется с ним в народных сказаниях. Первобытные племена обожали в стихиях их живую творческую силу, и как в самой природе различные явления неразрывно связаны между собою и сопутствуют друг другу, так и в мифических представлениях они нередко сливаются в одно целое. Религиозное чувство древнего человека, по преимуществу, обращалось к весеннему небу, которое являлось его воображению во всем божественном могуществе: одетое грозовыми тучами, оно вещало в громах, разило в молниях, изливало семена плодородия в дожде и, взирая с высоты на дольний мир ясным солнцем, пробуждало природу к новой жизни. Яркие лучи весеннего солнца возвращались миру вместе с дождями и молниями и вместе с ними похищались на зиму злыми демонами ; оттого и в народных поэтических сказаниях мифы солнечные и грозовые взаимно переплетаются и спутываются. Таково греческое сказание об исполинских одноглазых циклопах; в образе великанов арийские народы представляли темные тучи, громоздящиеся по небесному своду; так как громовые удары уподоблялись стуку кузнечных молотов, а молнии — стрелам, то о циклопах рассказывается, что они куют Зевсу молниеносные стрелы. В этой грозовой обстановке солнце представляется как глаз во лбу великана; самое имя циклопов указывает па круглый диск солнца. Собственно, древнейшее представление должно было всем циклопам вместе дать один глаз, как едино на небе солнце, и воспоминание об этом сохранила норвежская сказка. Давно когда-то, повествует сказка, заплутались двое детей в лесу, развели огонь и сели греться. Вдруг послышался страшный треск, и затем показались три великана, вышиной с дерево; у всех трех был один глаз, и они пользовались им по очереди: у каждого великана было во лбу отверстие, куда и вставлялся общий всем глаз. Ловкие дети успели одного из великанов ранить в ногу, а других напугать, так что тот, который держал глаз во лбу, уронил его наземь; мальчик тотчас же подхватил его. Глаз был так велик, что не уложить и в котел, и так прозрачен, что мальчик видел сквозь него все, будто в светлый день, хотя и была темная ночь...
Необходимо, однако, заметить, что поэтическая фантазия первобытных народов относилась к явлениям природы с несравненно большею свободою, нежели какую вправе себе дозволить современный поэт. Если, с одной стороны, она отождествляла совершенно отдельные явления по сходству некоторых их признаков, зато с другой — единое явление дробила на разные образы по различию производимых им впечатлений, Как в периодических фазах луны древний человек усматривал погибель старого месяца и нарождение нового, так в закате солнца видел его смерть, а при утреннем восходе приветствовал рождение нового бога; в естественной смене годовых времен представлялась ему смена одного солнца другим: зимнее солнце уступало весеннему, весеннее — летнему, майское — июньскому и т. д. В этих воззрениях нашла себе опору и басня о многих циклопах, из которых каждый имеет свой глаз во лбу. Предания об одноглазых великанах составляют общее достояние всех индоевропейских народов, а потому не чужды и славянам...
Народная загадка, означающая "глаз", говорит: "Стоит палата, кругом мохната, одно окно и то мокро". С восходом солнца небо, до той минуты погруженное в ночной мрак, прозревает; на востоке вспыхивает красная заря и вслед за нею показывается самое светило. Появляясь на краю горизонта, оно как будто выглядывает в небесное окно, открытое ему богинею Зарею... Солнце, Месяц и Звезды — зоркие небесные стражи, от глаз которых ничто не укроется; к ним обращаются герои народных сказок с расспросами во всех трудных случаях жизни: "Вы, — говорят они, — светите во все щели, вам все ведомо!"... У всех народов существует убеждение, что небесные боги взирают с высоты на землю, наблюдают за поступками смертных, судят и наказуют грешников. Из этих данных объясняются сказочные предания: а) о чудесном дворце, из окон которого видна вся вселенная, а владеет тем дворцом прекрасная царевна (Солнце), от взоров которой нельзя спрятаться ни в облаках, ни на суше, ни под водами; б) о волшебном зеркальце, которое открывает глазам все — и близкое, и далекое, и явное, и сокровенное. Там, где в русской сказке завистливая мачеха допрашивает волшебное зеркальце, в подобной же албанской сказке она обращается прямо к Солнцу. Народные загадки уподобляют глаза человеческие зеркалам и стеклам: "Стоят вилы (ноги), на вилах короб (туловище), на коробе гора (голова), на горе два стекла (или зеркала — глаза)"; сличи глядилъцо — зрачок глаза и гляделка, глядельце — зеркало; то же сродство означенных понятий обнаруживается и словом зеркало (зерцало, со-зерцатъ). В древности зеркала были металлические; а потому мифическое представление солнца зеркалом, известное еще греческим философам, совпадало с уподоблением его золотому щиту...
Как свет уподоблялся зрению, так, в свою очередь, зрение нередко получало значение света. Из древнеязыческих преданий о создании человека видно, что сродство этих понятий послужило основою весьма знаменательного мифа о происхождении человеческих глаз. По свидетельству старинных славянских и немецких памятников, восходящих до ХII столетия, очи человеческие создались от солнца; верование это известно было и древним индусам. В средневековых сказаниях находим басню, что, когда орел состарится и потеряет зрение, он возлетает превыше облаков — к самому солнцу — и тем самым исцеляет свою слепоту...
У разных народов уцелели любопытные предания о том, что глаз человеческий не только видит, но светит и жжет. Народная загадка выражается о глазах: "Два вузлика все поле освитять". Интересен вариант этой загадки: "Двомя узликами все поле засию"; очи засевают своим светом (зрением) поле, т. е. сразу обнимают все видимое пространство. Стремительность света, скорый полет птицы и мгновенная передача предметов глазом порождали одно общее понятие о быстроте, и потому, как солнце олицетворялось в виде птицы, так и "глаза" народная загадка изображает в такой метафоре: "Сидит птица, без крыльев, без хвоста; куда ни взглянет — правду скажет"...
В смелой поэтической картине живописует русская сказка ночь, блестящую звездными очами: злая мачеха посылает падчерицу за огнем к бабе-яге. Поздним вечером приходит она к избушке ведьмы; вокруг избы — забор, на заборе торчат человеческие черепа, а в тех черепах блестят глаза и озаряют поляну; ж утру глаза потухают, а с вечера снова зажигаются и светят во всю ночь. Девушка сняла один череп с горящими очами, вздела его на палку и, освещая перед собою дорогу, пустилась назад. Воротившись домой, она вошла в горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее родных дочерей, так и жгут огнем: куда ни прятались бедные, глаза везде находили, и к утру превратили их в черный уголь. Рассказ этот живо напоминает нам прекрасный образ трубадура Бертрама дель Борна в Дантовом "Аде": он несет за волосы свою собственную голову, отделенную от туловища, и освещает ею путь, как фонарем...
Такое сближение понятий света и зрения проведено в народной речи до мельчайших подробностей. Так, кривого человека, лишившегося одного глаза, называют полусветъе; ибо понятие полного света соединяется с двумя глазами. Наоборот, о солнце, когда оно начинает опускаться к западу, говорят, что оно косится. Кроме того, умаление дневного света, когда заходит солнце или тучи заволакивают небо, уподобляется нахмуренным, полузакрытым очам: а) сумерки (сумрак) — время солнечного заката, то же, что сутёмки, сутемёнки (от тьма, потёмки); морок (обморок) — мгла, туман, облака, паморок (паморока, паморка) — пасмурная погода с мелким дождем, морочный и паморочный — пасмурный, туманный, заморочило — небо покрылось тучами или туманами, и б) мороком — незаметно, невидимо, сумериться — нахмуриваться, надвигать брови на глаза, сумеря — кто смотрит нахмурясь, сердито; подобно тому невыгляд — угрюмый человек. Слово мерещиться значит и темнеть, и плота, слабо видеть: "Тебе, видно, так померещилось!" Мизикать — издавать слабый свет, а мизюкатъ (мизюритъ) — худо видеть, смотреть полуоткрытыми глазами. Не менее знаменательно свидетельство следующих речений: а) хмора — туман с мелким дождем, хмара и хмура — туча, облако, густой туман, хмарно — туманно, пасмурно, хмарит — делается ненастье, собираются тучи, нахмарило — солнце скрылось за тучами, и б) хмуриться — опустить брови, что придает лицу суровый, "пасмурный" вид; нахмаритъся — сделаться угрюмым, "мрачным", нахмару — в дурном расположении духа, хмурно — худо, хмара (хмыра, хмура, нахмура, хмурый) — угрюмый, невеселый человек; жмурить — закрывать глаза, жмурки — игра с завязанными глазами. До сих пор слышится в разговорной речи выражение: смотреть или нахмуриться сентябрем, т. е. смотреть исподлобья, надвинув на глаза брови. Такой суровый взгляд уподобляется сентябрьскому солнцу, отуманенному осенними облаками. Наоборот, о ненастной погоде, предвещающей дождь, говорят: небо хмурится; следовательно, облака и тучи, издревле названные на метафорическом языке волосами, здесь сравниваются с бровями и ресницами, а солнце — с глазом. Сличи также: моргать, моргай — человек, закрывающий глаза — жмура, и моргасинница — сумрачная, осенняя погода с мелким дождем, моргаситъся — накрапывать мелкому дождю. Слова эти указывают на поэтическое уподобление небесных светил, беспрестанно потемняемых бегущими облаками, моргающим очам. В связи с приведенными данными стоит народное поверье, что слезы прочищают недобрые (косые, черные и с нависшими бровями) очи и отымают у них злую силу — подобно тому как дождь очищает небо от темных туч. Рядом с мифическим представлением облаков бровями и ресницами слезы стали метафорическим названием дождя и росы...
Язык не только сближает умаление света с ослаблением зрения, но и в совершенном отсутствии первого узнает слепоту: темнесъ, темь — ночной мрак, темень — тучи и темный — слепой, темняк — пасмурный, невеселый человек, темнуха — нелюдимая женщина, отемнетъ — ослепнуть, туман и тумата — слепота.
Утрата зрения приравнивается темным тучам и непроглядной ночи. Вместе с этим, как шумно пролившийся дождь выводит из-за туч ясное солнце, или, говоря мифическим языком, возвращает способность зрения этому всесветному глазу, и как роса, падающая на утренней заре, предвещает скорое пробуждение солнца, — так думали и верили, что весенний дождь и утренняя роса могут исцелять слепоту очей. Народная русская сказка сообщает нам предание о живой воде, возвращающей слепому царю зрение: в основе этого предания кроется древнейший миф о весеннем дожде, в ливнях которого умывается пробужденный от зимнего сна царь Солнце. В другой сказке ("О Правде и Кривде") упоминается гремячий ключ, наделенный чудесною силою восстанавливать потерянное зрение. "Гремячими" источниками называются те, которые, по народному поверью, произошли от удара молнии: в первоначальном значении это — дождевые потоки... В духовном стихе "Сорок калик со каликою" находим следующий эпизод: когда Михайло-Потык Иванович был оклеветан в покраже княжеской чаши, то калики "ясны очушки у него повыкопали" и бросили несчастного в раздольице — чисто поле. Михайло-Потык Иванович подполз к сыру дубу;
Прилетела птица райская, Садилась на тот на сырой дуб, Пела она песни царские: "Кто в эту пору-времечко Помоется росою с этой шелковой травы, Тот здрав будет!"Михайло догадался, умылся росою, и в тот же миг зарастались его раны кровавые, стал он молодцем по-прежнему...
Не одни небесные светила, но и самая молния казалась древнему человеку зрячею. Часто мелькающая зарница, которая то озарит небо мгновенным блеском, то спрячется за темными тучами, была сближаема с мигающим глазом, который то взглянет, то закроется веками; сравни: мигалы — глаза, веки и мигать — заступать свет и, говоря о молнии: сверкать. Малорусы называют зарницу — моргавкою (от моргать) и, глядя на ее отблеск, говорят: "Моргни, моргни, моргавко!"...
Наши сказки знают могучего старика с огромными бровями и необычайно длинными ресницами; брови и ресницы так густо у него заросли, что совсем затемнили зрение; чтобы он мог взглянуть на мир, для этого нужно несколько силачей, которые бы смогли поднять ему брови и ресницы железными вилами. Этот чудный старик напоминает малороссийского вия — мифическое существо, у которого веки опускаются до самой земли, ко если поднять их вилами, то уже ничто не утаится от его взоров; слово вии означает: ресницы. Народное предание о вии знакомо всякому, кто только читал Гоголя; заметим, однако, что некоторые любопытные черты не вошли в его поэтический рассказ. В Подолии, например, представляют вия как страшного истребителя, который взглядом своим убивает людей и обращает в пепел города и деревни; к счастью, убийственный взгляд его закрывают густые брови и близко прильнувшие к глазам веки, и только в тех случаях, когда надо уничтожить вражеские рати или зажечь неприятельский город, поднимают ему веки вилами. В таком грандиозном образе народная фантазия рисовала себе бога-громовника (Деда Перуна); из-под облачных бровей и ресниц мечет он молниеносные взоры и посылает смерть и пожары...
Под влиянием метафорического языка глаза человеческие должны были получить таинственное, сверхъестественное значение. То, что прежде говорилось о небесных очах, впоследствии, понятое буквально, перенесено человеком на самого себя. Знойный блеск солнечного ока производит засуху, неурожаи и болезни; сверкающие взоры Перуна посылают смерть и пожары: та же страшная сила усвоена и человеческому зрению. Отсюда родилась вера в призор или сглаз, общая всем индоевропейским народам... "Дурной", "недобрый" глаз распространяет свое влияние на все, чего только коснется его взгляд: посмотрит ли на дерево — оно тотчас засыхает; глянет ли на свинью с поросятами — она наверно их съест; полюбуется ли на выведенных цыплят — и они суток в двое переколеют все до одного и т. д. Недобрый глаз влечет за собою болезни, убытки и разного рода несчастья, и такое действие его не зависит даже от воли человека. Недобрыми очами считаются: косые, выглядывающие из-за больших, нахмуренных бровей, черные ("Бойся черного да карего глаза"; черный глаз — опасный) и глаза, чрезмерно выкатившиеся или глубоко впавшие! Косые глаза придают лицу неприятное выражение; старинному человеку они напоминали солнечный закат, умаление дневного света, близящееся торжество нечистой силы. Потому слову прикос дается значение "сглаза" (оприкоситъ — сглазить, оприкосливый — боящийся дурного глаза, порчи; коситься на кого — смотреть неприязненно); в заговорах просят защиты "от уроков и прикосов". Способностью зрения, по понятиям язычников, наделяли человека боги света и добра; с недостатком и еще более с отсутствием этого дара соединялась мысль о нравственном несовершенстве, лукавстве и злобе. Оттого косой употребляется в смысле дьявола: "Косой те возьми!" Идти в прикос — поступать нечестно, лукавить; на косых быть — не ладить; сравни: кривой (с одним глазом) и кривда, кривостъ — неправда, зло, обида; стемнеть — ослепнуть и потёма — скрытный, лукавый человек; обморочить — обманывать, обомарот — обманщик; малорус, завязать свет (очи) — сделать кого несчастным. Между другими зловещими приметами издревле признавалась и встреча со слепцом... Нахмуренные брови, как метафора потемняющих небо облаков, и глаза, светящиеся из-за этих бровей — из глубоких впадин, или глаза черные, навыкате, яркий блеск которых особенно живо напоминал молнию (припомним выражение "сверкающий взор", "молниеносный взгляд", "метать стрелы из глаз"), должны были получить тот же демонический характер, какой обыкновенно соединялся с тучами. У колдунов и ведьм, заправляющих грозами и бурями, по народному поверью — "недобрый" глаз. Недобрые глаза считаются завистливыми, потому что зависть невольно обнаруживается во взорах, пристально обращенных на предмет желания; почему зариться означает: сильно желать, завидовать, зазорный — завидливый; глаза разгорелись, т. е. жадно смотрят; "у него черный глаз" — он полон зависти...
Очевидная для всех аналогия небесного света со светом обыкновенного огня повела ко многим весьма знаменательным мифическим сближениям, которые, главным образом, и придали стихии земного огня священный характер. Солнце, луна, звезды, заря и молнии противодействуют тьме под небесным сводом — точно так же, как горящая лампада или свеча под домашнею кровлею. Язык роднит и отождествляет эти понятия: свет, светило, светок — утренний рассвет, и светло — огонь ("вздуй свет-до!"), свеча, светец — ночник, рассветитъ — зажечь лучину, светка — пламя зажженной лучины или сухих пней; луч и лучина; всполох (сполоха, сполохи) — северное сияние и сполохи — зарница, от старинного полох — поломя (пламя). Заходит ли солнце, закрывают ли его тучи, заслоняет ли что огонь — все это обозначается одинаково: теменъ — тучи, темниться — смеркаться, темнить — загораживать свечу...
Понятие теплоты, соединяемое равно и с светилами и с огнем, обозначается в языке родственными словами: теплеть — теплая погода, тепло (тяпло, тёплышко) — горячий уголь, огонь: "вздуй тепло!", тепленка — огонь, разведенный в овине; теплить — протапливать овин; теплина — теплое время и огонь, зажженная лучина; степлитъся — о воде: согреться от лучей солнца, и об огне: гореть; о звездах говорят, что они теплятся — светят. Со светом и теплотою первобытные народы связывали идею жизни, а с отсутствием того и другого — идею смерти. При вечернем закате, при наплыве туч и во время затмений солнце казалось потухающим; а когда огонь гаснет — это и есть для него смерть...
С рассветом дня соединяется все благое, все предвещающее жизнь, урожай, прибыток, а с закатом солнца, с ночью — все недоброе: смерть, бесплодие, убыток, несчастье. Отсюда объясняется и поговорка, так часто повторяемая в наших сказках: утро вечера мудренее, т. е. при солнечном восходе всякое дело, всякий подвиг совершаются удачнее. "Ночь меркнет, заря свет запала, мгла поля покрыла", — говорит автор "Слова о полку Игореве", желая в этой картине солнечного заката, в этом торжестве тьмы над светом указать на грядущее торжество враждебных ратей над русскими воинами... Народные приметы дают обильные свидетельства: солнышко закатилось — не бросай на улицу сора, пробросаешься — разоришься; не починай тогда и новой ковриги, а то хлеб будет не спор, да, пожалуй, и все хозяйство расстроится. Если уже необходимо приняться за ужином за целый хлеб, то первую отрезанную горбушку не едят, а после трапезы приставляют ее к початой ковриге, чтоб она казалась нетронутою. Отдавать деньги к ночи нехорошо, не будут водиться; по захождении солнца крестьяне, из боязни обеднеть, не сводят счетов, не ссужают в долг и не дают из дому никакой вещи... Не гляди в окно до утренней зари — грешно; не оставляй на ночь на столе нож — лукавый зарежет. Если жеребенок (сосун) резвится на пастбище вечером, при закате солнца, то его непременно в течение года съест волк; а если играет он поутру, при восходе солнца, то будет хорошо расти и уцелеет от хищного зверя. Когда мать купает ребенка на ночь, то не должна выливать воды до утреннего рассвета; несоблюдение этого правила может повредить ребенку. На ночь следует покрывать кадку с водою и кринки с яствами, чтобы не нагадил в них нечистый. "Эдда" не советует вступать в битву по захождении солнца. По глубоко вкорененному убеждению язычников, война была судом божиим, а дневное светило являлось свидетелем людской правды. Оно должно было взирать с высоты на состязание враждующих племен и склонять весы правосудия на сторону правого. У древних народов как скоро заходило солнце — суд закрывался (так предписано законами XII таблиц[67]), и вообще всякая юридическая сделка, заключенная в ночное время, была недействительна; заимодавец мог требовать уплаты долга только днем, пока не село солнце; судебные поединки должны были заканчиваться с наступлением сумерек...
Поэтические представления о рождении и смерти солнца были прилагаемы и к судьбам его в течение года. Потеря солнцем плодотворной теплоты и помрачение его блеска в осенние и зимние месяцы послужили основою мифа, что светило это с окончанием летнего времени утрачивает свои силы и погибает (гаснет), С поворотом на зиму (в июне) оно, видимо, стареет и начинает уступать демонам тьмы: дни сокращаются, ночи увеличиваются; одряхлевшее, оно умирает. Но при следующем повороте (в декабре) вместо старого солнца нарождается новое. С его рождением дни начинали прибывать, ночи умаляться. Это радостное событие встречали особенным празднеством, которое и доныне известно между поселянами под именем Коляды.
Рядом с указанным представлением о возрождении солнца было другое, совершенно аналогичное с первым, что при повороте на лето оно воскресает к новой жизни. Как слово погаснуть метафорически означает: умереть, так выражение "возжечь пламя" должно было получить значение: ожить, восстать от смерти... Вновь народившееся или воскресшее светило постепенно крепнет в своих силах; божественный младенец растет и мужает и при начале весны является прекрасным и могучим юношею. С весенним солнцем нераздельно понятие молодости; народные сказания изображают его в грозовой обстановке: оно купается в живой воде дождевых потоков, очищается в блеске молний и, просветленное, несет миру дары плодородия. Когда солнце закрывается белыми — летними — облаками, оно, по народному выражению, замолодело. В грозе видели его благодатное обновление: погашаемый демонами мрака (тучами), светильник солнца снова возжигается молниеносным Перуном, разгоняющим враждебные рати нечистых духов...
Не менее любопытны те мифические представления, какие соединяла фантазия с обычными изменениями луны. В первой четверти месяц называется новым, молодым, народившимся ("новый месяц народился"); в следующие затем дни — подполнъ; потом наступает полнолуние, за ним перекрой — первые дни после полнолуния ("на перекрое") и старый, или ветхий, месяц. Итак, по древнейшему воззрению, закрепленному в языке, луна рождается, вырастает (полнеет), бывает молодою, стареет и умирает и затем возрождается снова. Народная загадка так живописует это светило: "Когда я молод был — светло светил, под старость стал — меркнуть стал". Следя за постепенно умаляющимся ликом полной луны, древний человек объяснял себе это явление или губительным влиянием старости, или действием враждебной силы, которая наносила месяцу ущерб и как бы урезывала его острым ножом: перекрой от кроить — резать, откуда и край, краюха, крома. Народная загадка уподобляет неполный месяц краюшке хлеба: "Постелю рогожку (небесный покров), посыплю горошку (звезды), положу окрайчик хлеба (месяц)" или: "Взгляну в окошко, раскину рогожку, посею горошку, положу хлеба краюшку", "У нас над двором краюха висит"...
Как с восходом солнца связывались добрые предвещания, а с закатом — худые, так и месяцу придано счастливое значение в период его возрастания (от рождения до полнолуния) и несчастливое — в период ущерба. Когда увидят в первый раз молодой месяц, то нарочно хватаются за карман или вынимают оттуда деньги и "кажут их месяцу"; верят, что после этого богатство станет возрастать и деньгам перевода не будет. О ребенке, родившемся в новолуние, думают, что он долговечен. На Украине, глядя на молодой месяц, приговаривают: "Тоби на уповня (на пополнение), мени на здоровья!" Время возрастания луны считается у наших крестьян наиболее удачным для начала работ и предприятий, а время ущерба — менее или и совсем неблагоприятным, что, по свидетельству Тацита[68], признавали и древние германцы. Свиней стараются резать в полнолуние — в том убеждении, что тогда туши бывают полнее, а во время ущерба умаляются. И всякую другую скотину лучше колоть в полнолуние; на исходе же месяца она бывает худее и в костях ее меньше мозга. При стареющем месяце, а ровно и в день лунного и солнечного затмения не начинают посевов. "Добро сеять в полном месяце"; если мужик сеет на новцу (в новолуние), то хотя хлеб растет и зреет скоро, но колос будет не богат зернами ; а хлеб, посеянный в полнолуние, хотя растет тихо и стеблем короток, зато ядрен и обилен зерном. В этом поверье рост хлеба поставлен в прямое соотношение с возрастанием луны, а полнота зерна — с полнотою ее блестящего круга. То же утверждают и о посеве льна: чтобы лен уродился полный в зерне, надо сеять его в полнолуние; а чтобы уродился долгий и волокнистый — надо сеять на молодой месяц. Постройку избы не советуют начинать во время лунного ущерба — не будет добра; рубить строевой лес и хворост для плетня и складывать печи должно в новолуние: тогда червь не будет точить дерева, хата будет тепла и не станет гнить...
Мы видели, что небесные светила и сверкающие молнии уподоблялись очам. Отождествляя земной огонь с небесным светом, фантазия усвоила за ним то же самое уподобление глазу. Народная загадка: "Днем спит, ночью глядит" означет "огонь от свечи". Болотные (блуждающие) огни белорусы представляют одноглазыми малютками: глазки их сверкают как огонек.
Одинаковое впечатление, производимое на глаз, с одной стороны, сиянием небесных светил, молнии и огня, а с другой — блеском некоторых металлов, породило понятие о связи света с золотом, серебром и медью... Эпитеты, придаваемые этим металлам, стоят в близкой связи с понятием света; так, в сербской народной поэзии говорится: сухое злато, белое серебро; у нас красно золото, чисто серебро... Сравни: красное солнце, белый свет, нечистая сила и проч. "Сухое злато" — этим выражением приписывается золоту иссушающая сила огня и солнечного зноя, что подтверждается и тем знаменательным заклятием, какое записано у Нестора: "Да будем золоти, яко золото", т. е. да будем желты, как золото — да иссушит нас небесное пламя; произнося это заклятие, полагали перед кумирами золото... Уподобление небесного света блеску металлов повело к созданию разнообразных мифических представлений. Всех светлых богов своих человек наделил золотыми и серебряными атрибутами, потому что боги эти обитали на небесах и олицетворяли собою блестящие светила и сверкающие молниями облака. Эпитеты "золотой" и "серебряный" остаются за ними при всех превращениях: примет ли божество образ быка — оно является туром — золотые рога; если обернется конем — то непременно златогривым и златохвостым, если вепрем — то с золотою и серебряной щетиною, если птицею — то с золотыми перьями ( жар-птица), и т. д. ...
Народные сказки, изображая блаженную страну весны, говорят о садах с золотыми яблоками, об источниках, текущих серебром и золотом, о дворцах медном, серебряном и золотом, хранящих несметные сокровища. По славянским преданиям, Солнце живет на востоке в золотых палатах; на праздник Купалы оно выезжает на небесный свод на трех конях: серебряном, золотом и бриллиантовом. Красная девица Заря, по свидетельству заговоров, восседает на золотом стуле, держа в руках серебряное блюдо (солнце), древние греки давали ей название златотронной. Зародыш этого поэтического образа кроется в глаголе, которым издревле обозначали солнечный закат. Трудность образования имен и глаголов с отвлеченным значением, какую испытывал человек в эпоху творчества языка, заставляла его о многих явлениях природы выражаться метафорически. Скрывающееся на западе солнце казалось ему отходящим к покою после дневного странствования; вечером оно, по выражению нашего языка, садится (запад — солносяд), а поутру встает и пускается в путь — восходит. Потому в германской мифологии солнцу действительно дается седалище или трон, а сербы рассказывают о его златотканом, пурпуровом престоле, что согласуется с обычным представлением солнца могучим царем, владыкою мира.
К месяцу русские заговоры обращают такое воззвание: "Месяц, месяц — серебряные рожки, золотые твои ножки!" По выражению песни, "у младого месяца первозолоты рога". На основании внешнего сходства, в оконечностях молодого, серповидкого месяца фантазия признала его золотые ноги и рога, — точно так же как в лучах, бросаемых восходящим солнцем, усматривала она простираемые из мрака руки, которыми дневное светило силится захватить небо... Наши сказочные предания о героях, у которых по локоть руки в золоте, по колени ноги в серебре, находят объяснение именно в этих мифических сближениях.
Как золото и серебро служили для обозначения небесных светил и молнии, так, с другой стороны, этим металлам были придаваемы свойства, принадлежащие свету и огню. "Не все то золото, що ся светить", — говорит пословица, приписывая золоту способность светить. Народная загадка спрашивает: "Что горит без пламени?" и отвечает: "Золото или деньги"; другие загадки прибегают к той же метафоре: "Чернец-молодец по колена в золоте стоит" — горшок в жару; "Полна коробочка золотых воробышков" — горячие уголья в печке: "Сидит курочка на золотых яичках, а хвост деревянный" — сковорода на горячих угольях и сковородник; "Вышла туторья из подполья, зачала золото загребать" — помело и жар в печи; "Колокольня нова, колокольня бела, под маковкой черно, маковка золота" или "Горенка нова, головка черна, шапочка золоченая" — зажженная свеча; "На улице анбар, в анбаре сундук, в сундуке синь плат, в синем плату золото" — дом, печь и огонь. Малорусы называют огонь богатъе и богач и даже считают за грех называть его другим именем; а деньги на поэтическом языке "Эдды" — пламенно-красное богатство; мы и поныне говорим, что деньги жгутся, но уже соединяем с этим выражением новую мысль о трудности добывать их. В народных же преданиях они в самом деле обладают этою силою. В одной из русских сказок копейка, заработанная долгою и трудною службою, горит пламенем, так что от нее можно зажечь свечу...
И немцы, и славяне равно убеждены, что клады, заключающие в себе золото, серебро, деньги и разные драгоценности, испускают от себя огненный блеск; на том месте, где зарыт под землею клад, всегда горит огонек или свеча. Рассказывают, что многие, которым удавалось находить клад, решались брать себе золото, но вместо денег приносили домой одни уголья. Собственно, предания о кладах составляют обломки древних мифических сказаний о небесных светилах, скрываемых нечистою силою в темных пещерах облаков и туманов; но с течением времени, когда народ утратил живое понимание метафорического языка, когда мысль уже не угадывала под золотом и серебром блестящих светил неба, а под темными пещерами — туч, предания эти были низведены на землю и получили значение действительных фактов. Так было и со множеством других верований: небесная корова заменилась простою буренкою, ведьма-туча — деревенскою бабою и т. д.
Подобно тому как в солнечном и лунном затмениях видели недобрые знамения, так то же предвещание связывали и с серебряными и золотыми вещами, оставленными любимым человеком при отъезде его в чужедальнюю сторону; когда металл тускнел, это принималось за верный знак, что дорогой странник погиб смертью или ему грозит великая опасность.
В народных представлениях адских мук, при распределении грешникам соразмерных наказаний, жадные ростовщики, загребавшие в сей жизни серебро и золото, на том свете караются по закону возмездия тем, что обязаны загребать голыми руками жар...
Солнце и богиня весенних гроз
Кругловидная форма солнца заставляла древнего человека видеть в нем огненное колесо, кольцо или щит. Колесо, старин. коло, означает: круг (около — вокруг); уменьшит, кольцо — звено цепи, металлический кружок, носимый на пальце; коло у нас употребляется в значении колеса (в машинах), а у других славян в значении хороводной пляски — точно так же, как слово круг означает в областных наречиях: и колесо и хоровод, почему и хороводные песни называются круговыми; колесо служит метафорою и для серьги: "Под лесом-лесом (волосами) колёса с повесом". Впечатлительная фантазия первобытного народа быстро схватывала всякое сходство. Колесо, обращающееся вокруг оси, напоминало ему движущееся по небесному своду солнце, которое в одной народной загадке названо птицею-вертеницею, а в другой — шаром вертлянским: "По заре зарянской катится шар вертлянский; никому его не обойти и не объехати". О наступлении ночи до сих пор выражаются: "Солнце закатилося"...
Поэтическое представление солнца огненным колесом вызвало обычай зажигать в известные годовые праздники колёса... Русские поселяне, встречая во время масленицы весеннее солнце, возят сани, посредине которых утвержден столб, а на столбе надето вертящееся колесо. В Сибири сажают на это колесо парня, наряженного в женское платье и кокошник, что согласно с нашими народными преданиями, олицетворяющими солнце в женском образе; привязывают к колесу чучело, которое и вертится на нем. Поезд сопровождается песнями и музыкой; в иных местах славят при этом Коляду, т. е. новорожденное солнце, и палят солому... В некоторых местностях Малороссии существует обычай, который состоит в том, что на празднике Купалы откатывают от зажженного костра колесо, выражая таким символическим знаком поворот солнца на зиму... Русская народная загадка изображает месяц и солнце двумя яхонтами. В сказочном эпосе, столь богатом древнейшими мифическими представлениями, находим любопытный рассказ о герое, который отправляется в подводное царство (дождевые облака) и добывает оттуда драгоценный камень, превращающий своим сиянием темную, непроглядную ночь в ясный день...
В старинкой русской сказке о богатыре Еруслане выведен на сцену вольный царь Огненный Щит, выезжающий на восъминогом коне, подобно скандинавскому Одину, у которого был превосходный конь Слейпнир о восьми ногах. Вот это замечательное предание: во время отсутствия Еруслана пришел в его родную землю враг, разорил города, взял в плен отца Ерусланова и двенадцать других богатырей, выколол им глаза и посадил в темницу. Когда Еруслан узнал о таком несчастии, он поехал за тихие воды, за теплые моря — к вольному царю Огненному Щиту и Пламенному Копью. Царь этот, по свидетельству сказки, ни в огне не горит, ни в воде не тонет; он испускает из себя пламя и пожигает своих врагов. На картине, оттиснутой в лубочном издании сказки, вольный царь изображен на коне; голова его увенчана короною, в руках — круглый щит, подобно солнцу испускающий во все стороны огненные лучи, и копье, на острие которого горит пламя. На пути Еруслан достал себе славный, богатырский меч, тем мечом рассек вольного царя надвое, вспорол у него могучую грудь и вынул желчь; совершивши подвиг, он возвращается назад, мажет добытою желчью слепые глаза своему отцу и его двенадцати богатырям — и они тотчас же прозревают. Все эти сказочные подробности не оставляют ни малейшего сомнения, что под именем вольного царя выведено здесь древнее божество грозового, облачного неба, тождественное с греческим Зевсом и немецким Одином; живет он за теплыми морями — дождевыми тучами, молния — его пламенное копье, а солнце — его огненный щит. Во время грозы, которая обыкновенно уподоблялась битве, солнце, охваченное облаками, казалось бранным снарядом в руках небесного бога. Тем же щитом вооружаются и другие мифические представители грозовых туч; так, в одной русской сказке баба-яга, преследуя своих врагов, палит огненным щитом на все на четыре стороны. Рядом с указанными представлениями, сказка об Еруслане воспользовалась и другими поэтическими образами, созданными фантазией под непосредственным влиянием метафорического языка, и сплотила их в одно целое. Сияние солнца и блеск золота производят то же впечатление желтого цвета, как и желчь, и это послужило основанием их лингвистической и мифической связи: желтый, желчь — в Остромировом евангелии[69] злъчь зълъчь; слово же золото родственно стечениями: заря, зреть и зрак. Отсюда "желчь" стала метафорой для солнечного света. Когда дневное светило закрывалось тучами и погружало весь мир в слепоту (во мрак) — воображению древнего человека оно представлялось желчью, скрытою в недрах могучего царя, владыки облачного неба. Чтобы добыть этой желчи и возвратить миру свет зрения, нужен был несокрушимый меч Перуна, т. е. молния, разбивающая тучи и выводящая из-за них солнце. Такой подвиг сказка приписывает святорусскому богатырю Еруслану, наделяя его сверхъестественною силою бога-громовника. С необыкновенною смелостью и художественным тактом сумела она соединить в одной поэтической картине три различные уподобления солнца — всевидящему глазу, небесному щиту и желчи — и в этом сочетании разнородных представлений особенно ярко заявила ту прихотливую игру творческой фантазии, которой мы обязаны созданием многих мифов. Из одного источника с разобранною нами баснею возникло и народное поверье, признающее желчь за лучшее лекарство в глазных болезнях...
Почти у всех индоевропейских народов солнцу дается эпитет златокудрого. В сказаниях народного эпоса часто встречаются герои и героини с золотыми и серебряными волосами. Русская сказочная царевна Золотая коса, Непокрытая краса, подымающаяся из волн океана, есть златокудрый Гелиос. Эпическое выражение "золотая коса, непокрытая краса" весьма знаменательно. Слово краса первоначально означало: свет ("красное солнце"), и уже впоследствии получило то эстетическое значение, какое мы теперь с ним соединяем, так как для младенческого народа не было в природе ничего прекраснее дневного светила, дающего всему жизнь и краски. Потому-то сказочная царевна Солнце в преданиях всегда является ненаглядной и неописанной красавицей. "Непокрытая краса", т. е. не затемненная туманами и тучами, которые принимались за покровы, и потому именно блистающая своею золотою косою. Соответственно колебаниям в древнейших представлениях солнца то юношею, то девою — и в народных сказках оно является не только царевною-золотые кудри, но и златовласым добрым молодцем. Общераспространенный миф, что солнце, рожденное поутру прекрасным ребенком, ввечеру погружается в океан дряхлым старцем, выразился в русском народном эпосе созданием Дедушки-золотой головушки, серебряной бородушки...
В древнейшую эпоху создания языка лучи солнечные, в которых фантазия видела роскошные волоса, должны были уподобляться и золотым нитям; ибо оба понятия: и волоса, и нити — язык обозначал тождественными названиями. Сравни: кудель (кужель, куделя) — моток льна, приготовленный для пряжи, и кудеря — кудря, кудло — длинная шерсть, кудлатый — человек с всклокоченными волосами, кужлявый — курчавый; еолосень — шерстяная пряжа, овечья шерсть; пряди волос — выражение доселе общеупотребительное. Смелой фантазии первобытных народов солнце, восходящее поутру из волн воздушного океана и погружающееся туда вечером, представлялось рассыпающим свои светлые кудри или прядущим из себя золотые нити, — какое представление отозвалось и в языке: пряжа и пряжити — поджаривать на сковороде (пряжений, пряженец).
Древле названное вертящимся колесом, солнце в этой новой обстановке принято за колесо прялки, а лучи его — за нити, наматываемые на веретено. Народная загадка прямо уподобляет солнечный луч веретену: "Из окна в окно готово веретено". В славянских сказках сохранились воспоминания о чудесной самопрялке, прядущей чистое золото, о золотых и серебряных нитях, спускающихся с неба. Из этих-то солнечных нитей и приготовлялась та чудная розовая ткань, застилающая небо, которую называем мы зарею...
В наших заговорах на унятие крови находим следующие любопытные обращения к богине Заре: "На море-на океане (море-небо) сидит красная девица, швея-мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку шелковую, рудо-желтую, зашивает раны кровавые"... Одинаковое впечатление, производимое цветом крови и зари ("Слово о полку Игореве": "Велми рано кровавыя зори свет поведают") сблизило эти понятия в языке: рудый — рыжий ("рыже золото"), руда — кровь и металлы в подземных жилах... Эпитет красный равно прилагается к солнцу, заре, золоту и крови; на области, говоре кровь называется — краска. Потому "кровь" стала метафорою ярко рдеющих лучей солнца. Розоперстая богиня Заря тянет "рудо-желтую" нитку и своей золотою иглою вышивает по небу розовую, кровавую пелену; испрашивая у ней помощи от разных недугов и вражьих замыслов, заговоры выражаются так: "Заря-Зоряница, красная девица, полуночница! покрой мои скорбные зубы своею фатою; за твоим покровом уцелеют мои зубы"; "Покрой ты, девица, меня своею фатою от силы вражией, от пищалей и стрел; твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь!" Этой фате даются эпитеты: вечной, чистой и нетленной. Потухающая заря заканчивает свою работу, обрывает рудо-желтую нитку, и вместе с тем исчезает с неба ее кровавая пелена, почему народное поверье и присвоило ей силу останавливать текущую кровь и зашивать действительные раны: "Нитка оборвись — кровь запекись!" или по другому выражению: "Как вечерняя и утренняя заря станет потухать, так бы у моего друга милого всем недугам потухать"...
Весна на поэтическом языке есть утро года; подобно заре, выводящей ясное солнце из темных затворов ночи, она выводит его из-за туманов зимы. Ночь, тучи и зима постоянно отождествляются в языке и в мифических сказаниях, и потому та же богиня, которая лучами восходящего солнца прогоняет ночную тьму, являлась народной фантазии и в битве весенних гроз, дарующих победу солнечному свету над зимними сумерками. Только искупавшись в утренней росе или в дождевых потоках, солнце обретало утраченный блеск и восходило на небо несказанной красавицей. Под влиянием таких воззрений, дева Заря, или весеннее Солнце, получила характер богини-громовницы, разящей тучи и проливающей дожди, как это очевидно из преданий о Фрее и других родственных мифов... С именем Фреи соединяются понятия любви, брачного союза и плодородия. Фрее соответствует славянская богиня Прия, а Венера переводится именем Лады. В народных песнях ладо до сих пор означает нежно любимого друга, любовника, жениха, мужа, а в женской форме (лада) — любовницу, невесту и жену; с тем же значением слово &то встречается и в известном причитании Ярославны и в другом месте сказания о походе северских князей: "Жены руския въсплакашась, аркучи: уже нам своих милых лад (мужей) ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати". В областных говорах: ладить — жить с кем согласно, любовно, "в ладу"; лад — супружеское согласие, любовь, в музыке: гармония; ладковатъ — сватать и примирять, лады — помолвка, ладило — сват, ладники — уговор о приданом, ладканя (галицк.) — свадебная песня, ладный — хороший. Приведенные свидетельства языка убеждают в тождестве Фреи, Прии и Лады (в мужском олицетворении Фрейр, Лад или Ладо): это была богиня весны, в образе которой слились вместе представления девы ясного солнца и облачной нимфы. С одной стороны, наряд Фреи сияет ослепительным блеском солнечных лучей, красота ее очаровательна, а капли утренней росы называются ее слезами; с другой она выступает воинственной героинею, носится в бурях и грозе по небесным пространствам и гонит дождевые тучи. То же черты приписывают наши предания сказочной Царь-девице. В весеннюю пору прекрасная богиня вступала в брачный союз с могучим громовником, слала на землю благодатное семя дождей и оживляла природу. В этом смысле, как Фрея у немцев, так Лада у славян и литовцев почиталась покровительницею любви и браков, богинею юности, красоты и плодородия, всещедрою матерью. Закликая красную весну, обращались к ней с таким приветом:
Благослови, мати, Ой мати Лада, мати! Весну закликати...Гроза, ветры и радуга
Усматривая в светилах и молниях блеск металлов, из которых приготовлялись воинские снаряды, фантазия первобытного народа признала в них то небесное оружие, каким светлые боги сражались с демонами тьмы. Так в сияющем диске солнца она видела золотой щит, в хвостатых кометах — пламенные мечи и копья, в молодом месяце — меч или серп; в создании этих представлений фантазия руководилась подмеченным ею внешнем сходством форм. В летописи под 911 годом встречаем известие о звезде, явившейся копейным образом, т. е. о комете, хвост которой уподоблялся копью; с явлением комет издревле и доныне соединяются в народе предвестия грядущей войны...
Но преимущественно воинские представления связывались с лучами восходящего солнца, прогоняющими ночной мрак, и с молниями, разящими темные тучи. Стремительность, с какою распространяется солнечный свет и упадает с неба молния, и быстрота, с какою летит пущенная с лука стрела; страшные удары молнии, несущей убийства и пожары, жгучие лучи солнца" производящие засуху и истребляющие жатвы, и насмерть поражающее острие стрелы или копья, грохот грома и вой бури во время грозы свист летящей стрелы, шум ринутого сильной рукою копья и звон оружия в битве, — все эти аналогические явления заставили сблизить солнечный луч и молнию с копьем, стрелою и другим оружием, известным в древности. В древнеславянском языке стрела означала и луч, и стрелу в собственном смысле. В областном говоре слово это до сих пор употребляется в значении молнии: "Стрела б тебя убила!" Народная загадка выражается о "молнии": "Летит медная стрела, никто ее не поймает — ни царь, ни царица, ни красная девица", а в заговорах она называется огненной, громовой стрелою... В словах заговора: "Покроюсь (от недуга) небесами, подпояшусь светлыми зорями, обложусь частыми звездами, что вострыми стрелами" — слышится отголосок этого лингвистического сродства стрелы с звездою. У болгар шип — копье и молния. Итак, солнечные лучи представлялись славянину стрелами Дажьбога, а молнии — стрелами бога-громовника. Яркими лучами своими солнце гонит поутру ночь и рассеивает туманы, разбивает при начале весны льды и снега, карает в летние жары землю и ее обитателей. К нему обращалися с заклятиями поразить ненавистного врага ("Сонце б тя побило!"), и Ярославна недаром молила "тресветлое солнце" не простирать своих горячих лучей на воинов ее мужа... Перун, по преданию, сохранившемуся у белорусов, в левой руке носит колчан стрел, а в правой — лук; пущенная им стрела поражает тех, в кого бывает направлена, и производит пожары. Белорусские поселяне убеждены, что на месте пожара, произведенного ударом молнии, и вообще после грозы можно находить чудесную стрелку. И в других местностях России доселе живо поверье о громовой стрелке. По этому поверью, стрелы громовые, ниспадая из туч, входят далеко в глубь земли; а через три или семь лет возвращаются на ее поверхность в виде черного или темно-серого продолговатого камешка: это — или сосульки, образующиеся в песках от удара молнии и сварки песку, или белемниты, известные в народе под именем "громовых стрелок" и почитаемые за верное предохранительное средство против ударов грозы и пожаров. "Кормчая"[70] и "Домострой"[71] Сильвестра осуждали веру в громовые стрелки и топорки, о которых в старинном переводе книги "Луцидариус" находим такое толкование: "Откуда бывает гром и молния? Учитель рече: се бывает от сражения облаков; егда четыре ветры от моря придут и сразятся на аер[72] и смесится огнь вкупе и бывает буря сильна, еже и воздух растерзати, и бывает стук велик, его же мы слышим — гром; бывает же в то время молния и исходят на землю падающе стрелки громные и топорки серовидны"...
Слово Перун восходит к древнейшей эпохе ариев... В теплые дни весны Перун являлся со своими молниями, оплодотворял землю дождями и выводил из-за рассеянных туч ясное солнце; его творческою силою пробуждалась природа к жизни и как бы вновь созидался прекрасный мир. По литовским сказаниям, не чуждым и другим индоевропейским народам, верховный владыка громов создал вселенную действием теплоты, ибо весенняя теплота есть источник жизни, а зимний холод — смерти...
В чешских глоссах[73] "Mater verborum" (1202 г.) слово Перун истолковано: Юпитер; в древнеславянском переводе греческого сказания об Александре Македонском имя Зевса переведено Перуном... Сверх того, именем Перуна обозначалось небо, как царство громоносных, дождевых облаков; так, в одной рукописи, принадлежащей XV веку, на вопрос: "Колико есть небес?" встречаем такой ответ: "Перун есть мног". Обращаясь от старинных памятников к свидетельствам живого языка, находим, что в польском языке piorun доселе употребляется в смысле мол-кии и громового удара (сравни русское выражение "метать перуны"), у словаков peron — гром, а молнию они называют Па-ромовой стрелою. Старинная русская поговорка: "Едет божок с перищем, стучит колесом" намекает на поезд бога-громовника; грохотом его колесницы арийские племена объясняли себе громозвучные раскаты грозы; едет он, вооруженный перищем — страшным орудием, с помощью которого наносит стремительные, всераздробляющие удары...
Народный русский эпос дает сказочным героям и мифическим змеям богатырскую палицу. Слово это от понятия простой дубинки-палки перешло в название кованого металлического бранного орудия; и здесь замечаем ту же связь между пожигающим огнем (карающей молнией) и побивающим оружием: палица — от палити (пламя, запалить в кого мячом — ударить), подобно тому как жезл (жьзл) от жегу (жгу) — ожог — деревянная кочерга; глаголы ожечь, жигануть употребляются не только в значении обжога, но и вообще удара и укола; от того же корпя детское жижа — огонь и жигалка — свечка; сравни: луч и лучина. Как из камня огонь вызывается ударом кресала, так из дерева вызывается он трением; такой огонь, добываемый из дерева и доныне известный под названием живого, служил на земле эмблемою небесного огня молнии; соответственно тому дождь, низводимый на землю громовником, назывался живою водою...
Древнейшие религиозные обряды большею частью возникли как подражание тем действиям, какие созерцал человек в небесной форме; в грозе представлялась ему битва Перуна и подвластных ему духов с полчищами облачных демонов — и вот, когда наступала весна и приводила с собой дождевые тучи, предки наши приветствовали их появление играми, символически означавшими борьбу стихий, и были убеждены, что воинскими кликами и стуком оружия они пробуждают бога-громовника на его творческий подвиг; во время летней засухи тот же обряд вызывал Перуна начать битву с тучами и пролить на поля освежающий дождь...
Огненные стрелы, копья, молот, топор, палица и меч служат богу-громовнику для борьбы с великанами туч и зимних туманов; поражая их, он низводит на жаждущую землю дождевые потоки и дает простор ясному солнцу. По сказаниям "Вед", благодетельным стихийным божествам противостоят толпы мрачных демонов, которым приписываются все вредные влияния на жизнь природы; они затягивают облачными покровами блестящие светила и страшными заклятиями задерживают падение дождя; они же в знойные дни лета, похищая небесные стада дожденосных облаков, рождают губительную засуху. Это враждебные асуры (ракшасы); во главе их стоит Вала, или Вритра, т. е. облачитель, скрывающий благодатное семя дождя и золото солнечных лучей в темных пещерах туч. С особенною силою проявляется его могущество в течение семи зимних месяцев, когда воды сковываются льдами, дождь не орошает земли и блеск солнца помрачается туманами; в это безотрадное время он строит крепкие города, заключает в них небесных коров (дождевые облака) и прячет золотое сокровище (солнечные лучи). Весною и летом "богатый победами" Индра поражает Вритру и разгоняет тучи, почему ему присваиваются эпитеты "убивающий Вритру" и "рассеивающий стадо коров". Своей палицей он разбивает города Вритры, буравит облачные скалы, проливает на поля скрытые в них воды и возжигает светильник солнца. Таким образом он является в вечных битвах с Вритрою, который после всякого поражения восстает всегда с новою силою и опять вызывает его на битву. Помощниками и спутниками Индры в этой нескончаемой борьбе с демонами были Маруты (ветры) и другие божественные существа, олицетворявшие собой грозовые явления...
Предания народные часто вспоминают о чудесном победоносном оружии, и почти у всех племен языческие боги представляются вооруженными воинами, принимающими участие в геройских битвах. Такими "Илиада" изображает богов греческих, а "Эдда" — скандинавских... "Слово о полку Игореве" сравнивает приближение враждебных ратей с несущимися тучами: "Черныя тучя с моря идут, хотят прикрыти четыре солнца (князей русских), а в них трепещуть синий молнии. Быти грому великому! Идти дождю стрелами с Дону великаго! Ту ся копием приламати, ту ся саблям потручяти о шеломы половецкыя". В "Слове о великом князе Димитрии Ивановиче"[74] так обрисована Куликовская битва: "На том поле сильный тучи ступишася, а из них часто сияли молыньи и гремели громы велицыи. То ти ступишася русские сынове с погаными татарами за свою обиду". Греческий Арес, римский Марс, заправлявшие прежде небесными битвами, стали впоследствии исключительно заведовать людскими бранями, из богов стихийных переродились в олицетворения отвлеченных понятий войны и ее кронавых ужасов. Те же мифические представления встречаем и у славян. Боги весенних гроз, туч и вихрей, каковы: Святовит, Радигаст, Сварожич и Яровит (Ярило, Руевит?), отличаются воинственным характером..
О русских кумирах дошли до нас такие скудные известия, что об оружии их, исключая Перуновой палицы, ничего нельзя сказать положительного; зато летописец упоминает о клятвах оружием перед кумирами: "А Ольга водиша и мужий его на роту; по русскому закону кляшася оружьем своим и Перуном... и Волосом"; "А некрещенная Русь пологають щиты своя и мече свое наги (обнаженные), обруче свое и прочая оружья, да кленутся о всем"; "Заутра призва Игорь слы, и приде на холм, кде стояше Перун, покладоша оружье свое и щиты и золото, и ходи Игорь роте и люди его, елико поганых Руси". На нарушителей клятвы призывалось мщение громовника: да будут они кляты от бога и от Перуна и да погибнут от собственных своих мечей...
Отсутствие летописных свидетельств об оружии, каким наделяли русские славяне своих стихийных богов, можно отчасти восполнить из народных сказаний. Богиня Заря выводит поутру солнце и его яркими, стреловидными лучами поражает мрак и туманы ночи; она же выводит его весною из-за темных облачных покровов зимы, действуя заодно с богом-громовником; потому в народных заговорах она является воинственною, сильно вооруженною девою. Обращаясь к ней с мольбою о защите, произносят такое заклинание: "Вынь ты, девица, отеческий меч-кладенец, достань панцирь дедовский, шлем богатырский, отопри коня ворона; выйди ты в чистое поле, а во чистом поле стоит рать могучая, а в рати оружий нет сметы. Закрой ты, девица, меня своею фатой от силы вражьей, от пищали, от стрел, от борца, от кулачного бойца, от дерева русского и заморского... от кости, от железа, от уклада, от стали и меди". По свидетельству заговоров, Заря держит в руках булатные ножички и иглу, которыми очищает и зашивает кровавые раны; ее молят забить неприятельские ружья наглухо и избавить от смерти в бою. Основной смысл предания тот: одолевая демонические рати, Заря расстилает по небу свою светлую фату — очищает его острыми лучами весеннего солнца и тем самым прекращает грозовую битву, запирает громы и останавливает дождевые потоки. Герои народного эпоса — могучие богатыри — совершают свои славные сверхъестественные подвиги силою чудесного оружия. Сказания об этих героях суть более или менее однообразные вариации древнейшего мифа о Перуне, побеждающем демонов зимы и туч и освобождающем красавицу Весну — летнее солнце; самое слово богатырь (от слова бог чрез прилагательное богат) указывает на существо, наделенное высшими, божескими свойствами. Русские сказки говорят о топоре-саморубе и диковинной палице (дубинка-самобой, кий-бий), которые по приказу своего обладателя устремляются на враждебные полки, побивают несметные силы и, покончив дело, подобно Торову молоту, возвращаются назад в его руки: в них нетрудно угадать поэтическое изображение молнии. Место дубинки и топора занимает иногда меч-самосек, или кладенец, одним взмахом поражающий целое войско, помело и клюка: где махнет помело — там в неприятельской рати улица, что ни захватит клюка — то и в плен волочет. Меч-кладенец обыкновенно выкапывается богатырем из-под высокой горы (тучи), где он лежит скрытый от людских взоров, как драгоценный клад; в этой же горе таятся и золотые клады мифических великанов, змеев и карликов. По словам одного заговора, богатырская сбруя сберегается огненным змеем; добыть ее весьма трудно: нужны чрезвычайные усилия и чародейная помощь; но зато счастливец, которому удастся овладеть богатырскою сбруею, становится непобедимым — его не тронут ни пищаль, ни стрелы. При дальнейшей работе фантазии эти простые первоначальные образы сливаются с другими мифическими представлениями и под влиянием той или другой обстановки обыденной жизни человека порождают более искусственные и сложные сказания. Чудесная дубинка уже не прямо сама поражает врагов, а получает волшебное свойство вызывать против них такие же или еще большие полчища своих ратников. Стоит только махнуть или ударить ею, как тотчас словно из земли вырастает целое воинство. Точно так же и стук молота выставляет несметные полки воинов. В одной русской сказке выведены мифические кузнецы, напоминающие циклопов, занимавшихся ковкой Зевсовых стрел. Кузнецы эти калят железо и бьют его молотами: что ни удар, то и солдат готов — с ружьем, с саблею, хоть сейчас в битву!.. Несчетные войска создаются также стуком в волшебный бочонок и игрою в рог и вызовом из сумы (торбы, ранца): стук и звуки рога — метафора грома и завывающих ветров, бочонок и сума (мешок) — метафора облака. Внутри тучи, этого дождевого мешка или дождевой бочки, лежит спрятанная громовая палица и вызывается оттуда только стуком грозы и напевами бури; послушная такому зову, она тотчас вылетает из своего убежища и начинает разить неприятельские рати или вместо того, в более сложном представлении, выскакивают из сумы (бочонка) несколько молодцев, вооруженных всесокрушающими дубинками. Топор-саморуб строит корабли и города: тяп да ляп — и готов корабль! удар лезом[75] по земле — станет дворец или город, удар обухом — нет ничего! И корабль, и город означают здесь тучу, облако; потому понятно внезапкое появление и быстрое исчезание тех сказочных городов и кораблей, постройка которых приписывается чудесным свойствам топора-саморуба. Венгерские сказки говорят о молоте, который сам собою разбивает стены и башни замков. Отсюда легко объясняется, почему в одной русской сказке топор-саморуб и дубинка-самобой являются вслед за ударом огнива о кремень, т. е. тем же путем, каким бог-громовник творит молнии. Диковинки эти добываются сказочными героями от лиц мифических, олицетворяющих собою грозовые явления природы: великанов, леших, чертей и вихрей.
Предание о Перуновой палице, в применении к новейшим военным снарядам, породило народные рассказы о чудесном ружье, стреляющем без промаха; такое ружье, по малорусскому поверью, можно достать от черта. С другой стороны, верят, что черта можно убить наповал только серебряною или золотою пулею, т. е. молнией.
Обаятельная сила старинных преданий долгое время властвовала над умами наших предков; в атмосферных явлениях она рисовала изображению их картины ожесточенной борьбы и заставляла видеть в них пророческие знамения грядущих войн, побед и поражений. В "Сказании о Мамаевом побоище"[76] повествуется, что один из ратников, поставленных великим князем на страже, видел "на высоце... облак от востока велик зело изрядно... аки некакие полки... От полуденныя же страны приидоша два юноши... въ обоих руках у них острые мечи..." Светлые столбы, видимые во время сильных морозов около солнца, принимаются крестьянами за предвестие войны. Кровавый цвет зари и преломленных в облаках и туманах лучей солнца наводил на мысль о проливаемых потоках крови. Под влиянием указанных сближений воздушных гроз с обыкновенными битвами боги стали нисходить с высокого неба на землю, принимать участие в людских распрях и собственным оружием помогать своим поклонникам против чуждых им иноверцев, от которых нельзя ждать ни жертв, ни молений. В христианскую эпоху это содействие древних богов успехам войны было перенесено на ангелов и святых угодников (Георгия Победоносца, Бориса и Глеба, Александра Невского и др.)...
Называя тучи горами, небесные светила — серебром и золотом, разящую молнию — палицей и молотом, древний человек невольно пришел к созданию поэтических сказаний, по смыслу которых бог-громовник и грозовые духи (великаны и карлики) суть рудокопы и кузнецы. Своими острыми палицами они роют облачные горы и извлекают из них небесные сокровища; своими молотами они бьют по камням или скалам-тучам, как по твердым наковальням, и приготавливают для богов золотые и серебряные украшения и блестящее оружие... Скрытые, затемненные тучами небесные светила являются после грозы как бы заново сделанные богом-громовником: при содействии бурных ветров, раздувающих пламя грозы, небесный ковач кует щит-солнце, серп-месяц, золотые светильники дня и ночи, меч-молнию и лук-радугу... Согласно с уподоблением ночи мраку грозовых туч, в блистающих звездах фантазия признавала то очи кузнецов-карликов, то искры, летящие из горнов громовника, то, наконец, гвозди, которыми он скрепляет небесный свод. По глубоко укорененному убеждению древних народов, боги научили человека ковать металлы, приготавливать оружие и другие металлические поделки и пользоваться ими в домашнем и общественном быту. Указанные предания не чужды и славянам, хотя и сохранились у них не в такой свежести. Народный эпос, изображая грозу кузнечною работою, заставляет сказочных героев сажать чертей в суму-облако и, кладя ее на наковальню — бить железным молотом; ничего так не боятся черти, как этой сумы и этого молота: завидя их, они с ужасом убегают в преисподнюю и наглухо запирают адские ворота...
Ломаная линия сверкающей молнии уподоблялась извивающейся змее или веревке: оба представления родственны (уж, ужище, г-уж). Отсюда возникли мифические сказания о молнии — во-первых, как о золотом ремне, на котором качается облако (в финском эпосе) и, во-вторых, как о биче, сильными ударами которого бог-громовник казнит демонов туч; хлопанье этого бича производит оглушающие раскаты грома...
Потрясая бичом, бог-громовник вступает в брачный союз с землею, рассыпает по ней семя дождя и дает урожаи. Этим древним представлением объясняется, почему в свадебных обрядах плеть получила такое важное значение: дружка, обязанный охранять молодую чету от нечистой силы, враждебной плодородию, сопровождает свои заклятия хлопаньем бича; тот же смысл имеет и стрельба из ружей и пистолетов во время свадебного поезда...
Усматривая в грозе присутствие гневного божества, древний человек в громе слышал его звучащий голос, его вещие глаголы, а в бурях и ветрах признавал его мощное дыхание; где мы наблюдаем естественные законы природы, он видел свободное дело живого существа. Космогонические предания арийских народов свидетельствуют за древнейшее отождествление грома со словом и ветра с дыханием... В гимнах "Вед" Слово (язык) возведено на степень божества; к нему обращались с молитвами и ему приписывали мощное содействие богу громов (Рудре): в битвах с демонами оно натягивало его воинственный лук. Итак, гром есть слово, которым Перун пробуждает природу от зимней смерти — творит новый весенний мир, а ветер — дух, исходящий из его открытых уст. Старинные грамотники, сравнивая человека с космосом, находили между ними полное соответствие: "В горней части его (читаем в одном рукописном сборнике), яко на небеси светила солнце и луна, гром, ветер, сице и в человеке во главе очи, и глас, и дыхание, и мгновение ока — яко молния". Из этих мифических основ образовались предания, занесенные в старые рукописи, что дыхание (душа) человека создано от ветра, а теплота или плоть (пламя страсти) от огня (плодотворящей молнии). Уподобление грома слову человеческому повело к тому любопытному осложнению мифов, по которому все баснословные звери и птицы, в каких только олицетворялись громовые тучи, получили характер вещих, т. е. одаренных способностью говорить и мыслить...
Одинаковое впечатление, производимое на слух раскатами грома, стуком кузнечных молотов, мельничной толчеи и молотильных цепов, и мысль о наносимых ударах, соединяемая со всеми этими различными представлениями, сблизили их между собою и породили целый ряд баснословных сказаний...
В глубочайшей древности зерна не мололись, а толклись, для чего служили простой выдолбленный камень — толчея (ступа) и толкач или пест, ступу заменил потом ручной жернов и, в свою очередь, должен был уступить ветряной и водяной мельнице. Жернова и мельница обозначаются в народных загадках теми же самыми метафорами, какими живописуются и грозовые тучи[77]; сближая эти различные понятия, народ выражается о "громе": "Стукотыть, гуркотыть, як сто коней бижить", а о мельнице: "Стукотыть, гуркотыть, сто коней бижить; треба встати, погадати, що им исты дати"... Очевидно, что, под влиянием этого поэтического воззрения, дождь, град и снег, рассыпаемые тучами, должны были казаться теми небесными дарами, какие мелет облачный жернов. И действительно, в снеге, который уже своей белизною и рыхлостью напоминает смолотый хлеб, видели падающую с неба муку... У белорусов сохранилось знаменательное поверье, что горные духи (гора-туча), подчиненные Перуну и вызывающие своим полетом ветры и бурю, возят на себе громовой жернов, на котором восседает сам Перун с огненным луком в руках. Баба-яга и ведьмы летают на свои сборища по воздуху в железной ступе, погоняя пестом (толкачом, клюкою) и заметая след помелом. Белорусы говорят, что яга погоняет огненною метлою воздушные силы, которые приводят в движение ее ступу; когда она едет — земля стонет, ветры свищут, звери воют, нечистые духи ревут; самой ступе они дают название огненной. Баба-яга и ведьмы, как облачные жены, свободно распоряжаются естественными силами природы; их быстрые полеты, обладание волшебными конями и заметание следа помелом указывают на вихри и метели; ступа и пест тождественны с тем мифическим жерновом, на котором разъезжал бог-громовник, и с его палицей. Ступа — это грозовое облако, а пест или толкач, ударом которого баба-яга точно так же побивает недругов, как Перун своею дубинкою, — известная нам метафора молнии...
Немецкие сказки и песни сохраняют воспоминание о мельнице, которая мелет серебро, золото и любовь; наши сказки также знают чудесные жерновки, которые добываются с неба и мелют своему хозяину муку или кормят его готовыми яствами: что ни поверни ручкою, то и блин с пирогом! В Моравии рассказывают о черном мельнике, который молол светлые дукаты. Проливая дожди, бог-громовник дает земле силу плодородия и выводит из-за туч золотые лучи солнца; поэтому с его жерновом фантазия соединяет сверхъестественные свойства молоть благородные металлы и наделяет человека насущною пищею. Вместе с ясными днями лета и общим изобилием водворяется на земле счастье, мир и любовь: эти благодатные дары рассыпаются на смертных тем же славным жерновом...
Именно в этом представлении тучи жерновом кроется основа предания о чертовой мельнице. Известно, что суеверие ставит всех мельников в близкую связь с водяным и нечистою силою; в малорусских рассказах черти представляются в виде мирошников[78]: нередко садятся они на столбах разрушенной мельницы или плотины, зазывают мужиков с зерновым хлебом, мелют скоро и бесплатно, но мешают с мукою песок. В народных сказках, в числе трудных подвигов, возлагаемых на богатыря, победители многоглавых змеев (древнего громовника), упоминается также о посещении им чертовой мельницы, запертой двенадцатью железными дверями: в зимнюю пору демоническая сила овладевает громовою мельницей и налагает на нее свои замки, которые отпираются только с приходом богатыря, как отворяются облачные скалы от удара Перуновой палицы. В одной сказке о баснословной мельнице говорится, что она сама мелет, сама веет и на сто верст пыль мечет... Немецкие предания, рассказывающие о мельнице, в которой старые и безобразные люди перемалываются в молодых и красивых, сходятся с русскою легендою о кузнеце-черте. Нанялся черт работником па кузницу, схватил клещами старуху за ноги, бросил в горн и сжег в пепел — только одни косточки остались; после того налил ушат молока и вкинул туда кости; глядь — минуты через три выходит из молока красавица, дышащая юностью и свежестью сил. По украинскому варианту, черт, нанявшись в кузнечные подмастерья, кует не лом и железо, а увечье, недуги и калечество: приставит хромую ногу к жаровне, ударит молотом, вспрыснет водою — и нога цела, хоть вприсядку пляши! Много перековал он стариков и старух в молодых, калек в здоровых, уродов в красавцев. В этих рассказах черт заступает древнего громовника, который как божество, являющееся в тучах, нередко сам представлялся с демоническим характером... Такая животворная сила придана поэтическим представлениям грозы, проливающей на землю "живую воду" дождя и творящей из устаревшей зимней природы — юную весеннюю, когда поля и леса убираются в зелень и цветы: зима — старость, весна — юность. В связи с означенными преданиями стоит суеверное уважение к воде, брызжущей с лопаток мельничного колеса; сербы вечером накануне юрьева дня перенимают ее в сосуды, приносят домой и посыпают зелеными травами, а наутро купаются в ней ("Да отрясется и отпадет от тела все злое и вредное, как отскакивает вода от мельничного колеса").
Рядом с поэтическими картинами, изображавшими войну небесной грозою, "Слово о полку Игореве" допускает сравнения битвы с молотьбою хлеба и ковкою металлов: "На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела"; "Той бо Олег мечем крамолу коваше и стрелы по земли сеяше"...
Наше соловей-славий происходит от слово-слава, почему "вещий" Боян (певец) называется "соловьем старого времени"; народная загадка называет "язык" — соловейкою: "за билыми березами (зубами) соловейко свище". Пение соловья обозначается в старинных памятниках словом щекот; щекатитъ — дерзко браниться, щекатый — сварливый, бойкий на словах, щекотуха — говорливая женщина, щекотка — сорока, болтунья. В народных преданиях соловьиный щекот — символ весенних глаголов бога-громовника, вещающего в грохоте грома и свисте бури; как соловей, прилетая с весною, начинает свою громозвучную песню, свой далеко раздающийся свист по ночам, так точно и бог грозы с началом весны заводит свою торжественную песню, звучащую из мрака ночеподобных туч. Воинственная Афина[79], помощница Зевса в его творческих деяниях, принимала на себя образ этой птицы. Опираясь на эти данные, мы приступаем к объяснению старинного эпического сказания об Илье Муромце и Соловье-разбойнике.
Имя Ильи Муромца самое популярное в русском народе; оно встречается весьма часто в песнях и преданиях, приписывающих ему различные богатырские подвиги. И хотя Илья Муромец известен как лицо историческое (он жил около 1188 года), но, выступая в народном эпосе, он усваивает себе черты более древние, принадлежащие к области мифических представлений о боге-громовнике. В этом убеждает нас самый характер его баснословных подвигов и сравнительное изучение их в связи с прочими преданиями нашего и других индоевропейских народов... Любопытные похождения Ильи Муромца с богатырем Святогором целиком принадлежат к области древнейших мифов о Перуне. Тридцать лет от самого рождения сидел Илья Муромец сиднем, не двигаясь с места, но вот "приходили два калика перехожие, становились под окошечко косящетое и просили милостыни. И говорит им Илья: "Нищие братия! Взойдите ко мне во храмину: есть у нас всего много, а подать вам некому". И говорят ему калики перехожие: "Встань-ка сам!" — "Сижу сиднем я тридцать лет, а вставать не встану: нет у меня ни рук, ни ног!" — проговорит им Илья. И говорят калики перехожие ему во второй раз: "Встань-ка сам!" Илья сидит, силу пробует, а в ответ держит речь: "Встал бы я, и сила есть, да нет ног".
И говорят ему калики перехожие в третий раз: "Встань-ка сам!" Илья сидит, силу пробует: тронет ногу — нога поднимается, тронет другую — другая поднимается. Встает Илья, поднимается, посеред пола становится. И говорят ему калики перехожие: "Сходи-ка за пивом, да напой нас!" И взял Илья братину великую, пошел в подвалы глубокие, наливал братину пивом крепким и подносил каликам перехожим. "Выпей-ка сам!" — в ответ молвят калики перехожие. Хватил Илья братину зараз — только и видели пиво! Говорят ему калики перехожие: "Сходи-ка за пивом, да напой нас!" И взял Илья братину больше прежнего, пошел в подвалы глубокие, опускался ниже того, наливал братину пивом крепким пуще того и подносил каликам перехожим. "Выпей-ка сам!" — в ответ молвят калики перехожие. Хватил Илья братину зараз — только и видели пиво! И спрошали Илью калики перехожие: "Слышишь ли, Илья, свою силу?" И молвит Илья: "Слышу!" И спрошали его, Илью, калики перехожие: "Как велика твоя сила?" И молвит Илья: "Кабы был столб от земли до неба, я перевернул бы всю землю!" Стали промеж себя калики говорить: "Много дано силы Илье, земля не снесет; поубавим силы". Еще раз посылают они Илью за пивом, заставляют его выпить и спрашивают: "Слышишь ли, Илья, свою силу?" Отвечает Илья: "Поубавилось силы кабы на семую часть!" Стали промеж себя калики говорить: "Будет с него!"
Несмотря на легендарный тон, приданный этому рассказу, здесь слишком очевидна мифическая основа. В народных сказках богатырь, собирающийся на битву со змеем — демоническим представителем зимних облаков и туманов, должен трижды испить живой (или сильной) воды и только тогда получает силу поднять меч-кладенец. Пиво, которое пьет Илья Муромец, — старинная метафора дождя. Окованный зимнею стужею, богатырь-громовник сидит сиднем, без движения (не заявляя себя в грозе), пока не напьется живой воды, т. е. пока весенняя теплота не разобьет ледяных оков и не претворит снежные тучи в дождевые; только тогда зарождается в нем сила поднять молниеносный меч и направить его против темных демонов. Наделенный богатырскою крепостью, Илья Муромец отправляется на совершение трудных подвигов. Как самое имя Перуна сменилось историческим именем Ильи Муромца, так и борьба его с демоническими существами — великанами и змеями — перенесена на битвы, характеризующие первое время государственной жизни Руси, когда строй общественный еще достаточно не окреп: внутри государства, среди лесов и пустынных мест, легко укрывался разбой, а извне, из широких степей, угрожали беспрерывные набеги диких кочевников, с которыми должны были бороться русские витязи. Илья Муромец усмиряет разбойничью шайку и освобождает Чернигов-град от несчетных басурманских полчищ; но и в этих ратных подвигах он сохраняет свое родство с древним Перуном; он действует его оружием — всесокрушающими стрелами и выезжает на таком же чудесном коне, как и бог-громовержец. Конь его словно сокол летит, с горы на гору перескакивает, с холма на холм перемахивает, реки, озера и темны леса промеж ног пускает, хвостом поля устилает; подобно Зевсову коню Пегасу, он выбивает копытами колодцы. Окруженный станишниками (разбойниками), Илья Муромец вынимал из налушна тугой лук, вынимал стрелу каленую и пускал ее по сыру дубу:
Спела тетивка у туга лука — Станишники с коней попадали; Угодила стрела в сыр-кряковистый дуб, Изломала дуб в черенья ножевые.Сражаясь один против несметной рати кочевников, он куда ни бросится — там улица, где ни поворотится — часты площади. Вслед за тем наезжает Илья Муромец на Соловья-разбойника, который заложил прямоезжую дорогу к Киеву ровно на тридцать лет (время, когда богатырь сидел сиднем): никакой человек по ней не прохаживал, зверь не прорыскивал, птица не пролетывала. Соловей-разбойник свил себе на двенадцати (или девяти) дубах гнездо и, сидя в нем, свистал так сильно и громко, что все низвергал своим посвистом, словно напором стремительного вихря. За десять верст раздался его свист — и богатырский конь под Ильею спотыкнулся:
Темны леса к земле приклонилися, Мать-река Смородина со песком сомутилася.Богатырь сшиб его каленой стрелой с высоких дубов и повез с собой в Киев; там, во дворе князя Владимира, заставляют Соловья-разбойника показать свою удаль — засвистать вполсвиста. Соловей отзывается, что уста его запеклись кровью, и просит испить.
Налили ему чашу зелена вина, Весом чаша в полтора ведра; Принимал он чашу единой рукой, Выпивал чашу за единый вздох (дух).Наливали ему другую чашу пива пьяного и третью меду сладкого; выпивал чаши Соловей-разбойник и, как Илья Муромец с пива — набирался с того силы великой, свистнул и оглушил своим свистом могучих богатырей, так что они наземь попадали, а простые люди мертвы стали, и потряс крепкие своды княжеских палат:слетели с них крыша и вышки, лопнули связи железные.
Засвистал Соловей по-соловьиному, А в другой зашипел разбойник по-змеиному, А в третьи зрявкает он по-звериному (по-туриному).Те же выражения употребляет народный эпос, говоря о вещем коне сивке-бурке, в образе которого, как и в образах змея и быка, олицетворялась громоносная туча. Раздраженный Илья Муромец убивает Соловья-разбойника, кидая его (по свидетельству одного варианта) выше дерева стоячего, чуть пониже облака ходячего. Соловей-разбойник гнездится на двенадцати дубах; народная сказка то же самое говорит о змее, и подробность эта объясняется мифическим значением дуба — дерева, посвященного Перуну: "Загремел Зилант (змей), выходя из железного гнезда, а висело оно на двенадцати дубах, на двенадцати цепях"; в одном заклятии говор змея сравнивается с шумом ветра: "Что не дуб стоит — Змиулан сидит, что не ветер шумит — Змиулан говорит". Согласно с показанием народной былины о свисте Соловья-разбойника, в одной рукописной повести XVII века читаем: "Начаша змий великий свистати; от змиева свистания падоша под ними (послами) кони". В украинской сказке Соловей-разбойник заменяет собою Змея Горыныча; в другой сказке Илья Муромец побивает двенадцатиголового змея, избавляя от него красавицу королевну. Все эти сближения убедительно свидетельствуют, что в образе Соловья-разбойника народная фантазия олицетворила демона бурной, грозовой тучи. Имя Соловья дано на основании древнейшего уподобления свиста бури громозвучному пению этой птицы. "Свист бури, вихрей, ветров" — выражение общеупотребительное в нашем языке; народная песня, описывая бегство удалого добра молодца от царских разъездов, прибавляет:
Что гнались-то, гнались за тем добрым молодцем Ветры полевые, Что свистят-то, свистят в уши разудалому Про его разбои.У моряков до сих пор существует поверье, что свистом можно накликать бурю, подобно тому как призывается она звоном колоколов и резким криком хищных птиц; при стихающем попутном ветре пловцы обыкновенно свистят по ветер. О водяном рассказывают наши крестьяне, что он не любит, когда беспокоят его сон свистом, и опрокидывает за то лодку, а пловца увлекает на дно реки, т. е. свист подымает бурю, которая волнует и бурлит сонные воды и грозит пловцу бедою. Свистать в жилой избе почитается дурною приметою... Одно из самых обыкновенных олицетворений дующих ветров было представление их хищными птицами; вот почему дети Соловья-разбойника оборачиваются, по свидетельству былины, воронами с железными клювами.
Эпитет "разбойника" объясняется разрушительными свойствами бури и тем стародавним воззрением, которое с олицетворениями туч соединяло разбойничий, воровской характер. Закрытие тучами и зимними туманами небесных светил называлось на старинном поэтическом языке похищением золота: в подвалах Соловья-разбойника лежала несчетная золотая казна; точно так же в летней засухе и в отсутствии дождей зимою видели похищение живой воды и урожаев. Демонические силы грабят сокровища солнечных лучей, угоняют дождевых коров и скрывают свою добычу в неприступных скалах. Этот хищнический характер облачных демонов повел к тому, что вместо великанов и змеев, с которыми сражаются богатыри в более сохранившихся вариантах эпического сказания, — в вариантах позднейших и подновленных выводятся на сцену воры и разбойники. Таким образом древнейшие мифические предания, с течением времени, сводятся народом к простым объяснениям, заимствуемым из его обыденной жизни.
Пламя грозы сопровождается порывистыми ветрами, и взаимными их усилиями очищается воздух от туманных испарений...
Ветры олицетворялись и как существа самобытные; фантазия древнего человека представляла их дующими — выпускающими из своих открытых ртов вихри, вьюги и метели. Средневековое искусство воспользовалось этим языческим представлением и постоянно изображало ветры в виде дующей человеческой головы. На наших лубочных картинах ветер и "дух бурен", приносящий град и снег, изображаются в виде окрыленных человеческих голов, дующих из облаков; такова, например, картина, приложенная к сказке о мужике, у которого ветер разнес муку. Крылья, данные ветрам, — эмблема их быстрого полета. По народному поверью, зимние вьюги бывают оттого, что нечистые духи, бегая по полям, дуют в кулак. В высшей степени интересно украинское предание, утверждающее, что старый Ветер сидит с закованными устами... Предание это примыкает к мифу о грозном владыке демонов, который сидит окованный цепями и будет освобожден только при конце мира. Сверх того, веянье ветров сравнивали с действием кузнечных мехов в руках бога-громовника и его помощников. Эти мехи — метафора грозовых туч. Облака уподоблялись шкурам различных животных; из этих же шкур приготавливались издревле и мешки для хранения воды и опьяняющих напитков, и раздувательные мехи; слово мех (уменьшительная форма: мешок) доселе служит у нас и для названия мягкой рухляди[80]...
Давая туче название меха, в ней видели или вместилище небесного нектара-дождя, или орудие для раздувания грозового пламени. В гимне "Ригведы", обращенном к Парьянье (Перуну), читаем: "Реви, греми, оплодотворяй, пари над нами на своей водою наполненной колеснице (т. е. на облаке); сильно растяни вниз нависший мешок с водою!.."
Русские сказки, песни и заговоры наполнены обращениями к ветрам с просьбою о помощи, как существам живым и готовым выручить в беде. Подобное обращение находим и в словах Ярославны: "О, ветре, ветрило! Чему, господине, насильно вееши? Чему мычеши хиновьскыя стрелкы на своею нетрудною крилцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшет горе под облакы веяти, лелеючи корабли на сине море! Чему, господине, мое веселие по ковылию развея?"
В простом народе ветер доселе слывет господином, и об нем ходит такой рассказ: шел мужик, смотрит — навстречу ему идут мужики: Солнце, Ветер и Мороз. Мужик мужикам поклонился, посеред дороги становился, а Ветру еще поклон наособицу. Этот лишний поклон разгневал Солнце. "Постой, мужик! — сказало оно. — Вот я те сожгу". А Ветер мол-кил: "Я повею холодом и умерю жар". "Постой, мужик! Я тебя заморожу", — сказал Мороз, а Ветер: "Я повею теплом и не допущу тебя". В сказке о царевне-лягушке эта вещая жена режет полотно на мелкие лоскутки и бросает в открытое окно, причитывая: "Буйные Ветры! Разнесите лоскутки и сшейте свекору рубашку". В другой раз она изрезывает шелк, серебро и золото и выбрасывает в окно с приговором: "Буйные Ветры! Принесите ковер от моего батюшки", т. е. чародейка, обращаясь к ветрам, заставляет их приносить облака, в которых поэтическая фантазия видела небесные одежды и ковры-самолеты. В другой сказке — о смирном мужике и драчливой жене — ветры олицетворены в человеческих образах и, соответственно четырем сторонам света, представляются чтырьмя братьями: Ветры Северный, Южный, Западный и Восточный... Нес мужик муку в чашке, поднялся сильный ветер и развеял ее по полю; бурные, разрушительные ветры в народных преданиях изображаются существами голодными и прожорливыми. Когда воротился мужик домой, злая жена прибила его и послала к Ветру требовать за муку уплаты. Мужик пошел в дремучий лес, повстречал старуху и рассказал ей свое горе. "Ступай за мною! — сказала старуха. — Я мать Ветрова, но у меня четыре сына: Ветер Восточный, Полуденный, Западный и Полуночный; так скажи, который развеял у тебя муку?" — "Полуденный, матушка!" Привела его старуха в избушку, положила на печь и велела закутаться: "Мой сын Полуночный Ветер очень холоден, придет — зазнобит тебя!" Когда братья воротились домой, говорит мать Полуденному Ветру: "На тебя есть жалоба; зачем бедных людей обижаешь?" Ветер дает мужику в уплату коробочку, у которой что ни попроси: яств или напитков каких — все даст. Но коробочку у мужика похитили; жена снова прибила его и послала к Ветру за мукою. Ветер дал ему бочку — только скажи: пятеро из бочки: тотчас выскочат из нес молодцы с дубинками и станут побивать врагов — удары их ничем не отразимы. С помощью чудесной бочки мужик воротил свою коробочку. Сказка эта известна у разных пародов — хотя с некоторыми отменами в обстановке и подробностях, но везде с сохранением одних и тех же основ главного содержания: знак, что ей должно приписать весьма древнее происхождение. Упоминаемые в ней диковинки суть поэтические представления дождевых и грозовых облаков, приносимых ветрами: коробочка или скатерть-самобранка — дожденосная туча, дарующая земле урожаи, а дубинка-самобой, выскакивающая из бочки или мешка (сумки), — молния, поражающая из тучи...
В русских заговорах упоминаются семь братьев, буйных ветров, и к ним воссылается мольба навеять в сердце девицы любовную тоску, так как они наносят дождевые облака, участвуют в весенних грозах и таким образом помогают любовному союзу неба с землею: "Встану я и пойду в чистое поле под восточную сторону. Навстречу мне семь братьев, семь Ветров буйных. "Откуда вы, семь братьев, семь Ветров буйных, идете? Куда пошли?" — "Пошли мы в чистые поля, в широкие раздолья сушить травы скошенные, леса порубленные, земли вспаханные". — "Подите вы, семь Ветров буйных, соберите тоски тоскучие со всего света белого, понесите к красной девице в ретивое сердце; просеките булатным топором ретивое ее сердце, посадите в него тоску тоскучую, сухоту сухотучую". Плодотворящая сила весенней грозы необходимо соединилась и с сопутствующими ей ветрами. Как первый весенний гром пробуждает земную природу (только после его ударов земля, по народному убеждению, принимается за свои роды и деревья начинают одеваться зеленью), так о весеннем ветре говорят, что он приносит семена (т. е. семя дождя) из страны вечного лета и разбивает почку деревьев. Такие олицетворения ветров — отголосок отдаленной языческой старины...
Ветры не только дышат на землю теплым веянием весны, принося с собой благодатные дожди; они несут на своих крыльях и град и снега, возбуждают и зимние вьюги и метели. В наших преданиях морозы отождествляются с бурными, зимними ветрами... В некоторых сказках наравне с богатырями, олицетворяющими разные грозовые явления, выводится Мороз-Трескун, или Студенец; его дуновение производит сильную стужу, иней и сосульки представляются его слюнями, а снежные облака — волосами. Морозко, говорят крестьяне, — низенький старичок с длинной седой бородою; зимою бегает он по полям и улицам и стучит: от его стука начинаются трескучие морозы и оковываются реки льдами; если ударит он в угол избы, то непременно бревно треснет...
Бог грозы, как небесный владыка, являющийся в бурях и вихрях, получил у славян название Стрибога, которое впоследствии, по общему закону развития мифов, выделилось в особое божество, верховного царя ветров. "Слово о полку Игореве" говорит о Стрибоге как о деде ветров: "Се ветры, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами" (из дождевой тучи молниями). Слово стри означает: воздух, поветрие. Другие названия, даваемые славянами богу ветров, были Погода и Похвист. В областных говорах погода употребляется в смысле: громовой тучи, ветра, метели, бури, дождливого или снежного времени; погодица — вьюга, метель, погодитъся — становиться ненастью. Похвист или Посвист — сложное из слова свист (завывание бури)[81].
Ветры сопутствуют и помогают богу-громовнику в его битвах с демонами и пользуются его боевыми стрелами...
Дующие ветры рождают разнообразные музыкальные тоны в воздухе: бурные порывы их, раздаваясь в горных местностях и пещерах, производя сильные всплески волн и шум потрясаемых деревьев, напоминали вой голодных зверей и дикие звуки нестройной, оглушающей музыки и неистовых песен; кроткое веяние легких ветерков вызывает таинственный шепот листьев в лесах и рощах, мелодический шелест зреющих нив и тихое рокотание вод — звуки, обаятельно действующие на душу и погружающие в сладкую дремоту; врываясь в тесные ущелья скал, в скважины и щели домов, ветры издают свист, напоминающий свирель или флейту. Оттого встречаем тождественные выражения для веяния и музыки: от глагола дуть произошли дух — ветер и дуда, дудка, дудеть; гудок и гусли от гуду, гудеть — слово, употребляемое малоросами для обозначения дующего ветра; сравни: сопелка, сиповка от сопати, сопеть (шипеть), сиплый, свистелка от свистать... Звуки так называемой духовой музыки производятся через вдувание воздуха в инструмент устами играющего; мы видели, что самые ветры принимались за дуновение, исходящее из открытых уст богов. Изображая олицетворения вихрей, старинное искусство представляло их дующими в рога. Фантазия древнего человека, сблизившая вой бури и свист ветров с пением и музыкой, в то же время уподобила быстрый и прихотливый полет облаков и крутящихся вихрей бешеной пляске, несущейся под звуки небесных хоров. Отсюда возникли разнообразные мифические сказания о песнях, игре на музыкальных инструментах и пляске грозовых духов, предание о воздушной арфе и верование в чародейную силу пения и музыки... Наши сказки говорят о роге, в который если затрубить — сейчас явится столько ратников, что против них не устоит никакая сила: воспоминание о победоносном Перуне, явление которого возвещается звучною трубою грозовой бури...
Изобретателями музыкальных инструментов почитались боги, владыки гроз, вьюг и ветров...
Все духи, в которых фантазия олицетворила грозу, вихри, метель, непогоду, все эти сатиры, фавны, нимфы, сладкогласные сирены, эльфы, никсы, вилы, русалки и ведьмы любят песни, музыку и пляски; музы, в первоначальном своем значении, были не более как облачные певицы и танцовщицы. Волнение рек и моря русское предание объясняет пляскою водяных. По мнению украинцев, когда заиграет-возбушуется море, из его бездн выступают морские духи и поют песни, а люди приходят к берегам, слушают их и сами научаются песням...
Мы указали, что с грозою издревле связывались представления о нечистой силе; как в борьбе громовника с тучами усматривали поражаемых демонов, так по другому поэтическому воззрению в плясках облаков и вихрей и в песнях бури давали участие вместе с нимфами и ведьмами и дьяволу. Собираясь на лысой горе (небе), ведьмы, колдуны и черти заводят непристойные пляски и песни. Мысль о брачном союзе, в который вступают во время грозы молниеносные духи с облачными женами, заставила видеть в этих сборищах свадебное торжество, нецеломудренные игры и блудные связи ведьмы с дьяволами...
Могучие действия, проявляемые природой в бурях и грозе, были приданы и тем чародейным музыкальным орудиям, которые на поэтическом языке древнего эпоса служили их метафорическим представлением. Таковы сказочные гусли-самогуды, которые сами играют, сами песни поют и которые, с одной стороны, согласно с мифом об Орфее[82], заставляют плясать не только зверей, но и самые неодушевленные предметы — и леса, и горы, а с другой стороны, игрою своею напускают непреодолимый сон, подобно тому как Вейнемейнен звуками своей кантелы усыпил обитателей враждебной Похийолы[83]. Смысл предания тот, что песня бурных ветров, животворя весною своим дыханием природу, приводит в дикую пляску дождевые облака, представляемые то в образе разных животных, то в виде небесных гор и лесов, волнует моря и реки, колеблет деревья и рушит скалы, а зимою, дыша холодными вьюгами, насылает на ту же природу крепкий сон, запирает дожди и сковывает льдами и землю, и воды. Гусли-самогуды, по свидетельству сказок, хранятся у кощея, волка-самоглота (демонические олицетворения туч) или у черта. Вместо этих гуслей народный эпос упоминает и чародейную дудку, получаемую от дьявола или козла, и свисток, похищаемый у бабы-яги. Отправляется ли сказочный герой добывать живую воду, моложавые яблоки, жар-птицу, золотогривого коня и другие диковинки, он непременно сам или его конь, во время совершения подвига, зацепит за протянутые струны, от чего пойдет по всему царству сильный звон и грохот, пробуждается стража и спешит в погоню за похитителем: т. е. живая вода дождя и разнообразные эмблемы творческих сил весны не иначе могут быть добыты, как при торжественных песнях грозы... В Галиции и около Днестра и Прута существует любопытное поверье, что если найти в дремучем бору зеленую иву, которая не слыхала ни шума воды, ни крика петуха, и сделать из этого дерева дудку, то выйдет дудка не простая: от ее звуков встанут из могил покойники и запляшут самые ленивые и неповоротливые ноги. В этом поверье древние метафорические выражения о славной трубе бога-громовника применены к обыкновенной ивовой дудке: когда воцарится зима, окованная холодом туча носится по небу, где не слышны более ни крик небесного петуха (гром), ни шум дождевых потоков; с приходом же весны она превращается в громогласную трубу, при звуках которой пробуждается от зимней смерти Перун, и вслед за его пробуждением начинается неистовая пляска бурной грозы... На Украине ходит рассказ о черте, который в виде куцего немчика, во фраке и шляпе, с тонкими козлиными ножками, с острой бородкой и рогами, верхом на козле выезжает на майдан, наигрывает на дудке казачка, а кругом его пляшут березы и липовые пни...
Мифические представления, сочетавшиеся с пением, музыкой и пляскою, дали им священное значение и сделали их необходимою обстановкою языческих празднеств и обрядов. Поклонники стихийных сил природы, древние племена старались в своих религиозных церемониях символически выражать то же, что совершалось на небе или что желательно было усмотреть там в данное время. Подражая действиям небесных богов, они думали, что творят им угодное, и с детскою наивностью верили, что вызывают таким образом божественные силы на их творческие подвиги. Испрашивая, например, дождя, славяне водили Додолу — деву, увенчанную травами и цветами, в образе которой представлялась жаждущая плодотворного семени богиня Весна, и обливали ее водою; представляя облака рыскающими стаями различных животных, они сами наряжались в звериные шкуры т личины и бегали толпами по деревням и полям. Точно так же небесная музыка и напевы грозы, танцы облачных дев и воздушных духов представлялись звоном металлических сосудов, ударами в бубны, звуками дудок, волынок и других доступных старине инструментов, шумными кликами, песнями и дикою, быстро вертящеюся пляскою; а заменою дождя, которым, как небесным медом или вином, утоляют жажду грозовые духи, служили в древних обрядах действительно опьяняющие напитки. Эти разгульные празднества, сопровождаемые переряживанием, пьянством, песнями и плясками, совершались в честь благодатного возврата весенних гроз, прогоняющих демонов зимы и несущих земле плодородие, или с целью призыва бога-громовника во время бездождия и засухи. Такая обстановка языческих празднеств усвоила за ними название игрищ, В языке нашем употребительны выражения: сыграть песню (вместо: пропеть), играть на музыкальном инструменте, выражения, свидетельствующие за древнейшую связь народных игрищ с этими обычными заявлениями веселья и радости. Песни доныне составляют существенную часть праздничных обрядов, совершаемых при солнечных поворотах, при встрече весны, завивании венков, прыганье через зажженные костры и проч. Хоровод (коло), в котором песня сливается с драматическим представлением, несомненно, наследован от глубокой старины. Хороводы открываются с весною, когда небо вступает в брачное соитие с землею и как бы зовет к тому же священному союзу и человека; именно эта идея любви и следующего за нею брака есть главный мотив, развиваемый в хороводных представлениях и песнях. Летописец, говоря о нравах славян-язычников, замечает: "Схожахуся на игрища, на плясанье, и ту умыкаху жены собе, с нею же кто съвещашеся". Свадебное торжество до сих пор сопровождается в народе многочисленными обрядовыми песнями, и как бы ни были они подновлены или вовсе переделаны, давность их происхождения не может быть отрицаема; она засвидетельствована письмом Мономаха к Олегу[84] и еще более подтверждается сохраненными в этих песнях указаниями на похищение и куплю жен и на другие черты стародавнего быта...
Как ни были просты и несовершенны первые музыкальные орудия (дудка, свирель, волынка, гусли), тем не менее они требовали некоторого упражнения, навыка, ученья, и, конечно, в весьма раннее время образовался особенный класс музыкантов, певцов, поэтов, — словом, людей вещих, которые хранили в своей памяти эпические сказания старины, пели их под звуки гуслей и других инструментов и играли главную роль в народных празднествах. Это были гусляры или скоморохи; уже Феофилакт[85] упоминает о трех славянских гуслярах, явившихся во Фракию в конце VI века; о скоморохах упоминает Нестор, осуждая трубы и гусли... По свидетельству памятников, скоморохи являлись на игрища с музыкою, наряжались в маскарадные платья, пели, плясали, кривлялись и творили разные "глумы", Важное значение гусляров и скоморохов у славян-язычников доказывается и участием их в религиозных обрядах (на праздниках, свадьбах и поминках), и сильными нападками на них христианского духовенства...
"Домострой" Сильвестра называет песни, пляски, скакание, гудение, бубны, трубы и сопели делами богомерзкими; а "Стоглав"[86] вооружается против следующих явлений: "В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники и смехотворцы и гусельники, и бесовские песни поют... В троицкую субботу по селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках (кладбищах) и плачутся по гробом с великим кричаньем, и егда начнут играти скоморохи, гудцы и прегудницы, они же от плача преставше начнут скакати и плясати и в долони бити и песня сотонинские пети". По этому заявлению, собор постановил в обязанность священникам убеждать паству, чтобы "в кое время родителей своих поминают, и они бы нищих поили и кормили по своей силе, а скоморохом, гудцом и всяким глумцом запрещали и возбраняли" теми бесовскими играми смущать православных. Точно так же высказывается Стоглавный собор и против обычая сходиться в навечерии рождества и крещения и на ива-нов день "творить глумы всякими плясаньми и гусльми". Приговорною грамотою Троицко-Сергиева монастыря 1555 года было определено, чтобы монастырские крестьяне в волостях скоморохов не держали; а "у которого сотского в его сотной выймут скомороха или волхва или бабу-ворожею, и на том сотском и на его сотной на сте человек взяти пени десять рублев денег, а скомороха или волхва или бабу-ворожею, бив да ограбив, выбити из волости вон; а прохожих скоморохов в волость не пущать". В наказах монастырским приказчикам XVII века предписывалось наблюдать, чтобы крестьяне "в бесовские игры, в сопели и в гусли, и в гудки и в домры, и во всякие игры не играли, и в домех у себя не держали". В 1636 году, по указу патриарха Иасафа, дана была память поповскому старосте и тиуну[87] наблюдать, чтобы на праздники не было в Москве бесчинств; а то "вместо духовного торжества и веселия восприимше игры и кощуны бесовские, повелевающе медведчиком и скомрахом на улицах и на торжищах и на распутиях сатанинския игры творити и в бубны бити, и в сурны ревети и руками плескати и плясати и иная неподобная деяти". Против тех же обычаев предостерегает и царская окружная грамота 1648 года; она требует, чтобы православные не призывали к себе скоморохов с домрами, сурнами, волынками и всякими играми, чтобы медведей не водили и никаких бесовских див не творили и по ночам на улицах и полях и во время свадеб песен не пели и не плясали, и в ладони не били, и скоморошья платья и личин на себя не накладывали... А потому воеводам предписывалось отбирать у всех музыкальные инструменты, ломать и жечь, а тех, у кого они найдутся, бить батогами и ссылать в украйные места. По свидетельству Олеария[88], еще прежде, при Михайле Федоровиче, по распоряжению патриарха, не только у скоморохов, но и вообще по домам были отобраны музыкальные инструменты — пять возов — и публично сожжены, как орудие дьявола...
Такой строгий взгляд отчасти поддерживался самим характером старинного скоморошества. Вызванное культом Перуна-оплодотворителя, насилующего облачных дев и щедро рассыпающего семя дождя, оно не отличалось особенною скромностью и требовало от плясок сладострастных движений. Эти "глумы", при грубости нравов старого времени и разгуле праздничного похмелья, выражались в формах не всегда грациозных и подчас бывали уже слишком откровенны, но они нравились неразвитой толпе, а потому продолжали держаться и тогда, когда давным-давно была позабыта та мифическая основа, на которой возникли эти нецеломудренные игрища. Желая указать на "бесстудие", летописцы не находили лучшего, более наглядного сравнения, как напоминание о скоморохах. Лишенные всякого покровительства власти, преследуемые нареканиями духовенства и правительственными распоряжениями, скоморохи в XVI и XVII столетиях нередко подвергались обидам и со стороны частных лиц и общин; их зазывали в дома и вместо оплаты за труд били и отымали у них то, что успели они собрать, ходя по миру. В 1633 году подана была царю Михаилу Федоровичу такая челобитная: "Бьют челом и являют твоего государева боярина князя Ивана Ивановича Шуйского скоморохи: Павлушка Кондратьев сын Зарубин, да Вторышка Михайлов, да Конашка Дементьев, да боярина ж князя Дмитрия Михайловича Пожарского Федька Степанов сын Чечотка — твоего ж государева села Дунилова на приказного на Ондрея Михайлова сына Крюкова да на его людей. В нынешнем, государь, году пришли мы в твое дворцовое село Дунилово для своего промыслишку, и с ходьбы к нему Ондрею явились, и того ж, государь, числа он, Ондрей, нас, сирот, зазвал к себе на двор и, зазвав, запер нас в баню и, заперши, вымучил у нас, сирот, у Павлушки 7 рублев, а у Федьки 25 рублев, да Артюшкиных денег 5 рублев". Со своей стороны, скоморохи не оставались в долгу; вечно праздные, наклонные к бродячей жизни и вынуждаемые шаткостью своего общественного положения искать поддержку в самих себе, они собирались в артели и ходили по широкой Руси большими ватагами, нападали по дорогам на путников и проезжих и грабили. "Да по дальним странам, — говорит "Стоглав", — ходят скоморохи, совокупяся ватагами многими до штидесяти и до семидесяти и до ста человек, и по деревням у крестьян сильно едят и пиют, и из клетей животы грабят, а по дорогам разбивают". Особенно привлекали скоморохов сельские братчины[89], где можно было вдоволь попировать и что-нибудь заработать своей игрой, песнями к плясками; потому в жалованных и уставных грамотах различным сельским общинам встречаем положение: "А скоморохом у них сильно не играти"; запрещается и княжеским чиновникам давать им разрешение на участие в деревенских пирах и братчинах. В случае несильного прихода скоморохов дозволялось выбивать их из сел и с братчин безнаказанно...
Строгость средневековых воззрений на искусство не могла удержаться, как скоро стали проникать в общество более светлые идей, какие несло к нам западное образование. Еще при Алексее Михайловиче, в то самое время, когда запрещали народные игрища, отбирали у скоморохов и жгли музыкальные инструменты, — на пиру у царя "играл в органы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по накрам, и по литаврам били"; при дворе представляются комедии, в присутствии всей царской семьи, причем немцы и люди Матвеева играют на органах, фиолах и танцуют. Преобразования Петра Великого нанесли окончательный удар староверческому аскетизму; с ним закончились и протесты духовенства и запретительные меры правительства против так называемых "бесовских действ" — музыки и плясок, которые давно уже утратили для массы свое языческое освящение и сделались не более как праздничным увеселением...
Блестящая яркими, великолепными красками, радуга должка была особенно сильно поражать поэтически настроенную фантазию первобытных народов... По различию впечатлений, производимых ею на глаз, поэтическая фантазия древнего человека сближала радугу с разнообразными предметами; но сближения свои постоянно основывала на действительном сходстве форм и признаков.
а) Радуга — лук, дуга, арка. По мифическому представлению древних индийцев, радуга есть боевой лук Индры, с которого этот бог-громовержец пускает свои молниеносные стрелы, поражая демонов тьмы (тучи)... В наших древнейших памятниках она обозначается словом дуга, У нас око употребляется для обозначения части круга и упряжного снаряда, у сербов — согнутой для бочки доски; дужка — полукруглая рукоятка, перевесло (у ведра, корзины, посудины) и ключица, соединяющая грудную кость с плечевою. Отсюда справедливо будет заключить, что слово дуга в древнейший период языка было синонимическим луку (излучина — кривизна, лукоморье — изгиб морского берега, лукавый — криводушный) и в отношении радуги имело тождественное с ним значение... Наши предания дают Перуну, вместе с молниеносными стрелами, и огненный лук; доселе уцелевшая в народе поговорка: "Ах ты, радуга-дуга! ты убей мужика" — ясно намекает на древнейшее представление радуги — Перуновым луком, с которого пускались смертоносные стрелы...
Не может быть сомнения, что слово ра-дуга есть сложное, и первая половина его есть только характеристический эпитет, соединяемый с этою небесною дугою; в областном говоре слово это произносится рай-дуга... Первая часть слова — ра, по нашему мнению, стоит в родстве с санскр. коренным звуком р, заключающим в себе понятие быстрого движения, равно прилагаемое и к свету, и к текущей воде, к бегу коня и полету птицы... Отсюда понятно, что Ра, древнейшее имя Волги, означает собственно: текучую воду, реку; сравни: сибирск. рагорок — холм, курган на роднике, архангельское — рада — мокрое место в лесу...
Близкая связь радуги с дождем выразилась в следующем мифическом сказании, какое существовало еще у римлян и какое можно услышать от поселян повсюду на Руси: радуга берет или пьет из земных озер, рек и колодцев воду и потом, в виде дождя, посылает ее обратно на землю. Малороссы говорят: "Веселка воду бере", т. е. показалась радуга. Название веселка (весёлка, веселуха, висялуха) означает: висящая (на воздухе). В Харьковской губ. рассказывают, что радуга есть труба, одним концом касающаяся неба, а другим опущенная в какой-нибудь колодец... И в наших деревнях и селах до сих пор слышатся такие причитания, обращенные к радуге: "Радуга-дуга! Не давай (или: перебей) дождя; давай солнышко, давай вёдрушко!", "Радуга-дуга! Наливайсь дождя" или: "Не пей нашу воду!" У западных славян существует поверье, что вещица (ведьма) может украсть и спрятать радугу и чрез то произвести засуху.
б) Радуга — коромысло. На том же основании, на каком радуга уподоблялась дуге или луку, уподобляли ее и коромыслу. На метафорическом языке загадок коромысло изображается под видом дуги и изогнутого моста (то и другое представление усваивалось и радуге): "Два моря на дуге висят" (два ведра с водою на коромысле), или: "Промеж двух морей гнутый мостик лежит"...
в) Радуга — змей. То же самое представление пьющего, вытягивающего воду насоса, какое соединялось с радугой, присваивалось и туче. Свидетельства, сохранившиеся в старинных толковых словарях, подтверждают это до несомненности. Так в "Толковании неудобь-познаваемым речам" (XIII в.) под словом смерч читаем такое объяснение: "пиавица, облак дъждевен, иже воду от море възимаеть, яко в губу, и паки проливаеть на земля". Тоже толкование вошло и в словари Берынды[90] и Зизания[91]: "Сморщ — оболок, который с неба спустившися, воду с моря смокчет"... Первоначальный источник предания кроется в представлении молнии змеем, высасывающим дождевую воду из небесных морей, озер, рек и колодцев (метафоры дождевых туч); представление это, при забвении коренного смысла древнего метафорического языка, понято было буквально, как поглощение чудесным змеем земных вод, и совпало с идеею крутящегося смерча. Далее, так как, с одной стороны, сама дожденосная туча, по древнеарийскому воззрению, уподоблялась змею, а с другой стороны, и радуга своею формою наводила на то же сближение ее с изгибающеюся небесною змеею, то отсюда возникло представление о ней как о гигантском змее, пьющем моря, реки и озера, дугообразный хвост которого блещет великолепными красками...
г) Радуга — кольцо, головная повязка, пояс. Полукруглая форма радуги заставляет видеть в ней кольцо, обнимающее землю...
Роскошные, блестящие краски, которыми сияет радуга, заставили уподобить ее драгоценному убору, в который наряжается божество неба...
д) Радуга — мост. Красавица царевна, принадлежащая к разряду облачных нимф, влюбляется в прелестника Змея Горыныча (демонический тип громовника). Но сойтись им трудно: их разделяет широкая огненная река... Царевна ухитряется: она добывает волшебное полотенце, бросила его — и в ту же минуту полотенце раскинулось и повисло через реку высоким красивым мостом. Или по другому рассказу: скачет Иван-царевич от бабы-яги, доезжает до огненной реки, махнул три раза платком в правую сторону и, откуда ни взялся, повис через реку дивный мост; переехал на другой берег, махнул платком в левую сторону только два раза — и остался мост тоненький-тоненький! Бросилась баба-яга по мосту и как добралась до середины — мост обломился, и она утонула в воде. То же волшебное действие придается сказками и полотенцу: махнешь одним концом — явится мост, а махнешь другим — мост пропадает...
Живая вода и вещее слово
Дожденосные облака издревле представлялись небесными колодцами и реками. Холодная зима, налагая на них свои оковы (точно так же, как налагает она льды на земные источники), напирала священные воды — и вместе с тем все кругом дряхлело, замирало, и земля одевалась в снежный саван. Весною могучий Перун разбивал эти крепкие оковы своим молотом и отверзал свободные пути дождевым потокам; омывая землю, они возвращали ей силу плодородия, убирали ее роскошною зеленью и цветами и как бы воскрешали от зимней смерти к новой счастливой жизни. Отсюда, во-первых, явилось верование, что дождь, особенно весенний, дарует тем, кто им умывается, силы, здоровье, красоту и чадородие; больным дают пить дождевую воду как лекарство или советуют в ней купаться. Отсюда же, во-вторых, возник миф, общий всем индоевропейским народам, о живой воде, которая исцеляет раны, наделяет крепостью, заставляет разрубленное тело срастаться и возвращает самую жизнь; народные русские сказки называют ее также сильною или богатырскою водою, ибо она напиток тех могучих богатырей, которые в сказочном эпосе заступают бога-громовника. По древнему воззрению, Перун, как бог, проливающий дожди и чрез то иссушающий тучи, пьет из небесных ключей живительную влагу. В этой метафоре дождя славянские сказки различают два отдельных представления: они говорят о мертвой и живой воде — различие, не встречаемое в преданиях других родственных народов. Мертвая вода называется иногда целющею, и этот последний эпитет понятнее и общедоступнее выражает соединяемое с нею значение: мертвая или целющая вода заживляет нанесенные раны, сращает вместе рассеченные члены мертвого тела, но еще не воскрешает его; она исцеляет труп, т. е. делает его целым, но оставляет бездыханным, мертвым, пока окропление живою (или живучею) водою не возвратит ему жизнь. В сказаниях народного эпоса убитых героев сначала окропляют мертвою водою, а потом живою, — так как и в самой природе первые дожди, сгоняя льды и снега, просоченные лучами весеннего солнца, как бы стягивают рассеченные члены матери-земли, а следующие за ними дают ей зелень и цветы. По свидетельству сказок, живую и мертвую воду приносят олицетворенные силы летних гроз: Вихрь, Гром и Град — или вещие птицы, в образе которых фантазия воплощала те же самые явления: ворон, сокол, орел и голубь. Кто выпьет живой или богатырской воды, у того тотчас прибывает сила великая: только отведав такой чудодейственной воды, русский богатырь может поднять меч-кладенец (молнию) и поразить змея, т. е. бог-громовник только тогда побеждает демона-тучу, когда упьется дождем... Падение дождей из туч, озаряемых пламенем грозы, заставило уподобить небесные водоемы огненным рекам и кипучим источникам. Сверх того, живая вода исцеляет слепоту, возвращает зрение, т, е. пролившийся дождь проясняет небо и выводит из-за темных облаков и туманов всемирный глаз — солнце... Живая вода — то же, что бессмертный напиток: санскр. амрита, греч. амброзия, или нектар. Вкушая амриту (амброзию) и нектар, боги делались бессмертными, вечно юными, непричастными болезням; в битвах светлых духов с демонами (асуров с дэвами) те из пораженных, которых воодушевляла амрита, восставали с новыми силами. По древнегреческому верованию, в теле и жилах богов, вместо крови, текла эта бессмертная влага (ихор), и наоборот, дождь метафорически назывался кровью небесных богов и богинь.
Древнейший язык, давая названия предметам по их признакам, сблизил и отождествил все, что только напоминало текучие струи влажной стихии; поэтому не только вода, но и молоко, моча, сок дереза, растительное масло и общеупотребительные напитки (мед, пиво, вино) дали метафорические выражения для дождя... Шумное проявление небесных гроз арийцы сравнивали с действием, производимым на человека опьянением; как человек, упившийся вином или медом, делается склонным к ссорам, брани и дракам, так боги и демоны, являющиеся в дожденосных тучах, опьяненные амритою, отличаются буйством и стремительностью на битвы; в завывании бури и раскатах грома слышались их враждебные споры и воинственные клики. Народный эпос любит уподоблять битвы не только грозе, ко и приготовлению пива и пиршеству, на котором сражающиеся ратники допьяна упиваются вражьей кровью...
"Слово о полку Игореве" сравнивает битву со свадебным пиром: "Тут кровавого вина недостало, тут пир докончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую". То же сравнение допускается и великорусскими песнями: умирает в поле от тяжких ран удал добрый молодец и наказывает своему коню:
Ты скажи моей молодой жене, Что женился я на другой жене, Что за ней я взял поле чистое, Нас сосватала сабля острая, Положила слать калена стрела!Или: ворочается домой молодец, весь израненный, сам шатается — на тугой лук опирается. Встречает его родная мать: "Ах ты, чадо мое! зачем так напиваешься, до сырой земли приклоняешься?" Отвечает добрый молодец: "Я не сам напился; напоил меня турецкий султан тремя пойлами!" Эти пойла — кровавые раны от сабли острой, от копья меткого, от пули свинцовой, Еще в одной песне девица, над которою насмеялся неверный любовник, грозит ему: "Я из крови из твоей пиво пьяно наварю!.." Итак, пиво и вино принимались за поэтические метафоры крови. Любопытны свидетельства языка, указывающие на уподобление грозы и ненастья приготовлению хмельных напитков: области., замоложаветъ употребляется в смысле: захмелеть, опьянеть, а моложитъ применяется к погоде и значит: затягиваться небу тучами, делаться пасмурным; моложный — туманный, серый; средний глагол замолаживает, замолодило — становится или стало облачно, пасмурно, а действительная форма замолаживать, замолодитъ — делать так, чтобы напиток заиграл, запенился ("замолодить пиво")...
Если, с одной стороны, в шуме ветров и раскатах грома чудились древнему человеку звуки божественных глаголов, то, с другой стороны, он собственный свой говор обозначал выражениями, близкими к картинным описаниям грозы. Слово человеческое вылетает из-за городьбы зубов, как быстрая птичка, и уязвляет ненавистных врагов, как острая стрела; почему Гомер дает ему эпитет крылатого. Оно льется, как водный поток, и блестит, как небесный свет: речь и река происходят от одного корня; мы говорим: течение речи, плавная (от глагола плыть) речь; русское баять имеет при себе в прочих индоевропейских языках родственные слова с значением света; припомним выражения: красно говорить, красная речь. Под влиянием таких воззрений слову человеческому была присвоена та же всемогущая сила, какою обладают сближаемые с ним божественные стихии. И это до очевидности засвидетельствовано и преданиями, и языком, который понятия: говорить, мыслить, думать, ведать, петь, чародействовать, заклинать и лечить (прогонять нечистую силу болезней вещим словом и чарами) обозначает речениями лингвистически тождественными.
В малороссийском наречии гадать — думать; в старинном толковнике неудобь-познаваемым речам гадание объясняется: "съкръвен глагол" — сокровенное, таинственное изречение, загадка и вместе ворожба; гадать — ворожить.
Бая(и)тъ — говорить, рассказывать, байка — сказка, баюн (баюкон) — говорун, сказочник, краснобай, прибаутка, баюкать (байкать) — укачивать ребенка под песню, обаять (обаить, обаиеатъ) — обольстить, обворожить; старин. обавник (обаянник) — чародей, напускатель "обаяния"... Этими выражениями объясняется и боян "Слова о полку Игореве" — певец, чародей. От глагола ба-ятъ происходит балий, слово, объясняемое в "Азбуковнике" : чаровник, ворожея...
Слова вещать и ведать (ведети) одного происхождения, что доселе очевидно из сложных: по-ведатъ, по-вещать, по-веститъ, имеющих тождественное значение.... Если станем рассматривать слова, образовавшиеся у славян от корня вед (вет, вит, вещ), то увидим, что они заключают в себе понятия предвидения, прорицаний, сверхъестественного знания, волшебства, врачевания и суда — понятия, тесная связь которых объясняется из древнейших представлений арийского племени. Вече (вечатъ вместо вещать) — народное собрание, суд; вещба употреблялось не только в смысле чарования и поэзии, но имело еще юридический смысл... Старонемецкий язык называет судей и поэтов одними именами творцов, изобретателей, что напоминает наше выражение: творить суд и правду... Ведун и ведьма имеют еще другую форму: вещун и вещунья (вещица) — колдун и колдунья — и таким образом являются однозначительными со словами пророк и прорицатель (от реку); пред-вещатъ — предсказывать, вития (ведий), вещий — мудрый, проницательный, хитрый, знающий чары. У Всеслава, рожденного от волхования и обращавшегося в различных животных, вещая душа была в теле... Этим эпитетом наделен в "Слове о полку Игореве" певец Боян; персты его также названы вещими: "своя вещиа персты на живая струны вскладаше; они же сами князем славу рокотаху"; дивная песнь его носилась соловьем в дубравах, сизым орлом под облаками и серым волком по земле, т. е. представлялась в тех же метафорических образах, в каких изображалось небесное пение, заводимое бурными, грозовыми тучами. Птицы и животные, давшие свои образы для олицетворения ветров, грома и туч, удерживают в народном эпосе название вещих: вещий конь-бурка, вещий ворон, зло-вещий филин, и проч. По прямым указаниям "Слова о полку Игореве", Боян был певец, слагатель песен и вместе музыкант, подобно позднейшим бандуристам, кобзарям и гуслярам, которые ходили по селам и на торжищах и праздничных играх распевали народные думы под звуки музыкального инструмента. Таким образом, с понятием слова человеческого нераздельны представления поэзии, пения и музыки, которым древность придавала могучее, чародейное значение...
Оговорить — напустить на кого-нибудь болезнь недобрыми или не в пору сказанными словами; оговор напущенная болезнь, заговор — заклятие. Точно так же от глагола реку (речь): речитъ — заговаривать, колдовать и сложные с предлогами: воречье — заговариванье, нашептыванье, у реки, уроки, сурок (осурочить, изурочитъ) — сглаз, насланная болезнь, врёк — болезнь, несчастье, приключившиеся человеку или скотине от чужих слов, от недоброй похвалы. В Архангельской губ. о недуге, происшедшем от неизвестной причины, говорят: уроки взяли; тот же смысл соединяют и со словом нарок, как видно из клятвы: "Нарок бы тя изнырял!" От того же корня: пророк и рок, речения, связывающие со словом человеческим силу предвещаний и могущество всерешающей Судьбы (суда божьего); сравни : осуда — сглаживанье, осудить — сглазить. Оголцитъ (оголоситъ) — наслать болезнь оговором или сглазом; от зыкать, зычать (звучать) происходят: озык — сглаживанье, озычатъ — сглазить, равно как озёва — порча, овевать — испортить от зев — рот (зевать — раскрывать рот и шуметь, кричать); озёп — болезнь с испугу или сглазу, озёпатъ — сглазить от зепатъ — кричать...
Как вещее слово поэтов (язык богов), по мнению древнего народа, заключало в себе сверхъестественные, чародейные свойства, то молитва-мантра[92] еще в эпоху "Вед" переходит в заклятие или заговор, т. е. в такое могучее, исполненное неотразимой силы воззвание, которому сами боги не в состоянии воспротивиться и отказать. Вместе с этим рождается убеждение, что заклятие своими заповедными верно произнесенными формулами может творить то же, что творят небесные владыки. С течением времени священные гимны мало-помалу теряют первоначальные черты мантры и не столько прославляют и молят богов, сколько требуют от них (заклинают) исполнить желанное человеку. Вещие жены и знахари позднейшей эпохи, утратив непосредственную связь с языческой стариною, всю сущность дела полагают в могуществе чародейного слова и сопутствующих ему обрядов...
Прибегая к обожествленным светилам и стихиям, испрашивая у них даров счастья и защиты от всяких бед, древний человек отдавал себя под их священный покров, что выражается в заговорах следующими формулами: "Пойду я в чистое поле — под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полётные облака; стану я в чистом поле на ровное место, облаками облачуся, небесами покроюся, на главу свою кладу красное солнце, подпояшусь светлыми зорями, обтычуся частыми звездами, что вострыми стрелами — от всякого злого недуга" или: "Умываюсь росою, утираюсь (т. е. осушусь) солнцем, облекаюсь облаками, опоясываюсь чистыми звездами"...
Когда древние молебные воззвания перешли в заклятия, чародейная сила их была признана именно за тем поэтическим словом, за теми пластическими выражениями, которые исстари почитались за внушение самих богов, за их священное откровение вещим избранникам: прорицателям и поэтам. Заговоры обыкновенно заканчиваются этими формулами: "Слово мое крепко!", "Слово мое не прейдет во век!", "Будьте мои слова крепки и лепки, тверже камня, лепче клею и серы, сольчей соли, вострей меча-самосека, крепче булата; что задумано, то исполнится!", "Сие слово есть утверждение и укрепление, им же утверждается и укрепляется и замыкается... и ничем — ни воздухом, ни бурею, ни водою дело сие не отмыкается". Старинная метафора уподобила губы и зубы замку, а язык — ключу на том основании, что тайная мысль человека до тех пор сокрыта, заперта, пока не будет высказана языком; язык, следовательно, — ключ, отпирающий тайник души человеческой. По народной пословице: "Губы да зубы — два запора". Метафора эта нашла для себя знаменательное применение в заговорах; чтобы указать на крепость, нерушимость их заповедного слова, употребляются следующие выражения: "Голова моя — коробея, а язык — замок", "Тем моим словам губы да зубы — замок, язык мой — ключ; и брошу я ключ в море, останься замок в роте" или: "Мои уста — замок, мой язык — ключ: ключом замкну, ключом запру, замок в море спущу, а ключ на небеса заброшу", "Замыкаю свои словеса замками, бросаю ключи под бел-горюч камень-алатырь; а как у замков смычи крепки, так мои словеса метки", "Ключ моим словам в небесной высоте, а замок в морской глубине — на рыбе-ките, и никому эту кит-рыбу не добыть и замок не отпереть окроме меня; а кто эту рыбу добудет и замок мой отопрет, да будет яко древо, палимое молнией", "Замкну аз за тридевять замков, выну из тридевять замков тридевять ключей, кину те ключи в чистое море-океан; и выйдет из того моря щука златоперая, чешуя медная, и проглотит тридевять моих ключей, и сойдет в глубину морскую. И никому той щуки не поймать, и тридевять ключей не сыскать, и замков не отпирать, и меня не испортить". Эти выражения дают заклятию силу великую; преодолеть ее, уничтожить заклятие так же трудно и невозможно, как отпереть замок, ключ от которого закинут в море, или отпереть замок, заброшенный в океан, ключом, закинутым в небеса: "Ключ в небе, замок в море!" Если мы прибавим, что та метафора ключа употреблялась для означения молнии, отпирающей облачные скалы (камень-алатырь), что ходячие по небу тучи уподоблялись рыбам, плавающим в воздушном океан-море, то поймем всю мистическую важность указанных изречений. Как язык есть ключ к тайнам души, так молния — огненный язык бога-громовника — есть ключ, с помощью которого отмыкаются уста Перуновы и раздается его громовое слово. Таким образом на освящение и утверждение заклятия призывался громовник; скрепленный его небесным ключом, заговор получал неодолимую твердость: "Мой заговор крепок, как камень-алатырь!", "Кто камень-алатырь изгложет, тот мой заговор превозможет!" или: "Тем моим словам небо — ключ, земля — замок отныне и до веку!", т. е. одна только божественная сила, которая может изгрызть облачную скалу и которая весною отпирает недра земли, замкнутые зимним холодом, — сила неба с его весенними грозами в состоянии превозмочь заговор.
Могущество заговорного слова безгранично: оно может управлять стихиями, вызывать громы, бурю, дожди, град и задерживать их, творить урожаи и бесплодие, умножать богатство, плодить стада и истреблять их чумною заразою, даровать человеку счастье, здоровье, успех в промыслах и подвергать его бедствиям, прогонять от хворого болезни и насылать их на здорового, зажигать в сердце девицы и юноши любовь или охлаждать пыл взаимной страсти, пробуждать в судьях и начальниках чувства милосердия, кротости или ожесточения и злобы, давать оружию меткость и делать воина неуязвимым ни пулями, ни стрелами, ни мечом, заживлять раны, останавливать кровь, превращать людей в животных, деревья и камни, короче сказать: слово это может творит чудеса, подчиняя воле заклинателя благотворные и зловредные влияния всей обожествленной природы...
Руны и чародейные песни, по германским преданиям, всесильны: они могут и умертвить, и охранить от смерти, и даже воскресить, делать больными и здоровыми, заживлять раны, останавливать кровь, наводить сон, гасить пламя пожара, смирять ветры и взволнованное море, насылать бури, дождь и град, разрывать цепи, ломать запоры и скреплять наложенные узы, разверзать и вновь запирать горы, доставать из недр земных сокровища, делать оружие крепким и слабым, наводить и изгонять злых духов, связывать уста зверей, руки и ноги воров, вызывать из могил мертвых, вправлять вывихи — все это не более как метафорические выражения, издревле служившие для обозначения небесных явлений, но впоследствии понятые буквально и примененные к обыкновенному быту человека. Как вой зимних вьюг мертвит и усыпляет природу и как оживляют-пробуждают ее звуки весенней грозы, так ту же силу получила и человеческая песня; как шумная гроза проливает кровь-дождь и как вихри, рассекая облака, останавливают дождевые потоки, так и вещее слово может то растравлять раны, то заживлять их и останавливать текущую кровь; "потушить пожар" значит: погасить пламя грозы в дождевых ливнях; "разорвать цепи" и "отворить крепкие запоры" — разбить те оковы, которые налагает суровое дыхание зимы на тучи, воды и землю; "отпирать горы и добывать клады" — отпирать облачные скалы ключом-молнией и выводить из-за них золотое сокровище солнечных лучей; "вызывать мертвецов" — пробуждать грозовых духов, спящих во время зимы мертвым сном в гробах-тучах. Представление туч демонами, дождевых облаков дойными коровами и другими животными, молний оружием, грозы битвою и любовным союзом, дождя всеоживляющею водою породило убеждение, что вещее слово может распоряжаться нечистою силою, умножать стада, управлять битвами, возбуждать любовь или ненависть, исцелять от болезней и насылать недуги-поветрие! Уподобление, аналогия играют поэтому в заговорах самую широкую роль; в наиболее загадочных и наиболее богатых мифическими чертами заговорах проводится параллель между небесными явлениями природы и теми нуждами заклинателя, которые заставляют его прибегать к вещему слову: как потухает кровавая заря на небе, так да остановится льющаяся из раны кровь; как не могут устоять демоны против громовых стрел и палицы Перуна, так да бежит неприятель от оружия ратника и т. д. Хотя в настоящее время параллель эта не везде осязательна и иные заклятия, по-видимому, не имеют никакого отношения к стихийным божествам, но это, во-первых, потому, что мы утратили понимание старинного метафорического языка и за общепринятым значением слов не сознаем их переносного смысла, а во-вторых, потому, что самые заговоры донеслись до нас значительно искаженными и нередко в жалких, искалеченных обломках...
Итак, по глубокому убеждению первобытных племен, слово человеческое обладало чародейною силою: на этой основе возросло верование, доселе живущее у всех индоевропейских народов, что слово доброго пожелания и приветствий (здравиц, т. е. пожеланий здоровья при встрече и на пиру при "заздравных" кубках) призывает на того, кому оно высказывается, счастье, довольство, крепость тела и успех в делах; наоборот, слово проклятия или злого пожелания влечет за собою гибель, болезни и разные беды...
У нас верили в старину, что бывают счастливые и несчастные часы, и доселе существует поговорка: "В добрый час сказать, в худой помолчать"; рассказывая о каком-нибудь несчастии или упоминая о нечистом духе, простолюдины спешат прибавить: "Не тут (не при нас) будь сказано!" Таким образом, верование в могущество слова сливается с верою в Судьбу, которая определяет людские доли, смотря по тому, в какой кто час на свет народился: в счастливый или бесталанный. И на Руси, и у других славян уцелело много старинных клятв, любопытных по своему эпическому складу и указаниям на древние мифические представления, все они состоят в призывании на недруга карающей руки божества, тяжелых болезней и всевозможных бедствий: "О, чтоб тебя язвило! (пятнало или стреляло)", "Благое тебя побери!" (благой — безумный; смысл того: "Чтобы ты с ума сошел!", "Колом тебя в землю!" (намек на осиновый кол, которым прибивают умерших колдунов и ведьм)...
Злое, неосторожно сказанное в сердцах слово, хотя бы без всякого желания, чтоб оно сбылося, по народному поверью, никогда не остается без худых последствий. "Чтобы тебя буйным ветром унесло!" — говорит в сказке красная девица, не добудившись своего милого, — и в ту же минуту подхватило его вихрем и унесло далеко-далеко в безвестные страны...
На могущество слова опиралась и древняя, языческая присяга (в старинных памятниках рота и клятва), потому что она состояла в торжественном призывании на свою голову различных казней — в случае, если произносимый человеком обет будет нарушен или если даваемое им показание ложно. Договор Игоря с греками был скреплен этими словами: "Да не имуть (нарушители мира) помощи от Бога, ни от Перуна, да не ущитяться щиты своими и да посечени будут мечи своими, от стрел и от иного оружия своего, да будут раби в вьсь век будущий"... Доселе обращающиеся в народе божбы и клятвы указывают на то же: "Душа вон!", "Лопни мои глаза (ослепнуть мне!), коли говорю неправду!", "Сейчас сквозь землю провалиться!", "С места не сойти!"..
Ярило
Небесная гроза, с ее бурными вихрями и дождевыми ливнями, обожалась литовско-славянским племенем в образе Перуна, память о котором до сих пор живо сохраняется у белорусов и литовцев. Белорусы представляют его статным, высокого роста, с черными волосами и длинной золотой бородою: восседая на пламенной колеснице, он разъезжает по небу, вооруженный луком и стрелами, и разит нечестивых; а литовцы еще помнят о девяти силах Перкуна и тридевяти его названиях. Как божество, посылающее дожди, Перун явился творцом земных урожаев, подателем пищи, установителем и покровителем земледелия. Земля, по народному русскому поверью, не растворяется (не открывает своих недр на рождение злаков) до первого весеннего грома, т. е. до выезда на небо Перуна в его громовой колеснице (облаке); с этим поверьем согласуется другое, что весенние ветры, дующие из ясени, разбивают почку деревьев; следовательно, и деревья начинают распускаться только с пробуждением бога-громовника, в свите которого шествуют весенние ветры, пригоняющие дождевые облака. Поэтому дождь называется крестьянами кормилец, и при накрапывании первого весеннего дождя к нему обращаются с таким окликом:
Поливай, дождь! На бабину рожь, На дедову пшеницу, На девкин лен Поливай ведром. Дождь, дождь! припусти, Посильней, поскорей, Нас ребят обогрей.Когда раздастся удар первого грома — все спешат умыться водою, которая в это время молодит и красит лицо, дает здоровье и счастье; ту же чудесную силу приписывают и дождю, и девицы при первой весенней грозе умываются им или водою с серебра и золота и утираются чем-нибудь красным: серебро и золото — эмблемы блестящих лучей летнего солнца или золотистых молний, а вода — эмблема дождя, который обновляет (молодит) землю, украшает ее зеленью и цветами и водворяет на ней общее довольство. Об этом обыкновении упоминает и царская грамота 1648 года: "И в громное громление на реках и в озерах купаются, чают себе от того здравия, и с серебра умываются". И по преданиям других народов, богу-громовнику приписывали дары земного плодородия, его молили орошать пашни и давать рост и зрелость нивам...
В искусстве возделывать землю плугом арийские племена видели божественное изобретение, и самая летняя гроза изображалась в поэтической картине вспахиванья облачного неба громоносным Перуном. Так как, по другому воззрению, та же гроза уподоблялась битве, то, сближая оба эти представления, народная фантазия допускает сравнение битвы с возделыванием пашни. "Черна земля, — говорит "Слово о полку Игореве", — под копыты костьми была посеяна, а кровию польяна; тугою взыдоша по Русской земли"; сравни с народною песнею: "За славною за речкою Утвою распахана была пашенка яровая; не плугом была пахана, не сохою, а вострыми мурзавецкими копьями; не бороною была взборонована, а коневыми резвыми ногами; не рожью была посеяна, не пшеницею — казачьими буйными головами; не сильными дождями полита — казачьими горючими слезами". Такие поэтические сравнения возникали под непосредственным влиянием языка, который понятия грозы, битвы и оранья выражал родственными звуками, так как со всеми ими нераздельна одна и та же мысль о разящем острие и наносимой ране: орать — "резать" землю плугом, ратай — пахарь и рать, ратник; пахать доселе сохраняет древнейшее значение "резать", например, пахать хлеб, мясо...
Значение Ярила вполне объясняется из самого его имени и сохранившихся о нем преданий. Корень яр совмещает в себе понятия: а) весеннего света и теплоты, б) юной, стремительной, до неистовства возбужденной силы, в) любовной страсти, похотливости и плодородия: понятия, неразлучные с представлениями весны и ее грозовых явлений. У карпатских горцев ярь — весна, т. е. ясное и теплое время года, ярецъ — май; костромск. яр — жар, пыль ("Как горела деревня, такой был яр на улице, что подступиться невмочь!")... Яроводъе — высокая, стремительно текущая вода весеннего разлива рек; яр — быстрина реки и размоина от весенней воды; яро — сильно, шибко, скоро, яровый (яроватый) — скорый, нетерпеливый, готовый на дело, яровистый — бойкий, ярый (ярный) — сердитый, вспыльчивый, раздражительный, сильный, разъяренный — страшно раздраженный, неукротимый. Внутренние движения души своей древний человек не иначе мог выразить, как через посредство тех уподоблений, какие предлагала ему внешняя, видимая природа, и так называемые отвлеченные понятия первоначально носили на себе материальный отпечаток; это и теперь слышится в выражениях: пылкая, пламенная, горячая любовь, теплое чувство, разгорячиться, вскипеть, вспылить (от пыл — пламя) — прийти в гнев, разжечь в ком ненависть, желание мести, опала — царский гнев, пожигающий, словно огонь, и проч. Яроватъ — кипеть и обрабатывать поля под весенние посевы; яровина (яровинка) — весною посеянный (яровой) хлеб, ярица — пшеница, яровик, яровище — поле, засеянное яровым хлебом. Ярость — гнев и похоть, ярун — похотливый, по-ярый — пристрастный к чему-нибудь ("он пояр до вина, до женщин), яриться — чувствовать похоть. Те же самые значения соединяются, как увидим ниже, и с корнем буй, синомическим речению яр.
Воспоминание об Яриле живее сохранилось в Белоруссии, где его представляют молодым, красивым и, подобно Одину, разъезжающим на белом коне и в белой мантии; на голове у него венок из весенних полевых цветов, в левой руке держит он горсть ржаных колосьев, ноги босые. В честь его белорусы празднуют время первых посевов (в конце апреля), для чего собираются по селам девушки и, избрав из себя одну, одевают ее точно так, как представляется народному воображению Ярило, и сажают на белого коня. Вокруг избранной длинною вереницею извивается хоровод; на всех участницах игрища должны быть венки из свежих цветов. Если время бывает теплое и ясное, то обряд этот совершается в чистом поле — на засеянных нивах, в присутствии стариков. Хоровод возглашает песню, в которой воспеваются благия деяния старинного бога, как он ходит по свету, растит рожь на нивах и дарует людям чадородие. Там, где ступал старинный бог своими босыми ногами, тотчас вырастала густая рожь, а куда обращались его взоры — там цвели колосья... В народных сказках красавица богиня Весна, выступая в свой брачный путь — к ожидающему ее жениху, наполняет воздух благовонием, а под стопами ее вырастают прекрасные цветы. В деревнях весенний праздник Ярилы перешел в чествование Юрьева дня; собственно же под именем Ярилова праздника известны были здесь и удерживались весьма долгое время те игрища, которые древле совпадали с периодом удаления летнего солнца на зиму. Тогда совершался знаменательный обряд похорон Ярила. Этим обрядом выражалась мысль о грядущем, после летнего солнцеворота, замирании плодотворящей силы природы, о приближающемся царстве зимы, когда земля и тучи замыкаются морозами, гром перестает греметь, молния — блистать, дождь — изливаться на поля и сады. Обрядовая обстановка, с какою праздновали Ярилу в разных местностях, указывает на тесную связь его с летними грозами, на тождественность его с дождящим Перуном: опьянение вином, как символом бессмертного напитка богов (дождя), бешеные пляски, сладострастные жесты и бесстудные песни (символы небесных оргий облачных дев и грозовых духов) напоминали древние вакханалии... В Воронежской губ. лицо, избранное представлять Ярила, убиралось цветами и обвешивалось бубенчиками и колокольчиками, в руки ему давали колотушку, и самое шествие его было сопровождаемо стуком в барабан или лукошко; потому что звон и стук были метафорами грома, а колотушка — орудием, которым бог-громовник производит небесный грохот. У других славян Ярило известен был под именем Яровита (вит — окончание, корень — яр), которого старинные хроники сравнивают с Марсом; Марс же первоначально — громовник, поражающий демонов, а потом — бог войны. Как небесный воитель (бог яростный — гневный), Яровит представлялся с бранным щитом; но вместе с тем он был и творец всякого плодородия. От его лица жрец произносил следующие слова при священном обряде: "Я бог твой, я тот, который одевает поля муравою и леса листьями; в моей власти плоды нив и деревьев, приплод стад и все, что служит на пользу человека. Все это дарую я чтущим меня и отнимаю у тех, которые отвращаются от меня"...
Поклонение Ярилу и буйные, нецеломудренные игрища, возникшие под влиянием этого поклонения, — все, в чем воображению язычника наглядно сказывалось священное торжество жизни над смертью (весны над зимою), для христианских моралистов были "действа" нечистые, проклятые и бесовские; против них постоянно раздавался протест духовенства. Несмотря на то, стародавний обычай не скоро уступил назиданиям проповедников; до позднейшего времени на Яриловом празднестве допускались свободные объяснения в любви, поцелуи и объятия, и матери охотно посылали своих дочерей поневеститься на игрищах...
Чувство взаимного влечения юноши и девицы, чувство любви, ведущей к брачному союзу, издревле выражалось под метафорическими образами грозы, связующей отца-небо с матерью землею. На эпическом языке народных песен любовь прямо называется горючею ("горюча любовь на свете"); об ней поется:
Не огонь горит, не смола кипит, А горит-кипит ретиво сердце по красной девице.Любовь — не пожар, выражается пословица, а загорится не потушишь. Говорят: "Лучше семь раз гореть (т. е. быть холостым, томиться любовью), чем один овдоветь". В том же значении слово "гореть" употребляется в замечательной народной игре, известной под именем горелок. Горелки начинаются с наступлением весны, с Светлой недели, когда славилась богиня Лада, покровительница браков и чадородия, когда самая природа вступает в свой благодатный союз с богом-громовником и земля принимается за свой род. Очевидно, игре этой принадлежит глубокая древность. Холостые парни и девицы устанавливаются парами в длинный ряд, а один из молодцев, которому по жребию достается гореть, становится впереди всех и произносит: "Горю, горю пень!" — "Чего ты горишь?" — спрашивает девичий голос. "Красной девицы хочу". — "Какой?" — "Тебя, молодой!" При этих словах одна пара разбегается в разные стороны, стараясь снова сойтиться друг с дружкою и схватиться руками; а который горел — тот бросается ловить себе подругу. Если ему удастся поймать девушку прежде, чем она сойдется с своей парою, то они становятся в ряд, а оставшийся одиноким заступает его место; если же не удастся поймать, то он продолжает гоняться за другими парами, которые, после тех же вопросов и ответов, бегают по очереди. Погоня за девицами, ловля, захват их указывают на старинные умычки жен; юноша, волнуемый страстными желаниями, добивающийся невесты, уподобляется горящему пню, а самая игра в разных областных изречиях слывет: огарыши, огорелыш, опрел (от преть), малорус. гори-дуб и гори-пень. Есть еще другая игра, значение которой тождественно с горелками; девица садится в стороне и причитывает: "Горю, горю на камушке; кто меня любит, тот сменит" (или: "Кто милее всех, тот меня выкупит"). Из толпы играющих выходит парень, берет ее за руки, приподымает и целует; потом садится на ее место и произносит те же слова: его выкупает одна из девиц и так далее.
Заговоры на любовь называются присушками, а на утрату этого чувства — отсушками или остудою (от стыть, студить, студеный, стужа, остуда — нелюбовь, ненависть, постылый — немилый; сравни: охладеть в любви). Для того чтобы уничтожить в ком-нибудь любовь, надобно погасить в нем пыл страсти, охладить внутренний сердечный жар... Заговоры на любовь или присушки состоят из заклинаний, обращенных к божественным стихиям весенних гроз: к небесному пламени молний и раздувающим его ветрам. Приведем несколько любопытных примеров :
"На море на кияне (в небе)... стояла гробница (туча), в той гробнице лежала девица (молния, богиня-громовкица). (Имярек!) Встань-пробудись, в цветное платье нарядись, бери кремень и огниво, зажигай свое сердце ретиво по (имя) и дайся по нем в тоску и печаль".
"Встану я и пойду в чистое поле. Навстречу мне Огонь и Полымя и буен Ветер. Встану и поклонюсь им низёшенько и скажу так: гой еси Огонь и Полымя! не палите зеленых лугов, а буен Ветер! не раздувай полымя; а сослужите службу верную, великую: выньте из меня тоску тоскучую и сухоту плакучую, понесите ее через боры — не потеряйте, через пороги — не уроните, через моря и реки — не утопите, а вложите ее в (имярек) — в белую грудь, в ретивое сердце, и в легкие, и в печень, чтоб она обо мне тосковала и горевала денну, ночну и полуночну, в сладких яствах бы не заедала, в меду, пиве и вине не запивала". Подобные обращения делаются и к огненному змею — зооморфическому олицетворению громовой тучи...
"Есть на восточной стране высокие горы, на тех горах стоит сырой дуб кряковатый (горы — тучи, дуб — Перуново дерево); стану я под тот сырой дуб кряковатый и поклонюся буйным Ветрам: ой же вы, буйные Ветры! повейте вы на меня и обвейте вы семьдесят составов с составом и семьдесят жил с жилою, хоть[93], плоть и горячую кровь и ретивое сердце, и свейте вы думу и помышление, тоску и сухоту. И обвейте вы, Ветры буйные, мою полюбовницу в ее белое лицо, в ясные очи, во все 70 жил с жилою и 70 составов с составом, хоть и плоть... и зажигайте вы, буйные Ветры, у моей полюбовницы душу и тело, думу и помышление... Как всякой человек не может жить без хлеба, без соли, без питья — без ежи[94], так бы не можно жить (имярек без меня; сколь тошно рыбе жить на сухом берегу без воды студеной и сколь тошно младенцу без матери, а матери без дитяти, столь бы тошно было (имярек) без меня; как быки скачут на корову, так бы (имярек) бегала, искала меня — бога бы не боялась, людей бы не стыдилась, во уста бы целовала, руками обнимала, блуд сотворила; и как хмель вьется около кола, так бы вилась-обнималась около меня..."
Под непосредственным влиянием древнеязыческих воззрений на силы природы — воззрений, которые находили для себя долго неиссякавший источник и прочную опору в звуках родного языка, сложилась и система нравственных убеждений человека. Весь внутренний мир его представлялся не свободным проявлением человеческой воли, а независимым от нее, привходящим извне действием благосклонных или враждебных богов. Всякое тревожное ощущение, всякая страсть принимались младенческим народом за нечто наносное, напущенное... Чувство любви есть также наносное; те же буйные ветры, которые пригоняют вескою дождевые облака, раздувают пламя грозы и рассыпают по земле семена плодородия, — приносят и любовь на своих крыльях, навевают ее в тело белое, зажигают в ретивом сердце. Кто влюблен, тот очарован. Возбуждая тайные желания, безотчетную грусть и томление, любовь понята народом как грызущая, давящая тоска, заставляющая юношу ила девицу изнывать, сохнуть, таять; так изображается она и в заговорах: "Как на море на океане, на острове на Буяне, есть белгорюч камень-алатырь (скала-облако), на том камне устроена огнепалимая баня, в той бане лежит разжигаемая доска, на той доске тридцать три тоски. Мечутся тоски, кидаются тоски и бросаются тоски... через все пути и дороги и перепутья воздухом и аером. Мечитесь, тоски, киньтесь, тоски, и бросьтесь, тоски (в красную девицу), в ее буйную голову, в тыл, в лик, в ясные очи, в сахарные уста, в ретивое сердце, в ее ум и разум, в волю и хотение, во все ее тело белое", чтобы был ей добрый молодец "милее свету белого, милее солнца пресветлого, милее луны прекрасной".
"Вставайте вы, матушки, три тоски тоскучие, три рыды рыдучие, и берите свое огненное пламя, разжигайте рабу-девицу (имя), разжигайте ее во дни, в ночи и в полуночи, при утренней заре и при вечерней..." Присушки наговариваются большею частью на хлеб, вино или воду, и эти наговорные снадобья даются при удобном случае тому, кого хотят приворожить; произносятся они и на след, оставленный ступнею милого человека, и на ласточкино сердце и вороново перо. В старинной песне про богатыря Добрыню и чародейку Марину находим следующий интересный рассказ:
Брала она следы горячие, молодецкие, Набирала Марина беремя дров, А беремя дров белодубовых; Клала дровца в печку муравленую С теми следы горячими, Разжигает дрова палящим огнем, И сама она дровам приговаривает: "Сколь жарко дрова разгораются Со теми следы молодецкими, Разгоралось бы (так) сердце молодецкое У молодца Добрынюшки Никитьевича". А и божье крепко, вражье-то лепко: Взяло Добрыню пуще острого ножа По его по сердцу богатырскому.Чара направлена на то, чтобы заставить добра молодца ухаживать, волочиться, следовать за красной девицей; след эмблема ноги. Ласточка — птица, предвещающая возврат весны с ее благодатными грозами, а ворон — приноситель живой воды дождя, и потому им дается участие в заговорах на любовь...
На те же предметы наговариваются и остуды, и самое заклятие обращается к тем же стихиям — грозе, ветрам и воде, как символу дождя: "Гой еси, река быстрая! прихожу я к тебе по три зари утренние и по три зари вечерние с тоской тоскучей, с сухотой плакучей, мыть и полоскать лицо белое, чтобы спала с моего лица белого сухота плакучая, а из ретива сердца тоска тоскучая. Понеси ты ее (тоску), быстра реченька, своею быстрою струею и затопи ты ее в своих валах глубоких, чтобы она ко мне не приходила". Итак, вода должна смыть с влюбленного тоску, залить его сердечный жар — подобно тому как погасает пламя молний в дождевых потоках. Бурные порывы грозы и вихри, по смыслу заговоров на остуду, должны развеять, разнести любовную тоску и охладить ее пыл своим холодным дыханием. Это доказывает, что и те эпические обращения к рекам и ветрам с просьбою унести людское горе, какие часто встречаются в народных песнях, далеко не были риторическими прикрасами, а порождены искреннею верою в могущество стихий...
Так как тучам и вихрям, наряду с божественным, придавался и демонический характер, то заклятия на любовь обращаются иногда к нечистой силе. Приводим заговор из следственного дела 1769 года: "Пойду я, добрый молодец, посмотрю в чистое поле западную сторону под сыру-матерую землю, и паду я своею буйною головою о землю сыру-матерую, поклонюсь и помолюсь самому сатане: гой еси ты, государь сатана! пошли ко мне на помощь, рабу своему, часть бесов и дьяволов с огнями горящими, и с пламенем палящим, и с ключами кипучими, и чтобы они шли к рабице-девице (или: молодице) и зажигали б они по моему молодецкому слову ее душу, и тело, и буйную голову, ум, и слух, и ясные очи... чтоб она, раба, от всего телесного пламени не могла бы на меня, доброго молодца, и на мое белое лицо наглядеться и насмотреться, и шла бы она в мою молодецкую думу и думицу и в молодецкую телесную мою утеху, и не могла бы она насытиться... и не могла бы она без меня ни жить ни Сыть, ни есть ни пить, как белая рыба без воды, мертвое тело без души, младенец без матери, и сохла бы она по мне своим белым телом, как сохнет (трава) от великого жару, и от красного солнышка, и от буйного ветра".
Из древнейшего воззрения на грозу, как на брачный союз, возникло множество гаданий, поверий и свадебных обрядов, связывающих предвестия о браках и идеи семейного счастья и чадородия с различными символическими представлениями грома, молнии и дождя.
Так как земной огонь был эмблемою небесного пламени мол-кий, а вода — дождя, то отсюда понятны следующие гадания:
• Девица вздувает с уголька огонь на лучину; если она долго не разгорается, то муж будет непослушный, крутой характером, и наоборот.
• Зажигая с одного конца лучину, втыкают ее другим концом в бревно и примечают: в какую сторону упадет пепел — с той стороны жених явится. Или обмакивают лучину в воду и потом зажигают и, смотря по тому, скоро или медленно она загорится — делают заключение о выгодном или невыгодном женихе...
• Собравшись толпою, бегут крестьянские девушки к реке или пруду, набирают в рот воды и спешат воротиться в избу; если удастся донести воду во рту, то жених посватается; а которая девица выпустит воду от испуга, кашля или утомления — той нечего и думать о женихе; воротившаяся прежде всех с во дою — прежде всех и замуж выйдет.
• Поздно вечером съедает гадальщица наперсток соли, чтобы возбудить в себе жажду и, ложась спать, приговаривает: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот меня напоит!" Суженый является во сне и подает ей пить: напиток этот — метафора оплодотворяющего семени дождя, которым напоится богиня Земля во время весеннего сочетания ее с отцом Небом.
• Перед отходом ко сну девица продевает в свою косу висячий замок, запирает его и причитает: "Суженый-ряженый! приди ко мне ключ попросить". То же самое причитает она и над ведрами, перевесла которых запираются на ночь висячим замком, и над палкою, которая кладется поперек проруби с таким же замком. Если приснится девице, что кто-нибудь из холостых парней приходил к ней за ключом, то она принимает это за предвестие скорого с ним брака. Как бог-громовник только тогда овладевает любовью облачной девы, когда откроет ключом-молнией доступ к дорогому напитку живой воды (дождю) и упьется им, так и жених в этом замечательном гаданье представляется отмыкающим запертое сокровище девственного напитка. Коса также символ девственности, и по свадебному обряду жених покупает ее у родителей невесты...
Согласно с древнейшим воззрением, любовное наслаждение объясняется под метафорическим образом испивания воды... Добрый молодец приезжает во дворец Царь-девицы, которая спала на ту пору глубоким, богатырским сном; позарился на ее несказанные прелести и смял красу девичью, а сам поскорей на коня и ускакал: не оправил даже постельных покровов. Пробуждается от сна Царь-девица и говорит во гневе: "Какой это невежа в моем доме был, воды испил, колодец не закрыл!" (или: квас пил, да не покрыл!)
Главнейшими символами молнии была стрела, а дождя — мед и вино; и то и другое играют важную роль в свадебном обряде... В народных русских сказках царь дает своим сыновьям такой приказ: "Сделайте себе по самострелу и пустите по каленой стреле; чья стрела куда упадет — с того двора и невесту бери!" (или: какая девица подымет стрелу — та и невеста!) Отсюда становится понятным, почему в старину, окручивая невесту, девичью косу ее разделяли стрелою, а гребень, которым коса расчесывалась, обмакивали в мед или вино; почему в сеннике, где клали молодых спать, по углам и над брачною постелью утверждали стрелы; почему наконец, когда просыпалась молодая на другой день брака, то покров с нее приподнимали стрелою. Как метафора молнии, которой Перун сверлит тучи, проливает дожди и снимает с неба облачные покровы, стрела в свадебном обряде служила знамением плодородия и вместе с тем была орудием, освящающим брачный союз... Но как тем же орудием поражает Перун демонов, то стрела служила во время свадьбы и предохранительным средством против влияния нечистой силы и злых чар. То же значение соединялось и с другою эмблемою молнии — острым мечом. Спальню молодых охранял в старину конюший или ясельничий, разъезжая вокруг нее с обнаженным мечом...
По старинному обычаю, крестьянская свадьба не бывает без пива и браги, и выражение "заварить пиво или брагу" доныне употребляется в смысле: готовиться к свадьбе. Девицы, желающие поскорей выйти замуж, прибегают к такому средству: тайно ото всех ставят в печь корчагу и заваривают в ней солод; когда солод поспеет, корчагу выносят за ворота и там спускают сусло, с надеждою, что прежде, чем окиснет пиво, придет жених свататься и что этим самым пивом придется его потчевать. Подблюдная святочная песня, предвещающая скорый брак, гласит :
Еще ходит Иван по погребу, Еще ищет Иван неполного, Что неполного, непокрытого; Еще хочет Иван дополнить Свою братину зеленым вином.Т. е. жених ищет невесту, которая уподобляется здесь братине с вином. На таком же уподоблении возникли и следующие любопытные обряды: в том случае, когда будет обнаружено, что невеста вышла замуж нецеломудренною, родной матери ее подают стакан меда (вина или пива), внизу которого нарочно делают отверстие, закрываемое пальцем; как скоро мать берется за стакан, отверстие открывается — и мед (вино или пиво) утекает: знак, что сладкий напиток девственности уже выпит прежде брака. Если же невеста найдена будет непорочною, то к собранным гостям выносят ее окровавленную сорочку, и тотчас начинаются вакхические песни, пляски и битье рюмок, стаканов и вообще посуды, чем символически выражается совершившийся акт брачного союза: девственная чара разбита, и вино из нее выпито счастливым супругом.
Бог-громовник представлялся кузнецом, фантазия олицетворяла его медведем, а гром метафорически уподоблялся звону колокола: все эти мифические представления нашли себе применение в народных поверьях о брачном союзе. Подблюдная песня:
Медведь-пыхтун По реке плывет; Кому пыхнет во двор, Тому зять в терем, —предвещает скорую свадьбу...
"На море на океане, на острове на Буяне (читаем в одной "присушке") стоят три кузницы, куют кузнецы там на трех станах. Не куйте вы, кузнецы, железа белого, а прикуйте ко мне молодца (или: красную девицу); не жгите вы, кузнецы, дров ореховых, а сожгите его ретиво сердце — чтобы он ни яством не заедал, ни питьем не запивал, ни во сне не засыпал, а меня бы любил-уважал паче отца-матери, паче роду-племени". А вот святочная песня" предвещающая женитьбу:
Идет кузнец из кузницы, Несет кузнец три молота. "Кузнец, кузнец! ты скуй мне венец, Ты мне венец и золот и нов, Из остаточков — золот перстень, Из обрезочков — булавочку...""Сковать свадьбу" значит: сковать те невидимые, нравственные цепи (обязанности), которые налагают на себя вступающие в супружество и символическими знаками которых служили кольца; Судьба, заведывающая людскими жребиями, по свидетельству народного эпоса, кует и связывает по две нити и тем самым определяет, кому на ком жениться. Как эмблема супружеской связи, кольцо в народной символике получает метафорическое значение женского детородного члена, а палец, на который оно надевается, сближается с фаллосом. В загадках кольцо или перстень изображаются так: "Стоит девка на горе да дивуется дыре: свет моя дыра, дыра золотая! куда тебя дети? на живое (сырое) мясо вздети". В былине о Ставре-боярине неузнанная мужем жена открывается ему следующей загадкой:
Как ты меня не опознываешь? А доселе мы с тобой в свайку игрывали: У тебя де была свайка серебряная, А у меня кольцо позолоченное, И ты меня поигрывал, А я тебе толды-вселды!Петух, именем которого доселе называют огонь, почитался у язычников птицею, посвященною Перуну и очагу, и вместе с этим — эмблемою счастья и плодородия. Силою последнего щедро наделила его природа, так что это качество петуха обратилось в поговорку. Вот почему при свадебных процессиях носят петуха; вот почему петух и курица составляют непременное свадебное кушанье; по этим же птицам гадают и о суженых. а) Девицы снимают с насеста кур и приносят в светлицу, где заранее припасены вода, хлеб и кольца золотое, серебряное и медное; чья курица станет пить воду — у той девицы муж будет пьяница, а чья примется за хлеб — у той муж бедняк; если курица подойдет к золотому кольцу — это сулит богатое замужество, если к серебряному — жених будет ни богат, ни беден, а если к медному — жених будет нищий; станет курица летать по комнате и кудахтать — знак, что свекровь будет ворчливая, злая. б) Приготовляют на полу тарелку с водой и насыпают кучками жито и просо, а на покуте ставят квашню и сажают в нее петуха; если петух вылетит и кинется прежде на воду, то муж будет пьяница, а если на зерна — муж будет домовитый хозяин. в) Холостые парни и девицы становятся в круг, насыпают перед собою по кучке зернового хлеба (нередко зерно это насыпается в разложенные на полу кольца) и бросают в середину круга петуха; из чьей кучки он станет клевать — тому молодцу жениться, а девице замуж выходить. г) Сажают под решето петуха и курицу, связавши их хвостами, и замечают: кто из них кого потащит? По этому заключают: возьмет ли верх в будущем супружестве муж или жена. Или просто выпускают петуха с курицею на середину комнаты: если петух расхаживает гордо, клюет курицу, то муж будет сердитый, и наоборот, смирный петух сулит и кроткого мужа...
Зерновой хлеб, овин, где его просушивают, решето, которым просеивается мука, и квашня, где хлеб месится, — все это эмблемы плодородия. В Германии по крику петуха девушки гадают о своем суженом; у римлян крик курицы петухом, в применении к браку, предвещал властвование жены над мужем.
Баснословные сказания о птицах
У всех индоевропейских народов находим мы мифические олицетворения явлений природы в образе различных птиц и зверей, возникшие из одного, общего для тех и других, понятия о быстроте. Стремительное разлитие солнечного света, внезапное появление и исчезание несущихся по небу облаков, порывистее дуновение ветра, мгновенно мелькающий блеск молнии, неудержимое течение воды, резвый полет птицы, рассекающей воздух, пущенная с лука стрела, борзый бег коня, оленя, гончей собаки и зайца — все эти столь разнообразные явления производили одно впечатление чрезвычайной скорости, которое отразилось и в языке, и в мифе:
а) пар (жар: "пар костей не ломит"), парить и парить — высоко летать; яр — пыл, ярый — горячий, жаркий, яроватъ — кипеть и яро — быстро, сильно, яровый и яроватый — скорый, быстрый, нетерпеливый, поспешный, яро-водъе — весенний разлив вод; с глаголом пылать одного происхождения рязанское пылять — бегать, пылко — быстро (костромск.); а с словами сар, врети — варовый — быстрый и общеупотребительное, сложное с предлогом: про-вор-ный...
Народные русские песни до сих пор величают сокола: светясён сокол, т. е. птица, быстрая как свет, как молния. Как слово ясный совмещает в себе понятия света и скорости, так сербское бистар (быстрый) означает: светлый.
б) Глагол течь в малорусском, польском и чешском имеет при себе слово с значением быстрого бега: утикатъ; при словах реять — летать и ринуть(ся) — бросить встречаем малорус. ринутъ — течь, пу(о)ринатъ — нырять, вы-ринатъ — выплывать наверх. Старинное славянское стри — воздух, ветр — должно было родственно со словами стремиться, стремглав, стригнутъ или стрекануть — быстро уйти, скрыться (старин. стрекати, "дать стречка"), к которым близки: сибирск. стрежъ и малорус. стриженъ — быстрина реки...
Поэтическая фантазия, сблизившая утренние лучи солнца и быстро мелькающие молнии с "летучими" стрелами, то же самое уподобление допускала и по отношению к бурным порывам ветра и шумно ниспадающему дождю, как это видно из эпических выражений "Слова о полку Игореве": "Се ветри... веют с моря стрелами"; "Быти грому великому! Идти дождю стрелами". Если о дождевых каплях можно было сказать, что они падают стрелами, то, наоборот, о самих стрелах, пускаемых с лука, говорилось: прыскать — "прыщеши стрелами". Стремительность этих небесных явлений сроднила их с несущеюся стрелою, и на том же основании и те и другие сближены с представлением летящей птицы. В санскрите одно из названий птицы, если перевести его буквально, было: "по сквозь видимому (т. е. по воздуху) ходящая"; очевидно, что название это так же удобно могло прилагаться и к стреле, и к ветру, и к облаку. Стреле придается эпитет пернатой — не только потому, что верхний конец ее оперялся для правильности полета, но и в смысле прямого уподобления птице; Гомер называет стрелу крылатою, а русская народная загадка на своем метафорическом языке изображает ее так:
Летит птица перната, Без глаз, без крыл, Сама свистит, сама бьет.Или:
Не крылата, а перната, Как летит — так свистит, А сидит — так молчит.По единогласному свидетельству преданий, сбереженных у всех народов арийского происхождения, птица принималась некогда за общепонятный поэтический образ, под которым представлялись ветры, облака, молнии и солнечный свет; стихиям этим были приписаны свойства птиц, по преимуществу — тех, которые поражали наблюдающий ум человека быстротой своего полета и силою удара, и наоборот: с птицами были соединены мифические представления, заимствованные от явлений природы; мало того — фантазия создала своих баснословных птиц, олицетворяющих небесные грозы и бури...
Любимыми и главнейшими воплощениями бога-громовника были орел и сокол... Греки и римляне почитали орла посланником Зевса, носителем его молний; до сих пор на гербах изображают орла с громовыми стрелами в лапах... "Калевала" изображает мифического орла с огненным клювом и сверкающими очами; он так громаден, что зев его подобен шести водопадам; одним крылом разделяет он морские волны, а другим — небесные тучи; в другой песне говорится об орле, перья которого пышут пламенем. Согласно с этими данными, отождествляющими орла с богом — бросателем молний и проливателем дождей, свидетельствует и один из наших заговоров: "Летел орел из-за Хвалынского моря (море — небо), разбросал кремни и кремницы по крутым берегам, кинул Громову стрелу во сыру землю, и как, отродилась от кремня и кремницы искра, от громовой стрелы полымя, и как выходила туча, и как проливал сильный дождь..." Отсюда родилось поверье об орловом камне: в XVII веке думали, что камень этот охраняет от поветрия, порчи и всяких бед и что его можно находить в гнезде орла, "а держит он его для обереганья своих детей"...
Огонь, по древнеарийскому мифу, был низведен с неба на землю в виде падающей с воздушных высот молнии. Индусы верили, что искры небесного пламени принесены на землю златокрылым соколом. Немецкие и славянские племена приписывают низведение небесного пламени аисту и дятлу. Аист, обыкновенно появляющийся с приближением бури и грозы, принят был за символический образ этих естественных явлений: красный цвет его ног напоминал огонь, точно так же как рыжий или красный цвет шерсти различных животных давал повод ставить их в ближайшее соотношение со стихией огня и солнечного света... Рассказывают, что один аист, у которого унесли детенышей, прилетел с огнем в клюве и бросил его в свое опустевшее гнездо, отчего и сгорел весь дом дотла. Напротив, те дома, в которых никто не беспокоит аистов, предохранены от пожара; если бы где и загорелось — аисты немедленно приносят в своих клювах воду (намек на дождь) и, носясь в воздухе, льют ее и гасят показавшееся пламя. На кровлях зданий хозяева нарочно кладут для их гнезд тележные колеса: обычай, имеющий мифическое значение, так как живой огонь, эмблема грозового пламени, добывался через трение колеса...
В позднейшее время, когда ружейная пуля заменила стрелу, удар молнии стал сближаться с ружейным выстрелом; народная фантазия тотчас же воспользовалась этим сближением и стала представлять "ружье" под метафорическим образом орла, как это видно из следующей загадки: "Летит орел, дышит огнем; по конец хвоста — человечья смерть". В сказках орел являлся с такими мифическими свойствами: он за один раз пожирает по целому быку, выпивает по полному ушату медовой сыты или в дань съедает по три печи хлеба, по три туши бараньи, по три туши бычачьи, своею могучею грудью разбивает в мелкие щепы столетние дубы и пожигает огнем крепкие города; все эти черты присваивались и богу-громовнику...
По греческим сказаниям, ворон был вестником Аполлона и приносил ему свежую, ключевую воду, т, е. дождь из облачных источников. С этими данными вполне согласны русские поверья. Постоянный эпитет ворона — вещий; это птица самая мудрая из всех пернатых; песни и сказки наделяют ее даром слова и предвещаний. В гнезде ворона незримо хранятся золото, серебро и самоцветные камни, он достает и приносит живую и мертвую воду и золотые яблоки, т. е. переводя метафорические выражения на общедоступный язык: ворон, как громоносная птица, гнездится в темных тучах, закрывающих блестящие светила, и проливает из них потоки всеоживляющего дождя. В полночь на чистый четверг, когда, по мнению поселян, наступает благодатная весна, ворон со всем своим племенем спешит искупаться в воде, наделяющей в то время силами и здравием, т. е. весною, с появлением грозовых, темных, как ночь, облаков, ворон купается в живой воде дождя; четверг — день, посвященный Перуну. Так как пролившийся дождь возвращает помрачненному тучами небу свет-зрение, то народные сказки заставляют ворона поведать героям о средстве, с помощью которого можно исцелить слепые очи; средство это — живая вода... Мифическое значение ворона, как низводителя дождей, сказалось в любопытном заговоре на остановление крови: "Летит ворон без крыл, без ног, садится к (имярек) на главу и на плечо. Ворон сидит-посиживает, рану потачивает. Ты, ворон, не клюй — ты, руда, из раны не беги... ты, ворон, не каркай — ты, руда, не капни!" Слово "ворон" употреблено здесь как метафора молнии, летящей без крыл, без ног и точащей дождевую влагу из тучи; фантазия проводит параллель между этим естественным явлением и раною, из которой точится кровь, — параллель, тем скорее возникавшая в уме, что молния уподоблялась острому оружию, а дождь — льющейся крови. Заговор заклинает ворона не клевать, не каркать, чтобы кровь остановилась, не текла из пореза — точно так же как с окончанием грозы вместе с потухшими молниями и замолкнувшим громом перестает идти дождь. Уподобляя мелькающие молнии, стремительные ветры и несущиеся по небу тучи быстролетным птицам, предки наши, пока еще не был забыт ими источник таких представлений, очень хорошо понимали, что это только метафоры и что означенные птицы летают без крыл и двигаются без ног. Народные загадки о буйном ветре, грозовой или снежной туче выражаются таким образом: "Без крыл летит, без ног бежит", о бурном вихре: "Без рук, без ног воюет" или: "Без рук, без ног под окном стучит, в избу просится, на гору ползет". В этих кратких выражениях, как в зерне, кроются зачатки живых поэтических образов, творимых фантазией. Как глубоко верно и художественно отнесся в данном случае народ к явлениям природы, это лучше всего свидетельствуется замечательным согласием его воззрений с картинным описанием бури у новейшего поэта:
Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя, То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя, То по кровле обветшалой Вдруг соломой зашумит, То, как путник запоздалый, К нам в окошко застучит...По свидетельству Геродота[95], скифы считали северные страны неудобными для странствий, потому что они покрыты перьями; в Англии простой народ думает, что метель подымается оттого, что в это время на небе щиплют гусей. Ту же мысль проводят и наши загадки: "Белый лебедь на яйцах сидит" (поля, покрытые снегом). "Лебеди на крылах снег понесли", — говорят про их отлет в теплые страны. На том же основании сблизила фантазия снег и с заячьим пухом: "Заюшка беленький! полежи на мне; хоть тебе трудно, да мне хорошо" (снег на озимом хлебе).
Народные памятники ставят орла, сокола и ворона на близкие отношения к дубу, который издревле был признаваем за священное дерево Перуна; так, один из заговоров упоминает о вещем вороне, свившем себе гнездо на семи дубах; в старинной песне поется:
На дубу сидит тут черной ворон, А и ноги, нос — что огонь горят.В сказках орел, сокол и ворон сидят перед своими дворцами на высоких дубах. Огненный клюв дается ворону, как эмблема молниеносной стрелы; под влиянием того же воззрения клюв его представляется железным острием, которым он всякого поражает насмерть, и как в вышеприведенной загадке орел принят за поэтический образ ружейного выстрела, так и ворон и вообще птица служит в народных загадках для подобного же обозначения: "Летит ворон — нос окован, где ткнет — руда канет"; "Летит птица — во рту спица, на носу смерть"... В заговорах призывается на помощь птица с железным носом и медными когтями. В связи с этими данными возникло поверье, что если ружейное дуло вымазать кровью ворона, то ружье станет бить без промаха, т. е. так же метко, как бьет молниеносная стрела, вылетающая из дождевой тучи...
Сова, как птица ночная с большими светящимися и способными видеть во тьме глазами, дала свой образ для олицетворения черной тучи, сверкающей молниями... Народная русская загадка именем совы означает огонь: "Летела сова из красного сала, села сова на четыре кола" (горящие лучины или огонь в светце с четырьмя ушками). По польским преданиям, злой дух, превращаясь в сову, сторожит драгоценные клады.
Бури и вихри обыкновенно олицетворялись в образе орла, на что ясно указывают предания скандинавские, немецкие и других народов. Норманы верили, что на небе сидят великаны (тучи) в виде громадных орлов и размахом своих крыльев производят ветры; их полету сопутствуют буря и град. В средние века было общее поверье о тайной связи между орлом и ветром. Но кроме орла, и все другие хищные птицы, известные своей быстротой и напоминающие своим резким криком, жадностью и пожиранием падали разрушительные порывы бури, как, например, коршун, ястреб, копчик, принимались за символические обозначения буйных вихрей. На средневековых миниатюрах ветры изображались с птичьими головами...
Славянские и немецкие племена знают баснословную птицу, с помощью которой сказочные герои совершают свои воздушные полеты. В народных памятниках она является под различными названиями. В сказке "Норка-зверь" царевич возвращается из подземного царства (т. е. из-за облачного неба) на крыльях птицы, которая столь огромна, что подобно тучам, заволакивающим небо, затемняла собою солнечный свет. В другой сказке добрый молодец отправляется в далекое тридесятое государство искать свою невесту. Подходит к синему морю — через море переправы нет. Рыбаки зашивают его в брюхо нарочно зарезанной лошади и бросают на берегу; вдруг подымается буря, и подымается она от взмаха крыльев птицы-львицы или гриф-птицы, которая величиной будет с гору, а летит быстрей пули из ружья. Греки представляли грифа с головой и крыльями орлиными, с туловищем, ногами и когтями льва — такое представление попало и в русскую сказку. Гриф-птица хватает мертвечину и вместе с нею переносит молодца через широкое море. Подобным же образом совершает путешествие на высокую золотую гору молодой приказчик, зашитый в лошадиное брюхо семисотным купцом; его уносят туда черные вороны — носы железные...
По белорусскому поверью, гарцуки (от гарцевать — играть, бегать взапуски), духи, подвластные Перуну, летают в виде разных хищных птиц и, разыгравшись в воздухе, крыльями своими производят стремительные ветры; чем быстрей и сильнее взмах их крыльев, тем суровее дуют ветры и разрушительнее действует буря. Народная фантазия иначе не представляет ветры, как существами крылатыми; таковы греческие Борей[96], Зефир[97] и другие их братья. До сих пор в разных языках, в том числе и в пашем, сохраняется эпическое выражение: "Прилетел на крыльях ветра". В "Слове о полку Игореве" Ярославна взывает: "О, ветре, ветрило! Чему, господине, насильно вееши! Чему мычеши хиновьскыя стрелкы на своею нетрудною крыльцю (на своих легких крылышках) на моея лады вои?" Выражения эти нисколько не принадлежат к произвольным риторическим украшениям; в них сказывается давнишнее воззрение человека на природу, основанное на том живом впечатлении, какое она производила на чувства человека. Возвращаясь к огромной, быстролетной птице сказочного эпоса, мы убеждаемся, что в ее грандиозном образе фантазия воплотила тот неудержимо несущийся бурный вихрь, который, нагоняя на небо черные тучи, потемняет солнечный свет, волнует моря и с корнем вырывает столетние деревья. На крыльях ветров приносится животворная влага дождей: отсюда понятно, почему под крыльями сказочной птицы хранится богатырская или живая вода, почему стоит ей дунуть и плюнуть (дуновение — ветер, слюна — дождь) на отрезанные икры доброго молодца, и они тотчас же прирастают к его ногам. Понятно также, почему заменяют ее иногда змеем или драконом, в образе которого олицетворялась громоносная туча. Чужеземные имена страуса и грифа приданы этой птице под влиянием средневековых бестиариев[98], которые (как известно) составляли в старину любимое чтение грамотного люда; нередко, впрочем, птица-ветр или птица-облако, несущая на своих крыльях сказочного героя, называется орлом, вороном, соколом или коршуном. Подобно змею-туче, Сокол, Орел и Ворон сватаются в сказках за прекрасных царевен, похищают их и уносят в свои далекие области; когда они являются за красавицами, прилет их сопровождается вихрями и грозою; сверх того, чтобы помочь брату похищенных царевен, Орел воздымает бурю, Ворон приносит целющей, а Сокол живой воды, и таким образом оживляют убитого царевича. Весьма знаменательно, что в других тождественных по содержанию сказках вместо этих чудесных птиц выводятся прямо могучие силы летних гроз под собственными своими названиями; так, в сказке о Федоре Тугарине сватаются за красавиц и уносят их с собою Ветер, Град и Гром. Тех же мифических героев, только с заменою Града — Дождем, встречаем в сказке об Иване Белом. Женившись на трех сестрах-царевнах, они учат брата их, царевича, великой премудрости: Гром научает его грохотать в поднебесье, Дождь — лить потоки и топить города и села, а Ветер — дуть, царства раздувать да хаты перевертать.
Ворона Вороновича народный эпос часто отождествляет с Ветром; так, в одной сказке, по русской редакции, Солнце, Месяц и Ворон женятся на трех родных сестрах... В трудных случаях жизни сказочные герои обращаются с вопросами к Солнцу, Месяцу и к Ворону или Ветру.
В своем быстром полете ветры подхватывают и разносят всевозможные звуки; признавая их существами божественными, древний человек верил, что они не остаются глухи к его мольбам, что они охотно выслушивают его жалобы, клятвы и желания и доставляют их по назначению. В народных песнях весьма обыкновенны эпические обращения к ветрам, чтобы они скорее донесли весточку к милому другу или к роду-племени. Но как ветры олицетворялись в образе птиц, то понятно, что подобные же обращения стали воссылаться и к этим легкокрылым обитателям лесов и рощ. Потому и в мифических сказаниях, и в народной поэзии птицы являются услужливыми вестниками богов и смертных...
В малорусских песнях кукушка прилетает к матери с вестью о судьбе ее сына, а через соловья посылает девица поклон на далекую родину и разведывает про своего милого:
Соловейко, мала пташечка! Полети в мою стороночку, Понеси батькови поклоночку; Нехай батько не журится, А матуся не печалится! Соловейко маленький! В тебе голос тоненький, Скажи — де мий миленький?В старинной былине голубь с голубкою приносят Добрыне весть, что жена его идет за другого замуж. По указанию доселе сохранившейся поговорки, сорока на хвосте вести приносит.
Мифические представления бури, ветров и туч быстролетными птицами послужили источником, из которого возникли приметы, поставившие в самое близкое соотношение крик и полет различных птиц с непогодою. Карканье ворон, чириканье воробьев, крик галок, грай воронов пророчат ненастье и, смотря по времени года, дождь или снег; то же предвещают гагары — если кричат на лету, сороки — если прячутся под кровлею, ласточки и голуби — если вьются около человека; ласточки, летающие низко над водою, заставляют ожидать дождя; полет птицы-бабы[99] бывает перед ветром: если полет ее плавный — то ветер будет умеренный, а если она рассекает воздух резко, со свистом — то надо ждать бури. Вообще, если птицы кружатся в воздухе с криком, то зимою это знак метели, а летом — дождя; если же сидят спокойно — то будет ясная погода. Когда гусь хлопает по снегу крыльями или поднимает одну ногу под себя — это служит предвестием стужи. Так как в бурных грозах видели наши предки небесные битвы и пожары, ожесточенную борьбу стихий, то хищные птицы принимаются за предвестниц не только атмосферных явлений, но и грядущих войн, победы или поражения, смерти и пожаров...
И у славян, и у германцев орел, парящий над походным войском, предвещает ему победу... Ворон — вестник Одина, отца побед, и потому, по указанию "Эдды", шумная стая воронов, следовавшая за войском, сулила торжество над неприятелем. Другие памятники соединяют с этою птицею предвестия военной неудачи, поражения; "Слово о полку Игореве", в числе недобрых знамений, усмотренных русским воинством, упоминает: "...сю нощь с вечера босуви врани възграяху". "Ой у полi черн й ворон кряче, то ж вiн мою голову баче", — говорит казак в малорусской думе; почти то же повторяет Нечай, захваченный ляхами: "Нехай мати плаче, ой над сыном над Нечаэм ворон кряче!"... Прилетит ли на двор, сядет ли на кровлю ворон, сыч, сова, филин, жолна, дятел — это верный знак, что дому грозит разорение или кто-нибудь из родичей умрет в скором времени; крик ворона, совы и филина на кровле дома предвещает пожар. Зловещий характер присвоен ворону ради черного цвета его перьев, а сове, филину и сычу, как ночным птицам...
В индийской мифологии известна баснословная птица Гаруда[100] с прекрасными золотыми крыльями; знают ее и предания других народов. На Руси она слывет Жар-птицею — названия, указывающие на связь ее с небесным пламенем и вообще огнем: жар — каленые уголья в печи, жары — знойная пора лета. Перья Жар-птицы блистают серебром и золотом, глаза светятся, как кристалл, а сидит она в золотой клетке. В глубокую полночь прилетает она в сад и освещает его собою так ярко, как тысячи зажженных огней; одно перо из ее хвоста, внесенное в темную комнату, может заменить самое богатое освещение; такому перу, говорит сказка, цена ни мало ни много — побольше целого царства, а самой птице и цены нет!.. Жар-птица есть такое же воплощение бога грозы, как свет-ясен сокол, которому сказка дает цветные перышки и способность превращаться в доброго молодца, или орел — разноситель перунов. Она питается золотыми яблоками, дающими вечную молодость, красоту и бессмертие и по значению своему совершенно тождественными с живою водою. Когда поет Жар-птица, из ее раскрытого клюва сыплются перлы, т. е. вместе с торжественными звуками грома рассыпаются блестящие искры молний... Раскаты грома и вой бури уподоблялись говору и пению, и на этом основании все олицетворения грозовых туч фантазия наделила словом и вещим даром; потому и баснословная птица Перунова получила название птицы-говоруньи. Из того же источника возникло сказание о Соловье-разбойнике, гнездящемся на высоких дубах, дети которого оборачиваются черными воронами с железными носами...
Не должно, однако, забывать, что в мифических представлениях нельзя искать строго определенного отношения между созданным фантазией образом и исключительно одним каким-либо явлением природы; представления эти родились из метафорических уподоблении, а каждая метафора могла иметь разнообразные применения. Птица — метательница молниеносных стрел являлась в то же время и птицею-вихрем и птицею-облаком ; олицетворяя в себе пламя грозы, она вместе с тем могла служить эмблемою и восходящего солнца. Древний человек постоянно проводил аналогию между дневным рассветом и весенней грозою и живописал тот и другую в тождественных поэтических картинах. Как грозовое пламя истребляет темные тучи и возжигает потушенный ими светильник солнца, так зарево утренней зари гонит мрак ночи и выводит за собой ясное солнце: подобно златокрылой, блистающей птице, возносится оно на небесный свод и озаряет своими лучами широкую землю...
Воспоминание о птице-солнце доселе сохраняется в загадке, которая называет дневное светило вертящеюся птицею: "Стоит дуб-стародуб, на том дубе птица-вертиница; никто ее не достанет — ни царь, ни царица". Птица-солнце восседает на старом дубе; годовое течение времени, определяемое солнечным движением, народная фантазия уподобляла растущему дереву, на котором гнездится птица-солнце, кладет белые и черные яйца и высиживает из них дни и ночи. "Стоит дуб о двенадцати ветвях, на каждой ветви по четыре гнезда, в каждом гнезде по 6 простых яиц, а седьмое — красное". Или: "По семи яиц беленьких, по семи черненьких" (год, месяцы, недели, шесть дней простых и седьмое воскресенье или: семь дней и семь ночей). "В саду царском стоит дерево райско; на одном боку цветы расцветают, на другом листы опадают, на третьем плоды созревают, на четвертом сучья подсыхают" (год с 4 временами: весною, осенью, летом и зимою)...
Особенно знаменательны поверья о петухе. Петух — птица, приветствующая восход солнца; своим пением он как бы призывает это животворящее светило, прогоняет нечистую силу мрака и пробуждает к жизни усыпленную природу. Малорусы дают ему характеристичное прозвание: будимир. По крику петуха простой народ до сих пор определяет ночное время, т. е. как долго остается до утреннего рассвета. Выражения: в кочета, в першi пiвнi — означают: в полночь; куром, в куры (кур — петух) в летописях употребляются для означения того раннего времени, когда запевают петухи. Народная загадка именем петуха называет часы: "Петух поет, перья болтаются" (стенные часы бьют, а маятник качается)... Как провозвестник дневного рассвета, петух принимался за метафорическое название восходящего солнца; малорусская загадка, означающая солнце, говорит: "Сидить пiвень на вербi, спустив коси (лучи) до землi". Но как утреннее пробуждение солнца в народных поэтических сказаниях отождествлялось с просветлением его прекрасного лика после грозы, а ночной мрак — с черными тучами, то в образе петуха миф по преимуществу олицетворяет небесную грозу, выводящую солнце из-за темных облаков. Своим громозвучным пением (громом) баснословный петух вещал о победе над демоническими силами, т. е. тучами, о бегстве их от пожигающего пламени молний и о грядущем появлении светозарного солнца... Старинные апокрифы говорят о громадном мифическом петухе, поставляя в связи с его пением солнечный восход: "Солнце течет на воздухе в день, а в нощи по окияну ниско летит не омочась, но токмо трижды омывается в окияне. Глаголеть писание: есть кур, ему же глава до небеси, а море до колена; еда же солнце омывается в кияне, тогда же акиян въсколебается и начнут волны кура бити по перью; он же очютив волны и речет: кокореку!.. Еда же то вспоет, и тогда вси кури воспоют в един год (час) по всей вселенней"...
На зиму замолкает громоносный петух, туманы и снежные облака заволакивают солнце и лишают его ярких и теплых лучей, но с возвратом весны снова раздается громкий голос небесной птицы, вещающей миру о возрождении дневного светила...
При встрече весны крестьянки выходят смотреть восходящее солнце и причитывают:
Солнышко-вёдрышко! Выглянь в окошечко, Твои дети плачут, Есть-пить просят. Курица кудахчет, Кочет спел — И обед поспел...Согласно с тем, что бог-громовник был вместе и богом земного огня, слово петух на языке поселян и в загадках употребляется в значении огня и домашнего очага. "Посадить красного кочета на крышу", "подпустить красного петуха" означает: поджечь дом. Русские народные загадки: "Красный кочеток по нашестке (или по поветью) бежит", "Беленький кочет по шестику ходит" означают: огонь и горящую лучину...
Доселе с этою птицею и с курами соединяются приметы о погоде: если петух запоет ранее обыкновенного, то летом это предвещает ненастье, дождь, а зимою — оттепель; куры купаются в сухой земле — к дождю, а вертят в зимнее время хвостами — к метели. Как с другими птицами, провозвестницами бурных гроз, соединялись приметы о войне и сопровождающих ее бедствиях, так те же приметы прилагались и к петуху и курам: если петухи поют в необыкновенную пору, если курица запоет петухом — это предвещает покойника или какое-нибудь несчастье; если куры клохчут по ночам, то быть ссоре, войне...
Как представитель дневного рассвета, огня и молний, петух в мифических сказаниях изображается блестящею, красною птицею. В наших сказках известен тот же петушок-золотой гребешок. Он сидит на высоком небе и не боится ни воды, ни огня: брошенный в колодец, он выпивает всю воду, а брошенный в печь — заливает этой водою огонь...
И в языке, и в мифических сказаниях ночь и туча принимались за метафорические названия смерти; быстролетный ветр, как приноситель зловредных испарений, также роднится с понятием мора, заразы, на что прямое указание находим в слове поветрие. Отсюда понятно, почему народные загадки представляют Смерть птицею:
На море на окиане, На острове на Буяне, Сидит птица Юстрица (или: Вертяничка); Она хвалится-выхваляется, Что все видала, Всего много едала — И царя в Москве, Короля в Литве, Старца в келье, Дитя в колыбели.Из того же воздушного океана, откуда ниспосылались семена жизни (плодотворящий дождь), прилетала и грозная птица смерти. Другая загадка так изображает Смерть: "Стоит дерево, на дереве цветы, под цветами котел (или: корыто), над цветами орел — цветы срывает, в котел бросает; цветов не убывает, в котле не прибывает"... Дерево — мир, цветы — люди, орел — смерть, котел или корыто — гроб...
В одном варианте сказки про утку с золотыми яйцами читаем: "Запер хозяин уточку в темный сарай; ночью она снесла золотое яичко. Пошел туда мужик, увидал великий свет и, думая, что сарай горит, закричал во всю глотку: "Пожар! пожар! Жена, хватай ведро, беги заливать!" Отворили сарай — ни дыму, ни пламени, только светится золотое яичко". По древнему поэтическому представлению, восходящее поутру солнце рождалось из темных недр ночи, а солнце весеннее — из недр грозовых туч. Согласно с этим, золотое солнечное яйцо несла черная птица-ночь или птица — молниеносная туча: миф, по преимуществу соединяемый с петухом, как птицею, в образе которой равно олицетворялись и утренний рассвет, и пламя грозы...
На Руси существует поверье: если петух старше семи лет, то его не годится держать в доме; иначе он снесет яйцо, из которого родится огненный змей: колдун берет это яйцо, носит у себя за пазухой или закапывает в навоз; через шесть недель вылупится из яйца змей и станет носить ему серебро и золото. То же поверье встречаем и у других народов: василиск (царь-змей, взгляд которого поражает насмерть, как молния, а дыхание заставляет вянуть травы и никнуть деревья) рождается из яйца, снесенного черным семигодовалым петухом и зарытого в горячий навоз. Черный петух — мрачная туча; в весеннюю пору, после семи зимних месяцев, называемых в народных преданиях гадами, является из нее яйцо-солнце, и в то же самое время действием солнечного тепла зарождается грозовой змей... О сковороде, поставленной на горячие уголья, народная загадка выражается: "Сидит царь-птица (или: курочка) на золотых яичках". Царь-птица, сидящая на золотых яйцах, есть собственно пылающий огонь, который доныне называется "красным петухом". Но как земной огонь постоянно отождествлялся с небесным пламенем грозы и как для обозначения того и другого служили одинаковые образы, то понятно, что и сама грозовая птица представлялась фантазии младенческих народов восседающею на золотых яйцах, катаемых облачными демонами. Отсюда объясняется русское поверье, что черти на перекрестках яйца катают...
В числе разнообразных поэтических уподоблений, громовые раскаты сближались также с гулом, производимым катящимися каменными шарами: игра, состоящая в бросании шаров, принадлежит глубокой древности, и фантазия воспользовалась знакомою ей картиною этой игры для изображения летней грозы... О грозовых демонах (великанах и чертях) рассказывают, что они, убегая от преследований громовника, скатываются с облачных гор в виде пламенеющего клубка или шара; по свидетельству русских сказок, змеиные города и дворцы (громовые тучи) свертываются в медное, серебряное и золотое яйца или шары и катятся вслед за сказочными героями.
Яйцо, как метафора солнца и молнии, принимается в мифологии за символ весеннего возрождения природы, за источник ее творческих сил. Когда холодное дыхание зимы налагает на небо землю печать смерти и разрушения, в этом яйце таится зародыш будущей жизни, и с приходом весны из него созидается новый мир. Космогонические мифы суть собственно сказания о весеннем обновлении природы... По преданию, записанному Геродотом, мир создан из яйца, положенного баснословной птицею Фениксом[101] в святилище Гелиоса. Греческие и римские философы происхождение вселенной вели от яйца, а в наших старинных рукописях повторяются византийские уподобления мира — яйцу... Уподобляя круглый свод неба верхней половине яичной скорлупы, предполагали, что нижняя ее половина спускалась вниз и замыкала собою подземный мир. Таким образом не только солнце, но и вся вселенная представлялась одним огромным яйцом...
Стихийные силы природы — даже тогда, когда были олицетворяемы в человеческих образах, — удерживали за собой мифическое родство с птицами. Богам своим язычник нередко придавал смешанные формы человека и птицы; крылья и пернатая одежда были для многих из них самыми существенными атрибутами, ибо быстрота появления и исчезания богов, принадлежащая им как воплощениям стремительных стихий, обыкновенно уподоблялась полету...
Гермес[102], Зевсов посланник, имел крылатую обувь, с помощью которой легко и скоро, как ветер, носился над водою и сушею; Гомер дает этой обуви эпитеты золотой и амброзиальной. В ней нетрудно узнать наши сказочные сапоги-скороходы или самоходы, которые могут переносить своего владельца и через огонь, и через воду, и скорость которых так велика, что он с каждым шагом делает по семи миль... Это — поэтическая метафора бурно несущегося облака, и хотя сапоги-скороходы уже лишены крыльев, но тем не менее удерживают за собою сверхъестественное свойство переноситься с места на место с быстротою вихря...
Русские сказки сохранили предания о голубиных, утиных и лебединых рубашках или крылышках: надевая их, вещие девы превращаются в голубок, уток и лебедей, а снимая — опять становятся девами...
Летние грозовые облака в поэтических сказаниях индоевропейских народов изображались девами, которые льют из своих кружек дожди и мечут со своих луков молниеносные стрелы; но как те же облака олицетворялись птицами, то означенным девам даны голубиные, утиные и лебединые сорочки или крылья. Взирая на весеннее солнце, выступающее в грозовой обстановке, древние поэты, согласно с двойственным значением лебедя, рисовали это явление в двух различных картинах: с одной стороны, они говорили о деве Солнце, которая в виде белого лебедя купалась в водах облачного моря; с другой — самые облака изображали лебедиными девами, а солнце их воинственным атрибутом — блестящим щитом...
Темные тучи, облака и туманы казались наблюдающему уму древнего человека покровами или одеждою, в которые рядится небо. О таком воззрении с особенною ясностью свидетельствует наш язык: облако, оболоко, оболок — от глагола обволочить, наволокло — небо нахмурилось, покрылось тучами, наволока — погода, когда небо омрачается серыми облаками, оболокаться — (облекаться) — одеваться, разболокатъся — раздеваться, оболока (оболочка) — одежда, платье, одеяло, верхний покров, наволока — верхняя покрышка на подушке, волокно — нить и холст; когда на небе собираются грозовые тучи, то крестьяне говорят: "стало натягивать". В заговорах находим следующие выражения: "Оболокусь я оболоками (или темным облаком покроюся), подпояшусь красною зарею"; "Облаками облачуся, небесами покроюся", т. е. отдаю себя под охрану небесных богов от вражьей силы; понятия "покрывать" и "охранять" сливаются: покров и покровительство, щит и защита...
Все потемняющий мрак ночи, постоянно сближаемый в мифических сказаниях с мраком, производимым тучами, издревле уподоблялся черному покрову, наброшенному на небесный свод. Гимны "Вед" говорят о Ночи, что она ткет темную ткань; но прежде, чем успеть ее окончить, восходящее солнце уничтожает ее работу. В нашем литературном языке доселе употребительно выражение "под покровом ночи", а народная загадка представляет ночной мрак черным сукном: "Чорне сукно лизе в викно"; та же самая загадка, с заменою эпитета черный — серым, означает ранний, предрассветный сумрак; памятники народной поэзии дают утру эпитеты "серого" и "седого". Подобным же образом Воскресенская летопись выражается о затмении луны: "И бысть образ ея яко сукно черно"... По народному поэтическому представлению, ночь слетает быстро, как птица, и своим черным крылом (крыло от крыть лингвистически тождественно со словом: покров) застилает и небо и землю: "Махнула птица крылом и покрыла весь свет одним пером" — говорит загадка, означающая ночь. Дым так же закрывает от глаз предметы, как и ночная тьма; потому народная загадка называет его метафорически серым сукном: "Серое сукно тянется в окно" (дым из курной избы). Тонкая ткань сравнивается с дымом: дымка — легкий прозрачный покров. О туманах говорят, что они стелются по горам лоскутьями...
Из этого уподобления облаков и туманов небесным покровам и одеждам родилось сказание о чудесных сорочках, в которые облекаются воздушные девы, прилетающие в образе лебедей и голубок. Народные сказки упоминают о волшебной сорочке, наделяющей того, кто ее носит, необычайною богатырскою силою; приобретается она сказочным героем (громовником) от змея или птиц, этих мифических представителей бурь и грозы, и только облекаясь в нее, он в состоянии бывает владеть мечом-кладенцом (молнией). В других сказках и былинах говорится о шубе, на золотых пуговицах которой вылиты львы, коты заморские и и разные птицы, издающие свои звуки: львы ревут, коты мяукают, птицы песни поют...
В подвигах Геркулеса греки передали нам ряд поэтических сказаний о боге-громовержце. Одетый в облачную одежду, он сгорает на погребальном костре, или проще: гибнет в пламени грозы и по смерти вступает в брачный союз с Гебою9, богинею, дарующею нектар, т. е. вместе с гибелью грозовой тучи проливается дождь. Из того же источника возникли предания о ковре-самолете, шапке-невидимке и скатерти-самобранке. Эти ска-сочные диковинки добываются от мифических властителей бурных и грозовых явлений природы — от великанов, леших, Вихрей и нечистых духов. Ковер-самолет — поэтическое название облака, несущегося по воле ветров; в немецких и валахских сказках ковер-самолет называется волшебным летучим плащом. Облака, надвигаясь на небо, затемняют светила, а туманы, сгущаясь над землею, скрывают от глаз все предметы, как бы прячут их за своими покровами и делают незримыми. Отсюда летучий плащ получил название плаща-невидимки — представление, совершенно тождественное с шапкою-невидимкою, которая в свою очередь легко могла получить название быстролетной. Гермес, обладавший крылатою обувью, сверх того, носил на голове окрыленную шапку...
Древние языческие боги могли незримо являться всюду, куда хотели; стоило им только облечься в туманные покровы, одеться тучею, как тотчас же их светлые образы (небесные светила, заря, молния) скрывались от взоров смертного; помогая в битвах своим любимым героям, греческие боги и богини закрывали их в минуту опасности густым облаком (см. "Илиаду"); сходно с этим, валькирии, участвующие в битвах героев и помогающие им разить врагов, могут приносить облака и град. Такое участие богов в битвах и сокрытие облаками воюющих витязей не было произвольною выдумкою фантазии; битва, как мы знаем, была метафорическим названием небесной грозы. По другому воззрению, гроза представлялась браком громовника е богинею весеннего плодородия — ясным Солнцем (Зарею); отсюда создались народные сказки, в которых герой, сватающийся за прекрасную всевидящую царевну, должен трижды от нее прятаться, и если сумеет скрыться так, что не будет ею найден, то делается счастливым женихом; добрый молодец прячется в облаках, уносясь туда на крыльях ворона или орла, и в глубоком море (в дождевой туче), спускаясь на его дно с помощью рыбы, или, подобно мальчику с пальчик (олицетворение молнии), залезает в хвост, гриву и под копыто своего быстролетного коня-тучи... Наш язык понятия "прятаться" и "одеваться" обозначает одинаковыми словами: наряд, обряда — платье, женские уборы, обряжаться — переодеваться, маскироваться и укрываться, прятаться. Закрыться облаком значило одеться в темную, туманную одежду и следовательно — замаскироваться, сделаться неузнаваемым, ненаходимым. Сравни слова: морок (мрак) — облако, туман, морочать — становиться пасмурным и морочить — обманывать, отводить глаза — заставить видеть то, чего нет на самом деле, морока — призрак; жарить — струиться парам над землею в знойное время, марево — летний туман и мираж в степях, марё — туман, тьма и жара — призрак. Искусство "морочить", "отводить глаза" приписывается поверьями колдунам и ведьмам, как властителям туч и облаков. Из этих данных объясняется имя Ховалы; так называют в Курской губ. духа с двенадцатью глазами, которые, когда он идет по деревне, освещают ее, подобно зареву пожара. Это знакомое уже нам олицетворение многоочитой молнии, которой дано имя Ховалы (от ховать — прятать, хоронить), потому что она прячется в темной туче; припомним, что тождественный этому духу вий носит на своих все пожигающих очах повязку. Когда солнце закрывается тучами" мы говорим, что оно прячется за ними...
Скатерть-самобранка или самовертка мгновенно расстилается, по желанию своего владетеля, и наделяет его вкусными яствами и питьями; это метафора весеннего облака, приносящего с собой небесный мед или вино, т. е. дождь, и дарующего земле плодородие, а людям хлеб насущный... В связи с этими представлениями стоят сказочные предания, что взмахом платка (полотенца или простыни) можно творить реки и моря, т. е. туча, в своем воздушном полете, посылает дождевые потоки...
Облако
Не случайно наш эпический язык удержал за легкими, всегда подвижными облаками постоянный эпитет ходячих; их стремительный полет — в период образования языка — породил много метафорических названий, основанных на весьма близких и понятных тогдашнему человеку уподоблениях. Быстро несущееся облако представлялось и ковром-самолетом, и птицею, и окрыленным конем, и летучим кораблем; народный эпос свободно пользовался всеми этими поэтическими образами, так что нередко в одном и том же сказании — один вариант говорит про ковер-самолет, а другой — про летучий корабль или чудесного коня. Представление облака, тучи кораблем возникло одновременно с представлением неба воздушным океаном, и тем легче было возникнуть этой метафоре, что на основании живого впечатления, производимого подвижностью облака, ладьи и парусного судна, эти различные понятия уподоблялись коню и птице. Приведем свидетельства народных загадок: "Била кобыла попид небеса ходила, оглянулась назад та-й слиду не знать" (челнок); "Между гор (берегов) бежит конь вороной, коврами укрыт, скобами (или: гвоздями) убит" (корабль, барка); "Дорога ровна, лошадь деревянна, везет не кормя" (лодка). Русские песни сравнивают лодки с чайками, а белопарусные суда с лебедями; корабль Соловья Будимировича назывался Соколом; то же название присвоено былинами и кораблям Ильи Муромца и новгородского гостя Садко; на корабле Ильи Муромца "веял парус, как орлиное крыло"; о поезде Василья Буслаева по Ильмень-озеру былина выражается:
Плавает-поплавает сер селезень, Как бы ярый гоголь поныривает, А плавает-поплавает червлен корабль Как бы молода Василья Буслаевича...Русские сказки рассказывают о летучем корабле, который подобно птице может носиться по воздушным пространствам с изумительною скоростью. По свидетельству одной сказки, он находился во власти мифического старика, отличительным признаком которого были чудовищные брови и ресницы, т. е. во власти бога-громовника, которому тучи служат бровями, а молнии — очами. Дабы вызвать появление этого корабля, герой ударяет в дуб — дерево, принимаемое издревле за метафору тучи и потому посвященное Перуну, что напоминает рассказ об одном из семи Симеонов: взял Симеон топор, срубил громадный дуб, тяп да ляп — и сделал корабль, который мог плавать и по воде и под водою...
С плугом соединялось то же мифическое значение, что и с кораблем. Оба эти понятия родились в воззрениях древнего человека; как первый врезывается в землю и раздирает ее, так последний режет воды и прокладывает себе путь по этой влажной стихии, почему самое слово плуг производят от общего индоевропейского корня plu (плути — плыть, т. е. взрывать водную поверхность)... Слово пахать, кроме значения орать, возделывать землю, употребляется еще в смысле: резать, например пахать хлеб или мясо, и мести, развеять: "сени еще не паханы" (не метены), пахалка — метелка, опахало, пах — дух, чад, пахнуть — дуть, веять; сравни: мести и ме(я)телъ — вьюга. Оранье земли таким образом сближается в языке с вихрем, волнующим реки и моря, вырывающим деревья и вздымающим пыль; вихрь так же взрывает землю и воды, как плуг — ниву, а корабль — море. И с кораблем, и с плугом нераздельно представление о роющем орудии; у плуга есть для того железное лезвие, а у корабля — нос, как у свиньи, копающей землю носом или рылом. Вот почему свинья является в народных поверьях как воплощение вихря и символ земледелия... Под влиянием означенных воззрений первобытный народ уподобил грозовое облако плугу. Бог-громовник роет вихрями облачное небо, бороздит его разящими молниями и разбрасывает семя дождя. Если припомним, что изобретение ковать металлы приписывалось божеству гроз, то, конечно, им же был выкован и первый плуг; как владыка, творящий земные урожаи, он научил человека возделывать нивы, пахать и засевать землю...
Старинная русская былина рассказывает про богатыря Микулу Селяниновича: пахал он в поле, и была у него сошка позолоченная, омешики булатные; усмотрел его молодой витязь Вольга Святославич и поехал к нему со своею дружиною; ехал день, ехал другой с утра до вечера — и не мог нагнать пахаря; настиг его уже на третий день. Надо было сошку из земли повыдернуть, камни и глыбы из омешиков повытряхнуть; вся могучая дружина пробует свою силу и не может ничего сделать, а сам пахарь подошел да ударил по сохе — и полетела она высоко под облака. Сверх того, предания наши говорят о пахании на змеях, этих демонических представителях громовых туч, с которыми вел вечные, нескончаемые битвы молниеносный Перун. Таково предание о сильном богатыре Никите или Кириле Кожемяке. Когда Никита Кожемяка одолел змея в бою, он запряг его в соху, весом в триста пуд, и проложил борозду до самого моря; после того вогнал змея в воду, убил его и утопил в море...
С началом весны Перун одолевал демонических змеев (зимние тучи), запрягал их в громовый плуг и бороздил облачное небо; вспахавши небесные нивы, он побивал змеев своею молниеносною палицею... Вместе с пробуждением бога-громовника от зимнего сна, вместе с полетом его на воздушном корабле или шествием по небу с громовым плугом, земля и вода, окованные до того времени морозами, сбрасывали с себя льды и снега, и первая делалась способною для возделывания плугом, а вторая — для плавания на кораблях и лодках...
С небесною грозою язык тесно, нераздельно сочетал понятие посева. По коренному смыслу глагол сеять значит: бросать, раскидывать, что доселе очевидно из сложной формы: рассеять, рассевать; слово это одинаково употреблялось как для обозначения посева, состоящего в разбрасывании семян, так и для обозначения ветра, который рассеивает тучи и туманы, разметывает пыль и снежные сугробы, и облаков, рассыпающих на землю дождевые капли. Народная песня выражается о дожде:
Ой, на дворе дождик идет — Не ситечком сеет, Ведром поливает.Мелкий дождь, про который обыкновенно говорят: "как из сита сеет", в областных наречиях называется: севенъ, ситовенъ, ситуха, ситяга, ситовник. Отсюда сами собой возникли поэтические представления дождевой тучи ситом и сеялкой, а дождевых капель — зерновым хлебом. Болгары убеждены, что дождь падает с неба сквозь решето... В народных сказках ведьма заставляет присланную к ней девушку носить воду в решете. Принимаемое за эмблему сеющего дождями облака, решето или сито играет важную роль в гаданиях индоевропейских народов...
Что гроза изображалась в поэтической картине земледельческого посева, об этом свидетельствует мазовецкое предание: черт (демон помрачающих небо туч), увидя крестьянина, засевающего поле пшеницею, подарил ему мешок (облако) с зернами ветра; если кинуть одно зерно — тотчас подует ветер, а если бросить целую горсть — то подымется страшная буря, заблестят молнии, загремит гром и польется проливной дождь. При забвении коренного значения старинных метафор стали думать, что боги весенних гроз действительно засевают землю разными злаками. Поэтическое представление дождя хлебными семенами совпадает с уподоблением его плотскому семени; осемененная зернами и увлажненная дождями, мать-земля вступала в период беременности и начинала свои благодатные роды. И с дождевой водою, и с зерновым хлебом равно соединялась мысль о супружеском семени; по требованию свадебного обряда, новобрачных осыпают пшеницею, ячменем и другим зерном, и осыпание это точно так же сулит молодой чете плодородие, как и дождь, пролившийся в самый день свадьбы. В глубочайшей древности дожденосные тучи олицетворялись целомудренными девами, убегающими от бога-громовника; в бурной грозе гонится он за ними, настигает и, сжимая в своих горячих объятиях, лишает их девственности, т. е. заставляет рассыпать плодотворящий дождь. По другому представлению, бог-громовник заставляет облачных дев возить свой небесный плуг и засевать землю, почему народная загадка называет соху бабой-ягою: "Баба-яга, вилами нога, весь мир кормит, сама голодна"...
Воздушный океан, по которому плавают корабли — облака и тучи, отделяет мир живых людей (землю) от царства умерших, блаженных предков (от светлого небесного свода). Души усопших, издревле представляемые легкими стихийными существами, подобными веющим ветрам и пламенеющим молниям, должны были переправляться в страну вечного покоя через шумные волны этого океана, и переплывали их на облачных ладьях и кораблях. Потому фантазия первобытного народа уподобила корабль-облако плавающему в воздушных пространствах гробу... В семье индоевропейских народов сохраняется множество преданий о перевозе душ на ладье или корабле мифическим кормчим...
В народных сказках упоминается о перевозчике, который перевозит через реку или море смелых странников, шествующих в страшные области ада - к царю-змею или на край света — к праведному Солнцу. На Руси простой народ, во время похорон, бросает в могилу какую-нибудь медную или мелкую серебряную монету; часто завязывают несколько копеек в платок и кладут возле мертвеца сбоку или затыкают ему за пояс. В Ярославской губ. думают, что на том свете будут перевозить покойника через неведомую реку и тогда-то пригодятся ему деньги: надо будет расплачиваться за перевоз...
Эти верования, сблизившие понятия корабля, ладьи и гроба, породили обычай совершать погребение в морских и речных судах и самим гробам давать форму лодок... Ибн-Фодлан[103] описывает обряд сожжения покойников у русов в лодке. Раскольники до сих пор не употребляют гробов, сколоченных из досок, а выдалбливают их из цельного дерева — точно так, как делались в старину лодки; в прежнее время это было почти общим обычаем.
Корабль — тучу представляли плавающим гробом не только потому, что с ним связывается верование о переезде душ в царство блаженных, но и потому, что он служит печальным одром для молниеносного Перуна. Могучий и деятельный в летние месяцы года, Перун умирает на зиму; морозы запечатывают его громовые уста, меч-молния выпадает из его ослабевших рук, и с того времени он недвижимо покоится в гробе-туче, одетый черным траурным покровом, — пока наступившая весна не воззовет его снова к жизни. В таком поэтическом образе изображает народная загадка весеннюю тучу, несущую бога-громовника, пробужденного от зимнего сна: "Гроб плывет, мертвец ревет (или: поет), ладан пышет, свечи горят"...
Слово корабль первоначально означало "ладью", и потом уже, когда знакомство с морями заставило арийские племена строить большие парусные суда, оно получило то значение, какое придается ему теперь. Корабль, очевидно, одного происхождения со словом короб и указывает на изогнутую, закругленную форму ладьи (коробить, согнуть коробом). В областных говорах короб не только означает корзину, цилиндрический сундук, но и сани, обшитые изогнутым лубком. Потому и короб, и сани могли служить заменою похоронной ладьи. Степенная книга[104] свидетельствует, что князь Всеволод приказал убийц Андрея Боголюбского[105] зашить в короб и бросить в воду; во Владимирской губернии доселе живо предание, что убийцы эти плавают по водам Плавучего озера в коробах, обросших мохом, и стонут от лютых, нестерпимых мук...
Сверх указанных уподоблений, туча представлялась еще бочкою, наполненною дождевою влагою; такое представление было скреплено теми метафорическими названиями, которые заставили видеть в дожде опьяняющие напитки меда и вина, обыкновенно хранимые в бочках или сосудах...
Предания, общие всем индоевропейским народам, рассказывают, что облачные нимфы, восседая на небе, проливают на землю дождь из опрокинутых сосудов. Отсюда возникло верование в волшебный бочонок, из которого — только постучи в него — немедленно является несчетное войско — точно так же как удары Перунова молота по наковальне и стук (гром) в чудесную суму-облако призывают к битве толпы могучих ратников, т. е. грозовых духов. Отсюда же родилось и другое верование в неисчерпаемый бочонок, из которого сколько ни льется вина — он все полон...
Зная настоящее значение метафорических названий, какие давались облакам и тучам, мы легко поймем и основанные на них мифы. О смерти Озириса известно следующее сказание: злой Тифон[106], приготовивши богато украшенный ящик, объявил на пиру, что подарит его тому, кому он придется по мерке. Все стали примеряться, и как только Озирис улегся в ящик, Тифон захлопнул крышку и бросил его в Нил. Подобное же предание находим и в русской былине про великана Святогора. Святогор с Ильей Муромцем наехали на великий гроб и прочитали на нем надпись: кому суждено покоиться в гробу, тот в нем и уляжется. Святогор попробовал лечь и закрылся крышкою; хотел потом поднять крышку — и не смог; Илья Муромец (предания роднят его с Ильею-громовником) берет его меч-кладенец, бьет поперек крышки, но за каждым ударом на гробе является железная полоса, и великан Святогор (гора-туча) умирает, т. е. оковывается холодом и засыпает зимним сном. Действие зимних морозов народная фантазия сблизила с ковкою железа; мороз претворяет и воды и землю в камень, делает их столько же твердыми, как железо; самое ощущение, возбуждаемое стужею в теле человека, близко к тому, какое производится обжогом, что и отразилось в языке: мороз жжет и палит; морозы называются калинники (от калить, раскалять — делать красным силою огня, каленая стрела), а сильному ("жгучему") морозу дается эпитет тлящего. Поэтому зима представляется мифическим кузнецом. Мы до сих пор выражаемся, что зима сковывает и оцепеняет природу, т. е. налагает на нее железные цепи...
Морозы, по русскому поверью, прилетают 9 ноября от железных гор, т. е. от зимних туч (гора — туча, железный — окованный стужею). Летучие змеи, эти демонические олицетворения туч, то дышат пламенем и рассыпают огненные искры, то, подобно зиме, своим холодным дуновением созидают ледяные мосты, и на борьбу со сказочными героями выезжают на мосты калиновы: этот постоянно повторяющийся эпитет ("калиновы") указывает на мифического кузнеца, который сковывает воду морозами (калинниками). Народная загадка изображает мороз в виде могучего богатыря, равного силами Самсону[107]: "Сам Самсон, сам мост мостил — без топора, без клинья, без подклинья". Сказочный эпос представляет змея похитителем красавицы Солнца, которую заключает он в железном замке, т. е. прячет ее за снежными облаками и зимними туманами. Но если, с одной стороны, змей, в качестве владыки зимних туманов и морозов, отождествляется с баснословным кузнецом — строителем ледяных мостов и железных замков, то, с другой стороны, под иным углом поэтического воззрения, тот же змей, как дожденосная туча, подчиняется на зиму неодолимой силе кузнеца Мороза, который сковывает его железными цепями...
Народные сказки нередко изображают змея в тяжелых оковах: в запертой комнате дворца висит он на железных крюках и цепях и только тогда срывается с них, когда вдоволь напьется воды или вина, т. е. весною, когда туча, оцепененная до того времени зимним холодом, наполняется дождевой влагою. Вода, испивши которой змею нипочем разорвать железные (ледяные) оковы, в одной сказке прямо названа живою водою...
В русской сказке о Марье Моревне змей (демон зимних вьюг), умертвивши своего противника — молодого царевича (Перуна), кладет его в смоленую бочку, скрепляет железными обручами и бросает в море (небо); но в свое время прилетают три птицы, в образах которых древний миф олицетворил весеннюю грозу, и спасают царевича: орел воздымает бурю, и волны выкидывают бочку на берег, сокол уносит ее в поднебесье, бросает с высоты и разбивает на части, а ворон оживляет юношу живою водою. Пробуждение к жизни вещих мертвецов — колдунов и ведьм, которым народное поверье приписывает низведение дождей и воздушные полеты на помеле (т. е. пробуждение от зимнего сна грозовых духов и облачных жен), обыкновенно сопровождается распадением железных обручей на их гробах. В этом уподоблении тучи плавающему гробу и бочке находит объяснение сказка о Силе-царевиче, который встречает на море плавучий гроб, обитый железными обручами; в гробе был заключен вещий мертвец, и он-то помогает царевичу жениться на прекрасной королеве, убивая шестиглавого змея. Плавучий гроб — туча, а заключенный в ней силач — олицетворение скрывающейся там всесокрушительной молнии; поражая демона-змея своим чудесным мечом, он устраивает весенний брак природы. Здесь же находит объяснение и следующий, часто повторяемый в народном эпосе рассказ: царица, посаженная в окованную железными обручами бочку и пущенная в море, рождает в заключении сына-богатыря (Перуна), который растет не по дням, не по часам, а по минутам, потягивается и разрывает бочку на части. Едва народившись, малютка-громовник уже является во всем могуществе своей разящей силы...
Под живым воздействием разобранных нами поэтических представлений возник обряд: во знамение весны и проливаемых ею дождей — бить бочки, о чем упоминает Новгородская летопись под 1358 годом: "Того же лета целоваша (новгородцы) бочек не бити"; в Никоновской летописи означенное свидетельство передано так: "Того же лета новгородцы утвердишась межи собою крестным целованием, чтоб им играния бесовскаго не любити и бочек не бити". Обычай этот доныне известен у хорутан, в Зильской долине: там в каждой деревне стоит на площади всеми чтимая липа; к этому дереву привешивается бочка; юнаки выезжают на конях, с палицами в руках, скачут вокруг липы и стараются на всем скаку попасть палицею в дно бочки, которая наконец и рассылается на части. Пока юнаки выказывают ловкость и силу своих ударов, остальные жители поют обрядовые песни.
Теперь можно будет пояснить смысл некоторых народных заговоров. Ратник, отправляясь на войну, произносит такое заклинание: "Под морем (небом) под Хвалынским[108] стоит медный дом, а в том медном доме закован змей огненный, а под змеем огненным лежит семипудовый ключ от княжева терема, а во княжем тереме сокрыта сбруя богатырская... Поймаю я лебедь: ты полети к морю Хвалынскому, заклюй змея огненного, достань ключ семипудовый. — Не моим крыльям долетать до моря Хвалынского, не моей мочи расклевать змея огненного, не моим ногам дотащить ключ семипудовый; есть на море на окиане, на острове на Буяне ворон, всем воронам старший брат: он долетит до моря Хвалынского, он заклюет змея огненного, притащит ключ семипудовый". Далее рассказывается, что ворон разбивает медный дом, заклевывает змея и приносит ключ. "Отпираю я тем ключом княжой терем, достаю сбрую богатырскую. Во той сбруе не убьют меня ни пищаль, ни стрелы, ни бойцы, ни борцы, ни татарская, ни казанская рать... Чур слову конец, моему делу венец!" Заклинатель обращается к спасительной помощи Перуна, как воинственного бога, владеющего несокрушимым оружием; черная туча-змей, окованная зимним холодом, прячет Перунову богатырскую сбрую (молниеносную палицу), замыкает ее в неприступных кладовых накрепко, и только один вещий ворон может разбить своим носом медный дворец, заклевать змея, отомкнуть кладовые и достать меч-кладенец, т. е. вместе с весною, приносящею живую воду дождей, является и быстролетная молния, поражающая тучи. В другом заговоре на любовь красной девицы читаем: "За морем за Хвалынским во медном городе, во железном тереме, сидит добрый молодец — заточен во неволе, закован в семьдесят семь целей, за семьдесят семь дверей, а двери заперты семидесятью семью замками, семидесятые (семью) крюками. Никто доброго молодца из неволи не освободит, никто доброго молодца досыта не накормит, допьяна не напоит. Приходила к нему родная матушка во слезах горючих, поила молодца сытой медовой, кормила молодца бело-снеговой крупой, а кормивши сама приговаривала: не скакать бы молодцу по чисту полю, не искать бы молодцу чужой добычи, не свыкаться бы молодцу со буйными ветрами, не радоваться бы молодцу на рать могучу, не пускать бы молодцу калену стрелу по поднебесью, не стрелять бы белых лебедей, не доставать бы молодцу меч-кладенец". Молодец отвечает, что его сгубила жажда любви девичьей. "Заговариваю я полюбовного молодца на любовь красной девицы (такой-то). Вы, ветры буйные, распорите ее белую грудь, откройте ее ретиво сердце, навейте тоску со кручиною (чувство любви), чтобы она тосковала и горевала, чтобы он ей был милее своего лица, светлее ясного дня, краше роду-племени". Здесь проводится параллель между положением влюбленного юноши, которому не отвечает взаимностью красна девица, и зимнею природою, когда холод оковывает дождевые тучи и расторгает священный союз Перуна с землею. Добрый молодец, заключенный в железном тереме и окованный цепями, есть бог-громовник, метатель каленых стрел (молний), товарищ буйных ветров. Зимою он попадает в заточение, и семя дождя перестает падать на землю; этот разрыв любви продолжается до той поры, пока не наступит весна. Тогда повеют теплые южные ветры, добрый молодец упьется медовой сытою (дождем) и снова вступит в брачный союз с землею. К этим-то благодатным ветрам и обращается заговор с просьбою навеять в сердце девицы ту же томительную потребность любви, какою бывает проникнута вся весенняя природа.
Баснословные сказания о зверях
Конь, олень, заяц, лисица и кошка
То же впечатление быстрого движения, какое породнило стихийные явления с птицами, заставило сблизить их с легконогим конем... Ради быстрого бега конь в народных загадках называется птицею: "Бежит птица, во рту плотица; голодна — не съест, сыта — не выкинет" (конь с удилами во рту); "Летели три птицы; первая говорит: мне летом хорошо, другая: мне зимой хорошо, а третья: мне все равно!" (сани, телега и конь). Поэтому все явления природы, которые представлялись птицами, олицетворялись и в образе чудесных коней... Если присоединим сюда старинное название солнца — колесо, то перед нами явится и колесница, и кони, и сам всадник: Солнце. Уже в "Ведах" Солнце представляется в образе человека, стоящего на золотой, блестящей колеснице, которую влекут по воздушным пространствам две, семь или десять крылатых, золотошерстых ретивых кобылиц. Лучи солнечные уподоблялись вожжам или поводьям, накинутым на чудесных коней... У многих народов Заря Утренняя почиталась богинею, которая выводит на небо блестящих лошадей Солнца, а Заря Вечерняя — богинею, которая уводит их на покой. С этим совершенно согласно эстонское сказание, что Утренняя Заря каждый день возжигает светильник солнца, а Вечерняя хранит его в продолжение ночи; по литовскому же сказанию, такое возжжение солнечного светильника, вместо Утренней Зари, приписывается звезде Деннице. По славянским преданиям, Зори — божественные девы; вместе с Денницею они прислуживают Солнцу и смотрят за его белыми конями...
Наша народная загадка изображает день в поэтическом образе сивого коня: "Ни стуку, ни груку (грукатъ — греметь, стучать) — сивый конь на дворе". В прекрасной русской сказке девица идет добывать огня от бабы-яги, чародейной властительницы небесных гроз. "Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо нее всадник: сам белый, одет в белом, конь под ним белый и сбруя на коне белая — на дворе стало рассветать. Идет она дальше, как скачет другой всадник: сам красный, одет в красном и на красном коне — стало всходить солнце". Целый день провела девица во дворе, пока добралась до избушки бабы-яги, смотрит: "едет еще всадник: сам черный, одет во всем черном и на черном коне; подскакал к воротам и исчез, как сквозь землю провалился — настала ночь". Спрашивает девица у яги, кто такой белый всадник? и слышит в ответ: это — день ясный! Спрашивает о красном и черном всадниках — и узнает, что первый — солнце ясное, а последний — ночь темная... Наши загадки представляют месяц, блуждающий по ночному небу, конем: "Лысый конь глядит в ворота" или "Сивый жеребец (мерин) через ворота (прясла) смотрит"[109]. Глаголы: глядит, смотрит употреблены здесь в смысле: светит, а эпитет лысый (придаваемый месяцу и тогда, когда представляют его быком) означает ясный, непотемненный тучами...
По свидетельству русской загадки, роса роняется на землю девой Вечерней Зарею, которая должна была уводить с неба утомленных лошадей Солнца. Загадка произносится так: "Заря-Зоряница, красная девица, врата запирала, по полю гуляла, ключи потеряла; месяц видел, а солнце скрало", т. е. роса, падая свечеру при свете месяца, иссушается лучами восходящего поутру солнца... С началом дня солнце выходит в отверстия врата небесного чертога; обязанность отворять эти ворота приписывалась Утренней Заре, а обязанность запирать их вечером, после солнечного заката, лежала на Вечерней Заре, почему в областных говорах существует выражение "заря замыкается" вместо: потухает. В ночных туманах и сгущенных облаках древний человек видел небесные источники, отпирая которые боги посылали на землю росу и дожди; потому роса, рассыпаемая богиней Зарею, называется в загадке ключами — слово, которым мы обозначаем водные источники, родники, колодцы. Роса и дождь отождествлялись и в языке и в поэтических представлениях; и та и другой — влага, падающая с неба каплями...
У всех индоевропейских народов роса принималась за слезы, проливаемые богинею Зарею, — представление, стоящее в связи с уподоблением восходящего солнца глазу... В песнях нередки сравнения плача с текущей рекою, падающим дождем или росою: над убитым добрым молодцем горюет мать, сестра и жена:
Его матушка плачет, что река льется, А родная сестра плачет, как ручьи текут, Молодая жена плачет, как роса падет...Народные сказки часто говорят о несказанной красавице, в которой нельзя не узнать богини Зари; в поэтически верном изображении они замечают об ней: когда красная девица улыбается — то сыплются розы, а когда плачет — то падают бриллианты и жемчуг. До сих пор, когда на потемненном горизонте проглянет наконец солнышко, случается слышать выражения: "Небо начинает улыбаться, погода разгуливается"; слова веселый и весна — одного происхождения. Напротив, небо, затемненное тучами, называется "хмурым" ("смотреть хмуро, сентябрем", т. е. невесело, сердито); согласно с этим тускло светящее, зимнее солнце представляется в сказках Несмеяною-царевною. При восходе своем солнце озаряет весь небосклон розовым светом, окрашивает его розовыми красками (цветами; слова свет и цвет лингвистически тождественны), и, отражаясь в каплях утренней росы, как бы претворяет их в блестящие бриллианты и жемчуг, что на языке метафорическом перешло в сказание о красавице, которая улыбаясь — рассыпает розы, а проливая слезы — роняет самоцветные камни...
Богиня Заря и богиня весенних гроз олицетворялись язычниками в одном образе; к этому слиянию вели наших предков те тождественные выражения, какими обозначали они утро и весну. Как в дневном рассвете видели они улыбающуюся богиню утра, так в грохоте весенней грозы слышали хохот богини-громовыицы; как в ярких красках зари, так и в пламени молний усматривали небесные розовые цветы; как Заря плакала росою, так дождевые потоки были слезами громовницы... С утренним восходом и весенним просветлением солнца связывалась идея оживления природы, пробуждения ее от ночного сна и зимней смерти. Потому сказочные герои, окамененные или убитые (т. е. творческие силы природы, окованные зимнею стужею), возвращаются к жизни только тогда, когда будут окроплены живою водою или слезами, т. е. весенним дождем... В летние дни крестьяне до восхода солнца выходят на луга с кувшинами и собирают с травы росу, которую берегут как лекарство; в случае болезни дают ее пить или мажут ею тело; на Юрьеву росу выгоняют скот[110] для здоровья. По словам сказки, Добрыне с малых лет не давали просыпать зари утренней и заставляли кататься по росе; оттого сделался он таким крепким и сильным, что шести лет мог выдергивать старые дубы с корнем. Дождю, росе и слезам приписывается чудесное свойство восстановлять зрение — давать очам дневной свет.
По свидетельству наших сказок, мифические кони пьют утреннюю росу или на рассвете дня валяются по росе и чрез это приобретают особенную крепость и быстроту. Своего богатырского коня сказочный герой пасет несколько дней на росе; с того корму вырастают у коня крылья и летает он по поднебесью. Это насыщение росою — характеристическая черта не только Солнцевых, но и облачных коней; вслед за восходом солнца, лучи которого иссушают (выпивают) росу, подымающиеся от земли испарения образуют летучие облака, в быстром движении которых поэтическая фантазия находила сходство с лошадиным бегом.
Во всех олицетворениях дневного света и ночного мрака цвета белый и черный играют весьма важную роль, как самые существенные их признаки. Впрочем, названными эпитетами обозначались не одни суточные перемены. В обычных сменах дня и ночи, с одной стороны, лета и зимы — с другой, древний человек находил полнейшее соответствие; лето уподоблял он дню, зиму — ночи. Поэтому если светлые кони выводили на небо день, а черные — ночь, то и с годовым движением солнца должны были сочетаться те же представления...
Русское поверье связывает поезды солнца с двумя главными пунктами годового его обращения — с летним и зимним поворотами. 12 декабря, при повороте своем на лето, Солнце, как уверяют крестьяне, наряжается по-праздничному — в сарафан и кокошник, садится в телегу и едет в теплые страны. В одной записанной мною колядке поется:
Ехала Коляда В малеваном возочку, На вороном конёчку! Заехала к Василю на двор. Василь, Василь! подари Коляду."Ехала Коляда", т. е. солнце, поворот которого празднуется на Коляду. Другая обрядовая песня славит приезд Овсеня (другое название колядского празднества) и Нового года. Этот выезд Солнца предки наши чествовали символическим обрядом, о котором упоминают дополнительные статьи к Судебнику[111] (1627 г.) и царская окружная грамота 1648 года: на праздник Коляды они "накладывали на себя личины и платье скоморошеское, и меж себя, нарядя, бесовскую кобылку водили". В Подолии до сих пор водят на Новый год по дворам лошадь, покрытую попоною и убранную пучками сухих цветов и овса...
На Иванов день, при повороте на зиму, Солнце выезжает из своего чертога на трех конях — серебряном, золотом и алмазном (бриллиантовом.) — навстречу супругу своему Месяцу и дорогою пляшет на своем рыдване, далеко рассыпая яркие лучи. То же верование разделяют и литовцы. Доныне существующий обычай возить по полям в купальскую ночь, с вечера до утренней зари, тележную ось и два передние колеса, конечно, совершается во знамение солнцева поезда. Движением солнца определяются четыре времени года: весна, лето, осень и зима; представляя их живыми существами, народ говорит, что Весна да Осень ездят на пегой кобыле; этой поговоркою крестьяне выражают мысль, что весною и осенью погода быстро меняется: ясные дни сменяются пасмурными, а пасмурные — ясными. В Саратовской губ. во время проводов весны приготовляют чучело лошади и носят его по лугам, в сопровождении огромной толпы народа. На рисунках, украшающих старинные рукописи, Солнце и Месяц представляются возничими, едущими на колесницах и держащими в руках изображения дневного и ночного светил.
Наряду с солнцем и месяцем уподоблялись коням и звезды; метафора эта, вероятно, вызвана общим течением звездного неба, быстрым исчезанием падающих звезд и обычным движением планет... Северную Полярную звезду казаки называют: Прикол-звезда; в Томской губ. она известна под именем: Кол-звезда, а киргизы величают ее Темир-казык, что буквально значит: железный кол. Прикол — это небольшой железный кол, на тупом конце которого приделано кольцо; когда нужно пустить лошадь на траву, наездник вдавливает в землю прикол по самое кольцо и привязывает к нему лошадь на длинной веревке или аркане. Три малые звездочки четвертой величины из группы Малой Медведицы, идущие в сторону от Полярной звезды и образующие собою род дуги, принимаются киргизами за аркан, привязанный к приколу. Следующие за ними две звезды второй и третьей величины считают они за двух иноходцев, а семь больших и малых звезд, составляющих группу Большой Медведицы, — за семь караульщиков, приставленных оберегать коней от дьявола-волка. Наши крестьяне по созвездию Большой Медведицы узнают полночь и называют его: Возница или Воз... В некоторых местах России Большую Медведицу называют Стожары; слово это, которым означают также колья или жерди, вколоченные в землю около стогов, напоминают имя Полярной звезды — Прикол и следующие эпические выражения народных заговоров: "Крепким словом заговорилась, частыми звездами обтыкалась, темным облаком покрылася"; "Оболокусь я облаками, огорожусь светлым месяцем, обтычусь частыми звездами". Как с небесными покровами — облаками соединяют народные заговоры идею божественного покровительства, так ту же идею защиты (ограждения) соединяют они и с звездами, этими золотыми кольями или гвоздями, вколоченными в высокий небесный свод.
Буйные ветры, ходячие облака, грозовые тучи, быстро мелькающая молния — все эти различные явления на поэтическом языке назывались небесными конями. Сравни: вихрь и завихориватъ — ехать быстро; слово стрелитъ употребляется в значении: ринуться, устремиться, прянуть: "Конь стрелил в лес". Здесь скорый, стремительный бег коня сближается с полетом стрелы, которая служила самою обыкновенною метафорой молнии. В народных загадках ветры и грозы сравниваются с быстроногими конями: "Отцова сундука (земли) не поднять, матушкина столечника (снежного покрова) не сорвать, братнина коня не поймать", т. е. ветра, или:
У батюшки жеребец — Всему миру не сдержать. (ветер) У матушки коробья — Всему миру не поднять. (земля) У сестрицы ширинка — Всему миру не скатать. (дорога)Как олицетворения порывистых ветров, бури и летучих облаков, сказочные кони наделяются крыльями, что роднит их с мифическими птицами; с другими же дополнительными эпитетами: огненный, огнедышащий, с ясным солнцем или месяцем во лбу, с частыми звездами по бокам, золотогривый-золотохвосстый или просто золотой, — конь служит поэтическим образом то светозарного солнца, то блистающей молниями тучи; самая сбруя на таком коне бывает золотая. В сказке об Иване Кручине выведены кони Ветер и Молния, которые так легки на ногу, что никто не в состоянии обогнать их; армянские сказки знают коня — вихря и коня — облако. Вообще богатырские кони наших былин и сказочного эпоса с такою легкостью и быстротою скачут с горы на гору, через моря, озера и реки, отличаются такою величиною и силою, что нимало не скрывают своего мифического происхождения и сродства с обожествленными стихиями. Бурый конь Дюка Степановича славен был своими крыльями; русские, сербские и словацкие сказки часто говорят о крылатых лошадях, с серебряной шерстью, с золотою гривою и золотым хвостом, а другой разыскивает кобылицу, которая каждый день облетает вокруг света, которая когда пьет — на море волны подымаются, а станет чесаться — столетние дубы падают...
В русской былине рассказывается об Илье Муромце, т. е. о Перуне, место которого заступает он в народном эпосе:
Он бьет коня по крутым бедрам, Пробивает кожу до черна мяса; Ретивой конь осержается, Прочь от земли отделяется: Он и скачет выше дерева стоячево, Чуть пониже оболока ходячево. Первый скок скочил на пятьнадцать верст, В другой скочил — колодезь стал... В третий скочил под Чернигов-град.Другая песня поет: "Поскоки его (коня) были по пяти верст; из-под копыт он выметывал сырой земли по сенной копне". Любопытно предание болгарской колядки: похвалился однажды юнак:
Че си има добра коня, Та надбърже ясно слънце[112]Услыхала похвальбу Солнцева сестра и сказала о том брату. Промолвило ясное Солнце: "Скажи похвальщику, чтобы вышел он раным-рано на восток, и станем мы перегоняться; если он меня обгонит — пусть возьмет тебя, милую сестрицу; если я перегоню — то возьму его доброго коня". Согласился юнак, явился раным-рано на восток, и началось состязание. Увидало Солнце, что юнак обгоняет, и говорит ему: "Подожди меня у полудня!" Тот соскочил наземь, воткнул копье, привязал своего коня, лег и заснул. Крепко спит, а Солнце уже близко к закату. Будит молодца добрый конь ногою: "Вставай! не потерять бы тебе коня! Завяжи-ка мне платком черные очи, чтобы не задели их ветки древесные". Изготовясь в путь, конь понесся с такою быстротою, что, когда Солнце явилось на запад — юнак уже был на месте и встретил его в воротах. Этот конь, обгоняющий самое солнце, есть ветер или бурная туча...
В хорутанской приповедке молодец, отыскивая свою невесту и не дознавшись об ней ни у Солнца, ни у Месяца, приходит на луг, где паслась бурая кобыла; он прячется под мост и, когда кобыла пришла пить воду — выскочил, сел на нее верхом и быстрее птицы помчался в вилинские города. Эпитет бурый (смурый, искрасна-черноватый) роднится со словами: буря, буран (бурун) — степная вьюга, метель, вихрь, бурнеть — разыграться буре, бурлить и бурчать — шуметь, бушевать; бурый конь — собственно такой, шерсть которого напоминает цвет тучи, грозящей бурею...
Чудесный конь наших сказок называется сивка-бурка, вещий каурка; каурая масть — та же, что бурая, только с темным ремнем по спине; сивый — собственно: блестящий, сияющий, а потом: седой или с проседью. По свидетельству старинной былины:
Зрявкает бурко по-туриному, Он шип пустил по-змеиному — Триста жеребцов испугалися, С княжеского двора разбежалися... А князи-то и бояра испужалися, Все тут люди купецкие — Окорачь они по двору наползалися."Бурко зрявкает по-туриному, а шип пускает по-змеиному" — выражение, указывающее на сродство чудесного коня с зооморфическими представлениями громовой тучи быком (туром) и змеем. Самая характеристическая особенность эпического языка заключается в постоянном употреблении одних и тех же эпитетов и оборотов, однажды навсегда верно и метко обрисовавших известное понятие; таким эпитетам и оборотам несомненно принадлежит значительная давность. Говоря о сивке-бурке и вообще о богатырских конях, народные русские сказки прибегают к следующим выражениям, которые всякий раз повторяются слово в слово, как неизменные формулы: "Конь бежит — земля дрожит, из очей искры сыплются, из ноздрей дым столбом, из заду головешки валятся" или — когда садится на коня могучий богатырь и бьет его по крутым бедрам: "Добрый конь осержается, от сырой земли отделяется, поднимается выше лесу стоячего, что пониже облака ходячего; из ноздрей огонь (пламя) пышет, из ушей дым столбом, следом горячие головешки летят; горы и долы промеж ног пропускает, малые реки хвостом застилает, широкие — перепрыгивает" (вариант: "Широки раздолья и воды хвостом застилает, через горы перескакивает"). В польских сказках читаем: "Зашумели ветры, заблистали молнии, затопали копыты, задрожала земля — и показался конь из коней, летит как вихрь, из ноздрей пламя, из очей искры сыплются, из ушей дым валит"...
Обстановка эта — живой отголосок древнепоэтических воззрений на природу; дивному, богатырскому коню приданы все свойства грозовой тучи: бурый цвет, необычайная скорость, полет по поднебесью, способность перескакивать через моря, горы и пропасти, выдыхание жгучего пламени и все потрясающий топот, от которого дрожит самая земля. "Конь бежит — земля дрожит!" — эпическое выражение, принимаемое народной загадкою за метафору грома... В нашем народе есть любопытный рассказ о власти колдунов над тучами: раз поднялась страшная буря, небо потемнело. Поселяне ожидали дождя, но знахарь объявил, что дождя не будет. Вдруг откуда ни взялся — летит к нему черный всадник на черном коне. "Пусти!" — просит он знахаря. "Не пущу!" — отвечает тот. Ездок исчез; тучи посизели и предвещали град. Несется к знахарю другой ездок — весь белый и на белом коне. "Пусти!" — просит он знахаря, и когда тот согласился, град зашумел над долиною. Черный всадник на черном коне олицетворяет собою мрачную, дождевую тучу, а белый всадник на белом коне — сизую, белесоватую тучу, несущую град. Русской сивке-бурке соответствует волшебный конь венгерского эпоса Татош, известный и у словаков: это конь крылатый, прыгающий с горы на гору, грива которого сравнивается с блестящими стрелами. В таком уподоблении бурной, грозовой, дожденосной тучи коню кроется объяснение многих подробностей, по указанию которых:
а) Чудовищные змеи (демоны, омрачающие небо черными тучами) разъезжают на быстролетных, огнедышащих конях; чертям, заступающим в народных преданиях драконов и других грозовых духов, даются огненные лошади и золотая колесница — точно так же, как дается им и корабль-облако.
б) Сказочные герои находят богатырских жеребцов и кобылиц внутри гор или в подземельях, где они стоят за чугунными дверями, привязанные на двенадцати железных цепях и замкнутые двенадцатью железными замками; ржание и топот их, громко раздающиеся из-под земли, потрясают ходенем все царство; когда конь почует ездока по себе — он тотчас разрывает цепи и выбивает копытами чугунные двери. Это пребывание богатырского коня в подземной пещере однозначительно с заключением змея в бочке; гора — метафора тучи, железные замки, двери и цепи — зимние оковы. Оцепененный холодом, мифический конь Перуна покоится в зимнее время в горе-туче, на крепких привязях, а с весною, почуя приход бога-громовника, разбивает зимние оковы и начинает ржать на все царство, т. е. издает потрясающие звуки грома. Представление это принадлежит глубочайшей древности; по свидетельству гимнов "Ригведы", Индра обретает белого (молочного) коня в облачной горе.
в) По своей стихийной природе, богатырские копи питаются огнем, жаром (горячими угольями), а жажду утоляют росою или вином и медовой сытого: и вино и мед — метафорические названии дождя; роса также называлась небесным медом... Богатырские кони носят при себе живую и целущую воду и ударом своих копыт выбивают подземные ключи, т. е. дождевые источники...
г) Народные сказки говорят о морских или водяных кобылицах, выходящих из глубины вод; купаясь в их горячем молоке, добрый молодец становится юным, могучим и красивым, а враг его, делая тоже самое, погибает смертью. Хорутане дают этим кобылицам эпитет вилиных; в образе вил славянская мифология олицетворяет грозовые явления природы, и потому некоторыми признаками своими они сходятся с облачными женами — ведьмами и бабою-ягой. По свидетельству русских преданий, те быстроногие кони, на которых можно уйти от летучего змея, добываются от бабы-яги или ведьмы в награду за трудную службу; подобно тому в хорутанских и словацких сказках молодец, желающий добыть чудесного коня, поступает на службу к бабе-чаровнице и пасет буйных кобылиц, в которых превращаются ее собственные дочери; наши ведьмы также превращаются в кобылиц и бешено носятся по горам и долам...
Неудержимое течение вод заставило поэтическую фантазию уподобить источники и реки быстрому бегу коня. Глубокие места в реках слывут у нас быстринами. "Що бiжить без повода?" — спрашивает народная загадка, и отвечает: вода. Другая загадка: "Между гор бежит конь вороной" — означает ручей или реку, текущую среди крутых берегов. "Бежит конь промеж гор — скубом сбит, ковром накрыт" — вода, бегущая подо льдом; "Бурко бежит, а оглобли стоят" или "Сани бегут, самокатки бегут, а оглобли стоят" — река и берега; в двух последних загадках метафора уже осложняется, и от коня переходит к запряженному возу. В дожденосных тучах древний человек видел небесные бассейны и сравнивал их с морями, реками и колодцами; вот почему облачные кони получили прозвание "морских" или "водяных". Молоко мифических кобылиц — живая вода, дождь, проливаемый тучами... С весенними ливнями оканчивается владычество демона-Зимы, творческие силы стихий возрождаются, и обновленная природа является в своих роскошных уборах, что и выражено баснею о купанье в кобыльем молоке: добрый молодец, представитель весны, обретает в нем красоту и крепость, а противник его (зима) — смерть. Поселяне доселе приписывают первым весенним дождям целебные свойства и спешат умываться ими на здравие и красоту тела. Кобылье молоко, в котором должен купаться сказочный герой, наливается в котел и кипятится на сильном огне: поэтическое представление, стоящее в связи с уподоблением грозовых туч котлам и сосудам, в которых небесные духи варят дождевую влагу на огне, возженном молниями. Когда соперники купаются в молоке — герою помогает его богатырский конь: он наклоняет голову к котлу и, вдыхая в себя жар, охлаждает кипучее молоко; а потом, с целью погубить злого врага, выдыхает жар обратно... Русская легенда рассказывает о черте, который варил в молоке стариков и старух и делал их молодыми...
д) Купаясь в молоке морских кобылиц, сказочные герои становятся силачами и красавцами; подобно тому громоносные богатыри, победители демонических змеев, влезая в одно ухо своего коня, наедаются-напиваются там, переодеваются в блестящие наряды и потом вылезают в другое ухо молодцами неописанной красоты и необоримой силы... В наших сказках мальчик с пальчик (олицетворение молнии) прячется в лошадином ухе. В переводе на общепонятный язык, смысл этих метафорических выражений таков: молния скрывается в голове гигантского коня-тучи, пьет из нее дождевую влагу и, выходя из своего убежища, является глазам смертного во всем блеске красоты и всесокрушающей силы.
е) Как облачные горы в своих недрах, а змеи-тучи в своих дворцах таят драгоценные клады, т. е. скрывают во мраке туманов золото небесных светил и молний, так точно мифические кони не только дышат пламенем и выбрасывают из зада горячие головешки, но и рассыпаются серебром и золотом и испражняются теми же дорогими металлами. Такое чудесное свойство соединяется преданиями со всеми поэтическими олицетворениями грозовых туч; отсюда объясняется поверье, почему клады могут являться в образе различных животных (овцы, коня, собаки и проч.), которым стоит только нанести удар — как они тотчас же рассыпаются серебряными и золотыми деньгами, подобно тому как удары грома рассыпают золотистые молнии и выводят из-за темных облаков блестящие лучи солнца.
ж) Воинственный характер Перуна усвоен и его богатырскому коню: конь этот отличается необычайною силою; он помогает своему владельцу в трудных битвах с змеями и демоническими ратями (тучами), поражая их теми же мощными копытами, которыми разбивает скалы и творит дождевые ключи: "Не столько богатырь мечом рубит, сколько конем топчет" или: "Много богатырь мечом рубит, а вдвое того его добрый конь копытами побивает", "Куда конь ни повернет — там улица!" В то время когда богатырь сражается пеший и враг начинает одолевать его, добрый конь рвется с цепей и роет копытами глубокую яму. Перед началом войны предки наши гадали об исходе ратного предприятия по ржанию и поступи священных коней.
з) Как олицетворения грозовых туч, богатырские кони — кони вещие, одарены мудростью, предвидением и человеческим словом, потому что с живою водою дождя и с громом нераздельны были представления о высшем разуме и небесных вещаниях. Ахиллес разговаривает со своим конем Ксанфом[113] и узнает от него о своей близкой смерти; подобно тому Шарац (пегий конь), который служил Марку-королевичу сто шестьдесят лет и пил с ним вино из одной чаши, однажды споткнулся и, проливая слезы, предсказал ему скорую кончину. Эпические сказания, принадлежащие индоевропейским народам, заставляют коней беседовать с храбрыми витязями, предвещать им будущее и подавать мудрые советы; в русских сказках конь, чуя беду, которая грозит его хозяину, спотыкается на езде, горько плачет по нем и стоит на конюшне по щиколки в слезах или в крови.
Вместе с воплощением естественных явлений природы в человеческие образы, мифические кони отдаются в услуги стихийных богов, которые мчатся на них по воздушным пространствам верхом или в колесницах. Поэтическое представление осложняется, и быстро несущаяся туча, названная первоначально небесным конем, впоследствии принимается за колесницу, запряженную небесными лошадьми, на которой восседает грозное божество. По белорусскому преданию, духи, подвластные Перуну, носятся по полям и лесам на ретивых конях с быстротою стрелы, а в образе хищных птиц производят ветры и бурю; сам же Перун разъезжает по небу в огненной колеснице и бросает с огненного лука стрелы-молнии...
Подобно языческим богам и богиням, сказочные герои и героини переносятся в отдаленные страны не только на богатырских конях, но и в летучих колесницах, которые так же мгновенно появляются, как и исчезают, и в повозках-невидимках. Такие колесницы и повозки совершенно тождественны с ковром-самолетом и плащом-невидимкою: это различные метафоры облака.
В ту эпоху, когда коренной смысл древних представлений затерялся для народного сознания, язычники стали посвящать своим богам коней обыкновенных, действительных, которые таким образом как бы заступают место коней мифических. По известиям Гельмольда и Саксона-грамматика, при арконском храме содержался в большой холе и почете белый конь, посвященный Световиту, а возле истукана этого бога висели седло и удила. Ездить на Световитовом коне было строго воспрещено, вырвать хоть один волосок из его хвоста или гривы признавалось за великое нечестие; только жрец мог выводить и кормить его. Народ верил, что Световит садился ночью на своего коня, выезжал против врагов славянского племени и поражал их полчища; так воинственный бог вместо небесного коня стал пользоваться простым, рожденным на земле. Сходно с этим, домовой, по русскому поверью, разъезжает по ночам на хозяйских лошадях. Лошадь, у которой хвост и грива рассыпаются мелкими кудрями, а шерсть лоснится, почитается любимицею домового. Нет сомнения, что народные приметы о лошадиных мастях стоят в связи с мифическими представлениями глубочайшей древности... На Руси в свадебный поезд, когда прилагаются особенные заботы для охраны молодой четы от зловредного влияния нечистой силы, выбирают лошадей светлых мастей, а вороных и сходных с вороною мастью оставляют дома. И другие славянские идолы имели при себе священных коней, присмотр за которыми вверялся жрецам; такие кони были в Штетине (вороной) и в Ретре. Общее убеждение приписывало им вещую силу, и потому в важных случаях общественной жизни религиозные обряды гадания совершались при их посредстве. В Ретре для этого водили священного коня чрез вбитые в землю острия двух копий, перекинутых одно за другое. В Арконе втыкали в землю перед храмом три ряда копий, связанных попарно накрест; ряды эти ставились в равном один от другого расстоянии. Совершив моление, жрецы вели Световитова коня за узду из ворот храма к копьям, и когда конь переступал через них прежде правою, а потом левою ногою — это сулило успех воинского предприятия; если же конь переступал прежде левой ногою — то предвещал неудачу. Штетинцы клали наземь девять копий на локоть одно от другого; жрец, оседлавши коня, вел его за узду через копья три раза взад и вперед; если конь проходил не спотыкаясь и не задевая за копья — это служило предвестием успеха, и наоборот. Следы такого гаданья уцелели до сих пор. Русские девушки, гадая о суженом, выводят лошадей из конюшни через оглобли или жердь: когда лошадь зацепится за оглоблю — знак, что муж будет сердитый, злой и девицу ожидает несчастное житье; а пройдет лошадь, не зацепившись, — муж будет добрый и житье счастливое. Копья — символ молний, и ступание через них указывает на воспоминание о Перуновом коне, несущемся среди грозового пламени. "Споткнуться, зацепиться" значит: встретить задержку, быть остановлену каким-либо препятствием. Споткнется ли сам человек или конь его — все равно это предвещает беду и неудачу...
В наших деревнях гадают еще так: завязав глаза лошади или надвинув ей на голову мешок, девушка садится на нее и примечает, в какую сторону она пойдет со двора — в той стороне и замужем быть; если же лошадь повернет внутрь двора — то оставаться дома, быть без жениха. Или: выходя на крыльцо, девушка изо всей силы бросает в ворота дугу; если дуга упадет обоими концами или хоть одним в ворота — это предвещает близкое замужество; если же ударится в них ребром — то до свадьбы далеко. В то время как жених приезжает смотреть невесту, подруги ее бегут на двор и ударяют женихову лошадь: если она вздрогнет, то сватовство пойдет на лад...
Вместе с золотогривым-золотохвостым конем народный эпос знает и золоторогого оленя. В свадебной песне поется о нем:
Не разливайся, мой тихий Дунай! Не заливай зеленые луга; В тех ли лугах ходит оленюшка, Ходит олень — золотые рога. Мимо ехал свет Иван-господин (жених): "Я тебя, оленюшка, застрелю, Золотые роженьки изломлю!" — Не убивай меня, свет Иван-господин! В некое время я тебе пригожусь: Будешь жениться — на свадьбу приду, Золотым рогом весь двор освещу...Необыкновенная подвижность, прыткость зайца — в самом названии, данном этому животному, уже сближала его с представлением быстро мелькающего света. У нас до сих пор колеблющееся на стене отражение солнечных лучей от воды или зеркала называется игрою зайчика; детское зая означает: огонь; в Курской губ. зайчики — синие огоньки, перебегающие по горячим угольям. Индийский миф уподобляет зайцу лунный свет, и очень может быть, что такое уподобление родилось в то время, когда фантазия первобытного человека была поражена игрою лунного блеска на поверхности вод, колеблемых ветром... Ипатьевская летопись упоминает о поклонении литовцев заячьему богу...
У нас верят, что если заяц или белка перебежит дорогу, то ожидай неудачи или какого-нибудь несчастья. "Щоби му заяц дорогi не перебегi!" — говорят в Галиции, выражая тем доброе пожелание путнику. В народных сказках добрый молодец (боггромовник) прежде чем вступить в брак с красавицей невестою, должен спрятаться от нее так, чтобы она не могла найти его; орел уносит его в поднебесье, рыба — на дно моря, а богатырский конь скрывает его в своем хвосту или гриве: орел, конь и море суть поэтические представления дожденосных туч, в недрах которых прячется молния. Но зоркая невеста всюду находит его, пока наконец не догадался он превратиться в цветок и не украсил собою ее роскошных волос...
На Руси существует поверье, что, плывя по воде, не должно поминать зайца, потому что этого не любит водяной и, осердившись, подымает бурю...
Эпитет бурый или черно-бурый, даваемый лисице, роднит этого зверя с мифическим конем буркою; по цвету своей шерсти она отождествлялась с грозовою тучею, так как вообще облака уподоблялись древле волосам и шкурам животных. В Сибири предрассветный сумрак называется лисьей темнотою, а в народной загадке лисица — метафора огня. В русской сказке хитрая лиса женит доброго молодца на дочери грозного царя Огня и царицы Молнии, или на дочери Грома-батьки и Молнии-матки...
Светящиеся в ночной тьме глаза кошки и рыси дали повод сравнивать с этими животными мрачную тучу, сверкающую зоркими молниями, — подобно тому как светящиеся глаза совы заставили посвятить эту птицу воинственной Афине... Русская загадка, означающая дневной рассвет, сравнивает его с белою кошкою: "Белая кошка лезет в окошко"; напротив, дым на метафорическом языке загадок уподобляется черной кошке...
По нашим приметам: кошка умывается (облизывается и утирается лапкою) — к перемене погоды; скребет лапами и царапает по полу — зимой к метели, а летом к дождю и ветру; ложится брюхом вверх— к теплу, прячет под себя морду — к морозу, распускает хвост — к метели; если кошка спит на полу — будет теплая погода, а если залезет в печь или печурку — то холодная. Обращаясь к затопленной печи, дети причитывают:
Гори, гори ясно, Чтобы не погасло! Стар муж едет, Бороду греет, Сам на кобыле, Жена на корове, Детки на кошках — В красных сапожках.По всему вероятию, в этих словах заключается намек на старинное представление о небесном поезде бога-громовника (бородатого деда Перуна), возжигающего пламя грозы... Народные русские сказки знают баснословного кота-баюна, которому точно так же придается эпитет морского, как и другим олицетворениям дождевых туч, и которого предания ставят в близкую связь с чудесною мельницею — эмблемою громового грохота. Возле этой мельницы стоит золотой столб, на нем висит золотая клетка, и ходит по столбу кот-баюн: идет вниз — песни поет, подымается вверх — сказки сказывает. То же приписывается и козе-золотые рога, которая "гуляет в заповедных лугах, сама песни поет, сама сказки сказывает"... Голос кота-баюна раздается на несколько верст; сила его громадная: своих врагов он поражает насмерть или своими песнями напускает на них неодолимый сон. Эти громкие песни и вещания — метафоры завывающих вихрей и громовых раскатов, а напускной сон — оцепенение, производимое холодным дыханием ветров. На том же основании дерево-тучу народный эпос называет поющим, птицу-облако — говоруньею, а гуслям-самогудам (грозовая туча) приписывает звуки, могущие насылать непробудный сон.
Выражение о возникшей между друзьями или знакомыми ссоре: "Между ними черная кошка пробежала" — указывает на лукавого духа, который становится промеж людей и возбуждает в них враждебные чувства. Ямщики редко и неохотно соглашаются везти кошку; от этого, по их мнению, лошади страшно утомляются и худеют, что вполне соответствует рассказам о лошадях, истомленных ночными поездками домового, ведьм и нечистых духов. Любопытно поверье, что из совершенно черной кошки можно выварить кость-невидимку, которую если взять в рот, то будешь ни для кого не зримым. Эта кость есть зуб-молния, скрытно таящаяся в черной туче; фантазия приписала ей то же волшебное свойство, какое принадлежит шапке-невидимке. По народному убеждению, шапку-невидимку (туман, облако) и неразменный червонец (выходящее из-за туч солнце) можно добыть от нечистой силы не иначе как в обмен на черную кошку. На кого потянется кошка, тому будет корысть. Кто убьет кота, тому, по мнению крестьян, семь лет ни в чем не будет удачи.
Небесные стада
Для племен пастушеских, а такими были все племена в отдаленную эпоху своего доисторического существования, богатство заключалось в стадах и ими измерялось... Скот доставлял человеку и пропитание, и одежду; теми же благодатными дарами наделяет его и мать-сыра земля, производящая хлеб и лен, и небо, возбуждающее земные роды яркими лучами солнца и весенними дождями. По этим сходным признакам, пастухи и пахари первобытного племени обозначали творческие силы природы и стада коров, овец и коз тождественными названиями. Санскр. go, сохранившееся в русском говядо, имеет следующие значения: бык, корова, небо, солнечные лучи, глаз и земля. То же сближение встречаем в русской народной загадке: "Два быка бодутся, вместе не сойдутся" — небо и земля. Земля была такая же общая всем кормилица для населения земледельческого, как стада — источник питания и богатства для населения пастушеского. Древние народы глубоко верили, что обрабатыванию полей научили человека боги, которые сами пахали на быках; а стельная корова принималась ими за символ земного плодородия[114]. Тацит свидетельствует, что германские племена чествовали Землю под именем богини Нерты, весною она выезжала в колеснице, запряженной коровами, и несла с собою урожаи, спокойствие и довольство...
Мы уже знаем, что богиня дневного рассвета, Заря, была отождествляема с богинею весенних гроз; как Индра сражается с темными демонами и возвращает дожденосные стада, похищенные Вритрою, так точно Заря борется с ночным мраком и каждое летнее утро выводит на небесную пажить красных (светлых) коров: это те легкие, белоснежные и розовые облака, которые, вслед за восходом солнца, силою его согревающих лучей образуются из ночных паров и туманов; капли росы, видимые поутру на траве и листьях, принимались за молоко, падающее из сосцов этих небесных коров, выводимых Зарею. Вместо того чтобы сказать: "Заря занимается", "рассветает", — древние поэты "Вед" говорили: "Возвращаются светлые коровы" или: "Заря выгоняет на пастбище светлых коров". В весеннем солнце предки наши видели ту же прекрасную богиню; зима на метафорическом языке называлась ночью, а весна — утром; Заря, пробуждающая природу от ночного покоя, будила ее и от зимнего сна и вместе с теплыми и ясными днями приносила дождевые облака или, выражаясь мифическим языком: пригоняла коров, похищенных демоном холодной зимы. Отсюда, наравне со сказаниями о стадах бога-громовника, возникли сказания о быках и коровах солнца, и самый свет дневкой стал обозначаться под этим животненным образом... О подобных представлениях у славян сохраняются живые свидетельства в народных загадках: "Белый вол всех людей поднял" — день; "Сiрiй бик у вокно нiк" — утренний рассвет. Ночь, обыкновенно отождествляемая в мифе с мрачными тучами, называется черною коровою: "Черная корова весь мир поборола" или: "Черная корова ворота залегла". В связи с этими загадками существует в нашем народе следующая знаменательная примета, которой до сих пор искренно верят поселяне: когда вечером возвращаются с поля стада, то замечают, какая корова идет впереди всех, и по цвету ее шерсти заключают о погоде будущего дня: белая и рыжая корова обещает ясный день, черная — пасмурный и дождливый (небо будет помрачено тучами), а пестрая — несовершенно ясный и несовершенно пасмурный, так называемый серенький денек. Итак, дневной свет, или прямее — самое солнце, рождающее день, представлялось белым и рыжим быком или коровою, а ночь — черною коровою. По тому древнему воззрению, которое сблизило ночь со смертью, эта последняя олицетворялась черной коровою; именно в таком образе представляют наши крестьяне чуму рогатого скота, так называемую Коровью Смерть, которая ходит между стадами и истребляет их заразою. Олицетворяя ночь коровою, фантазия могла перенести это представление и па луну, как царицу ночного неба; но более вероятно, что луна названа коровою под влиянием старинного уподобления серпа молодого месяца золотым рогам. Рога месяца уже влекли за собою мысль о рогатом животном, и русские народные загадки, сообразуясь с грамматическим родом, придаваемым этому светилу, изображают его то быком, то коровою: "Лисий вiл крiзь забор дивиться" (месяц сквозь забор светит), "Белоголовая корова (луна) в подворотню смотрит"; уподобляется месяц и другим рогатым животным: "Баран в хлеве, рога в стене", т. е. месяц на небе, а свет отражается на стене...
О представлении грозовых облаков быками и коровами свидетельствуют следующие загадки: "Ревнул вол за сто гор, за сто речек" — гром; "Тур ходит по горам, турица-то по долам; тур свистнет, турица-то мигнет" — гром и молния. Народная фантазия, сблизившая грохот грома с топотом и ржанием коней, здесь сближает его с ревом быка... Во Владимирской губ. передовые ряды темно-красноватых, грозовых туч, выплывающих из-за горизонта, доселе называются быки. Огню домашнего очага, как символу небесного пламени грозы, дается то же метафорическое название: "Бык железный, хвост кудельный" — огонь и дым; "Лежит бык осмоленый бок" — печная заслонка; "Черная корова целый ушат воды выпила" — закопченная дымом каменка в бане. Под тем же образом представляют народлые загадки и мороз, и воду; ибо холодный ветер, оцепеняющая стужа рассматривались как дыхание тучи, а земные воды служили эмблемою проливаемых ею потоков дождя. Так, загадка: "Сивый вол выпил воды полный двор" — означает: мороз, сховавший воду, осушивший лужи и грязи. "Конец села забито вола, до каждой хижки (избы) тянутся кишки" — река пли криница, из которой все село берет воду и разносит по домам; "Бык (варианты: корова, козел) ревет, хвост к небу дерет" — деревенский колодезь. В памяти нашего народа сохранились отрывочные воспоминания о яром туре — светлом, весеннем, плодотворящем быке бога-громовника. Эпитет ярый указывает па творческие силы весны и роднит тура с именем древнеславянского божества Ярила. С названием тура нераздельны понятия о быстром движении и стремительном напоре: туровый, туркий — скорый, поспешный, турить — ехать или бежать скоро, гнать кого-нибудь (протурить — выгнать, вытолкать), туриться — спешить. В дальнейшем производном значении "ярый тур" — храбрый, могучий воитель, как можно видеть из эпических выражений "Слова о полку Игореве", которое величает князя Всеволода — яр-тур или буй-тур (буй-вол; яр и буй — речения однозначащие). Народные песпи, которые поются при встрече весны, вспоминают Тура — удалого молодца и соединяют его имя с другими прозваниями Перуна: "Ой, Тур-Дид-Ладо!" Именем тура парод окрестил многие географические местности; особенно любопытны следующие названия озер: Волотур, Воловье, Воловье око, Турово, Тур-озеро. На метафорическом языке древнего славянина озеро — эта светлая, зеркальная масса воды, заключенная в округлой рамке берегов, уподоблялась глазу быка. Лужа, стоящая на мховом болоте, в областных говорах называется глазник и глазина. Та же метафора допускается и сербами: исток родника и глубочайшее место в озере они называют око, а глаза сравнивают с колодцами — конечно, потому, что они точат слезы и, подобно зеркалу вод, отражают в себе предметы.
Так как, с одной стороны, тучи представлялись небесными источниками, а с другой — самое создание земных вод приписывалось Перуну, низводителю дождевых ливней, то очевидно, что в указанных названиях озер кроется языческое верование в происхождение этих водоемов от тура-громовника. Что действительно славяне чествовали тура как воплощение божества, это засвидетельствовано следующим местом Синопсиса[115]: на праздник Коляды простолюдины "на своих законопротивных соборищах некоего Тура-сатану и прочие богомерзкие скареды измышляюще — воспоминают". В Польше и Галицин еще подавно водили па святках по домам парня, наряженного быком; а по русским и по лужицким деревням пекут к этому празднику из пшеничного теста коровок и барашков и раздают их вместе с другими припасами коледовщикам. Царская грамота 1648 года, направленная против народных суеверий, говорит: "И дару божию хлебу ругаются — всяко животно скотское и звериное и птичье пекут"[116]. Вероятно, этот старинный обычай усвоил за хлебными печеньями названия: каравай, баранки, барашек (крендель); в некоторых уездах хлебы и лепешки, приготовленные для раздачи коледовщикам, называются коровками и козулями (от слова коза). В Львовском номоканоне[117] XVII века упоминаются языческие игрища Туры... У чехов первое мая слывет коровьим праздником: в этот день девушки чистят и усыпают песком коровьи хлевы, убирают коров цветами и зелеными ветками, дают им ломти хлеба, намазанные медом, и потом при звуках деревенской музыки выгоняют стадо на пастбище; при этом шествии они обливают коров водою и поют песню, что совершается с целью, чтобы коровы в продолжение лета давали больше молока. Описанный обряд имеет чисто символическое значение: при начале весны коровы освобождаются от зимнего заключения на скотных дворах и выгоняются в зеленеющие поля, подобно тому как мифические коровы-тучи, упившись медом живой воды, сбрасывают с себя оковы, наложенные на них демонами вьюг и морозов и, выступая из темных затворов зимы на небесную пажить, несут в своих сосцах обильное молоко дождей. Обливание коров водою — эмблема дождевых ливней, а звуки музыки — эмблема грома. Еще недавно в Архангельске возили на масленицу по городу лошадей; это весенний выезд Перуна, несущегося в грозовой туче. Соответственно различным поэтическим воззрениям, бог-громовник или сам выступал в образе ярого быка или как пастух выгонял на небо облачных коров и доил их молниями...
Эпические сказания славянских племен обильны преданиями о мифических быках и коровах. Наряду с золотогривыми-золотохвостыми конями фантазия создала тура-золотые рога и золоторогих, золотохвостых коров с частыми звездами по бокам. Особенно интересна сказка о вещей корове-буренушке, которая и своим именем и чудесными свойствами напоминает вещего коня-бурку; подобно тому как сказочные герои входят в голову своего богатырского коня, так здесь гонимая мачехой падчерица влезает в одно ушко коровы (то была ее родная мать, превращенная в корову) и выходит из другого ненаглядной красавицей, досыта накормленной и напоенной...
Так как древнейший язык употреблял одинаковые названия и для звериной шкуры, и для животных, покрытых мохнатою шерстью, то арийское племя не только признавало в облаках небесное руно, но и, сверх того, олицетворяло их бодливыми баранами, резвыми овцами, прыгающими козлами и козами. И баран, и козел известны своею похотливостью в весеннюю пору; это характеристическое свойство их народная фантазия сблизила с плодотворящею силою весенних грозовых туч, испускающих из себя семя дождя: сравни ярь — весна, ярость — похоть, Ярило — дождящий Перун, ярка, ярочка — овца... Но если в применении к самцам, оплодотворителям стад, дождь принимался за плотское семя, то в применении к самкам в нем видели молоко, проливаемое небесными овцами и козами. Белые облака, являющиеся в жаркие летние дни на небе, до сих называются на Руси барашками... Народная русская загадка: "Бессмертная черная овечка вся в огне горит" — означает темную ночь, блестящую звездами. Первоначально загадка эта, по всему вероятию, прилагалась к черной туче, сверкающей молниями; но под влиянием постоянного отождествления ночного мрака с потемняющею небо тучею означенный образ принят за метафору звездной ночи. Сияние молний, обыкновенно уподобляемое блеску благородных металлов, заставило соединить с облачным руном эпитеты золотого и серебряного... Славянские сказки знают баранов и овец с золотой и серебряной волною, как знают они и козу — золотые рога, тождественную той быстрой златорогой и медноногой лани, которую изловил Геркулес[118]. Польское предание упоминает о крылатых овечках, на которых спасалась от нечистого духа царевна, несясь по воздуху. Сверх того, сказочный эпос упоминает про чудесного козла и овцу, которые, подобно мифическим коням, рассыпаются златом и серебром. Разя тучи, молния проливает из них дождевую влагу; так как, с одной стороны, рога животных издревле употреблялись вместо пиршественных кубков, а с другой — рог был символом молнии, то отсюда возникло представление о роге изобилия, рассыпающем на землю цветы и плоды...
На Руси существует любопытное поверье: если в лунную ночь на святках пойти к проруби, разостлать на льду воловью или коневую кожу и, сидя на ней, смотреть в воду, то нечистая сила поднимет кожу, понесет ее по воздуху и покажет все, что должно случиться в будущем. В этом поверье слышится воспоминание о коже-облаке, на котором, словно на ковре-самолете, носятся по поднебесью вещие духи, обладающие высоким даром предвидения. Древнейшим воззрением на облака и тучи, как на звериные шкуры, объясняются разнообразные предания об оборотнях... Идут (повествует народная сказка) двое сироток — брат Иванушка и сестрица Аленушка. Захотелось Иванушке пить: "Сестрица, я пить хочу!" — "Подожди, братец; дойдем до колодца". Шли-шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце полно водицы. "Сестрица! Я хлебну из копытца". — "Не пей, братец; теленочком вскинешься!" Дальше идут — стоит лошадиное копытце с водою, затем баранье и наконец козье. Сестра запрещает брату пить, чтобы не превратиться в жеребенка, барашка и козлика. Брат не вытерпел, напился из козьего копыта и оборотился козленочком. Все эти животненные образы: корова, конь, баран и коза — представления метафорические; вода, наполняющая следы их копыт, указывает на те живые ключи, которые бьют из-под ног Перуновых коней, или попросту — на дождь, проливаемый тучами. Напиваясь из таких ключей, сказочный герой сам облекается (оборачивается) в облачную одежду и чрез то принимает на себя звериное подобие...
Собака, волк и свинья
...У волка отмечали не только его жадную свирепость, но и быстроту бега — признак, ради которого народные загадки сравнивают с волком скачущую повозку... Как другим мифическим животным, олицетворяющим собою летучие облака и вихри, были придаваемы крылья, так придавались они и волку-туче. Почти у всех индоевропейских народов известна сказка о сером волке, который с быстротою ветра носит царевича в отдаленные страны и помогает ему добыть жар-птицу, золотогривого коня и красавицу невесту; в одном из русских вариантов этой сказки волк является крылатым: едет царевич на добром коне и видит — с западной стороны летит на него крылатый волк; сильно ударил волк споим крылом царевича, но не вышиб из седла; царевич тотчас оправился и отсек ему мечом-кладенцом (молнией) правое крыло...
Как олицетворение ночной тьмы и мрачной тучи, волк отождествляется с дьяволом... Албанская сказка приписывает создание волка черту; то же предание сохраняют и эстонцы. На демонический характер волка — злого врага, подстерегающего свою добычу, намекают поговорки: "Сказал бы словечко, да волк недалечко".
На Украине старые люди не называют волка по имени — из боязни, чтобы он не явился неожиданно на их двор; по общему мнению, лучше называть его дядьком. Поверье это известно и в Литве; замечательно, что там никто не решится сказать: "Волки воют", а вместо того говорят: "Волки поют". Точно так же простолюдины боятся произносить слово черт и заменяют его местоименном он; в противном случае нечистый тотчас же явится и натворит великих бед. Крестьянки стращают шаловливых детей аукой и бирюком (областные названия волка)...
Губительная хищность волка по отношению к лошадям, коровам и овцам представлялась пастушеским племенам аналогичною с тою враждебною противоположностью, в какую поставлены природою тьма и свет, ночь и день, зима и лето. Олицетворяя дождевые облака дойными коровами, овцами и козами, они верили, что стада эти похищаются на зиму демоном Вритрою. Сверх того, в мрачных тучах, туманах и затмениях солнца и луны они видели демонов, поедающих божественные светила: и эта вечная борьба тьмы и света на мифическом языке обозначалась нападением голодных волков на небесные стада. Народная загадка закрытие блестящих светил тучами называет потерею волов... Тучи в образе волков терзают своими зубами солнце, лупу и те бесчисленные стада овец и коз, в виде которых олицетворялись яркие звезды. Так как солнце, луну и звезды фантазия древнею человека признавала за небесные огни, то отсюда возникло поверье, будто волки пожирают огонь. В одной малорусской сказке говорится: "Дунул черт на небо — и яркие звезды потухли, а светлый месяц закрыл шапкою". Выражение дунул указывает на ветер, который приносит облака, потемняющие светила; а шапка, которою черт закрывает месяц, есть шапка-невидимка, шапка-туча. Здесь дьяволу приписывается то, что другие памятники отдают волку: доказательство их взаимной близости. О падающих звездах рассказывают н,а Руси, что звезды эти бегут и прячутся в дальних областях неба, будучи преследуемы нечистым духом. Когда небо заволокут тучи, то простой народ обращается к солнцу с заклинанием: "Выглянь, солнышко! Твои детки плачут". Этим думают освободить дневное светило из власти темных сил. Ниже приведем мы летописные свидетельства, что при солнечных затмениях в старину раздавался непритворный плач населения, которое опасалось за судьбу солнца, захваченного злым демоном мрака. По преданиям западных славян, царь-Солнце борется с нечистою силою (Зимою), которая нападает на него в виде волка... По русскому поверью, папоротник распускается в таинственную купальскую ночь; злые духи неусыпно сторожат кусты, и как только покажется чудесный цветок — сейчас захватывают его в свою власть, т. е. молния цветет (сверкает) во мраке ночеподобных туч и едва успеет блеснуть — как в то же мгновение исчезает в их темном царстве. Кроме папоротника, мифическое представление о Перуновом цвете было соединяемо и с другими земными травами, на что указывают их простонародные названия: лютик (лютяк), борец, преград, волкобой; имя лютик придается и траве купало, или купальнице. Травы эти обладают силою прогонять нечистых духов — подобно тому как прогоняют их молниеносные стрелы громовника. Колючие сорные травы, напоминающие своими иглами острые стрелы, называются волчец и чертополох (т. е. растение, способное всполошить, испугать чертей; заметим, что и самый папоротник слывет в народе волчьей травою. Июнь месяц, когда совершается купальский праздник, есть период полного развития плодотворных сил природы, время победы свет лых богов над темными, почему и называют его макушкою лета и месяцем огня (кресником). Наоборот, зима и особенно декабрь месяц представлялись периодом торжества демонов (холода, туманов и снеговых туч) над благодатною силою солнечного света и теплоты. Оттого все продолжение зимы, от ноября до февраля включительно, известно под именем волчьего времени. Февраль у славян назывался лютый (характеристический эпитет волка)... Народные сказки родившееся на Коляду Солнце представляют прекрасным младенцем, захваченным злою ведьмою Зимою, которая превращает его волчонком, и только тогда, как будет совлечена с него волчья шкура и сожжена на огне (т. е. б то время, когда весенняя теплота растопит зимние тучи), — оно принимает свой божественный образ и является во всем блеске несказанной красоты...
Затмения солнца и луны, издревле называвшиеся божьими знамениями, у всех языческих племен объяснялись враждебным нападением демонов тьмы на светлых богов, обитающих на высоком небе. Народы различных стран и веков равно боялись затмений и усматривали в них действительный вред, наносимый светилам, и считали их предвестиями общественных бедствий; цари запирались в то время в своих дворцах и в знак горести остригали детям волосы. По мнению древних, солнечные затмеиия происходили оттого, что силы холода и мрака брали перевес над теплом и светом и погашали всеозаряющий светильник дня. То же воззрение находим и у славян. Пока мировые законы оставались неведомой тайною, подобные явления и не могли быть объяснены иначе. Замечено, что при полном солнечном затмении (когда на омраченном небе, словно ночью, выступают далекие звезды) все животные приходят в более или менее сильную тревогу: птицы, до того спокойно парившие в воздухе, будучи поражены внезапным отсутствием света, упадают на землю; куры садятся, на насест, а при окончании затмения петухи начинают свою обычную песню, которою каждое утро встречают восходящее солнце; домашний скот обнаруживает видимое беспокойство и радостным ревом приветствует возврат дневного света. И человек испытывал некогда тот же смутный страх наравне с прочими животными. В солнечном затмении он видел дело злых духов, ненавидящих все живое и стремящихся уничтожить верховный источник жизни — ясное солнце. Оттого старинные памятники упоминают о затмениях солнца и луны, как о страшной гибели, грозившей этим светилам. Приведем летописные свидетельства: 1065 года — "Солнце пременися и не бысть светло, но яко месяц бысть, его же невегласи глаголють: снедаему сущу". 1091 г. — "Бысть знаменье в солнци, яко погибнути ему, и малося его оста, и акы месяц бысть". 1113 г. — "Бысть знамение в солнце, такоже погибев час первый дни; бысть видети всем: остася его мало, аки месяц долу рогома". 1185 г. — "Морочно бысть велми, яко на час и боле и звезды видети, и человеком во очию яко зелено бяше, и в сонци учинися аки месяц — из рог его аки огнь горящий изхожаше". 1187 г. — "Солнце погибе и небо погаре облакы огнепрозрачными". 1360 г. — "Погибе солнце, и потом месяц (т. е. подобный месяцу, светлый серп солнечного диска) обратися в кровь". 1366 г. — "Бысть убо тогда солнце, аки триех дней месяц; щербина убо бе ему с полуденные страны... и пребысть тьма велия". 1399 г. — "Солнце погыбе и явися серп на небеси, а потом явися солнце, кровавы лучи испущающи(е) с дымом". 1415 г. — "В солнци мрак зелен; тож помале бысть мраки, аки кровь, и друг друга человеки не видети, аки в крови стояху вси". 1475 г. — "Гибло солнце — треть его изгибла и бысть яко месяц в розех".
В этих свидетельствах ярко высказывается древнеязыческое миросозерцание, принимавшее солнечные и лунные затмения за ожесточенную борьбу двух стихий: благодатного света и демонической тьмы... Невегласи (т. е. не довольно просвещенные христианским учением) верили, что злые духи мрака пожирали светило; от их острых зубов видны были в луне и солнце изъеденные щербины; припомним, что ежемесячное умаление луны называется ее ущербом. Побеждаемое, гибнущее солнце умалялось, принижало форму серпообразного месяца и как бы из тяжких, нанесенных ему ран проливало драгоценную кровь ("кровавы лучи испущающе" — "обратися в кровь")...
Понятно, что в уменьшении света, как источника всякого плодородия и жизни, язычники должны были видеть зло (смерть) и предвестия грядущих бедствий... Главная эпическая основа "Слова о полку Игореве" заключается в том, что природа и преимущественно солнце шлют Игорю печальные предвещания, которые потом и сбываются: "Тогда Игорь возре на светлое солнце и виде от него тьмою вся своя воя прикрыты (затмение 1185 г.). И рече Игорь к дружине своей: "Братие и дружино! Луце ж бы потяту быти, неже полонену быти" — и в другом месте: "Солнце ему тьмою путь заступаше". Напротив, с увеличением света связывались идеи счастия, добра, изобилия и богатства. Период возрастания луны почитался более благоприятным, нежели время ее убыли; утро счастливее вечера. Под 1143 годом летописи находим такое замечание: "Бысть знамение в солнци — огородись в три дуги и быша другыа три дуги хребты вместо; и сиа знамениа добра велми". Поселяне убеждены, что красные круги около солнца обещают плодородие.
До сих пор еще простолюдины видят в затмениях недобрые знамения. А в старину невегласи даже боялись, чтобы светило не было окончательно пожрано нечистою силою и не погибло навсегда... Мысль о погибели солнца и других светил необходимо возбуждала представление разрушающейся вселенной: погаснут небесные светочи — и вечный мрак и холод обнимет природу, земля оцепенеет и все живое на ней истребится; слово гасить в некоторых областных говорах доныне употребляется в смысле истребить, уничтожить. Игорь заключил с греками вечный мирный договор, "дондеже сияет солнце и весь мир стоит" — выражение, поставляющее бытие мира в зависимость от сияния солнца... Народный русский стих так представляет кончину мира:
Протечет Сион-река огненная, От востока река течет до запада; Пожрет она землю всю и каменье, Древеса и скот, и зверьев, и птицу пернатую. Тогда месяц и солнушко потемнеют От великаго страха и ужаса, И звезды спадут на землю, Спадут оне, яко листья с древов, Тогда же земля вся восколыбается...Вообще следует заметить, что народные предания о Создании и кончине вселенной, о страшном дне суда, аде и рае возникли из древнейших воззрений на природу и ее годичные превращения. Неутолимая жажда человека ведать и безвестное прошедшее, и таинственное будущее нашла для своих гаданий готовые образы и краски в поэтических сказаниях о природе; он только придал этим сказаниям более широкий смысл, нежели какой они имели первоначально, и сделал это не произвольно, а под влиянием метафорических выражений родного языка...
Южнорусы в созвездии Большой Медведицы видят запряженных коней (Воз); черная собака каждую ночь силится перегрызть упряжь и чрез то разрушить весь строй мироздания, но не успевает в своем пагубном деле: перед рассветом побежит она к студенцу, чтобы утолить жажду, а тем временем упряжь снова срастается. Рассказывают и так: есть на небе три сестрицы-зоряницы (вечерняя, полуночная и утренняя), приставленные сторожить пса, который прикован у Малой Медведицы на железную цепь и всячески старается перегрызть ее; когда цепь будет порвана — тогда и кончина мира. В том же созвездии Большой Медведицы болгары усматривают волка, который грозит смертию двум волам, запряженным в повозку. Поверье это известно и между киргизами, которые две звезды Малой Медведицы принимают за пару небесных иноходцев, а семь звезд Большой Медведицы — за караульщиков. Дьявол, в образе волка, давно подстерегает этих иноходцев, и когда удастся ему пожрать их, то караульщики разбегутся и будет представление света. По другому рассказу, в созвездии Большой Медведицы видят киргизы не караульщиков, а семь разбойников или волков, которые гонятся за иноходцами. Всю ночь кони находятся в большой тревоге, но к утру опасность минуется; когда волки настигнут коней, тогда будет конец вселенной. Отождествляя собаку с демоном-волком, фантазия дает ей эпитет черной и заставляет ее действовать во мраке ночи; с утренним рассветом она убегает...
Волк-туча, пожиратель небесных светил, в народных русских сказках носит характеристическое название волка-самоглота; он живет на море на океане (т. е. на небе), добывает сказочному герою гусли-самогуды (метафора грозовой песни), пасть у него — страшная, готовая проглотить всякого супротивника; под хвостом у волка — баня, а в заду — море; если в той бане выпариться, а в том море выкупаться, то станешь молодцем и красавцем, т. е. волк-туча хранит в своей утробе живую воду дождя, с которою нераздельны понятия силы, здоровья и красоты. Согласно с метафорическим названием дождя молоком, этот сказочный волк заменяется иногда молочною рекою с кисельными берегами, которая всех питает и всем дарует красоту и силу... Богатыри народного эпоса, представители молниеносного Перуна, сосут в детстве молоко мифических животных, т. е дождевые тучи. По свидетельству славянской сказки, победители страшного змея — богатыри Валигора и Вырвидуб (прозвания, издревле присвоенные богу-громовнику, как рушителю облачных гор и лесов) были вскормлены зверями: один — львицею, а другой — волчихою. Замечательно, что малорусская сказка заменяет богатыря Вертодуба волком, который "пиляэ хвостом дуби". Чтобы пчелы собирали больше меду, для этого в Калужской губ. советуют класть на пчельник волчью губу: суеверие, возникшее из метафорических названии тучи — волком и дождя — медом.
В баснословных сказаниях о волке-туче находят объяснение некоторые народные обряды и приметы... Вой волков (метафора завывающей бури) почитался вещим и у славян, и у немцев. Если за войском, выступившим в поход, следовали волки, это, по указанию "Эдды", предвещало торжество над врагами, так как появление этих зверей намекало на таинственное присутствие "отца побед" — Одина. По выражению "Слова о полку Игореве", Игорь ведет воинов к Дону, а "волци грозу въсрожат по яругам"; у летописца Нестора записан следующий рассказ: "Идущема же има (на битву), сташа почлегу, и яко бысть полунощи, вставь Боняк, отъеха от вой, и поча выти волчьскы, и волк отвыся ему, и начата волци выти мнози. Боняк же приехав, поведа Давыдови: яко победа ны есть на Угры заутра". В "Сказании о Мамаевом побоище" замечено, что Димитрий Волынец "поим с собою великого князя единого и, выехав на поле Куликово и став посреде обоих полков и обратився на полк татарскый, слышить стук велик и кличь... Съзади же полку татарсьскаго волъци выють грозно велми, по десной же стране... ворони кличущее".
По народной, доныне существующей примете, вой волков предвещает мороз, голод, мор и войну; если волки ходят по полям стаями и воют — это знак будущего неурожая. Понятия победы, торжества над врагами также неразлучны с смелым и хищным волком, как, наоборот, понятия поражения, гибели, неуспеха — с робким и трусливым зайцем. В бурной грозе неслись воинственные боги на битву с демонами и радовали жадных волков и воронов, которые следовали за ними на поле сражения пожирать трупы убитых. Зимние вьюги и разрушительные бури "волчьего времени" порождают неурожаи, голод и мор; те же печальные последствия вызывают и человеческие войны, опустошающие нивы земледельца и водворяющие на земле владычество смерти: вот почему вой волков пророчит не только военные тревоги, но и общее оскудение и повальные болезни. Так как звон принимался за метафору грома, разбивающего темные тучи, то отсюда возникло поверье, что волки, заслышав звон почтового колокольчика, со страхом разбегаются в разные стороны. Для того чтобы волки не трогали домашней скотины, в Новгородской губ. крестьяне бегают вокруг деревень с колокольчиками, причитывая: "Около двора железный тын; чтобы через этот тын не попал ни лютый зверь, ни гад, ни злой человек!" Во время свадебных поездов колдуны, на погубу молодых, бросают на дорогу высушенное волчье сердце; чара эта, по мнению простонародья, заставляет лошадей становиться на дыбы и ломать повозки. Волчья шерсть и волчий хвост употребляются ведьмами в чарах, с целью произвести непогоду.
Не менее значительная роль выпала в преданиях индоевропейских народов на долю свиньи. Как животное, которое роет землю, она явилась символом — во-первых, плуга, бороздящего нивы, и, во-вторых, вихря, взметающего прах по полям и дорогам; а как животное необыкновенно плодучее, свинья поставлена в близкую связь с творческими силами весенней природы. Вместе с тем мифы приписали ей то же влияние на земледелие и урожаи, какое принадлежит грозовым тучам, бурное дыхание которых, подымая пыль и сокрушая деревья, как бы роет землю... Туманы — те же облака, и народная русская загадка называет их сивыми кабанами: "Сивi кабани усе поле залягли". О крутящемся вихре, в котором поселяне видят нечистого духа, в Малороссии говорят, что он "маэ свинячу голову i богато рук"...
Народные приметы ставят свинью в таинственное соотношение с различными атмосферными явлениями: когда стадо свиней бежит с поля с визгом и хрюканьем, когда свинья чешется об угол избы — это считается предвестием дождя и ненастья; если свинья бежит с соломой во рту — это знак приближающейся бури; если свиньи жмутся друг к другу, то следует ожидать мороза...
Скандинавская мифология знает златощетинистого вепря, который напоминает свинку — золотую щетинку наших сказок. Между русскими поселянами сохраняется предание, что свинья прежде была создана не такою, что она имела щетины золотые и серебряные, но как-то упала в грязь и с той поры утратила блеск своих щетин. Это — поэтический образ весенней тучи, озаренной яркими солнечными лучами и сверкающей золотистыми молниями; тот же смысл кроется и в следующем представлении народного эпоса: "За морем стоит гора (море — небо, гора — тучи), а на горе два борова; боровы грызутся, а меж ими сыплется золото да серебро", т. е. тучи сталкиваются, а из них сыплются золотистые молнии. Молния, уподобляемая в мифических сказаниях острию копья и стрелы, в применении к туче-борову казалась его сверкающей щетиною или золотым, блестящим зубом (клыком). Народная загадка, означающая огонь, выражается так: "Дрожит свинка золотая (или острая) щетинка". Острые зубы борова, крысы, мыши, белки и крота, по их белизне и крепости, были сближены с разящею молнией...
По свидетельству Титмара, в славянском городе Ретре был храм, посвященный Сварожичу (Агни); одни из трех ворот этого храма вели к морю и почитались недоступными для входа простых людей; когда городу угрожало какое-нибудь несчастье — из вод шумного моря показывался огромный боров, сверкая своими белыми клыками. Во всех разнообразных олицетворениях тучи зубы служат для обозначения кусающих (разящих) молний... Колдуны, обладающие силою вызывать бури и грозы и превращаться в волков, сохраняют свое чародейное могущество до тех пор, пока не выпадут у них зубы. По народному поверью, вещее слово заговора только тогда достигает цели, когда произнесено заклинателем, у которого все зубы целы. В наших сказках встречается любопытное предание о змеином зубе; подобно волку, змей — демоническое олицетворение тучи. Так как молния наносит смертельные удары, то змеиному зубу присваивается эпитет мертвого. Злая царевна — полюбовница змея, желая извести брата-богатыря, вызвалась поискать у него в голове и запустила ему в волосы змеиный зуб. Богатырь тотчас помер и был зарыт в могилу; но у него была любимая охота — вещие звери: откопали они царевича и стали думать, как бы возвратить его к жизни. Говорит лиса медведю: "Если ты перепрыгнешь через покойника, а сам увернешься от зуба, то и хозяин наш, и ты — оба будете живы!" Косолапый Мишка прыгнул, да не успел увернуться — зуб так и впился в него! Царевич ожил, а медведь ноги протянул. Прыгает через медведя другой зверь и тоже не сумел увернуться: Мишку оживил, а сам упал мертвый. И вот как-то прыгали звери друг за другом, и дошла наконец очередь до лисицы; она всех ловчей, всех увертливей, как прыгнула — зуб не поспел за нею и вонзился в зеленый дуб: в ту же минуту засох дуб отверху и донизу...
Народная сказка о "волшебном кольце" говорит об измене красавицы жены своему мужу; она отдается враждебному королю, уходит в далекие страны и уносит с собою чудесное кольцо, а вместе с ним и богатство и счастье, Чтобы возвратить все это, покинутый муж должен бороться с величайшими затруднениями, но в свое время одолевает их и получает обратно и кольцо, и красавицу жену. Сюжет этот развивается во многих эпических сказаниях, и в основе его таится мысль о временном союзе девы Солнца с летнею природою, о переходе ее во власть враждебной Зимы, когда она изменяет своему законному супругу и предается коварному обольстителю, и о восстановлении с новой весною прежнего благодатного брака. В древнейшей поэзии солнце уподоблялось золотому кольцу; у этого волшебного кольца двенадцать винтов или составов, которые указывают на двенадцать периодов (по числу месяцев, замечаемых в годовом движении солнца). Сказочный герой приобретает кольцо от царя-змея (т. е., возжженное грозовым пламенем, солнце освобождается из-под власти омрачающего его лик облачного демона), но после счастливого времени лета теряет его при наступлении зимы и сам попадает в тесное заточение; похищенное зимними туманами, оно снова возвращается ему благодаря дружным усилиям собаки, кошки и мыши, т. е. не прежде, как весною, когда появляются молниеносные тучи: мышь-молния грызет демока-похитителя и заставляет его выпустить из своих рук драгоценное кольцо, собака-вихрь и кошка-гроза подхватывают сокровище, переплывают морские воды (дождевые тучи) и вместе с кольцом возвращают торжествующему герою свободу и счастье...
Если в доме бегают днем мыши и крысы, это, по мнению простонародья, предвещает пожар. Чье платье будет изъедаю мышами или крысами, тому человеку угрожает беда, болезнь и самая смерть. Мыши дают поселянам приметы о будущих урожаях и ценах на хлеб: если полевая мышь совьет на ниве гнездо высоко, то предвещает неурожай и высокие цены на хлеб, и обратно: низко свитое гнездо обещает низкие цены; если мышь точит ковригу от нижней корки кверху — то хлеб будет дорог, а если от верхней корки вниз — то дешев; изгрызенная средина ковриги указывает на средние цены; когда мыши портят сено — будет худой укос, а когда вылазят из подполья и производят визг — будет голодный год. Рядом с уподоблением разящих молний зубам, хохот служил метафорою грома. Так как смех возбуждает представление об открытом рте и оскаленных зубах, то обе метафоры нераздельно сочетались с мифическим образом демона-тучи: дьявол постоянно насмехается, злобно хохочет и скрежещет зубами; адская бездна изображается колоссальною разинутою пастью с страшными зубами...
В тучах, потемняющих небесный свет, и в крутящихся вихрях древние племена признавали существа демонические; поэтому прожорливой свинье, как воплощению этих стихийных явлений, часто придается в народных сказаниях тот же злобный, враждебный характер, как и хищному волку... Народы арийского происхождения представляли бесов в различных звериных образах и, между прочим, громко хрюкающими свиньями; олицетворяя черта в получеловеческих, полуживотных формах, они давали ему свиной хвост. По указанию наших старинных памятников, нечистые духи ездят на свиньях; так, в летописи (под 1074 годом) сказано: "Виде (старец) единаго (беса) седяща на свиньи, а другыя текуща около его"... "Бог не выдаст, свинья не съест!" — выражается русская пословица, противопоставляя свинью, как бы злого духа, благому, охраняющему божеству. Встреча со свиньею признается за несчастливую примету, на что указывал еще Нестор, осуждавший тех, которые, повстречав свинью, немедленно возвращались домой. Народный эпос рассказывает о борьбе богатыря (Перуна) с демоническими змеями (тучами); в некоторых вариантах чудовищная змея заменяется огромной прожорливой свиньею, причем все другие подробности предания удерживаются без малейших отступлений. Спасаясь от свиньи, богатырь бежит в кузницу, и там "нечистая" свинья, будучи схвачена за язык горячими клещами, погибает под кузнечными молотами — подобно тому как гибнут великаны-тучи под ударами Торова молота (молнии), или по другому сказанию: запряженная в соху, она выпивает целое море и лопается, т. е. гибнет, изливаясь потоками дождя. С таким, враждебным Перуну, демоническим характером свинья по преимуществу являлась как мифическое воплощение зимних туманов и облаков, помрачающих солнечный блеск, посылающих на землю холодные ветры, метели и разрушительные бури; вместе с этим ее острые зубы получили значение мертвящего, всеоцепеняющего влияния зимы. По народному выражению, Зима с гвоздем ходит, оковывает воды и землю и, накладывая на реки и озера ледяные мосты, скрепляет их гвоздями; следовательно, действие и ощущение, производимые морозами, уподобляются опутыванию цепями и уколу острого, крепко прибитого гвоздя. Временное усыпление или зимняя смерть природы происходит от губительного укола Зимы...
Колючие иглы (щетина) кабана сравниваются с острием булавки (иголки, шпильки); народная загадка называет иголку свинкою — золотою спинкою: "Бежит свинка — золотая спинка, носочек стальной, а хвосточек льняной" (нитка). Вместе с этим, булавка в народных сказках служит не только метафорою молниеносной стрелы, но и обладает волшебною силою погружать в непробудный сон и превращать в камень, т. е. уколом своим предавать природу зимней смерти.
У восточных народов свинья была символом ночного мрака и разрушения; солнце, удаляющееся на зиму, принималось за побежденное свиноголовым Тифоном. Тот же мотив развивает и наша сказка о свином чехле, содержание которой составляет общее наследие индоевропейских народов. Героиня сказки, чудная красавица, носит свиной чехол (кожух) и потому не может быть узнана своим суженым; но как скоро одежда эта сброшена и девица показывается в чудесных уборах, блистающих, словно частые звезды, светел месяц, красное солнышко и ясная заря (или: в серебряном, золотом и бриллиантовом платьях и в золотых башмачках), — жених тотчас же пленяется ее прелестями и вступает с нею в торжественный брак. В переводе на общепонятный язык, смысл сказания таков: дева Солнце в зимний период времени облекается в свиную шкуру, т. е. затемняется туманами и лишается своей блестящей красоты (сравним эпическое выражение "красное солнце") и плодотворящей силы. Жених (бог весеннего плодородия) чуждается непривлекательной невесты и гонит ее от себя. В это безотрадное время она находится во власти злой мачехи Зимы и является в печальном виде Замарашки или Чернушки, осужденной на пребывание в подземном царстве (в стране мрака и теней, т. е. за зимними тучами). Уподобление зимы злой мачехе — самый обыкновенный прием в народной поэзии; "Зимнее солнце (говорят малорусы), як мачушине сердце", "Зимнее тепло, як мачушино добро!" Но как только наступающая весна разорвет и снимет с девы Солнца свиной чехол и облечет ее в светлые одежды, она тотчас же предстает в полном блеске, как будто облитая золотом и осыпанная бриллиантами. Народная загадка о заре, расстилаемой заходящим солнцем, выражается метафорически, как о червонном платье: "За лiсом-за пролiсом червоне плаття". Любопытно, что свои блестящие одежды сказочная героиня до поры до времени скрывает в дубе или под камнем, т. е. за мраком туманов, ибо и дуб и камни (скалы) служили метафорами для обозначения этих последних. Облекаясь в весенние наряды, дева Солнце блистает "несказанною и ненаглядною красотою"; жаркими лучами своими она топит льды и снега, или, выражаясь метафорическим языком сказки: оставляет след своей ноги, свой золотой башмачок, в растопленном дегте... Слово деготь принималось за метафорическое название весенних журчащих вод, растопленных лучами ясного солнца, и весеннего дождя, падающего из туч, согретых теми же живительными лучами. Отсюда возникло поверье, что дракон или дьявол (туча), будучи поражен громовою стрелою, разливается смолою, точно так же разливаются черти смолою, как скоро заслышат предрассветное пение петуха: это потому, что крик петуха, предвозвещающий восход дневного светила, служил символом грома, разбивающего темные тучи, за которыми скрыто светозарное солнце. Как метафора "живой воды", деготь, по мнению крестьян, обладает целебною силою: при повальных болезнях советуют держать в избе кадку с дегтем; чтобы предохранить домашнюю скотину от нечистой силы, вешают на хлевах лапти, обмоченные в деготь; во время скотской чумы заболевшим коровам мажут дегтем язык, лоб и крестец. Люди, страждущие куриною слепотою, нагибаясь над дегтярною кадкою, произносят следующий заговор: "Деготь, деготь! Возьми от меня куриную слепоту, а мне дай светлые глазушки". Таким образом ему приписывается то же свойство просветлять зрение (свет), что и утренней росе и весеннему дождю. Злого домового усмиряют метлою, обмоченною в деготь. Когда хотят обесчестить дом, в котором есть целомудренная девушка, то мажут дегтем ворота, по выше объясненной связи любовного акта с пролитием дождя; позднее этот символический обряд стал приниматься в смысле запятнать, замарать чью-нибудь честь. По золотому башмачку, оставленному красавицей, жених узнает свою невесту и в шуме весенней грозы вступает с нею в благодатный брак и рассыпает на землю щедрые дары плодородия...
Мы указали на целый ряд тех животных образов, какие придавались народами арийского происхождения своим стихийным божествам; в следующих главах настоящего труда будут указаны и другие присваивавшиеся им олицетворения. Разнообразие этих представлений послужило источником верований в превращения богов и демонов и вообще в оборотничество. Одно и то же явление природы, в глазах древних поэтов, могло принимать различные, много изменчивые формы, роднившие его со зверями, птицами, гадами, рыбами и даже неодушевленными предметами. Ярко блистающие на чистом небосклоне светила рисовались фантазии совершенно в иных образах, нежели светила, омраченные тучами; золотистая молния представлялась и отдельно от темной тучи (как сила, враждебная ей), и слитно с нею (как пламя, кроющееся в ее недрах), и согласно с тем или другим воззрением изменялись и образы, придаваемые владыке небесных гроз. Не только боги и нечистые духи, но и колдуны и ведьмы, по связи их со стихийными явлениями, силою доступных им чар и заклинаний могут преображаться в разные виды. На таком веровании, широко распространенном почти у всех народов, создалось множество интересных эпических сказаний. Мы остановим внимание на одной народной сказке, замечательной свежестью поэтических красок. Содержание ее следующее: отдает старик сына в науку к колдуну или к самому черту, и тот научает его волшебному искусству превращений. Воротившись к отцу, сын оборачивается то птицею соколом, то борзою собакою, то жеребцом и заставляет продавать себя за дорогую цену; на беду, покупает коня хитрый колдун и держит его в крепкой неволе. Раз как-то удалось жеребцу сбросить узду, и пустился он спасаться бегством, а колдун тотчас за ним в погоню. Начинается длинный ряд превращений: жеребец оборачивается гончим псом, колдун преследует его в виде хищного волка; пес перекидывается медведем, волк — львом; медведь превращается белым лебедем, а лев за ним ясным соколом: вот-вот ударит! Видит лебедь: река течет, упал прямо в воду, обернулся ершом — ощетинился, а сокол сделался щукою и гонится за бедною рыбкою. Ерш выскочил из воды и покатился кольцом прямо к ногам царевны, что стояла на берегу и мыла белье. Царевна подняла кольцо и надела на пальчик: день ходит с кольцом, а ночь спит с молодцом. Но вот является во дворец колдун и требует возвратить ему потерянное кольцо. Царевна бросает колечко наземь, и оно рассыпается мелкими зернами. Колдун оборачивается петухом и начинает клевать зерна, а тем временем одно семечко, что укрывалось под башмаком царевны, превратилось в ястреба: налетел ястреб на петуха, убил врага и развеял пух его и перья по воздуху. Сказка эта известна у весьма многих народов, что доказывает ее глубокую древность. Ряд превращений, совершаемых двумя враждебными лицами, из которых каждое хочет пересилить противника, так мотивирован в кельтском предании о Корыдвене и Церыдвене. Чародейка Корыдвена собрала зелья, таинственные свойства которых только ей одной были ведомы, и заставила карлика, Гвиона, сварить волшебный напиток. Долго приготовлялось это снадобье; наконец брызнула закипевшая влага, и на палец карлика попали три горячие капли. Сильная боль заставила его сунуть обожженный палец в рот, и в ту же минуту, как только коснулись его уст чудесные капли, перед ним открылось все будущее. Опасаясь гнева Корыдвены, он бросился со всех ног бежать. Между тем чаша, в которой варилось снадобье, распалась на куски. В назначенную пору явилась чародейка, увидела черепки и пустилась за беглецом. Карлик узнал про то вещим духом и оборотился в зайца, а Корыдвена сделалась хортом и гнала за ним до реки. Здесь заяц обернулся рыбою и вскочил в реку, а чародейка перекинулась выдрою и продолжала преследовать его под водою. Но вот карлик увидел в стороне насыпанную кучу пшеницы, оборотился в зернышко, упал в кучу и смешался с другими зернами; а волшебница тотчас же превратилась в черную курицу и стала клевать пшеницу и т. д. В такой оживленной поэтической картине изображает миф весеннюю грозу: малютка-молния вступает в распрю с демоном туч, и как последний хочет поглотить первую — так эта стремится от него скрыться, и сама, одеваясь в облачные покровы, принимает изменчивые образы, пока не успеет окончательно поразить своего противника...
Огонь
В земном огне древнейшие арийский племена видели стихию, родственную с небесным пламенем грозы: огонь, разведенный на домашнем очаге, точно так же прогоняет нечистую силу тьмы и холода и уготовляет насущную пищу, как и молнии, разбивающие темные тучи, дарующие земле теплые и ясные весенние дни и урожаи; и тот и другие равно наказуют пожарами. Такое сходство их существенных признаков отразилось и в языке, и в мифе. Одним из прозваний бога-громовиика в "Ведах" было Агни — наше огонь — имя, в котором впоследствии стали видеть самостоятельное, отдельное от Индры божество огня. В гимнах "Ригведы" златозубый и златобородый Агни призывается как бог грозового пламени; ему присваиваются блестящие молнии и громкомычащие черные коровы (тучи); он разит и пожирает злых демонов, в виде златовласой змеи (молнии) отверзает небо и низводит дождевые потоки; по быстроте его сравнивают с вихрем, по блеску — с сиянием утренней зари. И Индра и Агни одинаково олицетворялись в образе сильного быка и одинаково назывались водорожденными — сыновьями или внуками воды, т. е. дождевого облака...
Славяне называли огонь Сварожичем, сыном неба — Сварога. Об этом божестве находим такое свидетельство Титмара, епископа Мерзебургского: "В земле редарей есть город по имени Редигост (Редигаст), треугольный, с тремя воротами, окруженный со всех сторон лесом огромным и священным для жителей. В двое ворот могли входить все, а третьи, что на востоке, меньшие и никому не доступные, ведут к морю. В городе нет ничего, кроме храма, искусно построенного из дерева... Стены его извне украшены чудесною резьбой, представляющей образы богов и богинь. Внутри же стоят рукотворные боги, страшно одетые в шлемы и панцири; на каждом нарезано его имя. Главный из них Сварожич; все язычники чтут его и поклоняются ему более прочих богов". Тут же хранятся и священные знамена. По мнению Срезневского[119], тот же самый храм, только позднее и, может быть — перестроенный, описывают Адам Бременский[120] и Гельмольд. У первого читаем: "Знаменитый город редарей; Ретра — столица идолопоклонства; в нем воздвигнут большой храм богам, из которых главный Редигаст. В городе девять ворот, и окружен он со всех сторон глубоким озером; входят в него по деревянному мосту, но это позволяется только тем, которые желают принести жертву или получить ответ"... Имя Радигост до сих пор остается необъясненным; оно, очевидно, сложное и первою половиною своею стоит в сродстве с названием радуница (радоница, радовница) — праздник обновляющейся весною природы, издревле получивший значение времени, посвященного чествованию усопших; ибо с воскресением природы от зимней смерти соединялась мысль о пробуждении умерших, об освобождении их из мрачных затворов ада. Корень рад означает блестящий, просветленный...
От понятия о пришельце, посетителе, слово гость перешло к обозначению всякого чужеродца, иноземца и торгового человека: на Руси первостепенных купцов называли в старину гостями (гостиный двор, гостинец — большая проезжая дорога). Радигост, следовательно, молниеносный бог, убийца и пожиратель туч (небесных коров), и вместе светозарный гость, являющийся с возвратом весны. Земной огонь, как то же пламя, которое возжигается Перуном в облаках, признавался сыном Неба, низведенным долу, в дар смертным, быстролетною, падающею с воздушных высот молниею, и потому с ним также соединялась идея почетного божественного гостя, пришельца с небес на землю. Русские поселяне доселе чествуют его именем гостя. Вместе с этим он получил характер бога — сберегателя всякого иноплеменника (гостя), явившегося в чужой дом и отдавшегося под защиту местных пенатов (т. е. очага), бога — покровителя приехавших из дальних стран купцов и вообще торговли...
Древнейший способ добывания огня у индийцев, персов, греков, германцев и литовско-славянских племен был следующий: брали обрубок из мягкого дерева, делали в нем отверстие и, вставляя туда твердый сук, обвитый сухими травами, веревкою или паклею, вращали до тех пор, пока не появлялось от трения пламя; вместо деревянного обрубка употреблялась и втулка от старого колеса. Так как гроза, разбивая мрачные тучи, выводит из них ясное солнце и как бы возвращает ему свет, то отсюда естественно возникла мысль, что бог-громовник возжигает светильник весеннего солнца, потушенный демонами зимы и мрака. Тот же способ добывания огня, к которому привык человек в своем быту, виделся ему и в небе: в глубочайшей древности создалось верование, что бог-громовник вращает, как бурав, свою молниеносную палицу в ступице колеса солнца или в дереве-туче и чрез то вызывает пламя грозы. Рядом с этим, из представления души — горящим светочем, из связи весенних гроз с идеею оплодотворения и наконец из того уподобления, какое проводила фантазия между добыванием огня через трение и актом соития и между дождем и плотским семенем, возникли сказания, что первый человек создан и низошел в этом мире в молнии и что им-то принесен огонь с неба на землю. Стремительная, "окрыленная" молния олицетворялась обыкновенно в образе быстролетных птиц орла и сокола; тот же образ придавался и богу Агни; отсюда — миф, что златокрылый сокол ели сам Aгни в виде этой птицы принес на землю искру небесного пламени...
В те дни, когда выезжают унаваживать и пахать землю, крестьяне ни за что не дают из своего дома огня; они убеждены, что у того, кто ссудит чужого человека огнем, хлеб не уродится, и наоборот — у того, кто выпросит себе огня, урожай будет хороший. И во всякое другое время крестьяне неохотно дают огонь, опасаясь неурожая и скотского падежа; если же и дадут, то не иначе как с условием, чтобы взятые горячие уголья, по разведении огня в доме, были немедленно возвращены назад. Кто никогда не отказывает своим соседям в горячих угольях, у того отымется счастие, и хлеб в поле не простоит без потравы. Чтобы очистить просо от сорных трав и предохранить от порчи, все зерна, назначенные к посеву, перепускаются через поломя, т. е. сквозь дым зажженной соломы, или перед самым началом посева вкидывают горсть проса в огонь и верят, что оно уродится "чистое, як золото". Болгары, выезжая пахать или сеять, посыпают около повозки пеплом и горячими угольями. Итак, огонь — божество, творящее урожаи; погашение его и отдача в чужой дом — знак бесплодия и перехода изобилия в посторонние руки. Когда пекут хлебы, то наблюдают: куда наклонятся они головами (верхушками): если внутрь печи — это предвещает прибыль, а если к устью (к выходу) — убыток...
Вследствие естественных, физиологических условий, определивших первоначальное развитие младенческих племен, славянин по преимуществу был добрым и домовитым семьянином. В кругу семьи или рода (который был той же семьею, только разросшеюся) проходила вся его жизнь, со всем ее обиходом и родственными торжествами; в ней сосредоточивались самые живые его интересы и хранились самые заветные предания и верования: "Имяху бо закон отец своих и преданья". Свидетельствуя о древнейшем быте славян, Нестор говорит, что они жили родами: каждый род на своем месте — особе, т. е. разъединенно. Отдельный род представлялся сожитием вместе нескольких семей, связанных кровными узами родства и властью одного родоначальника. Поздние остатки такого патриархального быта до сих пор встречаются в некоторых славянских племенах, мало или вовсе не испытавших влияния цивилизации. Родичи помещались в одной избе или, если слишком размножались — в нескольких холодных срубах (клетях), построенных вблизи теплой избы и даже примкнутых к ее стенам. Во всяком случае очаг оставался единый для всех, а приготовляемая на нем пища составляла общую трапезу. Явление это весьма знаменательно. В отдаленное время язычества огонь, разведенный под домашним кровом, почитался божеством, охраняющим обилие дома, мир и счастье всех членов рода; вокруг него созидалась семейная жизнь. От огня, возжигаемого на очаге, обожание должно было перейти и на этот последний: оба эти понятия действительно слились в одно представление родового пената. Каждый род имел своего пената, которым был единый для всех очаг — знамение духовного и материального единства живущих при нем родичей. Если же род делался слишком велик и распадался на части, то такое раздробление видимым образом выражалось в устройстве нового, особого очага; одно или несколько семейств, отрешаясь от главного рода, выселялись на другое место и основывали свое собственное жилье, свой отдельный очаг... У славян при самом сватовстве невесты считают необходимым обращаться к ее семейному очагу и, так сказать — от него получать разрешение на вывод избранной девицы. По болгарскому обычаю, сват, вступив в избу невесты, прежде всего загребает в печи уголья, почему и узнают о цели его посещения. На Руси сваха, приходя с брачным предложением к родителям невесты, подступает к печи и, в какое бы время года это ни случилось — греет свои руки, чтобы задуманное дело пошло на лад, и затем уже начинает самое сватовство; в Курской губ. сват берется рукою за печной столб. В Малороссии, когда идут переговоры о сватовстве, невеста садится у печки и колупает глину, выражая тем свое желание выйти замуж. В Черниговской губ. она влезает на печь, а сваты упрашивают ее сойти вниз; если она спустится с печи, то этим выразит свое согласие на брак, т. е. заявит свою готовность покинуть семейный очаг и перейти в дом жениха. У сербов молодая, по возвращении от венца, обходит трижды кругом очага и каждый раз, приостанавливаясь, берет в руки зажженное полено и потрясает им, так что сыплются искры; после того свекровь обвязывает ее поясом, который служит символическим знаком прикрепления ее к новому роду. Соответствующий на Руси обычай требует, чтобы новобрачная, вступая в дом мужа, бросала пояс на печь, т. е. вверяла бы эту эмблему супружеских уз защите очага. У чехов невеста и служанка, вступая в новый дом, должны поклониться его очагу; первая обязана бросить в огонь три волоса из своей косы, а последняя заглянуть в дымовую трубу и посыпать свои ноги пеплом. Заговоры на любовь, по свидетельству народной былины, были произносимы перед затопленной печью: "Как жарко дрова разгораются, так разгоралось бы по мне сердце молодецкое!" В Тверской губ. на другой день свадьбы ездят по улицам ряженые с помелом и печною заслонкою; а в Курской губ. перед началом сватовства отец жениха или избранный им сват связывает кочергу с помелом, чтобы дело пошло на лад и связался предполагаемый союз: кочерга — эмблема молниеносной палицы бога Агни, помело — вихря, раздувающего грозовое пламя. Отголосок древнейшего верования, что дети суть плод благодатного влияния Агни, слышится в сербской эпической формуле, которою выражается мать о своем ребенке: "Moje благо у пепелу расте!" О стариках, у которых родятся дети, белорусы отзываются: "И в старой печи огонь хорошо гориць". Желая остановить нескромные речи в присутствии детей, они замечают рассказчику: "Печь у хаце!"
В Малороссии о счастливых людях говорят: "У печурце родився!" По мнению белорусских крестьян, если при самом рождении ребенка нечаянно погаснет огонь — это знак, что новорожденный будет злодеем (разбойником). В Курской губ. купленную корову хозяйка в первый день, по приводе ее на двор, кормит хлебом-солью на печной заслонке. Когда кто-нибудь из членов семьи отправляется в дорогу, то при самом выходе его со двора открывают в печи заслонку, а в избе двери, для того чтобы он с успехом совершил предпринятую поездку и счастливо воротился домой: теплое влияние очага как бы следует за странником и оберегает его в чужой стороне, и родное жилище всегда готово принять его в растворенные двери (Нижегор. губ.)...
Огонь на домашнем очаге можно поддерживать только приношением ему разных сгораемых материалов; пожирая их, он живет, но тотчас же погасает (умирает), как скоро они превратятся в пепел. Так сама собою, простым и естественным путем, возникла жертва огню. Что у славян были жертвоприношения очагу — это прямо можно допустить, зная существование их у других народов индоевропейской семьи; но, сверх того, мы можем указать на свидетельства преданий и старинных обрядов. У чехов в обычае — от каждой яствы полагать часть в огонь; пренебрежение этою обязанностью влечет за собою опасность пострадать от огня; когда пекут хлебы из новой ржи, то в разведенное пламя бросают кусок теста, дабы не пригорел ни один хлеб. Чтобы предохранить дом от пожара, в Каринтии кормят огонь, т. е. бросают в затопленную печь свиное сало и другие яства. Истрийские славяне кормят возжженный на Иванов день чурбан, обсыпая его хлебными зернами. При зимнем повороте солнца сербы зажигают в домашней печи дубовый обрубок (бадняк), а в разведенное пламя бросают деньги, сыплют хлебные зерна, муку и соль, льют вино и масло и молят о плодородии в стадах и жатвах и изобилии в доме. Ударяя кочергою по горящему полену, они приговаривают: "Сколько искр, столько бы коров, коней, коз, овец, свиней, ульев, счастья и удачи!" Возжжение бадняка известно и в Черногории, и у болгар, и везде оно сопровождается семейным пиршеством; у нас же уцелела только обрядовая трапеза, совершаемая накануне рождества, по окончании которой выносят на двор опорожненные горшки и разбивают их об землю, чтобы прогнать из дому всякий недостаток. Сходно с сейчас указанным сербским причитанием, в Архангельской губ. в заключение свадебного стола, когда будет съедена каша, кидают пустой горшок в печь, с приговором: "Сколько черепья, столько молодым ребят!"...
Поклонением очагу легко объясняется и славянское гостеприимство. Всякий странник, иноплеменник, входя под кров известного дома, вступал под защиту его пенатов; садясь подле очага, отдаваясь под охрану разведенного на нем огня, он тем самым делался как бы членом семейства, — подобно тому как невеста, приводимая в дом жениха, только тогда сопричислялась к его родственному союзу, когда трижды обходила вокруг затопленной печи. "Кто сидел на печи, — говорит русский простолюдин, — тот уже не гость, а свой". Не принять странника, обидеть гостя значило: нарушить уважение к святыне очага и к кровным, семейным связям — грех самый ужасный по понятиям патриархально воспитанного человека...
С культом домашнего очага теснейшими узами связывалось поклонение душам усопших предков. По верованию, общему всем арийским племенам, души умерших представлялись существами стихийными — духами, шествующими в грозовых тучах, как быстро мелькающие огни (молнии) или дующие ветры. Рядом с этим создание первой четы людей приписывалось мифом богу-громовнику: он призвал их к бытию (возжег в них пламя жизни, вдунул бессмертное дыхание), даровал им силу плодородия и таким образом положил основание семье, роду и племени. В этих воззрениях, принадлежащих глубочайшей древности, кроется объяснение, почему души усопших предков сливались для потомков с священного стихиею домашнего огня, почему домовой ¦—¦ представитель очага — принимался за праотца — основателя рода и чествовался именем деда. В сущности и миф о происхождении огня, и сказание о начале человеческого рода были тождественны: бог-громовержец (Агни) послал с неба молнию, возжег ею на земле огонь и устроил первый очаг: в том же молниеносном пламени он низвел на землю и душу первого человека, водворил его при очаге и установил семейный союз, домохозяйство и жертвенный обряд. Значение священного огня и домовладыки в среде семьи, рода, под сенью прародительского крова было до такой степени равносильно, что возведение праотцев в домовые пенаты было самым необходимым и естественным результатом нравственных убеждений человека. Огонь на очаге был признан за семейное, родовое божество, которое охраняло счастье дома и родичей, умножало их имущество и устрояло внутренний порядок; то же охранение семейного мира и благосостояния, те же заботы о домочадцах, верховная власть над ними и хозяйственный надзор принадлежали старшему в роде. Название жреца равно присвоялось и огню, и родоначальнику, обязанному служить при его жертвеннике. Умирая, предки не покидали потомков совершенно, не разрывали с ними связей окончательно; они только сбрасывали с себя телесные формы, сопричитались к стихийным духам и как гении-хранители продолжали незримо следить за своими потомками, блюсти их выгоды и помогать им в житейских невзгодах. У нашего простонародья принято покойников называть родителями, и название это употребляется даже и тогда, когда вспоминают об умерших детях. На связь усопших с домашним очагом указывает следующее поверье: в Нижегородской губ. не дозволяется разбивать кочергою головешек в печи — на том основании, будто бы через это "родители" проваливаются в пекло. Поселяне убеждены, что покойники в вознаграждение за поминки, совершаемые в их честь, ниспосылают на дома своих родичей навеки нерушимое благословение. В Пензенской и Саратовской губ., между мордовским населением, сохранился весьма знаменательный обряд: там родственники приносят умершему яйца, масло, деньги и при этом говорят: вот тебе, Семен (имя покойника), на! это принесла тебе Марфа (хозяйка), береги у нее скотину и хлеб; когда я буду жать, корми цыплят и гляди за домом. Таким образом на усопшего возлагаются те же заботы, какие присвоены и деду-домовому. Белорусы называют покойников дзеды, поляки — дзяды; а в горах Галиции рассказывают о дедъках, обитающих у семейного очага (на припечке), как о домовых, которые принимают постоянное участие в хозяйстве. Чехи до XIV столетья под именем dedy, dedky разумели домашних богов, и теперь еще многие верят, что didky оберегают поля, стерегут скотину, помогают на охоте и в рыбной ловле; за нарушение с ними договора они гневаются и подымают в доме беспокойный шум. Другое название, даваемое им — хозяева, домовладыки. По чешскому поверью, умерший хозяин, тотчас после похорон, обходит по ночам свой дом и заботливо присматривает, чтобы не случилось какой беды с его наследниками. У черногорцев ведогони — не только души усопших, но и домовые гении, оберегающие жилье и имущество своих кровных родичей от нападения воров и чужеродных ведогоней...
В типическом образе домового соединены все главные, характерные черты домовитого хозяина-патриарха. Он — самое старшее и почетное лицо в семье домовладельца, к которой и принадлежит по восходящей линии, как праотец (дед), положивший основание очагу и собранному под единый кров союзу родичей: эта родственная связь для первобытных племен нисколько не казалась искусственною, напротив — ей глубоко верили, ее чувствовали. Собственно обладателем дома, верховным в нем распорядителем признавался дед-домовой; а настоящий, обретающийся в живых, глава рода был не более как его представитель — владыка, поставленный, по старинному выражению, вместо старшего. Оттого на Руси домового прямо называют хозяин, хозяинушка, и даже существует убеждение, что домовой всегда "словно вылит в хозяина дома" — так на него похож! Он обыкновенно носит и хозяйскую одежу, но всякий раз успевает положить ее на место, как скоро она понадобится набольшему в семействе. В самом деле, домовой есть идеал хозяина, как его понимает русский человек: он видит всякую мелочь, неустанно хлопочет и заботится, чтобы все было в порядке и наготове — здесь подсобит работнику, там поправит его промах; по ночам слышно, как он стучит и хлопает за разными поделками; ему приятен приплод домашних птиц и животных; он не терпит излишних расходов и сердится за них — словом, домовой склонен к труду, кропотлив и расчетлив. Если ему жилье по душе придется, то он служит домочадцам и их старейшине, ровно в кабалу пошел: смотрит за всем домом и двором "пуще хозяйского глаза", блюдет семейные интересы и радеет об имущество "пуще заботливого мужика", охраняет лошадей, коров, овец, коз и свиней. Будучи бережлив и расчетлив, домовой не считает грехом таскать из чужих сеновалов и закромов корм для своей скотины. Он надзирает и за домашнею птицею (особенно курами), за овином, огородами, конюшнею, хлевом и амбарами. Когда водяному приносят в жертву гуся, то наперед отрывают гусиную голову и приносят на птичий двор: там вешают ее для того, чтобы домовой не узнал в гусях убыли и не рассердился. Домовой не дает и лешему потешиться в хозяйском саду, и ведьме не позволяет задаивать хозяйских коров; он устраняет всякий убыток и противодействует замыслам нечистой силы. Мужику, который сумеет угодить домовому, удача за удачею: покупает он дешевле всех, продает с прибылью, рожь его цветет невредимо — в то самое время, как у соседей побита градом и т. д. Домовой сочувствует и семейной радости, и семейному горю. Когда умирает кто-нибудь из домочадцев, он воет ночью, выражая тем свою непритворную печаль; смерть самого хозяина он предвещает тяжелыми вздохами, плачем или тем, что, садясь за его работу, покрывает свою голову шапкою. Перед чумой, пожаром и войною домовые выходят из села и воют на выгонах. Если идет нежданная беда — домовой извещает о ее приближении стуком, ночными поездками, истомляющими лошадей, и приказом сторожевым собакам рыть среди двора ямы и выть на всю деревню. Желая предупредить сонного хозяина о каком-нибудь несчастье, например о начале пожара или о воре, который забрался на двор, домовой толкает его и будит. Деятельность домового ограничивается владениями той семьи, с которою связан он священными узами родства и культа; он заботится только о своем доме, о своем дворе, и потому его называют домовым или дворовым: в этих названиях указывается пространство, в пределах которого чтится его власть и приносятся ему жертвы. Кроме того, его называют: а) жировик (от глагола жить; жира — привольное, богатое житье), т. е. дух, обитающий в человеческом жилище и наделяющий его изобилием и довольством; б) клецьник (белорус.) — хранитель домовых клетей и кладовых.
Сделанные нами выводы подтверждаются еще следующими соображениями. В народных русских преданиях и заклятиях уцелело воспоминание о древнем мифическом существе Чуре. В санскрите cur означает: жечь; слову этому в русском языке соответствует: курить (звуки ч и к в славянских наречиях взаимно сменяются: чадить и кадить, почить и покой и т. п.). От сиг образовались слова: чурка, чурак (чурбак, чурбан) — обрубок дерева, толстое полено, с помощью которого возжигается на домашнем очаге огонь, подобно тому как палица (палка) стоит в связи с глаголом палить, а жезл с глаголом жечь. Чур — это одно из древнейших названий, какое давалось домовому пенату, т. е. пылающему на очаге огню, охранителю родового достояния. Белорусы до сих пор рассказывают, что у каждого хозяина есть свой Чур — бог, оберегающий границы его поземельных владений; на межах своих участков они насыпают земляные бугры, огораживая их частоколом, и такого бугра никто не посмеет разрыть из опасения разгневать божество. Очаг и теплая изба прикрепили человека к земле, сделали его оседлым и создали понятие поземельной собственности. Каждая семья, имея своих богов и свой культ, должна была владеть и отдельным домом, пользоваться отдельным участком земли. Это жилище и поле, обрабатываемое родичами, со всех сторон облегала порубежная полоса, которая считалась неприкосновенною; никто не мог переступить ее своевольно. В определенные дни глава семейства обходил по этой черте, гоня перед собою жертвенных животных, пел гимны и приносил дары; здесь же, в некотором расстоянии друг от друга, ставились крупные камни или древесные стволы, носившие название термов. В яму, в которой утверждался терм, клали горячие угли, хлебные зерна, караваи, плоды, лили мед и вино. Римляне, при постройке города, запрягали в плуг тельца и юницу и обводили кругом глубокую борозду, которая должна была означать границу города; в том месте, где следовало быть воротам, подымали плуг и борозды не проводили. Кто входил в город не воротами, а перелезал через ров и стену, тот подвергался смертной казни. По общему убеждению индоевропейских народов, межа была священною чертою; межевые столбы и камни, поставляемые для разграничения имений, служили вещественными, символическими знамениями владычества родовых пенатов и наглядно для всех указывали на рубеж, начиная с которого земля, со всеми ее угодьями и постройками, находилась под их покровительством и охраною. Деревянный столб (чурбан) был принимаем за воплощение Агни, так как в нем таится живой огонь, добываемый трением, и так как деревом питается священное пламя очага; камень же — символ небесного пламени, которое возжег бог-громовник своим каменным молотом и низвел на очаг в виде молнии. Чтобы захватить чужое поле, надо наперед изменить рубеж, низвергнуть охраняющее его божество. Такое святотатство подвергало виновного жестокой каре: "Его дом (говорит этрусский[121] закон) исчезнет, его племя угаснет; земля не будет приносить ему плодов; град, ржа и небесные молнии истребят его жатвы; члены его покроются язвами и иссохнут". Приобретая землю, германцы бросали на нее молот и таким образом освящали право на поземельную собственность. По немецкому поверью, люди, которые не уважают святости границ, передвигают межевые камни и хозяйничают на чужих нивах, подвергаются за то проклятию, и по смерти души их блуждают по воздуху, без пристанища. По мнению чехов, тот, кто повреждает у соседей межевые камни, по смерти своей осуждается таскать тяжелый камень, или душа его, не обретая нигде покоя, носится по полям блуждающим огоньком.
От тесных стен избы и двора охранительная власть домового распространилась на весь поземельный надел, принадлежащий роду; Чур, по белорусскому преданию, оберегает поля и пашни, состоящие в определенной меже. В народных заклятиях доселе призывается имя Чура, и хотя это большею частью делается бессознательно, тем не менее они важны, как любопытные обломки незапамятной старины. Заклятия: "Чур меня!", "Чур наше место свято!" — произносятся при рассказах о злых духах, при совершении гаданий и волшебных чар; сила этих слов заключается в призыве светлого, дружелюбного божества, присутствие которого заставляет удаляться демонов мрака. Место, где показывается Чур, получает таинственное освящение, и потому за черту родовых владений, находящихся под его охраною, не дерзают переступать враждебные духи. Приступая к гаданиям, к добыванию подземного клада и в других случаях, когда можно опасаться дьявольского наваждения, необходимо обвести себя круговою линией; линия эта очерчивается зажженною лучиною или восковою свечою при обычном воззвании к Чуру ("Чур! наше место свято") и служит самою надежною оградою от злобы демонов. Поэтому глагол чураться в областных говорах значит не только "клясться Чуром", но и "очерчиваться" (в переносном смысле: удаляться, отстраняться от кого-нибудь); а слово чур получило значение проведенной черты (межи), как это очевидно из наречия черес-чур и пословицы: "Через чур и конь не ступит"; в Тверской губ. чура — стой! не трогай! Белорусское заклятие: "Чур табе на язык!" (то же, что выражение: "Типун тебе!") и малороссийское: "Цур тoбi, пек тобi!" состоят в призвании карающей силы огня на язык насмешника, ругателя или на голову обидчика; интересно сопоставление слова пек (от глагола печь, пеку) с словом чур, как речений синонимических, тождественных по значению. Согласно со своим основным характером, Чур является в заклинаниях и божеством, освящающим право сообственности: "Чур пополам!", "Чур вместе, или одному!", "Чур мое!" — восклицания, которые обыкновенно раздаются при нечаянной находке чего-нибудь двумя или несколькими спутниками, смотря по желанию их разделить найденное или овладеть им без раздела. Понятие собственности у народов первобытных было нераздельно с представлением очага; о частной собственности не знали, всем имуществом владел род сообща, который (как лицо юридическое) и был настоящим собственником, или, говоря строже — собственником было божество домашнего огня: в нем, с одной стороны, видели источник всякого богатства, начало всякого приобретения, а с другой стороны, чтили в нем представителя родственного единства, старейшего праотца. Такое сочетание различных понятий запечатлелось и в слове чур; ибо другая форма его щур, сохранившаяся в названии пра-щур, указывает на предка — основателя рода...
Земля, в которой покоились мертвые, признавалась священною, недоступною чужеродцам и не подлежала отчуждению. По свидетельству Нестора, славяне-язычники сожигали мертвых, а пепел их собирали в малые сосуды и ставили "на столпе на путех", т. е. ставили погребальные урны на пограничных термах, возле дороги, ведущей в родовое владение при самом входе в него. Потому только тот и мог пользоваться плодами общего, наследственного имущества, соучаствовать в его обладании, кто в качестве члена известного рода состоял под защитою домашнего очага и принимал участие в семейных жертвоприношениях и молитвах...
Про домового рассказывают на Руси, что он иногда дозволяет себе проказы без всякой видимой причины, единственно вследствие своего шаловливого нрава; но в таком случае достаточно его "оговорить" — и все пойдет хорошо. Так, в одном доме он бил кошек, бросая в них чем попадя. Раз ухватил он кошку и швырнул ее наземь, а баба тем часом и оговорила: "Зачем бросаешь? разве это хозяйство? нам без кошки прожить нельзя; хорош, хозяин!" С той поры домовой перестал трогать кошек. Или еще рассказ: однажды увидел хозяин, как домовой гоняет по двору на пегашке, да так-то борзо гоняет, ажио в мыле сердечная! "А зачем лошадей заезжаешь? кто тебя просил! " — оговорил мужик; вместо ответа домовой пустил в него поленом — и откуда взялось оно! — а все-таки перестал с того Бремени мучить пегашку (Воронеж, губ.). Если же домовой бывает чем-нибурь разгневан (напр., несогласием и бранью в семье, покупкою лошади неидущей ко двору масти и т. п.), то он принимается в своих собственных владениях за те же проделки, как и чужой домовой. Поэтому его называют шут, облом и садолом; названия эти придаются и черту...
Вода
Дожденосные тучи, посылающие на землю свои благодатные ливни, представлялись первобытному племени ариев небесными источниками и колодцами: метафора эта так проста, так естественна, что она невольно возникала в уме и вела к отождествлению блуждающих в поднебесье облаков с земными ключами. Слово колодец употребляется в "Ведах" для обозначения облака. Как вместилища живительного, неиссякаемого дождя, который сколько ни проливается на поля и нивы, но всегда собирается в новых испарениях, облачные источники заключали в себе бессмертную, всемолодящую влагу (амриту). Вместе с этим скученные массы туч, объемлющих собою весь небесный свод, а потом и самое небо, как широкая, беспредельная арена, по которой они постоянно носятся, приняты были за великое хранилище вод и названы воздушным (висящим над головами смертных) океаном. Праотцы индоевропейских народов, за 5 или за 6 тыс. лет до настоящего времени, жили в Центральной Азии между высокою цепью Гималаев и большим средиземным морем (Каспийским, которое в глубочайшей древности распространялось гораздо далее на восток и соединялось с Аральским озером), откуда впоследствии южные отрасли населения двинулись в Индию, а северные потянули на северо-запад по направлению к Малой Азии и Европе. Еще в первоначальной родине своей арии познакомились с кораблестроением и мореплаванием и потому легко могли уподобить небо — морю, а ходячие облака — плавающим по нем кораблям. Представления эти удержались и у славян. Чехи до сих пор туман или мглу около месяца называют студенцом. В народных русских заговорах "океан-море" означает небо, что очевидно из той обстановки, в какой употребляется это выражение; так, в одном заговоре читаем: "Посреди окиан-моря выходила туча грозная с буйными ветрами, что ветрами северными, подымалась мятель, со снегами". Украинская загадка выражается о солнце: "Серед моря-моря (неба) стоить червона коморя". Под влиянием означенной метафоры и согласно с тем наглядным впечатлением, по которому небесный свод представляется обнимающим землю, родилось убеждение, что земля "утверждена на водах", что поверхность ее есть большой круг и что ее со всех сторон обтекает кольцом пространный океан. Так думали в Гомерово время греки, так думали и другие народы. В Стихе о Голубиной книге сказано: "Океан-море всем морям мати: окинуло то море весь белый свет, обошло то море окол всей земли, всей подвселенныя"...
У славян и литовцев солнце представлялось прекрасною богинею, которая ездила по небесному своду в золотой колеснице; утружденная дневным путешествием, запыленная земным прахом, она вечером погружалась в морскую купальню и поутру снова являлась ясною, светлоликою, исполненною свежих сил. По свидетельству литовской песни, две звезды Денница и Вечерница, отождествляемые в преданиях с утренней и вечерней зорями, прислуживали богине, и Вечерница подавала ей воду для омовения. У малорусов существует поговорка: "Солнце ся в море купаэ". В народных русских сказках часто выводится героиней дева Заря или восходящее Солнце; ее называют Ненаглядной Красотою или царевною — золотой косой, непокрытой красой; она живет в золотом царстве, на конце света белого — там, где ясное солнышко из моря подымается, и сама плавает по морю в серебряной лодочке, гребя золотым веслом. В одной сказке ей придано название Марьи Моревны, т. е. дочери моря. Море, из недр которого как бы нарождается восходящее поутру юное солнце, представляется и у других славян матерью дневного светила; когда ввечеру возвращается оно домой, мать принимает его в свои объятия и успокаивает сном на своих коленях...
В прекрасном образе Морской царевны или Царь-девицы народные сказки сочетают представления о богине Заре и богинегромовнице. Далеко — в стране вечного лета, в золотом дворце Царь-девицы, под ее изголовьем — хранится живая вода, или, по другому сказанию, вода эта точится с ее белых рук и ног; путь в страну Царь-девицы лежит через широкое море (небо), а вход туда сторожит двенадцатиглавый змей, испускающий из своих пастей жгучее пламя (демон-туча, старающийся утаить живую воду дождя). Малорусская сказка передает следующие подробности: юный королевич добывает Морскую царевну; старый король пленяется ею и рад хоть сейчас жениться, но красавица объявляет, что до тех пор не пойдет за него замуж, пока не достанут ей из моря самогральных гуслей. По приказу государеву, королевич достал ей самогральные гусли; тогда она сказала королю: "Не возьму с тобой слюбу — иначе, как с тем уговором, чтобы мой свадебный поезд был виден с моря!" А со стороны моря стояла высокая каменная гора и заслоняла собою все дальние виды. Королевичу отдан приказ разбить эту гору, и он исполняет задачу с помощью богатырского коня и могучей рыбы: конь начал бить гору копытами, а рыба толкать с исподу, и в короткое время сравняли ее с пологим берегом. Затем, по желанию Морской царевны, королевич приводит морских (или вилиных) кобыл, доит их и кипятит добытое молоко; в том молоке купается царевна — и делается еще краше и милее, а король, окунувшись в горячее молоко, немедленно умирает. В словацкой редакции вместо этого сказочный герой должен добыть живой и мертвой воды и достает ее с помощью воронов; морская панна заставляет старого короля отрубить доброму молодцу голову и потом оживляет его живою водою, отчего тот становится и сильнее, и красивее. Увлеченный примером, и король подставляет свою голову под острый меч; но морская дева не захотела оживить старика и вышла замуж за доброго молодца. Вот смысл сказки: юный витязь-громовник, чтобы сочетаться с богинею весны, должен наперед овладеть самогральными гуслями, т. е. начать грозовую песню, должен разбить облачные скалы, надоить молока небесных кобылиц, или попросту дождя, вскипятить это молоко в грозовом пламени и омыться в нем вместе с невестою — Солнцем; купаясь в дождевых ливнях, они обретают творческие силы, неувядаемую молодость и несказанную красоту и наделяют ими земную природу, а старый владыка — суровый царь зимы — погибает под ударами громовой палицы. Известен еще другой малорусский вариант: сказочный герой Катигорошек разложил на морском берегу много дорогих товаров, в том числе и зеленые черевички; прельстилась этими башмачками морская пани, поднялась из волн, приблизилась к берегу, а добрый молодец изловил ее и привез в свой дом. В угоду красавице он достает со дна моря, с каменного утеса, ее заветную скрыню, полную жемчугов и кораллов (летний убор богини, ее блестящие лучи, освобожденные из-за туч и туманов); потом пригоняет ей двенадцать морских кобылиц и жеребца и наконец отправляется за тридесять земель — туда, где ночует Солнце, чтобы разведать, отчего оно прежде всходило червонным, а теперь сделалось бледно? Герой пришел до господы (дома), где ночует Солнце, застал Солнцеву мати и пересказал ей, зачем явился; она посадила его под золотое корыто и велела прислушиваться. Когда царь Солнце, обойдя небесный свод, воротился на ночь домой, то мать стала его спрашивать: "Сыне мой! отчего ты прежде восходил червонным, а теперь восходишь бледным?" — "Оттого, мати, что прежде при моем восходе я встречал прекрасную Морскую пани, и как бывало взгляну на нее, так и покраснею; а теперь не вижу ее на море". Н. Костомаров передает эпизод этот в следующей форме: ездил Ивась в терем Солнца, построенный над синим морем, и спрашивал: зачем оно три раза в день переменяется? Солнце отвечало: "Есть в море прекрасная Анастасия; когда восхожу я утром, она брызгает на меня водою — я застыжусь и покраснею; в полдень, поднявшись на высоту, я посмотрю на весь божий мир — и мне станет весело; а вечером, когда захожу, Анастасия снова брызгает на меня морскою волною — и я опять покраснею". Очевидно, что Морская пани (названная в другом списке Анастасией) есть Заря. Издревле солнце олицетворялось то в мужском, то в женском поле; из колебания этих представлений возник поэтический миф, раздвоивший единое светило на влюбленную чету, причем прекрасный образ девы Солнца слился с олицетворением утренней и вечерней зари...
Уподобляя небо всесветному морю, предки наши не только в вечернем закате видели погружение солнца в морские воды, но и ночные светила, исчезающие с рассветом дня, по их мнению, скрывались в безднах океана. Сербы думают, что и солнце и месяц каждые сутки купаются в море, чтобы не утратить своего блеска. До сих пор употребительны выражения: луна выплывает из-за туч, месяц плывет по небу...
Светло-голубое, блестящее небо лежит за облаками, или за дождевым морем; чтобы достигнуть в царство солнца, луны и звезд, надо было переплывать воздушные воды. Таким образом это небесное царство представлялось воображению окруженным со всех сторон водами, т. е. островом. С особенною наглядностью метафора эта выступает в русских заговорах — там, где говорится о чудном острове Буяне. Название "буян" (от слова буй), принятое позднее за собственное имя, первоначально было не более как характеристический эпитет баснословного острова; в некоторых уездах доныне вместо "Буян-остров" произносят: "Буевой остров". Буй служит синонимом слову яр, как это видно из замены этих речений одного другим в "Слове о полку Игореве"; оба слова совмещают в себе тождественные значения. Ярый заключает в себе понятия: весенний, горячий, пылкий, раздражительный, страстный, плодородный, урожайный. Понятие весеннего плодородия заключается и в слове буй: глагол буять (Оренбур. губ,) — вырастать, нежиться ("Он буял у батюшки" или в народной песне: "Деревцо кипарисовое, где ты росло, где буяло? — Я росло на крутой горе, буяло против солнышка"); а прилагательное буйный, когда говорят о нивах, лугах и лесах, служит для обозначения, что травы и деревья растут высоко, густо и обещают богатый урожай (буйный лес, буйные хлеба, буйные ягоды, чешск. буйна пшенице, обили буйне). Отсюда объясняется следующее выражение в "Слове" Даниила-заточника[122]: "Дивья (диво ли) за буяном кони паствити", т. е. не диво пасти коней на тучных пажитях! Вообще же буйный (буявый) употребляется в смысле: дерзкий, наглый, неистовый (яростный); буестъ — удаль, отвага, буйная головушка — отважная, смелая, буйные ветры — бурные, стремительные, буйная зима — резкая, студеная; болгары дают этот эпитет и огню (буен оган). "Остров буян" — поэтическое название весеннего неба. Остров этот играет весьма важную роль в наших народных преданиях; чародейное слово заговоров, обращенное к стихийным божествам, обыкновенно начинается следующею формулою: "На море на океане, на острове на Буяне", без чего не сильно ни одно заклятие. На острове Буяне сосредоточены все могучие силы весенних гроз, все мифические олицетворения громов, ветров и бури; тут обретаются: и змея всем змеям старшая, и вещий ворон, всем воронам старший брат, который клюет огненного змея, и птица, всем птицам старшая и большая, с железным косом и медными когтями (напоминающая собой чудесную Стратим-птицу, всем птицам мать, что живет на океане-море и творит своими крыльями бурные ветры), и пчелиная матка, всем маткам старшая, т. е. на острове Буяне лежит громоносный змей, гнездится птица-буря и роятся пчелы-молнии, посылающие на землю медовую влагу дождя. От них, по мнению народа, как от небесных матерей, произошли и все земные гады, птицы и насекомые. По свидетельству заговоров, на этом же острове восседают и дева Заря (не только весеннее солнце, но и богинягромовница), и пророк Илья (Перун): "На море на океане, на острове на Буяне гонит Илья-пророк в колеснице гром с великим дождем". Сюда обращался древний славянин с своими мольбами, упрашивая богов, победителей Зимы и создателей летнего плодородия, исцелить его от ран и болезней, даровать ему воинскую доблесть, послать счастье в любви, на охоте и в домашнем быту...
У чехов сохранилось поверье, что у солнца есть свое царство за морем, что там — вечное лето и что оттуда прилетают весною птицы и приносятся на землю растительные семена. С этим поверьем тесно связывается малорусское предание о вырее: это теплая страна, лежащая далеко на востоке у самого моря, куда скрываются на зиму птицы, насекомые и гадюки и откуда являются они с началом весны. В "Поучении" Мономаха сказано: "Сему ся подивуемы, како птица небесныя из ирья идут... да наполнятся леси и поля". С началом осени (14 сентября) журавли, стрижи, касаточки и другие птицы улетают, по мнению крестьян, в вырей (вирий), на теплые воды, или прямо на небо; рассказывают еще, что ласточки, сцепившись одна с другою ножками, прячутся от зимы в криницах, реках и озерах. Тогда же гадюки и змеи лезут в вырей по деревьям, подобно тому как и души усопших прежде, нежели достигнут страны блаженных, осуждены порхать по деревьям. Светлое "небесное царство" находится по ту сторону облаков, которые издревле сравнивались с водными источниками и ветвистыми деревьями, растущими в воздушных пространствах... С окончанием зимы следует возвратный прилет птиц: 9-го марта прилетают из вырия жаворонки, а 25-го числа — ласточки. Как обыкновенные птицы и гадюки исчезают позднею осенью из полей и лесов: первые — удаляясь в теплые страны, а последние — предаваясь оцепенению (зимнему сну) в своих норах, — так и мифические птицы и змеи, в образе которых фантазия олицетворяла творческие силы весенних гроз, скрываются на зиму в колодцах-тучах, окованных холодом, или замыкаются в царстве вечного лета. По русским поверьям, кукушка и сизая галочка хранят у себя райские ключи или ключи от вырея; с их прилетом пробужденный Перун отпирает небо и низводит на землю плодотворное семя дождя, откуда возник миф о семенах, приносимых из райской страны на крыльях весенних ветров и рассеваемых по всей земле. И комары осенней порою уносятся ветрами на теплые моря, а весною снова приносятся на Русь. Райская страна, как представление, снятое с весенней природы, роскошно убранной в зелень и цветы и озаренной яркими лучами солнца, изображалась вечнозеленым садом с золотыми и серебряными плодами или вечно цветущим лугом...
Народные заговоры, сохранившие так много древнейших поэтических выражений, знают мифический алатыръ-каменъ и ставят его в тесной, неразрывной связи с Буяном-островом. Принимая в соображение объясненное нами значение этого острова и общеарийское представление солнца драгоценным, огненным камнем, мы убеждаемся, что алатырь-камень есть собственно метафора ясного весеннего солнца. Лежит он на океане-море или на острове Буяне и обозначается постоянным эпитетом бел-горюч, т. е. плавает по воздушному океану-небу и хранится в райской области, в царстве вечного лета; эпитет "бел-горюч" заменяется иногда выражением: кип-каменъ (от глагола кипеть). На этом камне восседает красная дева Заря: "На море на океане, на острове на Буяне лежит бел-горюч камень-алатырь; на том камне сидит красная девица" и зашивает раны кровавые. О розовой пелене Зари, расстилая которую богиня утра просветляет мир и призывает его к жизни, заговор выражается: "Твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь", о самом же алатыре сказано: "Под тем камнем сокрыта сила могучая, и силы конца нет". Именем этого камня скрепляется чародейное слово заклинателя: "Кто камень-алатырь изгложет (дело — трудное, немыслимое), тот мой заговор превозможет". Весьма вероятно, что с этим уподоблением солнца белому, горючему камню уже в глубокой древности сливалось общераспространенное представление грозового облака скалою или камнем. Такое слияние тем легче могло совершиться, что богиня Утренняя Заря и богиня-громовница олицетворялись в едином образе, что дневной свет и роса, приносимые первою, сближались с весенним просветлением неба и дождями, даруемыми второю. В приложении к камню-облаку эпитет "бел-горюч" мог указывать, с одной стороны, на заключенное внутри этого камня грозовое пламя, а с другой — на белоснежные и розовые цвета, какими окрашивают облака яркие лучи весеннего солнца. С возвратом весны пробуждается бог-громовник и, ударяя своею палицею по камню-туче, высекает из него молниеносные искры, разводит пожигающее пламя грозы и заваривает чудодейственный напиток живой воды (дождя); то же пламя добывает он и трением своей палицы о солнцево колесо...
Согласно с представлением облаков подвижными, ходячими камнями, народная загадка отличает алатырь от обыкновенных скал, твердо прикрепленных к земле, как бы коренящихся в ее утробе. "Что растет без корню?" — спрашивает загадка и отвечает: бел-горюч камень. Весьма знаменательно свидетельство Стиха о Голубиной книге, что из-под этого камня текут источники, дающие всему миру пропитание и целение, т. е. живая вода дождей, воскрешающая природу и дающая земле урожаи:
Белый латырь-камень всем камням отец. Почему же ён всем камням отец? — С-под камешка, с-под белого латыря Протекли реки, реки быстрый По всей земле, по всей вселенную(ной), Всему миру на исцеление, Всему миру на пропитание.Это те же райские реки, которые бьют живыми ключами из-под корней мирового дерева-тучи. Старинная былина о Василии Буслаеве, смелость которого не хотела знать никаких преград, воспевает, как этот богатырь тешился со своею дружиною; говорит Василий: "Дружина моя храбрая! скачите через бел-горюч камень". Дружинники перескочили три раза; начал скакать сам богатырь:
Раз скочил и другой скочил, А на третий говорит дружине хоробрыя: "Я на третий раз не передом, задом перескочу!" Скочил задом через бел-горюч камень, И задела ножка правая, И упал Васильюшка Буслаевич О жесток камень своими плечмы богатырскима.По указанию другого списка: расколол он свою буйну голову и остался лежать тут довеку. То же предание излагает и народная сказка с любопытной заменою камня-алатыря морской пучиною. Поплыл Василий Буслаевич через море к зеленым лугам ; тут лежала Морская Пучина — кругом глаза; стал он вокруг ее похаживать, сапожком ее попинывать. "Не пинай меня, говорит Пучина, и сам тут будешь!" Расшутились тогда рабочие люди Васильевны и стали скакать через Пучину; все перескочили, а Василий прыгнул и задел ее пальцем правой ноги — да тут и помер. В этом поэтическом сказании о смерти сильномогучего богатыря скрывается миф о гибели громовника (молнии), утопающего в дождевом море туч; удары, которым он подвергается, обыкновенно разят его в ногу. В настоящем случае для нас особенно важно то, что в этих различных вариациях одной темы бел-горюч камень, из-под которого (как мы видели) льются целые реки, заменяется равносильною ему метафорою, представляющею дождевую тучу — морскою пучиною. Народный русский эпос олицетворяет эту пучину и заставляет ее жадно взирать на витязя своими несчетными очами: образ, достойный великого художника, напоминающий греческий миф об Аргусе,.. Одновременно с представлением неба воздушным океаном, поэтическая фантазия стала сближать носящиеся по нем облака и тучи с рыбами. Следы такого сближения находим в народных сказках. "Был у мужика (повествует русская сказка) мальчик-семилеток — такой силач, какого нигде не видано и не слыхано! Послал его отец дрова рубить; он повалил целые деревья, взял их словно вязанку дров и понес домой. Стал через мост переправляться, увидала его морская рыба-кит (по другому списку: рыба-щука), разинула пасть и сглотнула молодца со всем как есть — и с топором, и с деревьями. Мальчик и там не унывает, взял топор, нарубил дров, достал из кармана кремень и огниво, высек огня и зажег костер. Невмоготу пришлось рыбе: жжет и палит ей нутро страшным пламенем! Стала она бегать по синю морю, во все стороны так и кидается, из пасти дым столбом — точно из печи валит; поднялись на море высокие волны и много потопили кораблей и барок, много потопили товаров и грешного люду торгового; наконец прыгнула та рыба высоко и далеко, пала на морской берег да тут и издохла. Четверо суток работал мальчик топором, пока прорубил у нее в боку отверстие и вылез на вольный белый свет". Смысл этой басни раскрывается из сравнения ее с другими эпическими преданиями, тождественными с нею по значению, но представленными в иных поэтических образах. Чудовищная морская рыба есть громоносная туча, плавающая в воздушном океане, а мальчик-семилеток, который, сидя в ее утробе, высекает огонь и разводит страшно-пожигающее пламя, принадлежит к породе мифических карликов, обитающих в облачных пещерах и приготовляющих там на сильном огне кузнечных горнов молниеносные стрелы. Семь зимних месяцев он пребывает в покое, или, выражаясь эпически: семь лет он растет и собирается с силами; но когда исполнится семилетний срок, т. е. с приходом весны, — заявляет свою богатырскую мощь. Подобно Перуну, он вызывает грозовое пламя ударом кресала о кремень; подобно Перуну, он вооружен топором, которым и прорубает себе дверь из мрачной темницы-тучи, и пребывание его в рыбе так же тяжко для этой последней, как пребывание мальчика с пальчик в брюхе волка...
Плодотворящая сила, принадлежащая весенней, дождевой туче, составляет одно из существенных свойств, соединяемых со всеми ее олицетворениями; тою же силою наделена и мифическая рыба— тем более что в самой действительности рыба не могла не обратить на себя внимания своею необыкновенною плодучестью, обилием бросаемой ею икры. Народные сказки упоминают о чудесной рыбе, дающей бытие сказочным богатырям. У царицы не было детей, чтобы удовлетворить ее сердечному желанию иметь сына, закидывают в море шелковый невод, сплетенный мальчиками и девочками — семилетками, и ловят рыбу, которой нередко присваивается эпитет золотой. Рыба поймана, изготовлена на кухне и съедена царицею; остатки обгладывает кухарка, а помои выпивает корова, и от того самого понесли они плод и одновременно родили трех сыновей: Ивана-царезича, Ивана-кухарченка и Ивана-коровьина сына; выросли три молодца и стали могучие богатыри: подвиги, совершаемые ими, указывают в них сказочных представителей Перуна и его грозовых спутников. В сербских песнях говорят королю вилы:
Пусть соберет король будимских девиц, Принесет много чистого золота И сплетет частую мрежу, Частую мрежу из чистого золота, Пусть закинет сеть в тихий Дунай, Поймает златокрылую рыбу И возьмет у ней правое крыло, Рыбу да отпустит в воду, А крыло отдаст госпоже-королеве: Когда съест она правое крыло — Тотчас забеременеет.Король последовал совету вил, и королева родила ему змея (демона громоносной тучи). Как семя дождя, низведенное тучею на мать-сыру землю, зарождает на ней обильные плоды, так съеденная рыба оплодотворяет чрево бездетной жены и одаряет ее чадородием...
Чудесная рыба, исцеляющая от неплодия, напоминает нам сказочную щуку, с помощью которой Емеля-дурачок творит все, что ему ни пожелается. Пойманная дураком, щука, в уплату за свое освобождение, наделяет его следующим даром: стоит только ему сказать: "По моему прошенью, по щучьему веленью, будь то и то!" — и в ту же минуту все исполнится; в любопытном варианте сказки об Емеле-дурачке царевна тотчас забеременела, как скоро было выражено им подобное желание, скрепленное этою заветною формулою. Такой сверхъестественный дар заставляет невольно вспомнить сказку о золотой рыбке (царице всех рыб), исполняющей различные желания старика, который изловил ее в сети и потом отпустил в море; по всему вероятию, обе сказки возникли из одного общего источника, и золотая рыбка тождественна с могучею щукою. Святочная подблюдная песня говорит о щуке серебряной, позолоченной, унизанной жемчугом и алмазами; следовательно, дает ей те же эпитеты, какими наделены и другие олицетворения тучи, сверкающей золотистыми молниями (свинка — золотая щетинка, золотогривый конь и так далее):
Шла щука из Новагорода, Она хвост волокла из Белаозера; Как на щуке чешуйка серебреная, Что серебреная, позолоченая; Как у щуки спина жемчугом сплетена, Как головка у щуки унизанная, А на месте глаз — дорогой алмаз. Песня сулит богатство...Метафорический язык загадок называет щукою: а) вихрь, дующий из тучи: "Щука хвостом махнула — лес погнула", и б) блестящее лезвие косы и серпа, под взмахом которых падают травы и колосья — точно так же как при бурном напоре вихря падают деревья: "Щука-белуга хвостом мигнула (т. е. блестящая — белая коса сверкнула), леса (травы) пали, горы (копны и стога) встали"; "Щука (серп) прянет, весь лес (нива) вянет". Народные русские сказки упоминают о гигантской щуке, которая тянется через все широкое море (небо) мостом и проглатывает корабли с товарами; иногда рыба эта заменяется китом, Так, в сказке о Марке Богатом герой, посланный на тот свет, должен переправиться через синее море и переправу эту совершает по киту-рыбе, который протянулся через все море, а по нему, словно по мосту, идут пешие и едут конные...
Известны суеверные приметы и врачебные средства, основа которых должна корениться в преданиях о мифической рыбе-туче. Так, по первой щуке, пойманной весною, поселяне делают ваключение о будущем урожае хлеба: если икра в щуке толще к голове, то лучший урожай будет от ранних посевов, а если — к хвосту, то от поздних посевов; икра ровная предвещает посредственный урожай. Хребтовые кости щуки привешивают к воротам, как средство, предохраняющее от повальных болезней; а щучьи зубы собирают и носят при себе, чтобы во время лета не укусила ни одна змея. По мнению белорусов: если перед рыбаком плеснет хвостом щука, то он не проживет более трех лет.
Земля, по свидетельству старинных памятников, покоится на водах всесветного (воздушного) океана: "На воде яко же на блюде, простерта силою всеблагого бога"; но, как тучи, эти небесные водохранилища, олицетворялись в образе великанских рыб, то отсюда возникло верование, что земля основана на китах-рыбах. Между нашим простонародьем существует предание, что мир стоит на спине колоссального кита, и когда чудовище это, подавляемое тяжестью земного круга, поводит хвостом — то бывает землетрясение. Иные утверждают, что исстари подпорою земли служили четыре кита, что один из них умер, и смерть его была причиною всемирного потопа и других переворотов во вселенной; когда же умрут и остальные три, в то время наступит кончина мира. Землетрясение бывает оттого, что киты, отлежав бока, повертываются на другую сторону. Рассказывают еще, что в начале было семь китов; но когда земля отяжелела от грехов человеческих, то четыре ушли в пучину эфиопскую, а во дни Ноя и все туда уходили — и потому-то случился всеобщий потоп. Подобные предания находим мы и в Стихе о Голубиной книге, и в разных апокрифических сочинениях. "Кит-рыба всем рыбам мати" (сказано в означенном стихе), потому что на трех китах утверждена земля и содержится вся вселенная:
Когда кит-рыба потронется, Тогда мать-земля всколебается, Тогда белый свет наш докончится...Названия князь и княгиня, по первоначальному своему значению, доселе удержавшемуся в простонародном обыкновении чествовать этими именами жениха и невесту, прямо указывают на то супружеское сочетание, в каком являлись поэтической фантазии огонь и вода. К родникам и криницам, как уже было сказано, издревле обращались с мольбою о дожде: от них, следовательно, ожидали и просили изобилия плодов земных.
Перед посевом крестьяне выходят поутру к студенцам, черпают ключевую воду и смачивают ею заготовленные семена; другие же смачивают зерна речною водою в продолжение трех утренних зорь, с надеждою на несомненный урожай. Эту плодородящую силу воды народное верование распространяло и на человека, что свидетельствуется старинными свадебными обрядами. Начальный летописец[123] говорит об умычке невест у воды. "И се слышахом, — читаем в "Правиле" митрополита Кирилла[124] (конца XIII столетья), — в пределех новгородских невесты водят к воде, и ныне не велим тому тако быти, или то проклинати повелеваем". В Витебской губ. есть большое озеро, почитаемое у раскольников священным; холостые парни, похищая девушек, объезжают с ними вокруг озера три раза, и этот обряд считается за действительное вступление в брак. Между чехами сохраняется поверье, что самый верный союз — тот, который заключается над колодцем...
Как живая вода весенних дождей просветляет туманное небо, возрождает природу и потому принимается за божественный напиток, прогоняющий демонов, дарующий красоту, молодость, здоровье и крепость мышц, так те же животворные свойства соединяют народные верования и вообще с водою — тем более что она действительно обладает свойством освежать тело и восстановлять утомленные силы. И огонь, и вода — стихии светлые, не терпящие ничего нечистого: первый пожигает, а вторая смывает и топит всякие напасти злых духов, к сонму которых причислялись в старину и болезни. Рядом с окуриванием больного, перенесением его через пылающий костер, высеканием искр над болячками и тому подобными средствами народная медицина употребляет обливание водою, омовение, взбрызгивавание, сопровождая все это заклятиями на болезнь, чтобы она покинула человека или животное и удалилась в пустынные места ада. По преимуществу лечебные свойства приписываются ключевой воде...
На Руси от болезней, приписываемых сглазу, рано на утренней заре отправляются к ключу, зачерпывают воду по течению, закрывают посудину и возвращаются домой молча и не оглядываясь; потом кладут в принесенную воду один или три горячих угля, частичку печины (печной глины), щепоть соли и взбрызгивают ею больного или обливают его по два раза в сутки на заре утренней и вечерней, с приговором: "С гуся вода, с лебедя вода — с тебя худоба!" Иногда дают больному испить этой воды, смачивают ею грудь против сердца, и затем все, что останется в чашке, выливают под притолку. В заговорах, произносимых над водою, находим следующие указания: "Пошла я в чисто поле, взяла чашу брачную, почерпнула воды из загорного студенца"; "Звезды мои ясные! сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода из загорного студенца"; "Умываю я красну девицу (имярек) из загорного студенца ключевой водою, стираю я с красной девицы все узороки с призороками". Целебная сила присваивается воде, взятой из нагорного источника, как эмблеме дождя, ниспадающего из горы-тучи; вода эта, по народному выражению, должна быть непитая, неотведанная, ибо она назначается не для обычных нужд человека; черпают ее на утренней заре, потому что утро — метафора всеоживляющей весны : оно прогоняет демонов ночного мрака, и воды земных источников превращает в чудодейственную амриту; печина и горячие уголья указывают на связь воды — дождя с огнем — молнией. Вместо горячих угольев пользуются и другими символическими знамениями бога-громовника. Так, от испуга взбрызгивают и окачивают водою, в которой был выкупан петух — птица, посвященная Перуну и домашнему очагу (Агни); нередко в воду, назначенную для омовения больного, кладут громовую стрелку, или, читая заговор, знахарь берет налитую воду и несколько раз перерезает ее накрест острием ножа; в Малороссии на Водохрещи умываются от коросты водою, в которую положена красная калина; сверх того, повсюду в обычае пить наговорную воду и умываться ею с серебра и золота, т. е. погружая в чашу серебряную монету или золотое кольцо: такое умыванье спасает от удара молнии. Взамен громовой стрелки кашубы бросают в воду три раскаленные в печи камня и потом три раза или трижды три (девять раз) обливают больное место. Красная калина — эмблема Перуновой ветки, а серебро и золото — блеска молниеносных стрел. При раскатах первого весеннего грома вода, по народному поверью, получает живительные свойства, и потому в эту благодатную пору все — и большие, и малые — спешат к криницам и умываются на счастье и здравие. Очевидно, что горячие уголья, громовые стрелки, раскаленные камни, острый нож, петух, ветка калины, серебро и золото в исчисленных нами обрядах имеют значение, равносильное удару весенней грозы. Немцы считают купанье в источниках наиболее действительным, если оно совершается в четверг — день, посвященный Донару; в тот же день перед восходом солнца бросают они в воду мелкую монету и промывают ею больные глаза...
В эпических сказаниях русского народа встречаются живые олицетворения рек и озер, Морской Царь и водяные духи и девы. Особенно интересны былины о новгородском купце Садко. Прежде он был беден, имел только гусли и ходил на пиры увеселять гостей музыкальными звуками. Соскучилось раз ему, пришел он к Ильмень-озеру, сел на бел-горюч камень и стал играть в гусельки яровчаты:
Как тут-то в озере вода всколыбалася, Показался Царь Морской,
благодарствовал за утеху и посулил ему в награду клад из Ильмень-озера — три рыбы — золотые перья, на которые можно скупить все несметные богатства новгородские. Садко закинул в озеро невод и вытащил обещанное сокровище. Царь Морской, по народному поверью, властвует над всеми рыбами и животными, какие только водятся в морях. Другая былина рассказывает: плыл богатый гость Садко по синему морю; вдруг остановился его, корабль — и с места не двинется. Стали бросать жребии, чтобы узнать виноватого; пал жребий на самого хозяина. Признался Садко: "Бегаю, — говорит, — я по морю двенадцать лет, не платил я Царю Заморскому дани-пошлины, не опускивал хлеба-соли в сине море Хвалынское!" Бросили его корабельщики в воду, и тотчас поплыл корабль своею дорогою. Кинутый в море Садко был принесен волною к Морскому Царю. Стоит изба большая — во все дерево; вошел Садко в избу, а в ней лежит на лавке Царь Морской. "Гой еси богатой гость! — говорит ему царь, — ждал тебя двенадцать лет, а ныне ты сам головой пришел. Поиграй-ка мне во звончатые гусли". Заиграл Садко, стал царя тешити; расплясался Царь Морской — и сине море всколебалося, и быстрые реки разливалися, и потопили много кораблей с товарами. Вздумалось царю женить гостя, привел тридцать девиц и приказал выбирать невесту; в народных сказках Морской Царь предлагает доброму молодцу выбрать себе в жены одну из своих дочерей. Лег спать Садко с избранной девою: со полуночи, в просонье, накинул он левую ногу на молодую жену, и когда проснулся поутру — то сам очутился под Новгородом, а левая нога его в Волх-реке. Итак, Царь Морской выдает за богатого гостя дочь свою, реку Волхов: имя это в народной речи ("за тую за реченьку Волхову") и в Новогородской летописи ("чрез Волхову-реку") употребляется в женской форме, и потому фантазия без нарушения грамматического смысла могла олицетворить реку Волхову девою. Приведенное сказание о свидании Садко с Морским Царем передается еще в следующей вариации: когда жребий указал виновного, взяли его корабельщики и спустили на воду на дубовой доске; с гуслями в руках поплыл Садко по морю и принесен был в палаты царя Водяника и супруги его царицы Водяницы:
Пошла дощечка ко дну синя моря, Объявилось на дне царство великое, А во царстве пированьице — почестен пир. Говорил Водяник гостю: "Поиграй в гусли яровчаты, потешь наш почестей пир; Выдаю я дочи свою любимую Во тыё во славно Окиян-море".Так поэтически, в античной форме, изображает народный эпос впадение реки в море: царь Водяник выдает дочь свою реку замуж на чужую сторону, в далекие области океана. Стал Садко в гусли играть, царь Водяник поскакивать, царица Водяница поплясывать, красные девушки хоровод водить — и было веселье с утра и до вечера; от тех плясок бесовских
Океан-сине море всколыбалося, Кораблики все повыломало, Людей всех повытопило.
Очевидно, что Садко, чудесная игра которого на гуслях заставляет волноваться океан-море, заменил собою в предании древнейшего бога грозы и ветров: в завываниях грозовой бури предкам нашим слышались чародейные звуки гуслей-самогудов. Женитьба Садко на деве-реке, в первоначальном представлении мифа, была брачным союзом бога-громовника с облачною нимфою; корабль, на котором плыл он по синему морю, — известная метафора тучи. Чтобы приостановить морскую бурю, Садко должен был порвать звонкие струны и прекратить игру на гуслях...
Когда пронесется шумная гроза и замолкнут порванные струны гуслей-самогудов, т. е. стихнут громы и ветры, — вместе с тем успокаивается и морская пучина.
С разобранными былинами о Садко стоит в близкой связи народная сказка о Морском (Водяном или Поддонном) Царе и его вещей дочери. В одном варианте этой сказки Морской Царь прямо назван Окиан-море; в других же списках роль его передается змею, черту и беззаконному Чуду-Юду. Этот славянский Нептун упоминается и в других сказках. Как приноситель темных туч, которые помрачают собою небесный свет и нередко вредят созревающим жатвам, дождящий Перун издревле соединял в своем характере вместе с благотворными свойствами и черты существа демонического; тот же двойственный характер был усвоен и Морскому Царю, который первоначально был дождящим громовником. Оттого так обыкновенна в народных сказках замена Морского Царя — чертом...
Содержание сказки о морском владыке и его дочери в кратких словах таково: едет царь домой, а день был знойным — солнце так и печет! От великой жажды припадает царь брюхом наземь и начинает глотать студеную воду из озера; тут ухватил его за бороду Морской Царь и до тех пор не хотел выпустить, пока не дал пленник обещания уступить ему то, чего дома не ведает. А в то время царица родила сына. По договору с Морским Царем Иван-царевич, достигнув юношеских лет, отправляется в подводное царство; приходит на сине море и прячется за кусты. Вот прилетели двенадцать голубок (утиц, лебедушек), сбросили свои крылышки (или перышки), обернулись красными девицами и стали купаться: то были дочери Морского Царя. Иван-царевич подкрался потихоньку и взял крылышки Василисы Премудрой. Девицы искупались, разобрали крылышки и улетели голубками; оставалась одна Василиса Премудрая. Стала она упрашивать доброго молодца возвратить ей крылышки; царевич отдает их под условием, чтобы прекрасная дева согласилась быть его невестою. В некоторых вариантах место Василисы Премудрой занимает Лебедь-птица, красная девица. Эти лебединые девы по первоначальному своему значению суть олицетворения весенних, дождевых облаков; вместе с низведением преданий о небесных источниках на землю лебединые девы становятся дочерьми Океан-моря и обитательницами земных вод (морей, рек, озер и криниц). Таким образом они роднятся с нимфами, никсами, эльфами и русалками; последние, по мнению поселян, состоят под началом у дедушки-водяного. Согласно с этим, лебединым девам придается вещий характер и мудрость; они исполняют трудные, сверхъестественные задачи и заставляют подчиняться себе самую природу. Имя лебедь, употребляемое в народной речи большею частью в женском роде, означает собственно: белая (светлая, блестящая); такое коренное его значение впоследствии подновлено постоянным эпитетом: белая лебедь. Пока народ относился сознательно к этому слову, он вправе был прилагать его к белым облакам, озаренным лучами весеннего солнца, и к светлым струям источников и рек...
Одна из наиболее любопытных старинных былин содержит в себе рассказ о том, как богатырь Поток женился на вещей красавице, которая впервые явилась ему на тихих морских заводях в виде белой лебеди. Предание, записанное Нестором, упоминает о трех братьях Кие, Щеке и Хориве и сестре их Лыбеди; первый дал название Киеву, два других брата горам Щековице и Хоревице; Лыбедь — старинное название реки, впадающей в Днепр возле Киева.
Иван-царевич приходит в подводное царство, в котором так же, как и на земле, цветут луга и рощи, текут реки и светит солнце: это — воздушная, заоблачная страна, где сияют небесные светила, растут райские цветы и деревья и шумят дождевые потоки. Морской Царь возлагает на царевича трудные, неисполнимые для простого человека подвиги; все совершает за него Василиса Премудрая. В заключение разнообразных испытаний велено было молодцу выбрать себе невесту из двенадцати дочерей Морского Царя, и он выбирает самую хитрую и прекрасную — Василису Премудрую. Женился царевич на своей суженой и задумал уйти с нею из подводного царства. Бегство любящей четы сопровождается разными превращениями, чтобы в этой перемене образов утаиться от погони; а преследует беглецов Морской Царь со своим воинством: по указанию немецкой и новогреческой редакций, он несется черною тучею, сверкающею молниями. В числе превращений, принимаемых на себя беглецами, особенно интересно следующее: вещая дева обращает своего милого рыбою (окунем), а сама делается речкою. Разгневанный Морской Царь заклинает ее: "Будь же ты речкою целые три года!" Итак, дочь Морского Царя возвращается в свое первобытное стихийное состояние, подобно тому как Садко лег свечеру спать с красной девицей и накинул на нее со полуночи левую ногу, а на утро проснулся под Новгородом, а левая нога в реке Волхове. В этой сказочной поэме описывается весенний брак облачной девы с юным богом-громовником, который сходится с нею в подводной области Морского Царя, т. е. в море темных, грозовых туч, облегающих небо. По редакции новогреческой, когда царевич попадает к Морскому Царю, то родная страна его одевается в траур и не прежде сбрасывает черные покровы (просветляется), как по счастливом возврате его домой. Убегая из подводных владений Морского Царя, вещая дева разливается речкою, т. е. дева эта только тогда освобождается из облачных пучин и является на этот свет, когда из моря небесных туч побегут на землю дождевые потоки: течь в некоторых славянских наречиях употребляется в смысле убегать. Об одной кринице, в четырех милях от Белграда, рассказывается такое предание: красавица Параська, взятая в плен татарами, попала в гарем паши, но оставалась непреклонною; раз ночью войдя в ее покой, паша увидал ангела, готового защитить деву, и, пораженный ужасом, удалился, не замкнув двери. Параська вырвалась на свободу и побежала вдоль лимана, но посланная за нею погоня нагнала беглянку в скалах и хотела уже схватить ее, как вдруг она разлилась чистою криницею. Имя красавицы указывает на связь ее с мифическою Пятницею — богинею весенних гроз (Фреею).
По свидетельству народных былин, некоторые силькомогучие богатыри и их жены, умирая, разливались широкими, славными реками. Расселяясь по Европе, славяне дали рекам те древнейшие названия, вынесенные ими с востока, которые изначала употреблялись как нарицательные имена реки или воды вообще. Так, названия: Сава, Драва, Одра (Одер), Ра, Упа, Ока, Дон, Дунай, Двина — арийского происхождения и имеют в санскрите родственные себе формы и корни с указанным общим значением: dhuni, dhuni (река), доселе удерживают свой первоначальный смысл на Кавказе, где у осетинов формы дун и дон означают всякую реку и воду; у славян же Дон перешло в собственное имя, а форма дун с окончанием ав образовала: Дунае и потом Дунай. Слово Дунай, служащее собственным именем известной реки, до сих пор употребляется и как нарицательное для всяких больших и малых рек; примеры можно видеть в галицких и польских песнях: "За реками за дунаями". Такие нарицательные названия, придаваемые земным рекам, равным образом могли служить и для обозначения водоносных туч. Те и другие, как мы знаем, роднились в мифических сказаниях народа, и верования, касавшиеся собственно небесных потоков, были прикрепляемы к земным водам, на берегах которых обитало племя. Пока предание владычествовало над всем строем жизни, локализация мифов продолжалась при каждом новом переселении. Вот почему, согласно с древнейшим представлением громоносных, дождевых туч мощными великанами божественной породы, народный русский эпос олицетворяет знакомые ему большие реки в виде богатырей старого времени; богатырь (от слова бог) есть существо божественное, и потому наделенное необычайными силами и великанскими размерами, приличными грозным стихиям природы. Как индийцы признавали божеством Ганг, немцы — Рейн, так славяне соединяли божеские свойства с Дунаем, Днепром, Западным и Южным Бугом и другими значительными реками. Название Буг есть только особая форма слова бог, и в статейном списке XVII века вместо "Буг-река" встречаемся с формою: "Бог-река". Содержание былин о речных богатырях вводит нас в область стародавних мифических воззрений. Наезжал Дунай-богатырь в чистом поле молоду Настасью-королевичну: эта героическая, сильномогучая дева рыскала по свету удалою поленицею; под нею был чудный конь — на два выстрела из-под копыт камни выметывал. Крикнула она зычным голосом "по-змеиному" — в поле травы повянули, цветики осыпались, камни раскатилися. Стали витязи пробовать свою силу, ударились палицами — палицы поломалися, ударились саблями — сабли пощербилися, сходились в рукопашную и водились с утра до вечера и с вечера до бела света; наконец Дунай осилил и свалил наземь супротивника, хочет вынуть из него сердце горячее, но увидел белые женские груди и признал королевну. Тут они промеж себя поладили, взял Дунай королевну замуж и поехали вместе в славный Киев-град. Приехали ко князю Владимиру; на почестном пиру охмелел Дунай-богатырь и стал хвастаться своим молодечеством. Говорит ему Настасья-королевична: "Не хвастай, тихий Дунай Иванович! если на стрельбу пойдет, то нет нигде супротив меня стрельцов.
На твою-то молодецкую головушку Я кладу свое колечико серебряно; Три раза из лука калену стрелочку повыстрелю, Пропущу-то скрозь колечико серебряно, И не сроню-то я колечика с головушки".Вызов был принят, и королевна трижды пропустила свою стрелу сквозь кольцо, поставленное на голове Дуная, и ни разу не сронила колечка. Вздумал попытать своей удали и Дунай Иванович, положил кольцо на голову Настасьи-королевичны и хочет стрелять из туга лука разрывчатого; и взмолилась ему молодая жена: "Не стреляй, Дунаюшка! у меня во чреве чадо посеяно: по колени ноги в серебре, по локоть руки в золоте, по косицам частые звезды". Не послушался Дунай, спустил каленую стрелу; не угодил в кольцо, а попал жене в белую грудь, убил королевну и пораздумался: "Есть ли у меня с нею что посеяно?" Распластал ей чрево булатным кинжалищем, а во чреве чадо милое — по колени ноги в серебре, по локоть руки в золоте, по косицам частые звезды. Тут ему за беду стало, за великую досаду показалось; становил он кинжал во сыру землю тупым концом и падал на острый конец ретивым сердцем: от той ли крови горячие —
Где пала Дунаева головушка Протекала речка Дунай-река, А где пала Настасьина головушка — Протекала Настасья-река.Или:
Из-под этого с-под местечка Протекали две реченьки быстрыих, И на две струечки оны расходилися.
Иногда Дунай-богатырь заменяется Доном Ивановичем, а Настасья-королевична Непрою (Днепра — женская форма вместо мужской Днепр); как убил Дон Иванович жену свою Непру-королевичну и пала она на сыру землю, облитая горячею кровью, становил он ножище-кинжалище, а сам выговаривал:
Куда пала головушка белы лебеди, Тут пади головушка и сера гуся! — и упал на острие. Тут-то от них протекала Дон-река От тыя от крови христианский, От христианский крови от напрасныя, Глубиною река двадцати сажень, А шириною река сорока сажень.Такое же начало имела, по народному преданию, и Сухман-река (Сухона?). Поехал Сухман-богатырь в чистое поле, приезжает к Непре-реке и видит: течет она не по-старому, не по-прежнему, вода с песком помутилася. На вопрос: что с нею сталося? испрогозорит матушка Непра-река: "Как же мне было течь по-старому, когда стоит за мной сила татарская — сорок тысячей; мостят они мосты калиновые —
Днем мостят, а ночью я повырою; Из сил матушка-река повыбилась!"
Перескакивал Сухман на своем добром коне на другой берег, выдергивал дуб с коренем и напускался на силу татарскую, всех перебил поганых, но и сам получил три раны кровавые. Умирая, богатырь причитывал:
Потеки Сухман-река От моея от крови от горячия, От горячия крови от напрасныя.Кровь — одна из древнейших метафор воды и дождя; всемирный потоп (весеннее наводнение), по свидетельству преданий, произошел от крови великанов-туч, которые пали сраженные в грозовой битве. Сказания о реках, образовавшихся из крови убитых богатырей и их жен, выражают, следовательно, ту же самую мысль, что и миф о небесном происхождении земных вод: реки эти истекают из дождевых туч, гибнущих под ударами Перуновой палицы. Поэтому Непра (Настасья)-королевична всеми своими характеристическими чертами сходится с теми воинственными девами (валькириями и вилами), в образе которых олицетворялись грозовые тучи: ей даны и непомерная сила, и страсть к войне, и славное искусство пускать меткие стрелы (молнии). В битве Сухмана-богатыря с татарами узнаем мы вставленный в историческую рамку миф о ратном состязании бога-громовника с демоническими силами. В связи с этими данными получает особенный интерес новгородское предание о реке Волхове. Выше было указано, что она олицетворялась девою, одною из дочерей Морского Царя; но допускалось и другое олицетворение, соответствующее мужской форме Волх, Волхов. Старинный хронограф[125] утверждает, что Волхов был лютый чародей (волхв — колдун, кудесник); в образе крокодила поселился он в реке, которая от него получила и свое прозвание, и залегал в ней водный путь; всех, кто не поклонялся ему, чародей топил и пожирал; суеверный народ почитал его за бога и называл Перуном и Громом. Что касается упоминания о крокодиле, то эта подробность объясняется литературным подновлением: крокодил заступает здесь место чудовищного змея (дракона), залегающего источники и реки.
Народные предания относятся к рекам, озерам и потокам, как к существам живым, способным понимать, чувствовать и выражаться человеческою речью. О Волге и Вазузе в Тверской губ. рассказывают: "Волга с Вазузой долго спорила, кто из них умнее, сильнее и достойнее большего почета. Спорили-спорили, друг друга не переспорили и решились вот на какое дело. "Давай вместе ляжем спать, а кто прежде встанет и скорее придет к морю Хвалынскому, та из нас и умнее, и сильнее, и почету достойнее". Легла Волга спать, легла и Вазуза. Ночью встала Вазуза потихоньку, убежала от Волги, выбрала себе дорогу и прямее и ближе и потекла. Проснувшись, Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как следует: в Зубцове догнала Вазузу да так грозно, что Вазуза испугалась, назвалась меньшою сестрою и просила Волгу принять ее к себе на руки и снести в море Хвалынское. И до сих пор Вазуза весною раньше просыпается и будит Волгу от зимнего сна". Здесь олицетворены две реки, которые спорят о старейшинстве и пускаются вперегонку; обстановка басни, очевидно, снята с природы: покрываясь льдом, реки на зиму засыпают, а весною пробуждаются и, сбросив зимние оковы, разливаются от растаявших снегов, и в быстром и шумном беге спешат снести свои обильные воды в далекое море, как бы перегоняя одна другую. Волга, принимая в себя побочные реки, по прекрасному поэтическому выражению русского народа, доносит их к синему морю на своих могучих руках (в своих объятиях). Это предание о Волге и Вазузе в других местностях России связывается с другими реками...
Сохранилось еще следующее сказание о Днепре, Волге и Западной Двине: реки эти были прежде людьми, Днепр был брат, а Волга и Двина — его сестры. Остались они сиротами, натерпелись всякой нужды и придумали наконец пойти по белу свету и разыскать для себя такие места, где бы можно было разлиться большими реками; ходили три года, разыскали места и приостановились все трое ночевать в болотах. Но сестры были хитрее брата; едва Днепр уснул, они встали потихоньку, заняли самые лучшие, отлогие местности и потекли реками. Проснулся поутру брат, смотрит — далеко его сестры; раздраженный, ударился он о сыру землю и в погоню за ними понесся шумным потоком по рвам и буеракам, и чем дальше бежал — тем больше злился и рыл крутые берега. За несколько верст до впадения гнев его утих, и он спокойно вступил в морские пучины; а две сестры его, укрываясь от погони, разбежались в разные стороны. Вот отчего Днепр течет быстрее Двины и Волги, вот почему у него много рукавов и порогов.
Вышеприведенная былина про новгородского гостя Садко рассказывает, что Морской Царь наделил его великими богатствами; другая старинная песня приписывает это Ильмень-озеру, которое олицетворяется добрым молодцем и называется братом Волги. Плыл однажды Садко по Волге-реке, отрезал великий сукрой хлеба, посыпал его солью и опустил в воду с этими словами: "Спасибо тебе, матушка Волга! гулял я по тебе двенадцать лет — никакой скорби над собою не видывал. А иду я, молодец, в Новгород побывать". И провестилась ему Волга-река: "Поклонись от меня брату моему, славному озеру Ильменю". Приехал Садко на Ильмень-озеро и правил ему поклон от Волги-реки:
А и гой еси, славный Ильмень-озеро! Сестра тебе Волга челобитье посылает.
Малое время позамешкавши, приходил от Ильмень-озера удалой добрый молодец и спрашивал: "Как де ты Волгу-сестру знаешь?" Садко рассказал: молодец дал ему позволение закинуть в озеро три невода, и торговый гость наловил множество рыбы и белой и красной и склал в три погреба; в какой погреб ни заглянет потом, а рыба вся превратилась в деньги — в серебро да в золото. Таков был подарок ему от славного Ильмень-озера.
Есть еще другое предание об этом озере. С западной стороны впадает в него небольшая речка, называемая Черный ручей. В давнее время поставил кто-то на Черном ручье мельницу, и взмолилась рыба Черному ручью, прося у него защиты: "Было-де нам и просторно и привольно, а теперь лихой человек отнимает у нас воду". И вот что случилось: один из новгородских обывателей ловил удочкою рыбу на Черном ручье; подходит к нему незнакомец, одетый весь в черное, поздоровался и говорит: "Сослужи мне службу, так я укажу тебе такое место, где рыба кишмя кишит". — "А что за служба?" — "Как будешь ты в Новгороде, встретишь там высокого, плотного мужика в синем кафтане со сборами, в широких синих шароварах и высокой синей шапке; скажи-ка ему: дядюшка Ильмень-озеро! Черный ручей тебе челобитье прислал и велел сказать, что на нем мельницу построили. Как ты, мол, прикажешь, так и будет!" Новгородец обещался исполнить просьбу, а черный незнакомец указал ему место, где скопилось рыбы тьма-тьмущая. С богатой добычею воротился рыболов в Новгород, повстречал мужика в синем кафтане и передал ему челобитье. Отвечал Ильмень: "Снеси мой поклон Черному ручью и скажи ему про мельницу: не бывало этого прежде, да и не будет!" Исполнил новгородец и это поручение, и вот разыгрался ночью Черный ручей, разгулялось Ильмень-озеро, поднялась буря, и яростные волны снесли мельницу.
Песенные сказания сохранили живое воспоминание о жертвенных приношениях морю и рекам. Как Садко чествовал хлебом-солью Волгу, так Илья Муромец — свою родную Оку. Отправляясь с родины на богатырские подвиги, опустил он на прощанье корочку хлеба в Оку — за то, что поила и кормила его. До сих пор простолюдины наши, после счастливого плавания, благодарят реку каким-нибудь приношением. Стенька Разин принес в дар Волге свою любовницу, пленную персидскую княжну. Распаленный вином, он сидел на краю ладьи и, задумчиво поглядывая на волны, сказал: "Ах ты, Волга-матушка, река великая! Много ты дала мне и злата и серебра и всякого добра, ты меня вскормила и взлелеяла, славою и честию наделила; а я ничем еще тебя не благодарствовал. На ж тебе, возьми!" С этими словами он схватил княжну и бросил в воду...
Если жертвоприношениями снискивалась милость водяных божеств, то, наоборот, непочтение к ним влекло за собой неминучую беду. По свидетельству одной старинной песни, подъехал молодец к реке Смородине и взмолился, чтоб указала ему брод. Провестилась река человечьим голосом — душой краской девицей :
Я скажу те, быстра река, добрый молодец, Я про броды кониные, про мосточки калиновы, перевозы частые: Со броду кониного я беру по добру коню, С перевозу частого по седелечку черкесскому, Со мосточку калинова по удалому молодцу; А тебя, безвременного молодца — Я и так тебя пропущу.Переправившись через реку, стал молодец глупым разумом похваляться: "Сказали про реку Смородину — не пройти, не проехати чрез нее ни пешему, ни конному; а она-то хуже дождевой лужи!" Пришлось ворочаться доброму молодцу, не нашел он брода кониного — потопила его река Смородина в своих глубоких омутах, а топила — приговаривала: "Безвременный колодец! Не я топлю, топит тебя похвальба твоя!" Это прекрасное предание напоминает нам поэтический рассказ Гомера о реках Ксанфе и Симоисе, преследующих своими ярыми волнами Ахиллеса; бешеная злоба рек вызвана тем, что герой запрудил их воды трупами убитых троянцев и, издеваясь, говорил врагам:
Вас не спасет ни могучий поток, серебристо-пучинный, Ксанф! Посвящайте ему, как и прежде, волов неисчетных, В волны бросайте живых, как и прежде, коней звуконогих: Все вы изгибнете смертию лютой...
Подобное же участие в народных усобицах принимают реки и в славянском эпосе. Так, в чешской песне о Забое бурные потоки губят врагов-немцев, которые хотят переправиться на другую сторону, а своих (чехов) невредимо выносят на берег. Когда Игорь ушел из половецкого плена и прибежал к Донцу, эта река (как повествует "Слово о полку Игореве") приветствовала его: "Княже Игорю! не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а русской земли веселиа". — "О Донче! — отвечал Игорь, — не мало ти величия, лелеявшу князя на влънах, стлавшу ему зелену траву на своих сребреных брезех, одевавшу его теплыми мъглами под сению зелену древу; стрежаше его гоголем на воде, чайцами на струях, чрьнядьми на ветрех". Игорь воздает честь Донцу за то, что лелеял его на своих водах, укрывал его мглою от вражеской погони, стлал ему по берегам мягкую траву и заставлял оберегать его покой речных птиц. Не так, говорит, поступила река Стугна; "худу струю имея" и пожрав чужие ручьи, она потопила юного Ростислава. Понятно, почему Ярославна сочла долгом обратиться к Днепру с такою мольбою: "О Днепре Словутицю! Ты пробил еси каменныя горы сквозе землю Половецкую. Ты лелеял еси на себе Святославли насады (ладьи)... възлелей, господине, мою ладу (моего мужа) к мне, а бых не слала к нему слез на море рано". У сербов уцелела клятва: "Вода га одниjела!" (в смысле: пропади без следа!)...
По мере того как поэтические олицетворения, придаваемые рекам, озерам и источникам, более и более отделялись от своей стихийной основы и получали в убеждениях массы независимое, самостоятельное бытие, воды стали рассматриваться как жилища этих вымышленных существ. Самые обыкновенные житейские нужды требовали, чтобы человек селился у воды. Потому духи — обитатели колодцев, прудов, озер и рек, у которых селились родичи, были для них такими же близкими божествами, как и пламя, разводимое на семейном очаге. Народные поверья сообщают многие аналогические черты, которые обнаруживают сродство водяного с домовым и равно сближают их с эльфами — и это понятно: как последний есть водворенный на очаге бог-громовник, так в первом узнаем представление о дождящем божестве, низведенное на земные потоки. В характере водяного доселе заметны следы этого древнейшего представления. Наши крестьяне называют его тем же именем дедушки, какое присваивается домовому; имя это дается иногда и лешему, который первоначально также принадлежал к разряду облачных духов...
В весенней грозе выступает Перун на битву с демонами, разит их своею громовою палицею, сбрасывает с воздушных высот вместе с падающими молниями и дождевыми ливнями и заставляет укрываться в ущельях гор, в дремучих лесах и глубине вод (все это: горы, леса и воды — метафорические названия облаков). Как представители темных дожденосных туч, против которых направлены Перуновы удары, водяные смешиваются с нечистою силою; народные пословицы говорят: "Был бы омут, а черти будут"; "Всякому черту вольно в своем болоте бродить"; "Черт без балота ня будець, а балота без черта"; "Черт богато грошей мае, а в болоте сидит"; "В тихом омуте черти водятся"; "Из омута в ад как рукой подать!"; "Все бесы в воду и пузырья вверх!" Дедушка-водяной (водяник, водовик) живет в омутах, котловинах и водоворотах рек, прудов или озер, живет и в болотах — и тогда называется болотняник; особенно же любит он селиться под водяною мельницею, возле самого колеса. Мельница принималась за поэтическое обозначение громоносной тучи, и именно в этом представлении кроется основа мифической связи водяного с мельницами. На каждую мельницу полагают по одному водяному, и даже более — если она имеет два и три постава: всякий водовик заведывает своим колесом, или, как выражаются белорусы: "Всякий черт на свое коло воду цягнет". В то время, когда колесо бывает в ходу и вертится с неуловимой быстротою, водяной сидит наверху его и брызжет водою. Мельник непременно должен быть колдун и водить дружбу с нечистыми; иначе дело не пойдет на лад. Если он сумеет задобрить водяного, то мельница будет всегда в исправности и станет приносить большие барыши; напротив, если не поладит с ним, то мельница будет беспрерывно останавливаться: водяной то оберет у шестерного колеса пальцы, то прососет дыру у самых вешников — и вода уйдет из пруда прежде, нежели мельник заметит эту проказу, то нагонит поводь и затопит колеса. Один мужик построил мельницу, не спросясь водяного, и за то последний вздул весною воды с такою силою, что совсем разорил постройку: рассказ, сходный с преданием о мельнице, которую разорили Ильмень-озеро и Черный ручей. Водяной относительно мельницы является с тем же значением, с каким домовой относительно жилого дома; как ни одно жилье не может стоять без охраны усопших предков, почему и закладка его совершается на чью-либо голову, так точно со всякой новой мельницы водяной (по народному поверью) берет подать, т. е. увлекает в омут человека. При постройке мельницы достаточно положить зарок на живую тварь: свинью, корову, овцу (намек на древние жертвы) или человека, а уж водяник рано или поздно найдет свое посуленое и утопит в воде; большая мельница строится не менее как на десять голов (Тамбов, губ.). Народ представляет водяного голым стариком, с большим одутловатым брюхом и опухшим лицом, что вполне соответствует его стихийному характеру. Вместе с этим, как все облачные духи, он — горький пьяница. Вино и мед были самыми употребительными метафорами дождя; припадая к тучам, бог Индра жадно тянул из них опьяняющий напиток (сому) и поглощал его в свое огромное брюхо; античные сатиры и силены и родственные им лешие и черти отличаются теми же признаками. Водяные и нечистые духи любят собираться в шинках и проводить время в попойках, играя в кости и карты. Уподобление дождя меду заставило признать водяного покровителем пчеловодства; исстари принято первый отроившийся рой собирать в мешок и, привязав к нему камень, топить в реке или пруду — в жертву водяному; кто так сделает, у того разведется много пчел...
Водяные живут полными домохозяевами; в омутах, среди тростников и осоки, у них построены большие каменные палаты; у них есть свои стада лошадей, коров, овец и свиней, которых по ночам выгоняют они из вод и пасут на смежных лугах. Такие же стада находим у бога-громовника и великанов: это — знакомые нам зооморфические олицетворения облаков и туч. Водовики почти всегда женаты и имеют по многу детей; женятся они на водяных девах, известных у славян под разными названиями (моряны, водяницы, дунавки, русалки и пр); вступают в связи и с людским миром, женясь на утопленницах и на тех несчастных девушках, которые были прокляты отцом или матерью и вследствие этого проклятия уведены нечистою силою в подводные селения. Погружаясь на дно рек и озер и задыхаясь в глубоких водах, смертные девы переходят в царство усопших душ и смешиваются с толпами стихийных существ, становятся эльфами и русалками и потому делаются доступными любви водяного. Когда в полноводие, от весеннего таянья снегов или от долгих проливных дождей, выступит река из своих берегов и стремительным напором волн поломает мосты, плотины и мельницы, то крестьяне думают, что все эти беды произошли оттого, что водяные подпили на свадьбе, предались буйному веселью и пляскам и в своем разгульном поезде разрушили все встречные преграды. Свадебное торжество, которое созерцал древний человек в грозовой буре, было перенесено им на весенние разливы рек; связь этого поверья с преданием о пляске Морского Царя, когда он выдавал свою дочь замуж за богатого гостя Садко, очевидна и не требует пояснений. Когда у водяного должна родить жена, он принимает вид обыкновенного человека, является в город или деревню и приглашает с собой повивальную бабку, ведет ее в свои подводные владения и щедро награждает за труд серебром и золотом. Рассказывают, что однажды рыбаки вытащили в сетях ребенка, который резвился и играл, когда его опускали в воду, и томился, грустил и плакал, когда приносили в избу. Ребенок оказался детищем водяного; рыбаки отпустили его к отцу — с условием, чтобы он нагонял в их сети как можно более рыбы, и условие это было им свято соблюдаемо.
Вода составляет существенное свойство, необходимую природу водяного: появится ли он в деревне — его легко узнают, потому что с левой полы его постоянно капает вода; где бы он ни сел, то место всегда оказывается мокрым. В своей родной стихии водяной непреодолим, а на земле сила его слабеет. Хозяин известных вод, он на всем их пространстве обладает рыбами и другими животными, какие только там водятся; все, что ни случается на реках, прудах или озерах, — творится по его воле: он бережет пловца в бурную погоду, дает рыбаку счастливый улов, смотрит за его неводами и бреднями и в то же время, согласно с разрушительными свойствами олицетворяемой им стихии, склонен к злым проказам. Все беды на воде бывают от него: он заманивает пловцов в опасные места, перевертывает лодки, размывает гребли и плотины, портит рыболовные снасти и пугает скотину на водопое. Случается, что рыбаки, подымая невод, вытаскивают вместе с рыбою и водяного деда, который тотчас же разрывает сеть, ныряет в воду и вслед за собою выпускает всю пойманную рыбу. Один рыбак, завидя, что по реке плывет тело утопленника, взял его в лодку, но к ужасу его мертвец вдруг ожил: вскочил, захохотал и бросился в омут. Так подшутил над ним водяной. Обыкновенно водяник ездит на соме, и в некоторых местностях рыбу эту не советуют употреблять в пищу, потому что это — чертов конь; пойманного сома не следует бранить, чтобы не услыхал водяной и не вздумал отомстить за него. Если же водяному придет охота оседлать крестьянского коня, быка или корову, то бедное животное под ним подламывается, вязнет в тине и издыхает...
При дневном свете водяной большею частью скрывается в глубине, а в ночном сумраке выплывает наверх и даже выходит на берег расчесывать гребнем свои волосы. В лунные ночи он хлопает по воде ладонью — и звучные удары его далеко слышны по плесу, или ныряет с неуловимою для глаз быстротою: среди совершенной тишины вдруг где-нибудь заклубится, запенится вода, из нее выскочит водяное чудо и в тот же миг скроется, а в полверсте от этого места снова клубится pi пенится вода, и снова выставляется голова водяного. В ночную же пору дерутся водяные с лешими, отчего идет по лесу грохот и треск падающих деревьев и громко раздается во все стороны шум плещущих волн: поверье, намекающее на битвы грозовых духов; грохот и треск в лесу и звучные удары по воде соответствуют громовым раскатам, от которых сокрушаются темные дебри облаков и льются дождевые потоки.
Чехи убеждены, что над теми людьми, которым судьба определила утонуть, водяной получает таинственную власть, которую ничем нельзя отклонить. Доныне в Богемии рыбаки неохотно соглашаются подать помощь утопающему; они боятся, чтобы водяной не лишил их за это счастья в рыбной ловле и не утопил бы их самих при первом удобном случае. Здесь рассказывают, что водяной нередко сидит на берегу, с дубинкою в руках, на которой развеваются разноцветные ленты. Эти ленты оказываются вблизи водяными порослями и травами; ими он приманивает детей, и как скоро это удается ему — схватывает их и безжалостно топит в воде. На Руси видали его плавающим на чурбане или коряге: он сидит на ней голый, весь в тине, имея на голове высокую боярскую шапку, свитую из зеленой куги, и вокруг тела зеленый пояс из той же травы. Олицетворяя источники и реки в живых человеческих образах, фантазия растущие в их водах и по берегам травы обратила в уборы созданных ею мифических существ...
Подобно домовому, который все тащит из соседских кладовых и амбаров в свой собственный дом, — водяной ухитряется перезывать к себе рыбу из чужих рек и озер. Так объясняют простолюдины умаление и совершенное исчезание рыбы в тех или других водах. Объясняют это и несколько иначе, уверяя, что один водяной проиграл все свое добро другому. Так, о водяниках Кончозерском и Пертозерском рассказывают, что они, как соседи, играли в карты (позднейшая замена старинной игры в шары), и первый выиграл у последнего всю ряпушку; с тех пор рыба эта перестала ловиться в Перт-озере.
Летом водяной бодрствует, а зимою спит; ибо зимние холода запирают дожди и застилают воды льдами. С началом весны (в апреле), когда зачинается новая жизнь, когда домовой меняет свою шкуру и обнаруживает бешеную страсть все ломать и портить, водяной пробуждается от зимней спячки — голодный и сердитый; с досады он ломает лед, вздымает волны, разгоняет рыбу в разные стороны, а мелкую и совсем замучивает. В этом предании прекрасно выражена мысль о пробуждении вод от зимнего сна: с полным разгулом несется проснувшаяся река, сбрасывая с себя ледяные покровы и напором полой воды и льдин снося мосты, гати, мельничные снасти и прибрежные склады и строения. В Архангельской губ. о прибывающей воде говорят, что она заживает. Около этого времени гневного водяного ублажают жертвами. Крестьяне покупают миром лошадь, не торгуясь в цене; три дня откармливают ее хлебом и конопляными жмыхами; потом спутывают ей ноги веревкою, на шею надевают два жернова, голову обмазывают медом, в гриву вплетают красные ленты и в полночь опускают в прорубь (если стоит еще лед) или топят среди реки (если лед прошел). Три дня дожидается водяной этого гостинца, выражая свое нетерпение колыханием воды и глухим стоном. Задобренный приношением, он смиряется. Со своей стороны рыболовы чествуют водяного жертвенным возлиянием; старший из них выливает в реку масло, приговаривая: "Вот тебе, дедушка, гостинцу на новоселье! Люби да жалуй нашу семью". Мельники, чтобы водяной не разорвал плотины, однажды в год приносят ему в дар откормленную черную свинью; кто этого не делает, того он замучивает во время сна, а плотину наверно размоет. Как петух, служивший символом огня, был посвящен домовому и считался лучшею для него жертвенною яствою, так гусь, представитель водной стихии, посвящался водяному. Если выкинет из трубы, то с целью предохранить дом от пожара опускают в нее живого гуся: средство это, по народному поверью, так же спасительно, как и вода, заливающая огонь. Гуси и утки все лето живут на реках, озерах и прудах под надзором и охраною дедушки водяного, а на зиму покидают оцепенелые воды. В половине сентября, когда становится ощутительно приближение зимы, водяному приносят гуся, как прощальный дар — в благодарность за то, что сторожил домашних гусей и уток в продолжение лета.
В мифических сказаниях древности облака и тучи были уподобляемы рыбам, плавающим в воздушном океане. Это представление сочеталось и с теми человеческими образами, в каких фантазия олицетворяла небесные и земные источники. Водяные духи и девы то совершенно превращаются в рыб, то являются со смешанными формами человека и рыбы. Так, греческие сирены, немецкие никсы, славянские моряны и русалки с головы по пояс представляются юными девами чудной, обольстительной красоты, а ниже пояса имеют рыбий хвост. Выставляя из вод свои прекрасные головы, белоснежные плечи и груди, они поют чарующие песни и манят к себе неосторожных юношей, которые, будучи не в силах противиться страстному наитию любви, бросаются в волны и тонут в предательской стихии. Народные русские сказки говорят о вещих ("мудрых") девах, которые плавают в морских и речных водах то белыми лебедями, то златоперыми рыбками; пойманная на удочку и кинутая наземь, рыбка эта оборачивается красной девицей, выходит замуж за сказочного героя, всех пленяет красотою и всех превосходит силою чародейного ведения. В польской редакции той же самой сказки герой закидывает в воды уду-самоловку с серебряной волосенью, с золотым поплавком, и ловит русалку — полудеву, полурыбу, одаренную дивною красотою и очаровательным голосом. По древнепоэтическим воззрениям, в весенней грозе бог-громовник выступал на ловлю рыбы-тучи и закидывал для того в небесные воды уду-молнию, или он преследовал легконогую облачную нимфу, и как скоро настигал ее — делил с нею любовь. Оба эти представления фантазия соединила вместе: рыба, пойманная сказочным героем, превращается в вещую деву, с которою он и вступает в брачный союз. Ходит еще на Руси следующий интересный рассказ: один молодой промышленник каждый вечер играл на гуслях в своей гальёте[126], и как только заиграет — слышно было, что кто-то пляшет перед ним. Захотелось ему узнать, что бы это значило? И вот он спрятал под черепком зажженную свечу, и когда вдруг осветил ею гальёту — перед ним стояла бледнолицая красавица с русыми косами: то была русалка, или по другому варианту — проклятая отцом девица, которая проживала у нечистых в морской глубине. Подобный же рассказ находим в хорутанских приповедках, где героинею является девица, которая еще ребенком была похищена и унесена в море; там ее вскормили морские девы, научили пляскам, и белое тело ее облекли рыбьей чешуею. На Украине существует поверье, что когда играет (волнуется, шумит) море, — на поверхность его всплывают морские люди — "що половина чоловiка, а половина риби" и поют песни; чумаки приходят тогда к морю, слушают и научаются тем славным песням, которые потом распевают по городам и селам. В других местах этих "морских людей" называют фараонами, смешивая старинное предание о морянах с библейским сказанием о фараоновом воинстве[127], потонувшем в волнах Чермного моря. Рассказывают, что люди эти — с рыбьими хвостами и что они обладают способностью предсказывать будущее. В суеверно настроенном воображении крестьян саратовской и других губерний омуты населены нечистыми духами-оборотнями, принимающими на себя образы различных рыб; большая опасность угрожает тому рыбаку, который ударил бы в такую рыбу острогою. По народным рассказам, известным в северо-восточной России, водяной часто оборачивается рыбою и по преимуществу — щукою.
Древо жизни и лесные духи
Дождевые тучи, потемняющие небесный свод широко раскинутою и многоветвистою сенью, в глубочайшей, незапамятной древности были уподоблены дереву-великану, обнимающему собою весь мир, — дереву, ветви которого обращены вниз — к земле, а корни простираются до самого высокого неба. О таком всемирном дереве сохраняются самые живые предания во всех языческих религиях арийских народов. Несомненно, что это баснословное дерево есть мифическое представление тучи, живая вода при его корнях и мед, капающий с его листьев, метафорические названия дождя и росы, а море, где оно растет, — воды небесного океана. Арии различали три одно над другим восходящих неба: а) царство воздуха и облаков, б) ясно-голубой свод и в) царство вечного света, откуда солнце и другие светила заимствовали свой чудный блеск, откуда произошла и самая молния, давшая бытие земному огню. С этого третьего неба простирает свои широкие ветви вечно неувядаемое фиговое дерево, под которым пребывают души блаженных и вместе с богами вкушают бессмертный напиток...
В апокрифической[128] беседе Панагиота с фрязином[129] Азимитом (по рукописи XVI в.) мировое дерево описано так: "А посреди рая древо животное, еже есть божество, и приближается верх того древа до небес. Древо то златовидно в огненной красоте; оно покрывает ветвями весь рай, имеет же листья от всех дерев и плоды тоже; исходит от него сладкое благоуханье, а от корня его текут млеком и медом 12 источников". Простолюдины до сих пор убеждены, что где-то далеко (на востоке) есть страна вечного лета, насажденная садами из золотых и серебряных деревьев и оглашаемая песнями райских птиц, в которой реки текут млеком и медом, серебром и золотом.
Предание о мировом дереве славяне по преимуществу относят к дубу. В их памяти сохранилось сказание о дубах, которые существовали еще до сотворения мира. В колядке карпатских русов поется, что еще в то время, когда не было ни земли, ни неба, а только одно синее море (воздушный океан) — среди этого моря стояло два дуба, а на дубах сидело два голубя: голуби спустились на дно моря, достали песку и камня, из которых и создались земля, небо и небесные светила. В одной из апокрифических повестей о создании вселенной упоминается о железном дубе, еже есть первопосажден, на котором держится вода (воздушное море, небо), огонь (пекло, ад) и земля, а корень его стоит на силе божией. По свидетельству заговоров, на море на океане, на острове на Буяне стоит дуб мокрецкий, а под ним лежит змея Гарафена (Горыныч?): эпитет "мокрецкий" указывает на связь его с дождевыми ключами. Другой эпитет, придаваемый этому дереву, именует его святым. Любопытно следующее заклятие ратника, идущего на войну: "На святом окиян-море стоит... сырой дуб кре(я)ковистый, и рубит тот сырой дуб стар мастер (матёр?) муж своим булатным топором, и как с того сырого дуба щепа летит — такожде бы и от меня (имярек) валился на сыру землю борец-молодец по всякий день, по всякий час", т. е. как от ударов Перунова топора (молнии) исчезают тучи, так да падут от моих ударов вражеские воины. Народная русская сказка, известная и другим славянам, рассказывает про дуб, который вырос до самого неба; полез старик на то дерево, лез-лез и взобрался на небо, где сидел кочеток-золотой гребешок — птица, которая ни в огне не горит, ни в воде не тонет, и стояли чудесные жерновки — эмблема весенней грозы, дарующей земле плодородие, а людям их насущный хлеб. По указанию хорутанекой приповедки, вилы — облачные девы, родственные норнам, обитают в дупле и питаются сахарными яствами, то есть сладкою амритою; а польская сказка упоминает о дубе с золотыми листьями и желудями. Соединяя вместе эти разрозненные черты, сохранившиеся в различных памятниках, мы убеждаемся в совершенном соответствии нашего стародуба со скандинавской ясенью: на нем держатся три великих мира — небо, земля и ад, на ветвях его гнездятся молниеносные птицы, а у корня лежит страшная змея, наконец, при этом дереве текут живые источники и обитают вещие девы. В Калужской губ. у Мещовска стоят два сухих дуба, под которыми, по местным рассказам, собираются ведьмы на свои шумные игрища. В Германии думают, что ведьмы, собирая дубовые листья в сорочку и вешая этот узел на дерево, могут вызвать ветры, рассеять тучи и восстановить ясную погоду; с целью же произвести грозу — они кипятят дубовые листья в горячей воде. По русскому поверью, ведьмы втыкают нож в дерево и тем самым заставляют течь из него молоко, т. е., вонзая острие молнии в дерево-тучу, ведьмы проливают небесное молоко дождя. Народный сказочный эпос знает дуб, под которым бывают сборища духов; с его ветвей падает целебная роса...
В продолжение долговременных переселений арийских племен некоторые из общих названий, служивших для обозначения всякого дерева, сделались частными, стали присваиваться только одному известному роду или виду, и наоборот, некоторые частные названия обобщились. Первоначально слово дуб заключало в себе общее понятие дерева, что до сих пор слышится в производных дубина, дубинка, дубец — палка. У сербов дуб называется грм, грмов (дубовый лес — грмик), что без сомнения указывает на ближайшее отношение его к Перуну и небесным громам. Старинные грамоты, определяя по этому священному дереву границы родовых владений, называли его Перуновым... Древний человек добывал огонь из дерева и древесными ветками и обрубками поддерживал его священное пламя на очаге; мог ли он иначе объяснить себе явление грозового пламени, как не этим знакомым ему способом? Понятно, что в туче, которая порождает молнии и ими же пожирается, он должен был увидеть небесное дерево, а в дожде — его сок, выгнанный с помощью огня. В силу этого воззрения дождь получил метафорическое название смолы или дегтя. Своею громовою палицею Перун сверлит тучу-дерево и, зажигая грозовое пламя, шлет дожди, а с ними изобилие плодов земных и всякое довольство. На земле представителем этого небесного пламени и его животворящих свойств был так называемый живой огонь, добываемый трением из дубового дерева. По словам летописи, литовцы заботились, чтобы перед истуканом Перкуна горел неугасимый огонь "з'дубового древня"; у них сохранилось поверье, что хлебные семена были ниспосланы на землю в шелухе желудей, что прямо приравнивает дуб бесскорбному дереву зендской мифологии, с которого разносились семена по всей земле. По славянским преданиям, семена приносятся весенними ветрами из вечнозеленых садов рая...
Сохранившиеся в Литве предания и прусские хроники уверяют, что заповедные дубы Перкуна, под сенью которых ставились и его кумиры, были постоянно зелены и летом, и зимою; особенным почетом пользовались у литовцев старые, вековые дубы; их окружали оградами, и в эпоху обращения в христианство народ скорее соглашался на истребление идолов, чем на посечение этих деревьев. Священные дубы и при них жертвенники Перкуну были в Ромове, Креве, Вильне и других местах. О славянах имеем следующие известия: Сефрид упоминает о большом ветвистом дубе, который почитался жилищем божества; у Гельмольда сказано: "На пути (из Старгарда в Любек) мы заехали в рощу, единственную в том краю, потому что весь он — голая равнина. Там, между старыми деревьями, увидели мы и дубы, посвященные богу той страны — Проне (Перуну). Они были окружены двором и деревянной, тщательно отделанной оградою, с двумя воротами... Это место было святилищем для всей страны, имело своего жреца, свои праздники и разные обряды при жертвоприношениях. Сюда, после праздника, сходился народ (вече) с жрецом и князем для суда. Вход во двор воспрещен был всякому, кроме жреца и тех, кто желал приносить жертвы или кто, угрожаемый опасностью смерти, искал убежища". Как скоро христианские просветители приблизились к роще, они немедленно разбили ворота, из разломанных бревен сложили костры около священных деревьев и предали их сожжению. Следуя примеру богов, собиравшихся решать судьбы человечества под всемирным деревом, славяне творили суд и правду под старыми дубами и глубоко верили, что все постановленные под их сенью приговоры изрекались по внушению божества...
Константин Порфирородный[130] свидетельствует, что русы, приходя на остров св. Георгия, совершали жертвоприношения под большим дубом. Духовный регламент, в числе суеверных обрядов, указывает на следующий: "Тако ж на ином месте попы с народом молебствуют перед дубом, и ветви оного дуба поп народу раздает на благословение". На Украине в так называемую Зеленую (троицкую) неделю приготовляют игорный дуб, т. е. устанавливают на выгоне или площади длинную жердь с прикрепленным вверху колесом, всю увитую травами, цветами и лентами; вокруг ее окапывают небольшой ров и ставят срубленные березки. Между Киевом и Переяславлем эта жердь называется сухим дубом. Около нее совершаются игры и поется обрядовая песня. Обряд состоит в призывании весны, животворная сила которой приносит дождевые тучи и рядит леса в зелень и цветы. Дуб здесь символ Перунова дерева-тучи: зима, похищающая дожди, иссушает его благодатные соки, и оно так же цепенеет от стужи, как и земные деревья в период зимних месяцев; с весною оно оживает и начинает цвести молниями (Перуновым цветом). Колесо указывает на ту втулку, в которой бог-громовник вращает свою палицу, чтобы возжечь живое пламя грозы. Под влиянием указанных нами мифических представлений, дуб, а равно и всякое другое дерево, в которое ударила молния, получили во мнении простолюдинов те же целебные, живительные свойства, какие приписываются весеннему дождю и громовой стрелке. Чтобы иметь лошадей добрых ("в теле"), советуют класть в конюшне кусок дерева, разбитого громом. Если при первом весеннем громе подпереть спиною дерево (или деревянную стену), то спина болеть не будет. В Тульской губ. поселяне стараются отыскивать в лесных засеках старые дубы, при которых вытекали бы ключи; сдирают с их веток кору, вымачивают ее в роднике и потом носят в ладанках — в предохранение от зубной боли. Золотые, ничем не сокрушимые зубы бога-громовника заставили приписать ему и всем его атрибутам спасительную силу унимать зубную боль. Поэтому народная медицина предлагала кусать больным зубом дубовое дерево или камень (символ молниеносного молота)...
В Пронском уезде еще в конце прошлого столетия существовал толстый старый дуб с проемного скважиною, пользовавшийся большим уважением в народе; сквозь его скважину протаскивали раза по три детей, больных грыжею, и вслед за тем обвязывали дерево поясом или кушаком. В Воронежской и Саратовской губ. доныне носят недужных детей в лес, нарочно раскалывают надвое молодой зеленый дубок, протаскивают между его расщепами три раза ребенка и затем связывают дерево ниткою. Детей, страдающих сухоткою, кладут на известный срок в раздвоенное дерево, потом трижды девять раз обходят с ними вокруг дерева и вешают на его ветвях детские сорочки. По возвращении домой купают их в воде, взятой из девяти рек или колодцев, и обсыпают золою из семи печей. От лихорадки и других болезней крестьяне купаются в реках, лесных родниках и колодцах, а после купания вытираются чистою тряпицею и вешают ее на соседнее дерево или ракитов куст; вместо тряпицы вешают также рубашку или лоскут от своей одежды и оставляют их висеть до тех пор, пока совсем не истлеют. Смысл обряда — следующий: смывая и стирая со своего тела недуг, больной как бы снимает его с себя и вместе с тряпицею и сброшенной рубашкою передает кусту или дереву, как земным представителям того небесного, райского древа, которое точит живую воду, исцеляющую все болести. Как истлевает оставленный лоскут или сорочка, так должна сгинуть и самая болезнь. Позднее, при утрате ясного понимания старинных представлений, обряд этот получил характер жертвенного приношения лесным и водяным духам.
Не менее любопытные поверья соединяет народ с осиною — дерево, за которым усвоены мифические свойства едва ли не вследствие сродства его имени со словом ясень. Как ясени придана сила, оцепеняющая змей, так об осине утверждают, что убитого ужа должно повесить именно на это дерево; иначе он оживет и укусит. Когда богатырь Добрыня убил змея, он повесил его на осину кляплую: "Сушися ты, змей Горынчище! на той-то осине на кляплыя". Подобное же спасительное действие оказывает осина и против колдунов, упырей и ведьм, играющих в народных поверьях роль почти тождественную со змеем; как он высасывает молоко-дождь небесных коров-туч, так они похищают дожди и росы, доят и высасывают тех же коров и, воскресая весною от зимней смерти, любят упиваться теплою кровью (другая метафора дождя). Позабывая о связи старинных метафорических выражений с небесными явлениями природы, читая в них не тот первоначальный смысл, какой они действительно в себе заключали, а, напротив, понимая их буквально, народ приписал колдунам, упырям и ведьмам доение и порчу обыкновенных коров, выхождение из гробов по смерти и высасывание крови у живых людей. Для защиты себя и стад от этих мнимых бед прибегают к помощи осины. Мифическое древо-туча, из-под корней которого струится живая вода дождя, цветет золотым или огненным цветом-молнией; на вершине его сидит молниеносная птица — орел или петух с золотым гребнем. Демонические змеи, чародеи и ведьмы, с жадностью бросаясь на любимый ими напиток живой воды, в то же время подвергаются ударам громовым стрел, которые разят хищников и заставляют их бежать в страхе и трепете. Заостренный осиновый кол получил в глазах народа значение Перуновой палицы. Чтобы мертвец, в котором подозревают злого колдуна, упыря или ведьму, не мог выходить из могилы, крестьяне вбивают ему в спину осиновый кол; чтобы предохранить коров и телят от нападения ведьм, они ставят на воротах и по углам скотного двора осиновые деревья, срубленные или вырванные с корнем; во время чумы рогатого скота, прогоняя Коровью Смерть, бьют ее (т. е. машут по воздуху) осиновыми поленьями. По свидетельству сказок, колдунам-выходцам из могил вколачивают в сердце осиновый кол, бьют их наотмашь осиновым поленом и сжигают их трупы на осиновом костре... В свою очередь, ведьма может пользоваться осиновым колом или веткою для своих волшебных чар: ударяя этой веткою в грудь сонного человека, она наносит ему незримую рану и жадно упивается его кровью — так весенние удары молнии, направленные в тучу, еще объятую зимним сном, проливают из нее дождь, или, выражаясь метафорически: Перунова ветка раскрывает грудь облачного демона и точит из него горячую кровь. Выдоив черную корову, ведьма выливает молоко в землю и тут же вбивает осиновый кол; этою чарою она отымает у коров молоко, насушает их сосцы — так удары молнии, низводя на землю молоко-дождь, тем самым иссушают черные тучи. Как спасительное орудие против демонского наваждения, осина может служить и целебным средством для прогнания нечистой силы болезней. Разбитых параличом заставляют лежа упираться босыми ногами в осиновое полено. От лихорадки и других болезней лечат так: просверливают в стене или дверях дыру на таком расстоянии от земли, как велик рост больного, остригают ему ногти и несколько волос, то и другое вкладывают в приготовленное отверстие и заколачивают его осиновым колышком; иногда просверливают дыру в осиновом дереве и затыкают ее ногтями и волосами больного. Читают еще заговор над осиновыми прутьями, которые потом кладутся на больного. Когда разболятся зубы, берут осиновый сучок и трижды читают над ним заговор: "На море на окиане, на острове на Буяне стоят высокие три древа, под теми деревьями лежит заяц; переселись ты, зубная боль, к тому зайцу!" После того осиновый сучок прикладывается к больным зубам. Передача болезни зайцу, о которой говорит заклятие, заключает в себе тот же смысл, что и просьба, обращаемая к мыши, дать свой железный зуб в обмен на испорченный.
В райских садах и рощах, на тенистых деревьях весенних туч зреют золотые плоды (яблоки), дающие вечную молодость, здравие и красоту. По своим чудесным свойствам плоды эти совершенно тождественны с бессмертным напитком — живою водою. Народный сказочный эпос обыкновенно сопоставляет рядом оба эти представления и соединяет с ними одинаковую жизненную и целебную силу. Блестящие молнии уподоблялись арийскими племенами золотым шарам и яйцам; в применении к облачным садам, золотые шары-молнии породили миф о золотых плодах, зреющих в счастливую пору весны и лета на деревьях-тучах...
Ради животворящих свойств, приписанных небесным яблокам, русское предание дает им название молодильных или моложавых: стоит только вкусить от этих плодов — как тотчас же сделаешься и молодым, и здоровым, несмотря на преклонные лета. Любопытная русская сказка о молодильных яблоках и живой воде, известная и у других народов, сообщает один из древнейших мифов. Состарившийся и ослепнувший царь, о котором говорит она, олицетворяет собою зимнее время, когда все на земле увядает, дряхлеет и всемирное око-солнце теряет свой яркий блеск. Изображая времена года живыми, человекоподобными существами, народная фантазия весну представляла прекрасным юношею, а зиму беловласым и слепым старцем. Чтобы возвратить царю его молодость и зрение, сын-царевич должен добыть живой воды, которая исцеляет слепоту, и моложавых золотых яблок, т. е. вызвать весну с ее благодатными дождями, золотистыми молниями, светозарным солнцем и со всей роскошью растительного царства[131]. Живая вода и золотые яблоки обладают равною творческою силою: они одинаково обновляют дряхлого старика, делают его цветущим юношею и даже уподобляют семилетнему ребенку; больному дают крепость и здравие, мертвому — жизнь, безобразие превращают в красоту, бессилие — в богатырскую мощь; и та и другие обретаются в стране далекой — в вечно неувядаемом саду — и оберегаются драконами и великанами...
Предания о небесных, райских садах с течением времени стали прилагаться к земным лесам и рощам и сообщили им священный характер. Сверх того, красота и таинственность огромных девственных лесов древнейшей эпохи не могли не поражать поэтически настроенного воображения младенческих племен. В жизни растительного царства они созерцали ту же вечную борьбу божественных сил, какую замечали и в стихийных явлениях природы. С началом весны поля, кустарники и дубравы убираются зеленью и цветами; злая зима снимает с них эти роскошные уборы и повергает все в мертвенное оцепенение — до нового возврата вешних дней. Следуя внушениям метафорического языка и тесно связанных с ним первобытных воззрений на мать-природу, древний человек почти не знал неодушевленных предметов; всюду находил он и разум, и чувство, и волю. В шуме лесов, в шелесте листьев ему слышались те загадочные разговоры, которые ведут между собою деревья; в треске сломленной ветки, в скрипе расколотого дерева он узнавал болезненные стоны, в увядании — иссушающее горе и так далее. Дерево содрогалось, чахло и даже проливало кровь (сок), будучи тронуто острым железом. "Ничить трава жало-щами, а древо с тугою к земли приклонилось" — говорит "Слово о полку Игореве"; подобными выражениями преисполнена народная поэзия...
Представляя тучи небесными деревьями, перенося это представление на землю и связывая его с обыкновенными дубравами, древний человек признал леса и рощи местопребыванием облачных духов и этим последним придал характер лесных гениев. Как в образе водяных идея дождевых потоков связывается с земными источниками, так в леших ясны черты их первоначального, стихийного значения, сочетавшиеся с лесами и деревьями. Слово леший в областных говорах и в старинных памятниках означает: лесной, лесистый; в разных губерниях и уездах лешего называют лешак, лесовик, лесник, лисун (полисун) и даже лес. Они живут в лесных трущобах и пустырях, но обыкновенно с первыми морозами (в начале октября) проваливаются сквозь землю, исчезая на целую зиму, а весною опять выскакивают из земли — как ни в чем не бывало. Расставаясь осенью с лесом, они бесятся, ломают с досады деревья, словно хрупкие трости, и разгоняют всех зверей по норам; во весь тот день воет по лесу страшный ветер. В этом любопытном поверье ясно сказывается тождество леших с творческими силами лета. Подчиняясь влиянию зимы, тучи перестают блистать молниями, грохотать громом и разливаться дождем; это оцепенение, или зимний сон, фантазия соединяет со всеми их мифическими олицетворениями. Подобно тому как водяной спит всю зиму и только в апреле просыпается бешеный и шумный, и лешие проваливаются сквозь землю в холодное время осени и в темных подземельях успокаиваются до весеннего своего пробуждения. Одною из наиболее употребительных метафор в старинной поэзии было представление облаков и туч мрачными горными пещерами и подземным царством; сюда-то и скрываются духи летних гроз на зиму...
Древнее сказание о грозовых демонах, исчезающих осенью, в дни месяца листопада, и снова появляющихся весною, народная фантазия, согласно с усвоением этим духам лесного типа, связала с замиранием и возрождением жизни в дубравах и рощах, которые к зиме сбрасывают с себя листья, а в вешнюю пору одеваются в зелень и цветы. Покидая землю, лешие подымают ветры, ломают деревья и разносят их пожелтевшие листья: в этих обычных явлениях бурной осени поэтический взгляд народа усматривает их досаду, чувство недовольства и тоски по умирающей природе. Впрочем, лешие не все исчезают на зиму; в некоторых местностях их смешивают с демонами зимних вьюг. Стремительные вихри, по мнению крестьян, есть дело лешего. Так, поломанные бурею в лесах деревья обыкновенно причисляются к его проказам; по народному поверью, лешии никогда не ходит просто, а спереди и сзади его всегда сопровождает сильный ветер, и по направлению ветра можно заключать, куда именно держит он путь. Никто не видал, чтобы он оставил где-нибудь след своих ног, хотя бы прошел по песку или снегу: это потому, что он вихрем заметает свой след, как поступают и ведьмы. В августе месяце поселяне караулят по ночам снопы от потехи лешего, который раскидывает их, подымая вихри; с целью помешать ему, они ходят на гумно в вывороченных тулупах и обводят около снопов круговую черту кочергою, т. е. замыкают гумно со всех сторон как бы оградою; вывороченный тулуп — эмблема облачного одеяния, в которое рядится бог-громовник, гонитель демонов, а кочерга — эмблема его молниеносной палицы. Уверяют также, что леший боится головешки; а шведы, чтобы удалить лесного духа, советуют бросать в него кусок железа. И головешка, и железо — символы молнии. Так как свистом можно накликать бурю, то крестьяне не только не решаются свистать на воде, но не делают этого и ночью в лесу, опасаясь разбудить лешего, который, проснувшись, спешит откликнуться. Когда путнику почудится страшный свист лешего (вой ветра), он торопится убежать в противоположную сторону.
Могучие явления грозы предки наши олицетворяли то в образе великанов, тождественных с громадными тучами, застилающими собой весь небосклон, то в образе карликов, тождественных с малютками-молниями, обитающими в облачных горах. Оба представления приданы и лешим, которые бывают то ниже травы, то выше самых высоких деревьев. Как надвигающаяся на небо туча из едва заметного вдали черного пятна быстро вырастает в своем объеме и достигает исполинских размеров, так и леший мгновенно может вырастать и умаляться. О богатырях и великанах сказки выражаются, что они растут не по дням, не по часам, а по минутам. Обыкновенно в лесу леший равен с высокими дубами и соснами, а на поляне — с травою. Белорусы утверждают, что рост лешего зависит от высоты тех деревьев, вблизи которых он стоит или идет, т. е. по первоначальному воззрению рост лешего определялся размерами тех летучих облачных лесов, в среде которых шествовал он по небу. В Киевской и Черниговской губ. различают лисунов и полевиков; первых представляют великанами сероватого и пепельного цвета; о последних же рассказывают, что они равны с высотой хлеба, растущего в поле, и после жатвы умаляются и делаются такими крохотными, как стерня, т. е. рост их в то время не превышает остающихся на корню срезанных стеблей соломы...
В весенней грозе древние племена видели упорный и смертоносный бой великанов туч; этот воинственный тип усвоен и лешим. Лесовики, рассказывают крестьяне, ведут между собою частые войны; но как существа титанической породы, они не знают ни пушек, ни ружей, ни пороха, а ломят своих противников столетними деревьями, которые тут же вырывают с корнем, и стопудовыми камнями, отбитыми от скал; брошенные рукою лешего, камни эти и деревья летят в десять раз скорее пули и на громадные расстояния — верст на пятьдесят и более. Поломанные бурей леса и горные обвалы суть следы их ожесточенной битвы. В такой грандиозной картине изображает народ удары грозы и полет бурных облаков, перенося древние представления о небесных деревьях и горах-тучах на обыкновенные леса и скалы. Низводя мифические сказания на землю, налагая на них бытовые черты, народ рассказывает, что в каждой стране лешие подчинены своим воеводам и царям и что у них так же бывает солдатчина (набор), как и между людьми. Над русскими лесовиками царствует Мусаил (Мафусаил)[132] — лес. Как скоро у народов различных государств начнется война, то и лешие этих стран вступают между собой в кровавые битвы: целые рати их сходятся, ведя за собою лесных зверей, и бьются нещадно до тех пор, пока не прекратится человеческая война. То же участие в народных распрях приписывается и сербским вилам, родственным с нашими русалками.
Лешие — властители дремучих лесов, и в некоторых областях их называют лесовыми царьками, господарями над лесом. В больших лесах господствуют по два и по три леших. В Архангельской губ. есть рассказ о том, как два леших поссорились с третьим при дележе лесных дач, связали его и бросили; случайно набрел на него промышленник и освободил; в благодарность за то леший донес его вихрем с Новой Земли на родину и после пошел за него в рекруты и отбыл трудную службу. Когда леший идет дозором по своим владениям, то при его приближении шумит лес и кругом трещат деревья. По ночам он приходит спать в какой-нибудь станок (сторожку) и, проснувшись поутру, назначает место будущего своего ночлега. Если избранную им лесную избушку займет запоздавший путник или охотник, леший старается его выпроводить: то вихрем пронесется над избушкой и пошатнет ее кровлю, то распахнет дверь, то тряхнет ближайшими деревьями и подымет страшный шум; словом — ему приписываются все явления, вызываемые в лесу порывами ветров. Если незваный гость и тогда не послушается, то ему грозит беда: он или заблудится в лесу, или завязнет в болоте, заведенный туда разгневанным лешим. Вместе с лесными угодьями под властью и покровительством лешего состоит и всякий зверь, обитающий в лесах, и всякая птица, которая там водится. Наиболее любимое им животное — медведь, о котором предания говорят как об одном из главнейших воплощений бога-громовника. Леший — большой охотник до вина (метафора дождя), а все-таки ни единого ведра не выпьет без того, чтобы не попотчевать зауряд и медведя. Кроме этого зверя, он никого не берет в услужение к себе, и когда опьяненный ляжет соснуть — то медведь ходит около него дозором и сторожит его от нападения водяных. Белки, песцы и полевые мыши, как известно, переселяются с одного места на другое большими стадами и периодически (года через два или три) появляются во множестве то здесь, то там: это называется течкою. Крестьяне объясняют ее тем, что лешие перегоняют звериные стада из одного бора в другой. В 1843 г. в лесах Варнавинского и Ветлужского уездов вдруг показалось огромное количество ходовых белок; тамошние мужики говорили, что белок гонит леший из Вятской губ. в Вологодскую; а другие прибавляли, что один леший проиграл своих белок в карты другому лешему и потому перегоняет их из своего владения в чужое. Успех в ремесле охотника зависит от благосклонности к нему местного лешего. Кто вздумает "лесовать" (охотиться на лесного зверя), тот прежде всего должен принести что-нибудь на поклон лешему, чтобы лов был удачен и чтобы таинственный хозяин леса не замотал в дебрях зверолова. На поклон приносят в лес краюшку хлеба (или блин), с солью посверху, и кладут это приношение на какой-нибудь пень. Пермяки молят лешего ежегодно, принося ему пачку листового табаку, до которого, по их мнению, он сильно охоч. На Бескидах и в лесистых местах Поволжья есть у охотников обычай: первый улов оставлять в дубраве как жертву лесному духу. В заговорах, произносимых на успех в звериной ловле, встречаем обращение к лешим: "Подите вы, сатанаилы, дьяволы, лешие, в такой-то остров, пригоните русаков и беляков (зайцев) на мои клети поставные — сумеречные, вечерние, ночные, утренние и полуденные; пригоните, остановите и в моих клетях примкните". Вызванный на помощь всесильным словом заклинаний, леший пригоняет в западни, капканы и сети зверолова волков, куниц, лисиц, белок, зайцев и наводит на его ружье и зверя, и птицу лесную. Если припомним, что гроза изображалась небесною охотою, то будет понятно, почему лешие, по народным поверьям, гонят лесного зверя и почему к ним именно обращается охотник со своими просьбами.
Леший любит блуждать по лесу, вешаться и качаться на древесных ветвях, как в люльке, или на качелях, почему в некоторых губерниях ему дают название зыбочник; появляясь то здесь, то там, он свищет, хохочет в ладоши, громко кричит на разные голоса: ржет, как лошадь, мычит, как корова, лает и мяукает. Хохот его слышен, по народным рассказам, верст на сорок в окружности. Этот титанический смех, свист, хлопанье и крики — старинные метафоры для обозначения грома и воющих ветров...
Конь, корова, собака и кошка — зооморфические олицетворения грозовых туч, и потому леший кричит их дикими голосами, стараясь напугать боязливого путника. Низведя лешего с облачных высот в обыкновенные леса, народная память удержала все характеристические его признаки, созданные некогда влиянием метафорического языка; хохот и крики лешего продолжают слышаться суеверным поселянам в треске падающих деревьев, в шуме листьев и завывании ветров, потрясающих дубравами. Эхо, раздающееся из глубины лесной чащи, поселяне считают откликом лешего и думают, что он нарочно отзывается на голос человека, чтобы заманить его в непроходимые трущобы или болота и там защекотать насмерть; особенно часто подвергаются этой опасности охотники и дровосеки. Русалки, в образе которых фантазия сочетала воедино представления о водяных и лесных девах, также любят качаться на древесных ветвях, также заливаются злым хохотом и щекочут насмерть завлеченных к себе неосторожных путников. Щекотать первоначально означало: издавать сильные, резкие звуки, подобные соловьиному свисту. "О Бояне, соловию стараго времени! — восклицает певец "Слова о полку Игореве". — Абы ты сиа полкы ущекотал". Соловьиный же щекот служил метафорою громко раздающихся напевов грозовой бури. От понятия издавать резкие звуки слово "щекотать" перешло к обозначению того действия, которым они вызываются, и именно к обозначению щекотанья, которым возбуждается громкий, непроизвольный смех. Подобно тому, глагол лоскотатъ — щекотать кого-нибудь (лоскатъ, лосконутъ — наносить удары) в польском языке сохраняет значение: хлопать, трещать, греметь. В стремительном полете завывающей бури грозовые, эльфоподобные духи (лешие, русалки) нападают на демонов мрачных туч, вертят и щекочут их и заставляют хохотать громовым хохотом — до тех пор, пока не погибнут они в страшных судорожных движениях, т. е. пока тучи не будут рассеяны грозою. В этой картине, набросанной смелою поэтическою кистью, кроется основа народного поверья о щекотанье лешими и русалками захваченных ими людей, образование этого поверья совершилось под влиянием тех мифических представлений, по которым эльфы и родственные с ними стихийные существа признаны были за похитителей человеческих душ.
Те случаи, когда путник сбивается с дороги (что, конечно, нередко бывало в дремучих девственных лесах старого времени), и все неприятности, какие испытываются при этом, суеверие народа приписывает злым проказам лешего: он нарочно путает, или, по народному выражению, обходит странствующих по лесу, т. е. как бы замыкает их невидимою круговою чертою, из-за которой уже не выбраться человеку без посторонней помощи. Между крестьянами ходит множество рассказов о том, как леший сбивает с пути. Желая, чтобы кто-нибудь заплутался и прошлялся в лесу до глубокой ночи, он с умыслом переставляет с одного места на другое дорожные знаки, или сам превращается точно в такое дерево, какое служит в лесу приметою: в ель, сосну, в мох, растущий на древесном стволе, и становится в стороне от настоящей дороги; чрез это он спутывает соображения окольных жителей, заводит их в трущобы и, натешившись вволю, заливается громким хохотом. Иногда он показывается путнику в виде седого старика, в звериной шкуре и с большой клюкою в руке, или принимая на себя облик кого-нибудь из его знакомцев; начинает со встречным разговор и незаметно отводит его от дороги.
Так, например, едет мужик одинехонек; нагоняет его прохожий, и слово за слово — просит подвезти в деревню; мужик соглашается, едут они, мирно беседуя... Вдруг глядь — прохожего как не бывало, с глаз пропал! — а мужик с возом в болоте или овраге; осматривается — и видит: на крутом, неприступном обрыве, куда ни за что не взобраться человеку, стоит леший, свищет и хлопает в ладоши. Будьте в лесу настороже: покажется ли, что плачет ребенок, или послышатся стоны умирающего — не спешите на помощь; почудится ли зам шумная река там, где прежде ее не встречали, — идите прямо, не сворачивая в сторону; не то как раз угодите в трясину. Все это морочит леший!
Заметим, что плач ребенка и стоны умирающих слышались древнему человеку в завываниях грозовой бури, а шумно льющиеся реки видел он в дождевых потоках. Как дух, появление которого всегда сопровождается вихрями, леший заметает всякий след — заносит дорогу, застилает ее пылью, песком, ворохами листьев и снегом. Оттого, по народному убеждению, кто попадет на след лешего (на путь, которым недавно пронесся он), тот непременно заблудится в лесу и не вернется домой до следующего утра или до тех пор, пока не выведет его на дорогу сам же лесовик. В связи с этим стоит поверье, не дозволяющее мести избы в день отъезда кого-либо из родичей, чтобы не запорошить ему дороги. Кто заплутается в лесу, кого обойдет леший, тому единственное средство найти дорогу: снять с ног лапти или сапоги и переворотить в них стельки, т. е., вынув из лаптей солому, положить ее так, чтобы постилка, лежавшая у пальцев, очутилась в пятках, и наоборот. Обувь — символ поступи, движения; переворачивая ее задом наперед, заблудившийся странник верит, что ноги его будут двигаться не к тем местам, куда направляет леший, а в противоположную сторону и таким образом выведут его на прямую дорогу. Стихийное значение лешего ярко сказывается в его шаловливом характере: он дует в путника вихрем, запорашивает ему очи, срывает с него шапку, может приморозить его сани к земле, так что лошадь не в силах с места тронуться, и т. д. "Не ходи в леса, там леший шутит!" — советует народная поговорка.
Шутки лешего опасны; по той близости, в какую язык, а за ним и поверья поставили болезни в отношении к стихийным духам-эльфам, он, шутя над человеком, насылает на него тяжкие недуги. Если случится кому заболеть, воротясь из лесу, то поселяне говорят по этому поводу: "Стало з'лесу" (Черниг. губ.) или: "След лешего перешел"; о каженниках (расслабленных, полоумных) думают, что они обойдены лешим. Чтобы умилостивить лешего, несут ему в ларь ломоть хлеба и щепоть соли, завернутые в чистой тряпице. Приходя в лес, больной молится над хлебом-солью, оставляет там свое приношение и возвращается домой с полным убеждением, что болезнь осталась в лесу. Есть и другие указания на жертвенные дары, которыми некогда чествовали лешего: раз он помог крестьянину — нарубил для него дров, а тот отблагодарил его паляницею; у мужиков, работающих в лесу, просит он пирогов, и когда дадут ему — кричит: "Шел, шел да нашел!"
Образ жизни леших описывают различно: иные из них любят жить в лесных трущобах одиноко, уединенно, как дикари, не терпя близ себя никого из своих собратьев; другие же поселяются большими деревнями, строят в лесах просторные дома, со всеми необходимыми службами, где хозяйничают их жены и растут их дети. Лисунки (лешачихи) — лесные девы и жены — тоже, что лешие, только в женском олицетворении; народное воображение наделяет их такими огромными и длинными грудями, что они вынуждены закидывать их за плечи, и только тогда могут свободно ходить и бегать. Это предание указывает в лисунках облачных нимф, которые постоянно изображаются полногрудыми, так как самые облака уподоблялись женским грудям, проливающим из своих сосцов обильное молоко-дождь. В Польше и Галиции лисунки называются dziwo-zony, в Богемии dive zeny; они отличаются диким и злобным нравом, тело их покрыто волосами, длинные распущенные косы развеваются по воздуху; груди так велики, что, стирая белье (т. е. занимаясь полосканьем облачных одежд и покровов в дождевых источниках), они употребляют их вместо вальков; на голове носят красные шапочки...
В грозе и вихрях в некоторых губерниях видят свадебное гульбище леших, тогда как в других местностях эти естественные явления объясняются свадьбами чертей и ведьм. Свадьбы свои празднуют лешие шумно, с диким вакхическим разгулом; поезд их всегда сопровождается сильными ветрами и опустошением. Если поезд скачет через деревню, то непременно у многих домов снесет крыши, здесь и там размечет овины и клади; а если проезжает лесом, то поваляет деревья. Вырвет ли буря с корнями целый ряд деревьев, набросает ли где кучи валежника — крестьянин убежден, что именно в этом месте пронеслась свадьба лешего. Редкий из крестьян осмеливается в летнюю пору лечь для отдыха на лесной тропинке; ибо опасаются, как бы не наехал случаем свадебный поезд лесовиков и не раздавил сонного. В Архангельской губ. думают, что вихрь подымается оттого, что леший пускается плясать на своей свадьбе с лисункою. Демонское гульбище, преисполненное всякого соблазна, вызывает (по народному поверью) небесные громы, удары которых нередко превращают леших и лисунок в росомах, и потому зверь этот считается проклятым: поверье, свидетельствующее за тесную связь грозовых духов с оборотнями. На другой день после свадьбы, леший, по русскому обычаю, идет со своей молодой женою в баню, и если в то время случится кому-нибудь проходить мимо — они непременно окатят его с головы до ног водою, т. е. грозовые духи, вступая в весенний брак, купаются в дождевых потоках и обливают всех попавших под дождь.
Облачные скалы и перунов цвет
На основании сходства впечатлений, производимых отдаленными горами и облегающими горизонт облаками, сходства столь близкого, что непривычный глаз путника нередко принимает видимые им горы за облака — оба понятия были отождествлены и в языке, и в верованиях. В санскрите слова, означающие холм, камень, гору, в то же время означают и облако; в гимнах "Ригведы" облака и тучи постоянно изображаются горами и камнями. Своею громовою палицею Индра буравит облачные скалы и с жадностью вытягивает из них бессмертный напиток (амриту, небесное млеко и мед), укрепляющий его к битвам с демонами: он разбивает горы-тучи, из мрачных вертепов этих гор низводит на землю дождевые потоки и дарует людям солнечный свет; он втесняется в пещеры демона Вритры и освобождает оттуда украденных им коров (дождевые облака) и захваченных в плен водяных жен: "Ты (взывают к нему гимны) разбил в куски гору, большую, широкую, громовою стрелою, о громовержец! ты разрешил запертые воды, да текут рекою", "Ты дробишь двери горы (и открываешь путь) светлым коровам". Темные пещеры туч, куда злой Вритра запирает на зиму дожденосных коров, стали уподобляться коровьим хлевам или загонам, в которых держат обыкновенные стада от поздней осени до весеннего выгона их в зеленеющие поля...
Так как с облаками и тучами неразлучна мысль об их необычайной подвижности, полете и громовых ударах, то предки наши, называя ходячие облака горами и скалами, усиливали это поэтическое выражение эпитетами: горы летучие, скалы толкучие. Отсюда возникло индийское сказание, что некогда у гор были крылья; переносясь с места на место, они заваливали города и причиняли страшный вред земным обитателям. Люди взмолились Индре, и он стрелами, т. е. молниями, отрезал у гор крылья. Отсюда же возник и общий индоевропейский миф о подвижных горах, которые сталкиваются друг с другом и своим столкновением производят гром и смертельные удары. Это любопытное предание встречаем в стихе про Егория Храброго и в песне про Дюка Степановича.
Стоят тут горы толкучие; Те ж как горы врозь растолкнутся, Врозь растолкнутся, вместе столкнутся — Тут тебе Дюку не проехати, Тут тебе молодому живу не бывати...По свидетельству польской сказки, вода, возвращающая молодость, приносится из-под облачной горы. По болгарскому преданию, Александр Македонский ходил добывать бессмертную воду, сокрытую между "двух гор, которые расходились и сходились"; чтобы достигнуть этих гор, надо было пройти страну ночного мрака. В словацкой сказке мать посылает сына к двум великанским горам, из которых правая отворяется в полдень и бьет ключом живой воды, а левая — в полночь и точит из себя мертвую воду. В русской сказке царевич (бог-громовник) отправляется в тридесятое царство за живою водою; там есть две горы высокие, стоят вместе — вплотную одна к другой прилегли, только раз в сутки они расходятся и минуты через две-три опять сходятся; а промеж тех гор хранится вода живая и мертвая (целющая). Приезжает царевич к толкучим горам, стоит-дожидается, когда они расходиться станут. Вот зашумела буря, ударил гром — и раздвинулись горы; царевич стрелой пролетел между гор, почерпнул два пузырька воды и вмиг назад повернул; сам-то богатырь успел выскочить, а у лошади задние ноги помяло, на мелкие части раздробило. Взбрызнул он своего коня мертвой и живой водою — и стал конь его ни в чем невредим. Украинская сказка упоминает о двух криницах с целебной и живой водою, которую оберегают вороны-носы железные (т. е. молнии), побивающие похитителей своими острыми клювами. За чудесной водою посылаются заяц и лиса, в образе которых миф олицетворял силы весенних гроз, отпирающих дождевые источники. На возвратном пути лиса счастливо проскользнула промеж толкучих гор, а у зайца горы хвост отшибли: оттого он и куцый...
По сказанию белорусов, Перун разъезжает по воздушным высотам, и если увидит, что на земле творится беззаконие, то разбивает скалы или малые небеса (т. е. облачное небо, которое еще в глубочайшей древности было отличаемо от блестящего небесного свода — блаженной обители богов) и таким образом низводит на злых и нечестивых молнию...
Представляя облака и тучи небесными горами, древний человек созерцал в их вершинах своих творческих богов; при этом понятие о горах-тучах сливалось с представлением небесного свода светлою, блестящею горою, ибо небо, как родина туч, как широкое пространство, где созидаются эти толкучие горы, само отождествлялось с облачным миром. Сказки о заклятых царевнах (богинях летнего плодородия, полоненных злым демоном зимы) заставляют их томиться в неволе не только в пещерах змеиных гор (в тучах), но и на хрустальной горе, т. е. на небе. Впоследствии сказания о небесных горах стали приурочиваться к земным возвышенностям...
Белорусское поверье рассказывает, что Перуну подчинены гарцуки — духи, обитающие в горах, которые своим полетом производят ветры и непогоду; в великорусских губерниях думают, что зимние вьюги прилетают в ноябре месяце от железных гор, т. е. из снеговых или окованных стужею туч; в снежных же горах замыкаются на зиму весенние болезни, так называемые поветрия, а когда солнце растопит эти снега — они разбегаются по белому свету и нападают на людей...
В Литве долгое время сохранялось благоговейное уважение к некоторым камням; об одном камне рассказывают, что когда какой-то мельник хотел было достать его и употребить на жернов, то в глаза ему полетела с камня пыль — и он ослеп; помощников его постигла также небесная кара — один вскоре умер, у другого отнялись руки. Наравне с прочими индоевропейскими народами поклонение горам и камням было и у племен славянских. Балтийские славяне клялись священными камнями; у мыса Горенского, близ Руяны, есть огромный утес, исстари называемый божьим камнем (Бужъ-кам), а подле Деммина есть другой священный камень. Близ Будишина две горы Белбог и Чернобог названиями своими указывают на культ богов светлых и темных. Козьма Пражский[133] говорит о чехах, что они поклонялись камням и приносили жертвы горам и холмам. У словаков доныне почитаются священными некоторые из вершин Татранских, где собираются на молитву тени усопших предков; у хорутан имя священной горы носит Триглав, у них же уцелел обычай оставлять на камнях плоды и ленты — вероятно, остаток древних жертвоприношений. Хорваты и сербы считают Велебитский хребет обиталищем вил; в Сербии есть гора Перуна-Дубрава. Горы у славян были обычными местами жертвоприношений и сопровождавших их игрищ. Кумиры Перуна и других богов стояли в Киеве на холму: "И постави (Владимир) церковь Василия на холме, идеже был Перун... идеже творяху потребы князь и людье"...
На Ладожском озере, на острове Коневце под Святою горою, лежит большой Конь-камень (12 сажен в окружности и 7 аршин в вышину), которому еще в XV веке приносили в жертву коня. В дар духам, которые обитали около этого камня и охраняли скот, перевозимый с берега на остров и оставляемый на тамошних пастбищах в продолжение целого лета, без всякого надзора, прибрежные жители ежегодно обрекали по одному коню; конь этот погибал зимою, и суеверные крестьяне были уверены, что его пожирали незримые духи.
В Ефремовском уезде, на берегу Красивой Мечи, вокруг Коня-камня до позднейшего времени совершалось опахиванье, чтобы приостановить губительное действие скотского мора. В той и другой местностях Конь-камень служил видимым представителем бога-громовника, которому, как пастырю небесных стад, крестьяне поручали охранение своего скота...
В Тамбовской губернии есть камень, почитаемый целебным от зубной скорби; чтобы унять эту скорбь, поселяне грызут его больными зубами — точно так же, как в других местах с тою же самою целью грызут Перуново дерево — дуб. Купальские и советские огни разводятся славянами по горам. Почти во всех славянских землях существуют свои красные, червонные, русые, черные, гремучие, поклонные и святые горы (холмы). Эти эпитеты знаменательны: красная (червонная, русая) и черная горы напоминают нам сейчас указанные названия священных гор: Белбог и Чернобог. До сих пор на красных горках встречается у нас весна и восходящее весеннее солнце с хороводными песнями и приношением хлебов; самый день, в который празднуется возврат весны (богини Лады), с ее благодатными грозами и ливнями, слывет Красною Горкою: это — воскресенье Фоминой недели, время брачного союза неба с землею и обычная пора свадеб в городах и селах...
Яркое сияние солнца и пламя грозы старинный метафорический язык уподоблял блеску золота, серебра и самоцветных каменьев, а туманы, облака и тучи — горам, пещерам и мрачным подземельям. Отсюда возник миф, что драгоценное золото солнечных лучей и молний вместе с небесным вином или живою водою, т. е. дождем, похищаются на зиму злыми демонами и, сокрытые в облачных скалах или в подземном мире туманов и снежных туч, лежат недоступными для человека кладами. Клад (от глагола класть, кладу) означает запрятанное, или, что то же, погребенное, похороненное со-кровище (от крыть, со-крывать — облачать, затемнять тучами); творческие, живительные силы природы (молния, дождь и всесогревающий свет солнца) действительно умирают в зимнюю половину года и как бы погребаются за непроглядными туманами и облаками: по-гребать (загребать) — закапывать, хоронить — хранить, беречь, прятать, кладбище — место погребения усопших, кладовая-погреб...
Забывая первоначальный смысл метафорических выражений, народ низвел мифическое сказание о небесных кладах до простого, буквального объяснения; облачные скалы и вертепы обратились в его убеждениях в настоящие горы, из которых добываются благородные металлы, в курганы и могильные холмы, где вместе с умершими зарывалась и часть их сокровищ, в пещеры и подземелья, куда древний человек прятал свои драгоценности, чтобы обезопасить их от вражьего похищения. У славян, равно как и у других индоевропейских народов, ходит много любопытных рассказов о кладах; подробности, которыми они обставлены, исполнены мифического значения и не позволяют сомневаться, что это собственно — предания о небесных сокровищах, только перенесенных на землю. Клады таят под землею (в горах, городищах, курганах, оврагах и пещерах) несчетное богатство золота, серебра и самоцветных камней — в деньгах, вещах и необделанных грудах: целые котлы бывают наполнены этими драгоценностями. На том месте, где зарыт клад, ночью в известное время года горит синий огонек или свеча; если ударить по свече и произнести заклятие, то она превращается в кубышку или котел с деньгами. Поэтому, приметив блуждающий огонек, стараются искать вблизи клад, который (как только его найдут) выходит, по народному поверью, с треском. Клады обнаруживаются обыкновенно при начале весны и на праздник Купалы... По русскому поверью, в ночь на Иванов день земля разверзается и клады просушиваются: в это время можно видеть, как в глубоких провалах и погребах висят на медных или железных цепях огромные котлы и бочки, полные серебра и золота; по краям котлов горят свечи; но все это тотчас же исчезает, как скоро пожелаешь подойти ближе... Есть предание, что Разин на пути к Промзину городищу зарыл в горе две бочки серебра; бочки эти выходят по ночам из подземелья и катаются, погромыхивая цепями и серебряными деньгами. Клады редко полагаются без заклятия. Чтобы укрыть их от поисков, тот, кто зарывает сокровище, причитывает вслух зарок или приговор: через сколько времени, как, кому и при каких условиях может достаться этот клад... Без соблюдения условий, требуемых зароком, клад не дается; чем усерднее будешь рыть землю, тем глубже станет он уходить вниз; один раз кажется, что совсем дорылся до сокровища, заступы уже стукнули о железную плиту или крышку сундука, но в то же мгновение со страшным гулом проваливается клад в преисподнюю, а из-под земли слышится неистовый, оглушающий хохот нечистой силы. Даже если кому бы и посчастливилось набрести на клад, все равно — он не в силах будет им воспользоваться: едва дотронется до него, тотчас почувствует во всем теле расслабление — словно руки и ноги перебиты, или, взявши золото, будет кружиться с ним около подвала и до тех пор не выйдет на дорогу, пока не положит добычи на прежнее место, или и вовсе не вылезет из очарованного подземелья; при всякой попытке уйти оттуда не с пустыми руками — земля начинает смыкаться и железные двери готовы с шумом захлопнуться; сами деньги скользят из рук и прыгают промеж пальцев. Клады оберегаются огненными змеями (драконами), колдунами и нечистою силою, которая пугает кладоискателей страшными видениями: то слышатся им удары грома, дрожит земля, клонятся к земле деревья и катятся с гор огромные камни; то несутся на них стаи хищных птиц, скачут бешеные кони, бросаются черные собаки и черные кошки; то прибегают нечистые в виде различных чудовищ, со свистом, гамом и дикими криками: режь, бей, губи! В толпе призраков является и самая смерть — костлявый скелет, дыша пламенем и щелкая зубами. По польским преданиям, черт охраняет сокровища в образе совы, а по чешским — в образе черной или огненной собаки; про старых черных котов чехи рассказывают, что в них поселяются злые духи, и тогда они немедленно исчезают из дому и сторожат подземные клады. Около места, где зарыты сокровища, бродит на страже и дух их усопшего владельца. Самые клады могут принимать разные образы: в то время, когда исполнится срок их подземного пребывания или "заклятия", они бродят по земле и показываются счастливцам то блуждающим огоньком, то золотою веткою, то петухом, золотою наседкою с цыплятами, барашком, теленком, быком или коровою, конем, волком, свиньей, собакою или кошкою, иногда даже в человеческом образе. Это наиболее удобная пора, чтобы овладеть кладом: стоит только ударить по нему наотмашь чем попадя - и клад рассыпется звонкою монетою или оборотится кубышкою с деньгами. Животные, в образе которых являются клады, имеют серебряную и золотую шерсть, а иногда просто — белую, красную, рыжую или желтую. Белый цвет указывает на серебро, а красный, рыжий и желтый — на золото. В Калужской губернии рассказывают об одном крестьянине, который, возвращаясь домой, увидел белого коня; лошадь то и дело забегала вперед и преграждала ему дорогу. Крестьянин ударил ее кнутом — и она разлетелась в груды серебряных денег. В другом рассказе встречается следующая любопытная подробность: "Когда мы рыли, — говорил кладокопатель, — вдруг словно из земли выросла собачка, вся желтая, с одним глазочком во лбу; по цвету собачки нам стало ясно, что в кургане есть золото". Заметим, что болотные, блуждающие огни, почитаемые предвестниками кладов, признаются в Белой Руси за одноглазых малюток...
По немецкому поверью, сокровище, зарытое в земле, медленно приближается к ее поверхности, ежегодно подымаясь вверх на петушиный шаг; почти то же рассказывается у славян и немцев о громовых стрелках: погруженные в глубь земли, они в течение семи лет возвращаются назад и выходят на свет. Смысл предания — тот, что молнии Перуна скрываются на семь зимних месяцев в темных облачных пещерах и не блестят перед взорами смертных до той поры, пока не вызовет их теплая весна. В старинных памятниках год означает время вообще (година — час); впоследствии слово это получило более ограниченное значение, и вместе с тем выражение о семи зимних периодах времени (т. е. месяцах) стало пониматься как указание на семь полных лет. Означенное мифическое представление соединялось и с золотым сокровищем солнечных лучей. Пока продолжается зима, благодатные силы природы пребывают заклятыми (заколдованными) во власти злых демонов и никому недоступны; но с приближением весны близится и пора их освобождения. Уже на Коляду, при повороте солнца на лето, когда светило это вновь возрождается к жизни, старинная обрядовая игра заставляет искать схороненное золотое кольцо — символ светлого солнца, сокрытого зимними облаками и туманами; песня, сопровождающая игру, гласит: "Мое золото пропало, оно порохом запало, прозаиндивело" и называет его змеиная крылица, т. е. змеиным кладом, сокровищем, похищенным змеем-тучею; крылица — крыльце от глагола крыть (как било, бильце от бить, мыло, мыльце от мыть и др.) буквально тождественно со словом со-кровище. Весною раскрываются мрачные пещеры подземелий и золотые клады ярко горят и светятся в больших котлах и бочках, т. е. светозарные лучи солнца и блестящие молнии, затаенные во время зимы в облачных горах и окованные морозами (почему котлы и бочки с золотом изображаются прикованными к железным цепям), с приходом весны воскресают к жизни вместе со всею природою; самое слово вос-кресение (от крес — огонь) означает возжжение огня — света...
Древнейшая обстановка предания сохранена словацкою сказкою о странствовании бедняка на стеклянную гору (небо), где у разведенного пламени (солнца) сидели двенадцать Месяцев; они позволили путнику согреться у своего огня и дали ему на прощанье мешок горячих угольев, которые потом превратились в чистое золото. Бедняк, добывающий золото солнечных лучей, есть бог земных урожаев, впадающий в нищету во время бесплодной и скупой зимы и богатеющий в щедрое на дары лето. Те же верования соединяют с кладами и племена германские; по их рассказам, клады выступают из земли в марте месяце, и тогда можно увидеть большие пивные котлы, насыпанные красным золотом. Пиво — известная метафора дождя, а котел и бочка — тучи. Клады эти горят синим пламенем или горячими угольями, цветут, зреют и просушиваются на солнце — когда клад скрывается, погружается в землю, говорят: он отцвел. Означенные выражения возникли из сродства понятий: светить, гореть, сушить, цвести, зреть (созревать). Древнейший язык сроднил эти понятия, так как лучи солнечные и светят, и сушат, и дают плодам зрелость; яркие краски цветов и золотистый отлив зреющих жатв фантазия сближала с золотыми лучами солнца и блестящими молниями. Глагол зреть (области, зорить) одного происхождения со словами заря, зарница и зрак (солнечный луч); цвет (квет) есть только фонетически измененное слово свет, и в областных говорах вместо "цвести" говорят: свести, а вместо "цветок" — све(я)ток; последнее речение употребляется и в смысле утреннего рассвета. Следуя внушению языка, народ создал мифы о Заре, рассыпающей по небесному своду розы, о золотых плодах, зреющих в облачных садах, и уподобил молнию золотому или огненному цветку. Отсюда понятна та близость, в какую поставлены предания о кладах в отношении к богу-громовнику, как возжигателю молний, нарушителю облачных скал и освободителю солнца из темного царства демонов. По русскому поверью, клад выходит из земли с треском, т. е. при ударах грома. Рассказывают, что в то время, когда начинают рыть клад, вдруг подымается буря — на ясное небо набегают мрачные тучи — раздается гром, блестят молнии, льет сильный дождь и слышится треск падающих деревьев. Белорусы почитают владетелем кладов мифическое существо, известное под именем Деда: Дзедка, говорят они, ходит по дорогам с сумою, в виде нищего с красными, огненными глазами и с такою же бородою, и, встретив несчастного бедняка, наделяет его деньгами. На том месте, где зарыт клад, он показывается не весь — только голова его видна, а людям кажется, что то горит огонек. Кто усмотрит этот огонь, должен бросить на него что-нибудь из своей одежды; лучше всего бросать шапку (или клок волос с головы), потому что тогда клад останется на поверхности земли; иначе он уходит в землю — более или менее глубже, смотря по тому, какая часть платья накинута: та ли, которая носится ближе к ногам или к голове. "Дзедзя гариць" означает: клад светится, блестит. В Херсонской губернии рассказывают, что клад нередко является в виде старика в изорванной и грязной нищенской одежде. В великорусских рассказах встречаем того же таинственного деда. Случилось раз, увидел мужик, что в поле огонек светится, подошел поближе, и что ж? У огня сидит седенький старичок, подле него собака и костыль, воткнутый в землю, а напротив стоят три котла, да такие огромные, что и двадцать человек не сдвинут с места: в одном золото, в другом серебро, в третьем медь, по краям котлов горят свечи. Посмотрел мужик и отправился домой; ночью явился ему во сне седой старичок и наказал приходить и выкопать клад. Мужик послушался и совсем было выкопал, как вдруг — откуда ни возьмись — бежит на него солдат с ружьем: это было дьявольское наваждение, но мужик испугался и убежал без оглядки.
На Украине рассказывают о старом, беловласом и сопливом деде, который бродит по свету, и если утереть ему нос, он тотчас рассыпается серебром: предание это белорусы относят к Бе-луну, в образе которого олицетворялось ясное небо и который поэтому соединяет в себе черты бога-солнца и бога-громовника; как первый прогоняет ночь, так последний — темные тучи. Имя деда равно придается и Дажьбогу, и Перуну. В зимний период это светлое божество утрачивает свой блеск, дряхлеет, рядится в грязные нищенские одежды и является неопрятным Неумойкою; сопли — метафора сгущенных тумаков, и надобно утереть их, чтобы золотые лучи солнца могли просиять из-за облачных покровов. Согласно с метафорическим названием огня и дневного рассвета — петухом, клады являются в виде этой птицы или золотой курицы; другие животненные превращения кладов объясняются тем, что небесные сокровища, облекаясь в тучи, необходимо принимают на себя и их мифические образы. Этим же сказочным животным приписывается и охранение кладов, ибо в их облачных шкурах затаено, спрятано от взоров смертных золото солнечного света и грозового пламени. Удар, наносимый такому оборотню, заставляет его рассыпаться деньгами, т. е. громовой удар, разрывая темные покровы туч, выводит из-за них сверкающие молнии и яркие лучи солнца; подобно тому, о чудесной драконовой плети (молнии) рассказывают, что всякий удар ею заставляет прыгать золото. Поэтому лужичане и чехи советуют бросать нож или огниво (метафоры молнии) на то место, где горит клад, и думают, что в таком случае подземные богатства не уйдут от рук человека...
Похищение ярких лучей солнца и громовой палицы совершается демонами зимы, туманов и туч; отсюда — верование, что клады захватываются чертями, змеями, великанами и карликами, этими обитателями облачных гор и подземелий и хитрыми кузнецами, искусными в обработке всяких металлов. Такой воровской, хищнический характер, присвоенный демоническим духам, дал повод назвать их разбойниками, грабителями и вместе с тем, по низведении старинных мифов на землю, побудил народную фантазию связать предания о кладах с рассказами про славных разбойников; на этих последних, взамен древних великанов и демонов, были перенесены басни о зарытии и оберегании кладов. Наконец, по связи зимы с идеею смерти, облачных подземелий с загробным миром, а стихийных духов с тенями усопших, клады охраняются и мертвецами (привидениями), и самою смертью. Землетрясение, звуки цепей, свист, гам, неистовый хохот, которыми сопровождается добывание клада, суть метафоры, означающие раскаты грома и вой грозовой бури; быстрое погружение клада в глубь преисподней — поэтическая картина наплыва новых облаков, которые заволакивают только что проглянувшее солнце, или живописное изображение молний, исчезающих во мраке туч. До весенней поры клад лежит сокрытый в темных пещерах, зачарованный или заклятый нечистою силою, и добывается оттуда не прежде, как после убийственных ударов, нанесенных Перуном демонам-похитителям; говоря мифическим языком, клад заклинается на известное число голов, и пока не будет совершено это жестокое душегубство, пока не будет пролита кровь (дождь), до тех пор сокровище недоступно обладанию смертных.
Благородным металлам принадлежит одна из самых видных ролей в системе языческих верований. Язык и мифы приписали им способность светить и гореть, поставили их в ближайшее соотношение с божествами света и наделили целебною силою. Доставляя человеку много жизненных удобств, металлы эти представлялись ему божественным даром. Но вечно враждебная нечистая сила и злые колдуны стали похищать их — так же как похищают они свет и плодородие, и скрывать от людского пользования. Вместе с этим родилось убеждение в несчетные богатства, обладаемые чертом. В народе ходит множество рассказов о том, как отчаянные грешники продают свои души дьяволу за серебро, золото и драгоценные камни, и тот наделяет их несметными сокровищами. На Украине говорят: "Срибло — чертово ребро", "И черт богато грошей мае, а в болоти сидить", "Богач гроши збирае, а черт калитку (кошелек) шие". Богатства эти состоят под проклятием, и приобретение их причиняет человеку бедствия и гибель. По нашим поверьям, редко кому удается отыскать и добыть клад, да и то — не на радость; большею частью эти люди чахнут и умирают безвременно, со всеми своими родичами и домочадцами, или на целую жизнь теряют память и остаются немы и слепы — как бы оглушенные громом и ослепленные молнией...
Указанное выше сродство понятий: светить и цвести заставило наших отдаленных предков усматривать в молниях красные цветы, вырастающие на дереве-туче. До сих пор во всех славянских землях верят, что без огненного цвета папоротника ни за что нельзя добыть клада. Этот фантастический цветок — метафора молнии, что очевидно из придаваемых ему названий и соединяемых с ним поверий. У хорватов он прямо называется Перуновым цветом, у хорутан — солнечником, ибо, по их рассказам, он расцветает тогда, когда весеннее солнце победит черного волка (демона зимы), и хотя нечистые духи силятся не допустить его до расцвета, но усилия их постоянно бывают безуспешны. На Руси ему дается название свети-цвет; народная же сказка упоминает о жар-цвете, который когда цветет — то ночь бывает яснее дня и море (дождевая туча) колыхается. О папоротнике рассказывают, что цветочная почка его разрывается с треском и распускается золотым цветком или красным, кровавым пламенем, и притом столь ярким, что глаза не в состоянии выносить чудного блеска; показывается этот цветок в то же самое время, в которое и клады, выходя из земли, горят синими огоньками...
Ночь, в которую цветет папоротник, бывает среди лета — на Ивана Купалу, когда Перун, по древнему представлению, выступал на битву с демоном-иссушителем, останавливающим колесницу Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, отверзал скрытые в них сокровища и умерял томительный зной дождевыми ливнями. "В Ивановскую ночь, — по свидетельству памятника прошлого столетия, — поклажев стрегут". Сверх того, папоротников цвет распускается и в бурно-грозовые летние и осенние ночи, известные под именем воробьиных или рябиновых. В Мосальском уезде существует поверье, что в каждом году непрерывно бывают три "рябиновы" ночи: одна в конце весны, другая в средине лета, а третья в начале осени, или первая — когда цветет рябина, вторая — когда начинают зреть на рябине ягоды, и третья — когда ягоды эти совершенно поспеют. Усматривая в тучах небесные сады и рощи, фантазия сближала это мифическое представление с различными земными деревьями, и между прочим с рябиною, красные ягоды которой напоминали молниеносный цвет Перуна; потому бурно-грозовая ночь (первоначально: мрак от застилающих небо сплошных облаков) получила название рябиновой, а ветка рябины принималась за символ Перуновой палицы. Другое название "воробьиная ночь" стоит в связи со старинными сказаньями о птицах как мифических спутниках грозы и вихрей... По южнорусскому поверью, в темные воробьиные (или осенние) ночи черт меряет воробьев: часть их отпускает на волю, а другую предает смерти, что указывает на враждебное отношение его к этим птицам. Но, вероятно, еще в эпоху язычества с воробьем стали соединять то же демоническое значение, какое присваивалось ворону, сове и другим хищным птицам, в которых обыкновенно олицетворялись грозовые бури...
В темную, непроглядную ночь, ровно в двенадцать часов, под грозой и бурею, расцветает огненный цветок Перуна, разливая кругом такой же яркий свет, как самое солнце; но цветок этот красуется одно краткое мгновение: не успеешь глазом мигнуть, как он блеснет и исчезнет! Нечистые духи срывают его и уносят в свои вертепы. Кто желает добыть цвет папоротника, тот должен накануне светлого праздника отправиться в лес, взявши с собою скатерть и нож, потом найти куст папоротника, очертить около него ножом круг, разостлать скатерть и, сидя в замкнутой круговой черте, не сводить глаз с растения; как только загорится цветок, тотчас же должно сорвать его и спешить домой, накрывши себя скатертью, а дома тем же самым ножом разрезать палец или ладонь руки и в сделанную рану вложить цветок. Тогда все тайное и скрытое будет ведомо и доступно человеку...
Нечистая сила всячески мешает человеку достать чудесный цветок; около папоротника в ночь, когда он должен цвести, лежат змеи и разные чудовища и жадно сторожат минуту его расцвета. На смельчака, который решается овладеть этим цветком, нечистая сила наводит непробудный сон или силится оковать его страхом; едва сорвет он цветок, как вдруг земля заколеблется под его ногами, раздадутся удары грома, заблистает молния, завоют ветры, послышатся неистовые крики, стрельба, дьявольский хохот и звуки хлыстов, которыми нечистые хлопают по земле; человека обдаст адским пламенем и удушливым серным запахом; перед ним явятся звероподобные чудища с высунутыми огненными языками, острые концы которых пронизывают до самого сердца. Пока не добудешь цвета папоротника — беже избави выступать из круговой черты или оглядываться по сторонам: как повернешь голову, так она и останется на веки! — а выступишь из круга, черти разорвут на части. Сорвавши цветок, надо сжать его в руке крепко-накрепко и бежать домой без оглядки; если оглянешься — весь труд пропал: цветок исчезнет! По мнению других, не должно выходить из крута до самого утра, так как нечистые удаляются только с появлением солнца, а кто выйдет прежде, у того они вырвут цветок. Те же условия: очертить себя кругом и не оглядываться — необходимо соблюдать и: при добывании клада. Замкнутая круговая черта служит преградою, за которую не может переступить нечистая сила; нож, свеча, рябиновая палка и лучина — эмблемы молнии, поражающей демонов, а скатерть — облачного покрова, одеваясь которым становишься невидимкою; на те же облачные покровы опадает и цвет-молния. В одном рукописном "травнике" (каких довольно обращается в среде грамотного простонародья) о добывании папоротникова цвета сказано: "В то время приходят множество демонов и великие страхи творят, что уму человеческому непостижимо. Цвет папороти, когда отцветет, осыплется на то, что постлано, и ты тот цвет смети перушком в одно место бережно и залепи воском; тот цвет всегда цел будет. А если не залепишь, то нечистые унесут у тебя; для того людям не дают его взять, что он очень им противен и всю их силу разрушает. Если кто его возьмет, то никакой дьявол, и ворожея, и грешник укрыться не может, и дьявольская сила вся ему будет видна и знатна, и ни с какой своей пакостию от него не укроется... Тот цвет носи на лбу: узнаешь и увидишь, где какая поклажка (клад) лежит и как что положено и сколь глубоко, и можешь взять без всякого вреда и остановки — для того, что ты уже демонов увидишь, а с ним тебя жестоко бояться станут, и когда ты куда ни поедешь, если нечистые тут на месте есть, то они отходить с того места станут, и можешь всякие поклажи с тем цветом получить — не заперто! Все узнаешь, что где есть и лежит или делается и как, куда и в коем месте; просто сказать — все будешь знать, хотя и в чужие города и иные государства дороги и пропуски. Тот цвет положи в рот за щеку и поди, куды хошь: никто тебя не увидит: что хошь — делай!.. Тот же цвет носить на голове — все видеть и знать станешь и вельми счастлив будешь и достоин всякому начальству, во всякой чести будешь. А сия трава самая наисильнейшая над кладами — царь над цветами, трава-папороть!" Из приведенных нами поверий видно, что расцветание папоротника сопровождается всеми торжественными знамениями грозы: демонские крики, стрельба, хохот, удары хлыстов, землетрясение — все это метафоры грома, огненные языки — языки грозоваго пламени, серный запах, обыкновенно следующий за появлением и исчезанием нечистых духов, — подробность, возникшая из древнейшего уподобления молниеносных туч котлам кипучей смолы. Та же могучая сила, какая присваивалась Перуновой палице, принадлежит и цвету папоротника: обладая им, человек не боится ни бури, ни грома, ни воды, ни огня, делается недоступным влиянию злаго чародейства и может повелевать нечистыми духами. Для этих последних цвет папороти так же страшен, как и громовые стрелы: завидя пламенный цветок, они по одному представлению -стараются овладеть им и запрятать в облачные пещеры, а по другому — в ужасе разбегаются от него по своим трущобам и болотам. Цветок этот отмыкает все замки и двери (только приложи его — и железные запоры, цепи и связи вмиг распадаются!), открывает погреба, кладовые, казнохранилища и обнаруживает подземные клады — подобно тому, как удары молнии, разбивая облачные скалы, обретают зa ними золото солнечных лучей. Кто владеет чудесным цветком, тот видит все, что кроется в недрах земли: темная земная кора кажется ему прозрачною, словно стекло. Так как молния есть проводник живой воды и так как вода эта называлась небесным вином, то отсюда возникли поверья, наделяющие папоротник целебными свойствами, и мнение, будто с помощью его цвета можно черпать из рек и колодцев вместо воды славное вино, т. е. добывать дождь из небесных источников. Так думают чехи; у них же в обычае для охраны скота от злых духов и околдования вытирать ясли корнем папоротника. Русская сказка приписывает жар-цвету исцеление трудных болезней. С живою водою миф связывал духовные дары предвидения и мудрости. Потому всякий, кто достанет цвет папоротника, становится вещим человеком, знает прошедшее, настоящее и будущее, угадывает чужие мысли и понимает разговоры растений, птиц, гадов и зверей. Сверх того, он может по собственному произволу насылать в сердце девицы горячее чувство любви, для чего заговоры постоянно обращаются к богу-громовнику и его молниеносным стрелам. Наконец, соответственно представлению быстромелькающей, неуловимой для глаз молнии — невидимкою, создалось поверье, что всякий, кто носит при себе цвет папоротника, делается незримым для всех присутствующих. Один крестьянин искал накануне Иванова дня потерянную корову; в самую полночь он зацепил нечаянно за куст папоротника, и чудесный цветок попал ему в лапоть. Тотчас прояснилось ему все прошлое, настоящее и будущее; он легко отыскал пропавшую корову, сведал о многих сокрытых в земле кладах и насмотрелся на проказы ведьм. Когда крестьянин воротился в семью — домашние, слыша его голос и не видя его самого, пришли в ужас. Но вот он разулся и выронил цветок — и в ту же минуту все его увидали. С потерею цветка окончилось и его всеведение, даже позабыл про те места, где еще недавно любовался закрытыми сокровищами. Рассказ этот заканчивается и так: к мужику, который и сам не понимал, откуда далась ему мудрость, явился черт, купил у него лапоть и вместе с лаптем унес и папоротников цвет. У словенцев те же чудесные свойства придаются зерну папоротника, которое зреет и опадает на Иванову ночь, а взамен черта является вила и уносит это дорогое зернышко...
Разнообразные характеристические признаки, которые подметил древний человек в сверкающей молнии, были выражены им в метких, живописующих эпитетах. Согласно с этими эпитетами, и огненный цвет Перуна на старинном поэтическом языке обозначался различными названиями, которые впоследствии были приняты за совершенно отдельные, самостоятельные представления и которые, с течением времени, стали переноситься на те или другие земные растения, если форма их листьев и корней, краски цветов или свойства соков подавали повод к такому сближению.
Одно из названий Перунова цвета было перелет-трава. Оно придано ему ради той неуловимой быстроты, с которою ударяет молния. Миф, общий всем индоевропейским племенам, представлял ее крылатою и птицеподобною. О баснословной перелет-траве русский народ рассказывает, что она сама собой переносится с места на место. Цвет ее сияет радужными красками, и ночью в полете своем он кажется падучей звездочкой. Счастлив, кто сумеет добыть этот прекрасный цветок: все желания его будут немедленно исполнены. Тем же свойством наделяется и цвет папоротника: почка его ни минуты не остается в покойном состоянии, а беспрерывно движется взад и вперед и прыгает, как живая птичка. Самый распустившийся цветок быстро носится над землею, словно яркая звезда, и упадает на то место, где зарыт клад. Такое представление молнии летучим пернатым цветком заставило народ, при забвении исконного смысла старинной метафоры, перенести предания о Перуновом цвете на папоротник...
Мы уже знаем, что Перунов цвет быстро переносится или прыгает с одного места на другое и что перед ним распадаются каменные горы и железные запоры; по этим признакам ему придавались названия: спрыг-трава, прыгун- или скакун-трава, разрыв-трава, у сербов расковник (от глагола: рас-ковать). Об этой траве рассказывают, что листы ее имеют форму крестиков, а цвет подобен огню, распускается в полночь на Ивана Купалу и держится не более пяти минут; но где она растет — никому неведомо; достать ее весьма трудно и сопряжено с большою опасностью, потому что всякого, кто найдет ее, черти стараются лишить жизни. Если приложить разрыв-траву к запертой двери или замку — они немедленно разлетятся на части, а если бросить в кузницу — ни один кузнец не в состоянии будет сваривать и ковать железо, хоть бросай работу! Разрыв-трава ломает и все другие металлические связи: сталь, золото, серебро и медь. Воры, когда им удастся добыть эту траву, разрезают себе палец, вставляют ее внутрь разреза и потом заживляют рану; от одного прикосновения такого пальца замки отпираются и сваливаются с дверей и сундуков. Если прикоснуться этим пальцем к человеку — он скоропостижно умирает. Чтобы достать разрыв-траву, надо в полночь, накануне Иванова дня, забраться в дикий пустырь и косить траву до тех пор, пока переломится железная коса: этот перелом и служит знаком, что лезвие косы ударило о разрыв-траву. В том месте, где свалится коса, должно собрать всю срезанную зелень и бросить в ручей или реку: обыкновенная трава поплывет вниз по воде, а разрыв-трава против течения — тут ее и бери!..
В зимнее время небо перестает посылать на землю оплодотворяющее семя дождей и росы; холода и стужи как бы запирают небесные источники, запирают и самую землю, которая лежит окованная снегами и льдами и ничего не рождает из своей материнской утробы. Старинные поучительные слова обозначают бездождие завязанным или замкнутым небом...
Соответственно с символическим представлением ветров и грозы быстролетными птицами, народное русское поверье говорит, что ключи от неба (рая) находятся у той или другой птицы, которая, улетая на зиму, уносит их с собою, а весною снова прилетает отпирать небесные источники. В марте месяце, закликая весну, в деревнях Смоленской губернии поют:
Вылети, сизая галочка, Вынеси золоти ключи. Замкни холодную зимоньку, Отомкни теплое леточко.В одной обрядовой песне Полтавской губернии галка называется золотою ключницею. В Малороссии рассказывают, что ключи от рая — вирия хранит при себе вестница весны — кукушка или соя. В великорусских губерниях верят, что 9 марта "прилетает кулик из-за моря, приносит воду из неволья"...
Итак, следуя поэтическому выражению старины, Перун отпирает облака и посылает дожди и плодородие, но в его божественной воле было и не давать благодатного дождя и наказывать смертных неурожаями, почему ему могли приписывать и самое замыкание туч, задержание дождевых потоков. К богу-громовнику обращались не только с мольбами о дожде во время засухи, но и с просьбами установить вёдро — во время продолжительных ливней. В числе разнообразных метафорических сближений, какие с необыкновенною смелостью и свободою допускала фантазия древнейшего человека, падающий дождь уподоблялся крови, истекающей из ран, наносимых Перуновыми стрелами облачным демонам. Отсюда возникли заговоры на отсановление руды (крови), заговоры, обращенные к богу-громовнику с мольбою запереть кровавые раны — так же как запирает он дождевые источники...
Молнией прогоняет Перун злых демонов; в верованиях народов она представляется спасительным орудием против всякого дьявольского наваждения и чародейства. Уподобляя это орудие ключу, древний человек прибегал к богу-громовнику с мольбами укрыть его от вражеских замыслов своим облачным покровом, оградить и замкнуть своим золотым ключом, или заклинать небесного владыку запереть этим ключом уста колдунов и ведьм, готовых наслать разные болезни и бедствия...
В народной русской сказке находим следующий эпизод: у жены-красавицы долго пропадал в далеких странах любимый муж (зимнее странствие бога-громовника), и стали за нее свататься разные цари и царевичи, короли и королевичи. И вот когда они сидели за столом да угощалися винами, воротился муж в шапке-невидимке (в облаке). Жена тотчас догадалась о его возврате, ибо на всех деревьях показалась свежая зелень, и задала своим женихам такую загадку: "Была у меня шкатулочка самодельная с золотым ключом; я тот ключ потеряла и найти не чаяла, а теперь тот ключ сам нашелся. Кто отгадает эту загадку, за того замуж пойду!" Цари и царевичи, короли и королевичи долго над тою загадкою ломали свои мудрые головы, а разгадать не могли. Говорит красавица: "Покажись, мой милый друг!" Добрый молодец снял с головы шапку-невидимку. "Вот вам и разгадка! — сказала она женихам. — Самодельная шкатулочка — это я, а золотой ключик — это мой верный муж".
Перунов цвет, по народным сказаниям, отверзает облачные скалы и криницы и потому служит как бы ключом к затаенным в них сокровищам солнечного света (небесного золота) и дождя (дорогого вина). В холодное время зимы прекрасная богиня Лада скрывается за густыми тучами и туманами и остается за их мрачными затворами печальною узницею — до тех пор, пока не расцветет весною пламенный цветок Перуна и не отопрет темницы...
Весною, когда золотой ключ-молния отопрет замкнутое небо, появляются росы и дожди; и те и другие признавались небесными слезами, а потому Перунов цвет, как низводитель этих слез, получил название плакун-травы. Добывается плакун в Иванов день, на ранней утренней заре; корень и цвет его обладают великою силою: они смиряют нечистых духов, делают их послушными воле человека, уничтожают чары колдунов в ведьм, спасают от дьявольского искушения и всяких недугов: крест, сделанный из плакуна и надетый на бесноватого, изгоняет из него поселившихся бесов. Плакун открывает клады и заставляет демонов плакать, т. е. заставляет тучи проливать дождь. Кому посчастливится найти и выкопать корень плакуна, тот должен произнесть над ним такое заклятие: "Плакун, плакун! Плакал ты долго и много... будь ты страшен злым бесам, полубесам, старым ведьмам киевским; а не дадут тебе покорища, утопи их в слезах; а убегут от твоего позорища, замкни в ямы преисподние"...
Дева Заря выводит поутру ясное солнце и прогоняет темную ночь; по аналогии суточных явлений с годовыми, той же богине приписывали вывод весеннего солнца из-за туманных покровов зимы. В ярких красках Зари предкам нашим виделись рассыпаемые ею по небесному своду розы, а в росе — ее жемчужные слезы; при падении этих слез распускается пламенный всемирный цвет — свет дня, восходящее летнее солнце, — точно так же как Перунов цвет-молния, силою которого разгоняются: тучи и проясняется отуманенный лик дневного светила, расцветает аз время проливаемых небом слез, т. е. во время грозы, сопровождаемой дождевыми потоками...
Перунов цвет разит демонов, побеждает их и заставляет в страхе и трепете разбегаться в разные стороны; ради этого ему могли присваиваться названия: чертополох, одолень и прострел-трава. Имя чертополоха (трава, которою можно всполошить чертей) дается разным видам цепкого репейника; сверх того, растение это называют: дедовник (т. е. трава, посвященная Деду Перуну), бодяк (может быть, от глагола бодать — колоть), волчец, иголчатка, колючка. По народным рассказам, чертополох прогоняет колдунов и чертей, оберегает домашний скот, врачует болезни и унимает девичью зазнобу; ружье, окуренное травой колючкою, стреляет так метко, что ни одна птица не ускользнет от его удара и ни один кудесник не в состоянии заговорить его...
Одоленъ-трава названа так потому, что одолевает всякую нечистую силу; этим именем в некоторых местностях обозначают белую и желтую кувшинку (купальница, водяной прострел). Оба вида — и белоцветная, и желтоцветная — пользовались особенным религиозным уважением у древних фризов[134] и зеландцев[135]; сообщая это сведение, Гримм нашел уместным напомнить о священном лотосе индейцев. Гигантский и роскошный цветок Индии, возникающий из лона вод, ближе всего мог служить эмблемою небесного цвета-молнии, какой зарождается в недрах туч и цветет посреди дождевого моря; так как, по древнему воззрению, все сущее на земле вызывается к бытию творческою силою весенних грез, то с лотосом соединяли миф о создании мира. У других племен арийского происхождения, при иных менее счастливых географических условиях занятых ими стран, за эмблему небесного цветка принята была простая речная кувшинка. Кто найдет одолень-траву, тот (по свидетельству народного "травника") "вельми себе талант обрящет на земли"; отвар ее помогает от зубной боли и отравы и, сверх того, признается за любовный напиток, способный пробудить нежные чувства в сердце жестокой красавицы; с корнем одолень-травы пастухи обходят стадо, чтобы ни одна скотина не утратилась. Всякий, кто отправляется на чужбину (особенно торговый человек), должен запастись этой травою: "Где ни пойдет, много добра обрящет". Собираясь в дальний путь, осторожные люди ограждают себя следующим заклятием: "Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет одолень-трава. Одолень-трава! Не я тебя поливал, не я тебя породил; породила тебя мать-сыра земля, поливали тебя девки простоволосые, бабы-самокрутки (т. е. вещие, облачные девы и жены). Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили: отгони ты чародея, ябедника. Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды... Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всем пути и во всей дороженьке"...
Кто хочет, чтобы дом его был безопасен от грозы и пожара и чтобы житье в нем было счастливое, тот должен сорвать прострел-траву и положить ее под основное бревно здания. Она избавляет от порчи и залечивает раны, нанесенные острым орудием. Когда домашний скот заболевает прострелом (род падучей болезни), то знахари советуют привязывать эту траву к рогам захворавших животных. Название прострела дают различным травам; давно утратив сознание, что "прострелом" обозначался чудесный цветок, действующий подобно громовой стреле (насквозь пронизывающей, простреливающей), народ ищет под этим именем травы, которые бы по форме их стебля или корня можно было назвать простреленными.
С цветом и веткою Перуна соединялась идея не только возрождения природы, но и всеобщего ее омертвения. Молния — орудие смертоносное; падая на человека или животное, она убивает их на месте; опаляя дерево, заставляет его сохнуть. Смерть же на древнепоэтическом языке есть непробудный сон; оба эти понятия: и смерть, и сон в мифических сказаниях индоевропейских народов служили для обозначения зимы и ночи. Весною, разбивая облачные горы, бог-громовник творил земное плодородие; но осень, предшественница бесплодной, всеоцепеняющей зимы, также сопровождается дождями и грозами, и как в апреле и мае Перун представлялся отпирающим светлое небо и дарующим миру щедрые благодеяния, так тем же золотым ключом (молнией) он, в качестве предводителя демонических сил, запирал небо на продолжительное время зимы. Отсюда та же молния, которая весною воскрешает природу к жизни, — позднею осенью погружает ее в смертельный сон. Чехи различают два громовых удара: один — огневой, возжигающий пламя (жизнь), другой — ледяной, погашающий пламя. Если взять во внимание, что в сказаниях о битвах Индры с Вритрою они представляются сражающимися молния против молнии, то понятно, что леденящие природу удары грома суть удары, наносимые демоном[136]. Вот основания, руководясь которыми фантазия приписала Перунову цвету или пруту могучее свойство погружать все, на что только направлены его удары, в долговременный непробудный сон. Подобное свойство приписывалось и гуслям-самогудам (грозовой песне), и мертвой воде осенних ливней. Дождь, как мы знаем, постоянно уподоблялся опьяняющим напиткам, которые, с одной стороны, возбуждают человека к дикому разгулу, к неумеренному заявлению своих сил, а с другой — отнимают у него сознание и погружают в усыпление. Такому усыплению подвергается и вся природа — вслед за теми шумными оргиями, какие заводят облачные духи и жены во время бурной, дождливой осени...
Народные сказки упоминают о зелье или корне, погружающем в спячку на целую зиму. Так, хорутанская приповедка рассказывает, что однажды при начале зимы медведь откопал неведомый корень, лизнул его несколько раз и ушел в яму; увидя то, человек и сам лизнул корень, после чего немедленно впал в усыпление и проспал в лесу до самой весны. Когда он пробудился, люди уже пахали землю и сеяли хлеб.
Название баснословной сон-травы народ связывает с теми из земных злаков, сок, отвар и запах которых производят на человека одуряющее действие; таковы: мандрагора, известная у нас под именем сонного зелья; сон, сонный дурман, одурь, белена, дурман, сон-трава, дрема, дремучка, сон-трава, гори-цвет. Поселяне убеждены, что сон-трава обладает пророческою силою: если положить ее на ночь под изголовье, то она покажет человеку его судьбу в сонных видениях, думают также, что всякий, заснувший на этой траве, приобретает способность предсказывать во сне будущее.
У всех индоевропейских народов сохраняются поэтические предания о сонном царстве, стоящие в самой тесной связи с сейчас указанным верованием в сон-траву. При рождении одной знатного рода девочки, говорит хорутанская[137] сказка, позваны были на пир вилы (облачные девы, играющие здесь роль рожениц или норн — вестниц судьбы). Все вилы старались паделить новорожденную дарами счастья; только одна "злочеста" изрекла предвещание, что дитя должно погибнуть в ранней молодости. Когда девочка выросла, она превзошла красотою самих вил; злая вила еще больше ее возненавидела, и вот когда наступило время выдавать красавицу замуж — она явилась в замок и ударила ее волшебным прутом; в тот самый миг девица окаменела, и вместе с нею окаменело все, что ее окружало. Та же способность превращать в камень приписывается в славянских сказках тем прутикам, которыми владеет ведьма; эта последняя изображается здесь существом демоническим, появление ее сопровождается сильным холодом, так что она сама дрожит от стужи. Ударяя прутиком (иногда золотым), она окаменяет могучих богатырей и на всю страну налагает печать зимнего омертвения; в ту же пору, когда ведьма бывает побеждена и предана смерти — поля и рощи тотчас начинают зеленеть и цвести. Итак, волшебный прутик, который может всему окамененному возвращать жизнь, по другому представлению — сам превращает все живое в камень, подобно тому как золотой жезл Гермеса обладал силою и пробуждать ото сна и наводить на бодрствующих крепкий сон. Продолжаем прерванную нами хо-рутанскую сказку: после многих лет случайно заехал в окамененное царство молодой царь, увидел красавицу, залюбовался ею и поцеловал в уста. Его поцелуй пробудил ее к жизни, а с нею ожило и все превращенное в камень. Царь женится на красавице, а злую вилу поражает стрелою, причем золотые волосы ее и одежда сгорают сами собою...
По свидетельству "Старой Эдды", бог бурных гроз Один погрузил в сон вещую воинственную валькирию Брунигильду, уколов ее тернием; Зигурд (громовник) нашел спящую деву в замке, снимает с ее головы шлем и рассекает своим чудесным мечом твердую броню, которая так плотно облегла ее тело, как будто бы совсем приросла. Когда броня была снята — дева тотчас же пробудилась от сна. Валькирия — облачная нимфа, ратующая в шуме грозовых битв. С тем же характером облачной девы выступает и героиня валахской сказки: это была прекрасная царевна, страстная любительница плясок, которая не иначе хотела выйти замуж, как за того, кто превзойдет ее неутомимостью в танцах. Сама она танцевала с необыкновенным искусством и бешеным увлечением. Многие из соискателей ее руки падали разбитыми и даже мертвыми от чрезвычайных усилий, другие тайком удалялись от опасной невесты. Каждый вечер собирались во дворец гости, музыка гремела, и танцы следовали за танцами. Однажды сквозь толпу гостей протеснился незнакомый чужестранец и изъявил желание состязаться с царевною. Она почувствовала к нему непонятное отвращение и хоть не желала с ним танцевать, но должна была уступить воле отца. Тотчас же все заметили, что под пару принцессе нашелся не менее ее искусный и страстный танцор. Долго они носились по зале; наконец утомленная — она потребовала пощады, но кавалер не хотел ее оставить; он так быстро и бешено кружился с нею, что она не могла перевести духу, и легкие ноги царевны совсем подкосились. Тут незнакомец бросил ее к ступеням трона, на котором восседал царь, и сказал ему со злою насмешкою: "Возьми свою дочь! Я бы мог потребовать ее по праву, но не хочу... От этого безумного веселья я успокою вас на вечные времена: ты и твоя дочь, и царский двор, и целый город со всеми, кто в нем живет, должны окаменеть, и такое окаменение будет продолжаться до тех пор, пока не явится тот, кто меня пересилит". Таинственный гость был дьявол, по его слову вмиг все окаменело. Ровно через тысячу лет является избавитель; он состязается с дьяволом, кто из них в силах выпить больше вина, и при этом запирает его в бочку. Едва черт попал в винную бочку, как вдруг все ожило, и дворец исполнился опять суеты и движения. Неистовые пляски царевны указывают в ней существо стихийное; это — те пляски, которые доныне видит народ в полете вихрей, несущих легкие облака и волнующих моря и реки, под звуки грозовой музыки.
Во всех указанных видоизменениях сказка о спящем или окамененном царстве выражает одну идею: зимний сон природы и ее весеннее пробуждение, когда богиня Земля вступает в брак с просветлевшим Небом, прямее — с богом-громовником, орошающим ее плодоносным семенем дождя, или когда тот же громовник пробуждает к жизни дождевые тучи и заключает полюбовную связь с прекрасною облачною нимфою — с богинею весенних гроз. Оба представления: мать-сыра земля, кормилица смертных, и богиня-громовница, творящая земные урожаи, соединяются в народных преданиях в едином образе мифической красавицы. Последовательная смена лета и зимы есть неизменный закон, ничем неотвратимый приговор судьбы, и потому при самом рождении мифической красавицы (т. е. при начале весны) уже дается предсказание, что она во цвете полного развития заснет долгим, непробудным сном и будет покоиться до тех пор, пока не наступит час избавления (т. е. новая весна). Предсказание это непременно должно исполниться; отклонить то, что требуется естественными законами, невозможно. Зимний сон или зимняя смерть природы уподобляются окаменению; потому что окованная морозом земля твердеет, как камень, и самые тучи, охваченные стужею, не дают более дождя и также представляются застывшими, окаменелыми. После бешеных плясок, каким предаются облачные девы и грозовые духи в зале небесного чертога, во время бурных осенних ливней — они цепенеют под холодным дыханием зимы и не прежде пробуждаются к жизни, как в то время, когда благодатная весна наполнит облака-бочки живительным вином дождя. У болгар в сербов есть рассказ о том, как морозы превратили в камни бабупастушку вместе с ее овцами и козами. Подобно убитым сказочным героям, при окроплении их живою водою, — богатыри наших былин, возвращаясь к жизни из этого окаменелого состояния, в какое повергло их злое колдовство, обыкновенно говорят: "Ах, как я долго спал!" Окаменение большею частью совершается ведьмами и чертями, и это понятно, потому что и тем и другим народные поверья приписывают разрушительные полеты грозовых бурь и мертвящее влияние вьюг и метелей. Разящую насмерть молнию миф отождествляет с губительным зубом демона-зимы, который в образе волка или свиньи захватывает в свою пасть (т. е. помрачает тучами) светлое солнце и наносит миру тяжелые раны действием трескучих морозов; наш язык допускает выражение: "Мороз кусается"...
Зимний сон природы продолжается целые месяцы и ничем не может быть прерван до истечения известного срока; отсюда понятно, почему сильномогучие богатыри русских сказок, вслед за необычайными подвигами, погружаются в долгий, непробудный, так называемый богатырский сон. Любопытно указание одной сказки, что, как скоро добрый молодец впал в усыпление, тотчас же на всех деревьях стали увядать верхушки, словно от зимних морозов. Царевна, погруженная в долголетний сон, пробуждается не прежде, как в то урочное время, когда меч-молния разрубит ее тесную броню и когда из пальца красавицы будет высосана уколовшая ее заноза, т. е. когда прекратится мертвящее влияние зимы и твердые оковы, которые наложила она на землю и дождевые тучи, будут раздроблены, прососаны жгучими лучами весеннего солнца и молниями. Польский глагол чмокать или цмокатъ — издавать звук губами, белор. цмокатъ — свистать, шипеть, как змей, щелкать зубами, смокать, смаковать — отведывать, пить с наслаждением — одинаково употребляются и в смысле сосать, и в смысле целовать. Если эти понятия отождествлялись в языке, то нет ничего удивительного, что и в народном эпосе спящая царевна пробуждается к жизни не только высасыванием из ее тела губительной занозы, но и поцелуем юного светлого жениха. Поэтический язык доселе удерживает древнюю метафору, по выражению которой весеннее солнце горячо лобзает землю, и она, словно невеста перед венцом, убирается в цветы и зелень. О молнии предки наши выражались, что она сосет дождевые тучи, и называли ее потому смок или цмок — огненный (молниеносный) змей, высасывающий молоко небесных коров (т. е. дождь), и вместе с тем: водяной насос, пожарная труба. Но слово сосет уже возбуждало представление о жадно впившихся и страстно целующихся устах. Во время весенней грозы, в которой древние поэты усматривали свадебное торжество бога-громовника с облачною девою, Перун припадает к своей невесте пламенными устами, лобзает ее молниями и упивается любовным напитком — дождем; в громовых ударах слышались звуки его сладострастных поцелуев. Этот прекрасный художественный образ встречаем в сказочном эпосе: богатырь-громовник побеждает демонические рати, избавляет от них красавицу царевну и в награду за то просит у ней поцелуя; "царевна не устыдилася, прижала его к ретиву-сердцу и громко-громко поцеловала, так что все войско услышало". Любопытно, что народные сказки дают поцелую то же двоякое значение, какое придавалось Перуновой ветке: с одной стороны, он освобождает от заклятия и прерывает волшебный сон, а с другой — насылает забвение...
Рядом с уподоблением туч скалам и камням стоит поэтическое представление их крепостями, городами, дворцами (замками) и царствами. Метафора эта основывалась на том непосредственном впечатлении, какое производят на глаз гряды видимых на горизонте, одно на другое нагроможденных облаков; принимая разнообразные, утесистые очертания, они казались каменными стенами и башнями, воздвигнутыми на небе упорным трудом и искусством великанов...
Скрывая в своих мрачных вертепах небесный свет и дожди, облака представлялись скалами, замыкающими внутри себя дорогие для смертного сокровища, и в этом смысле рисовались воображению: крепкими оградами, за которыми демонические силы прячут золото солнечных лучей и живую воду, городами (т. е. по древнему значению этого слова — огороженными местами), крепостями или замками и, наконец, царствами; ибо в отдаленную эпоху господства родовых отношений каждое обнесенное стенами место поселения было отдельным государством, независимым политическим центром, со своим самостоятельным владыкою-патриархом, со своею управою и распорядком...
В Архангельской губ. густые облака, скученные по краям горизонта, называются стеною: "Солнце садится в стену", т. е. в тучи. Народные загадки, уподобляя громовой грохот реву быка и ржанию коня, выражаются: "Ревнул вол на сто гор, на тысячу городов", "Ржет жеребец на крутой горе" или: "Сивый жеребец на все царство ржет". Эти горы и города, потрясаемые громовыми ударами, должны быть горы-тучи и те самые города, о которых сербская песня рассказывает, что их строит на воздухе вещая вила. В заговорах, какие произносятся ратником при выступлении на войну, читаем: "Еду на гору высокую-далекую по облакам, по водам (т. е. на небесный свод), а на горе высокой стоит терем боярской, а во тереме боярском сидит зазноба-красная девица (богиня Лада). Вынь ты, девица, отеческой меч-кладенец; достань ты, девица, панцирь дедовской; отомкни ты, девица, шлем богатырской; отопри ты, девица, коня ворона... Закрой ты, девица, меня своею фатою от силы вражьей". "Под морем под Хвалынским стоит медный дом, а в том медном доме закован змей огненный, а под змеем лежит семипудовый ключ" от богатырской сбруи (вооружения). "Во той сбруе, — говорит ратник, — не убьют меня ни пищаль, ни стрелы", и слово заклятия направлено на то, чтобы добыть ее из-под огненного змея: "За дальними горами есть океан-море (небо) железное, на том море есть столб медный, на том столбе медном есть пастух чугунный, а стоит столб от земли до неба, от востока до запада. Завещает тот пастух своим детям: железу, укладу, булату, красному и синему, стали, меди, свинцу, олову, сребру, золоту, каменьям, пищалям и стрелам: подите вы, железно, камень и свинец, в свою мать-землю от раба (имярек)... А велит он ножу, топору, рогатине, кинжалу, пищалям, стрелам, борцам, кулачным бойцам быть тихим и смирным; а велит он: не давать выстреливать на меня всякому ратоборцу из пищали". Заговор на любовь красной девицы начинается этими словами: "За морем за Хвалынским во медном городе, во железном тереме сидит добрый молодец — заточен во неволе, закован в 77 цепей, за 77 дверей, а двери заперты семидесятые семью замками, семидесятыю (семью) крюками". Приведенные заговоры открывают перед нами целый ряд мифических представлений: собираясь на войну, ратный человек обращается с мольбами о защите и помощи к богине-громовнице или к победоносному Перуну, обладателю меча-кладенца (молнии) и воронаго коня (быстролетной тучи); заговор изображает его отцом (создателем) всякого оружия металлического и каменного и дает ему название пастуха — название, в тесном смысле означающее владыку небесных стад, а в более широком —- пастыря народа, военачальника, вождя. Но меч-кладенец и вся богатырская сбруя лежат сокрытые в кладовых облачнаго замка (мед-наго дома или терема), за крепкими стенами и запорами; сам добрый молодец-громовник (или вместо него — огненный змей, демон бурных гроз) сидит окованный в тяжкой неволе в городе-туче: эти оковы налагаются зимними холодами, которые замыкают дождевые источники и делают небо железным; под влиянием означенного воззрения темные сплошные тучи зимы стали представляться темницею заключенного в них громовержца. Силою заговорного слова заклинатель вызывает Перуна восстать от бездействия, разрушить облачные затворы, взяться за меч-молнию и поразить враждебные рати (первоначально: полчища демонов). К нему же, как творцу любовного напитка, обращаются и с мольбами наслать в сердце девицы горячую любовь...
Народные сказки говорят о змеиных (драконовых) дворцах или царствах медном, серебряном и золотом. В Литве сохранилось предание, как один царь (демонический представитель туч), во гневе своем на солнце, приказал заключить его в башню, нарочно для того устроенную. Приказ был исполнен, и солнце перестало светить. Тогда двенадцать планет, лишенные его света, заказали огромный молот, этим молотом (т. е. молниями) пробили отверстие в башне и освободили солнце из тяжкого заключения.
Владыка весенних гроз, разбиватель мрачных туч, просветитель неба, податель дождей и урожаев, присутствие которого так очевидно для всех в летнюю пору, на зиму как бы совсем скрывается; в период суровых вьюг, снегов и морозов не узнается его творческая сила, и миф представляет его засыпающим непробудным сном или умирающим на все время зимы. Очарованный, заклятый, полоненный враждебными демонами, бог-громовник, вместе со своим победоносным воинством, почиет до весны в облачных горах и замках. По указанию ведаических гимнов, пробужденный весною Индра разрушает своими огненными стрелами семь городов демона зимы и выводит из-за крепких затворов стада небесных коров, несущих в своих сосцах благодатное млеко дождя, или освобождает из заключения облачных дев, поспешающих оросить бесплодную землю живою водою. Семь городов указывают на семь зимних месяцев; предания индоевропейских народов осязательно свидетельствуют, что первоначальной родиной их прародительского племени была страна умеренного пояса, сходная по климату с среднею Россией, — страна, чуждая и зноя тропиков, и стужи земель, ближайших к полюсу...
Старинный миф о погружении в сон и пробуждении божества творческих сил природы сохраняется у славян в сказочном эпосе. Здесь повествуется: как ненаглядная красавица потеряла своего милого, пустилась странствовать и после долгих поисков обрела его в союзе с другою безобразною женою, у которой и покупает за серебряные и золотые диковинки (эмблемы весны) право провести с ее мужем три полные ночи. В эти ночи красавица будит своего неверного друга, напоминая о себе в трогательных причитаниях; но он спит крепким, непробудным сном, и только в третью ночь удается ей наконец вызвать его из волшебного усыпления, насланного хитрою соперницею, отстранить эту последнюю и войти в права настоящей супруги. Смысл этой сказки, знакомой и другим индоевропейским народам, следующий: в печальный период вьюг и морозов бог-громовник покидает свою красавицу (богиню лета) и вступает в новый союз с кольдуньей Зимою, которая и усыпляет его до той поры, пока не появится весна...
В горе Бланике, в четырех милях от Табора (рассказывают чехи), заключены рыцари, павшие некогда в бою; они спят на полу и на каменных скамьях, и возле каждого лежит его оружие; некоторые покоятся опершись на меч, а другие — сидя верхом, склонив голову на шею лошади. Источник, вытекающий из горы, проливается их конями, которые стоят оседланные вдоль отвесной скалы. Каждый год на Иванов день Бланик открывается, и рыцари выезжают поить своих лошадей. Случилось раз пастуху зайти в открытую гору; рыцари проснулись и стали спрашивать: не пора ли выступать в поход? Но вождь их Венцелий, который покоится посреди пещеры — на возвышенном месте, отвечал: "Нет, не настало еще время, когда уничтожим мы врагов Чехии!" И тотчас все погрузились в сон. Один кузнец позван был в пещеру подковать лошадей и в награду за труд получил старые подковы, которые впоследствии превратились в золото; рассказывают еще о конюхе: рыцари пригласили его вычистить навоз, он исполнил работу, а навоз оказался потом золотом. Часто слышится в горе стук оружия — это рыцари готовятся к битве. Битва эта произойдет тогда, когда враги со всех сторон ворвутся в страну, заселенную чехами, внесут в нее смерть и огонь и разрушат Прагу до основания, когда старый пруд около Бланика наполнится кровью и засохшие деревья позеленеют и дадут цвет. В то время выступит священное войско, и во главе его Венцелий на статном белом коне, держа в руке распущенное знамя; он изгонит хищных врагов, положит начало народной независимости и затем вместе со своими ратниками удалится на вечный покой...
На Руси означенный миф соединяется с именем Стеньки Разина, которому народ приписывает сокрытие дорогих кладов. По берегам Волги, где он некогда гулял со своей вольницей, некоторые холмы носят названия: Стол, Шапка, Бугры Стеньки Разина, а одно ущелье слывет его Тюрьмою. В Разинских Буграх, по народному поверью, знаменитый разбойник спрятал свое богатство в глубоких погребах, за железными дверями, и теперь оно лежит там заклятое. Сам Стенька Разин жив до сих пор, сидит где-то в горе, стережет свои поклажи...
Вместе с Разиным заключены в змеиной пещере получеловеки — баснословные люди об одном глазе, одной руке и одной ноге, которые, чтобы двинуться с места, принуждены складываться по двое и тогда бегают с изумительной быстротою: они плодятся, по русскому поверью, не вследствие нарождения, а выделывая себе подобных из железа. Дым и смрад, исходящие из их кузниц, разносят по белому свету повальные болезни: мор, оспу, лихорадки и т. д. В Томской губ. они называются оплетаями, у хорутан — половайниками; происхождение половайников приписывается дьяволу. Ясно, что это дикое племя родственно одноглазым кузнецам-циклопам, помощникам Гефеста[138]. В борьбе с великанами (тучами) Зевс и его сподвижники низвергли своих врагов в преисподнюю и придавили их огромными скалами; впоследствии миф этот был перенесен на знаменитого в древности завоевателя — Александра Македонского, и средневековые повести рассказывают о борьбе его с дивами, т. е. великанами...
Чрез посредство литературных памятников означенная басня перешла и к нам, слилась с древнейшими народными преданиями и сделалась общим достоянием. Предки наши указывали на разные горы, как на места заключения "нечистых языков". Старинный летописец записал рассказ новгородца Гюряты Роговича: послал он отрока своего в Югорскую землю[139]; "Югра же рекоша отроку: дивьно мы находихом чюдо... суть горы зайдуче луку моря, им же высота ако до небесе, и в горах тех клич велик и говор, и секут гору, хотяще высечися; и в горе той просечено оконце мало, и туде молвять, и есть не розумети языку их, но кажуть на железо и помавають рукою, просяще железа. Есть же путь до гор непроходим пропастьми, снегом и лесом, тем же не доходим их всегда; есть же и подаль на полунощи". По поводу этого рассказа летописец замечает: "Си Суть людье, заклепании Александром Македоньскым царем". В путешествии Василия Гогары (1634 г.) читаем: "Да в той же грузинской земле меж горами высокими и снежными в непроходимых местах есть щели земные, и в них загнаны дивие звери Гог и Магог[140], а загнал тех зверей царь Александр Македонский". Из летописных указаний видно, что мысль об этих "дивьих", нечистых народах соединялась в былые времена с половцами и татарами, которые неведомо откуда находили на русскую землю и предавали ее страшному опустошению. И на западе Европы существовало в средние века убеждение, что татары вышли из тартара, в гуннах же признавали народ, происшедший от плотского смешения ведьм с лесными демонами или колдуна с волчицею, и смешивали их с великанами. В устах русского люда басня о народах, заклепанных Александром Македонским, передается так: "Жил на свете царь Александр Македонский — из богатырей богатырь, и войско у него было все начисто богатыри. Куда ни пойдет войною — все победит, и покорил он под свою власть все земные царства. Зашел на край света и нашел такие народы, что сам ужаснулся: свирепы пуще лютых зверей и едят живых людей; у иного один глаз — и тот во лбу, а у иного три глаза; у одного одна только нога, а у иного три, и бегают они так быстро, как летит из лука стрела. Имя этих народов было Гоги и Магоги. Начал воевать с ними Александр Македонский; дивии народы не устояли и пустились от него бежать; он за ними, гнать-гнать, и загнал их в такие трущобы, пропасти и горы, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Свел над ними одну гору с другою сводом, поставил на свод трубы и ушел назад. Подуют ветры в трубы, и подымется страшный вой, а дивии народы кричат: о, видно, еще жив Александр Македонский! Эти Гоги и Магоги доселе живы и трепещут Александра, а выйдут из гор перед самою кончиною света".
Змей
В области баснословных преданий одна из главнейших ролей принадлежит огненному, летучему змею. Значение этого змея весьма знаменательно; оно стоит в теснейшей связи с самыми основными религиозными представлениями арийских племен. Народные поверья приписывают змею демонские свойства, богатырскую силу, знание целебных трав, обладание несметными богатствами и живой водою, наделяют его способностью изменять свой страшный, чудовищный образ на увлекательную красоту юноши, заставляют его тревожить сердца молодых жен и дев, пробуждать в красавицах томительное чувство любви и вступать с ними в беззаконные связи. В этой обстановке уже замечается долгая работа ума и воображения. Здесь сведены воедино различные поэтические представления, в которых древний человек любил живописать небесные тучи и грозы; приступая к анализу этих представлений, сочетавшихся с мифом огненного змея, прежде всего необходимо задаться вопросом, что послужило для него первообразом в видимой природе?
В огненном змее народная фантазия, создающая мифические образы не иначе как на основании сходства и аналогии их с действительными явлениями, олицетворяла молнию, прихотливый извив которой напоминал воображению скользящую по земле змею, а равно — воздушные метеоры и падающие звезды, которые младенчески неразвитому народу, ради производимого ими на глаз впечатления, казались тождественными со сверкающей молнией. Все эти естественные явления, быстро мелькающие в небесных пространствах светлыми, пламенными полосами, для предков наших представляли близкое подобие летучего и рассыпающегося в искрах огненного змея. Еще теперь простолюдин считает падучие звезды и метеоры за огненных змеев; в старину же взгляд этот был общепринятым, как видно из летописных и других памятников. Под 1028 годом летописец говорит: "Знамение явися змиево на небесех, яко видети всей земле"; под 1091 годом: "Спаде превелик змий от небесе — ужасошася вси людье"; 1144 года: "Бысть знамение за Днепром в киевьской волости: летящю по небеси до земля яко кругу огнену, и остася по следу его знамение в образе змья великого, и стоя по небу с час дневный и разидеся"; 1556 года: "Бысть знамение — того места, где звезда была на небеси, явися яко змий образом, без главы стояше... ино яко хобот хвост сбираше, и бысть яко бочка и спаде на землю огнем, и бысть яко дым по земли". В отписках[141] 1662—1663 годов о метеорах, виденных в Белозерском уезде, читаем: "Явися, аки звезда великая, и покатись по небу (с) скоростию, яко молния, и небу раздвоитися, и протяжеся по небу яко змий, голова во огни и хобот — и стояло с полчаса"; "Стал яко облак мутен, и протяжеся от него по небу яко змий великий, голова во огни, и пошел из него дым, и учал в нем быть шум, яко гром"...
О тождестве змея с грозовою тучею предания и поверья представляют самые наглядные свидетельства, не позволяющие сомневаться, что между тем и другою существует самое близкое соотношение. Народная загадка: "Мотовило-косовило по поднебесью ходило, всем устрашило" или: "Шило-мотовило под небеса подходило, по ниточке говорило" — разгадывается двояким образом: и гром, и змей. Мотовило — снаряд для разнотки пряжи; так как старинный метафорический язык уподоблял клубящиеся облака и тучи спутанной, косматой пряже, то громовая стрела, заостренная как игла или шило, казалась именно тем орудием, которым Перун разматывает небесную пряжу (т. е. рассевает тучи). "По ниточке говорило" — выражение, указывающее на раскаты грома, которыми сопровождается эта работа: гром — Перуново слово. Очевидно, что приведенная загадка, служа для обозначения змея, имеет в виду не обыкновенного, земного гада, а мифического или молниеносного змея. Из самого названия: "змей огненный" уже несомненна связь его с грозовым пламенем... Змей, говорят крестьяне, летит по поднебесью в виде огненного шара и рассыпается искрами, словно горячее железо, когда его куют молотом; по другим показаниям, он несется черным клубом, а из раскрытой пасти его валит дым и пламя — представление, прямо снятое с природы: черная туча в полете своем по воздушным пространствам клубится подобными дыму парами и дышет огнем, т. е. вместе с вихрями выдыхает из себя и грозовое пламя. Это эпическое выражение сопровождает и все другие животненные олицетворения громового облака; так о коне-туче говорится, что изо рта и ноздрей его огонь вылетает, из ушей дым столбом валит. В народных былинах встречаем "лютого зверя" Горынчища. Купался Добрыня в реке:
Как в тую пору, в то время Ветра нет — тучу наднесло, Тучи нет — а только дождь дождит, Дождя нет — искры сыплются: Летит змеище-Горынчище, О двенадцати змея хоботах.Хочет он Добрыню огнем спалить, хоботом ушибить, но богатырь осилил и убил чудовище...
Русские сказки и песни упоминают о чудесной змее, которая когда ползет — под ней трава горит или сохнет. Предания других индоевропейских народов ту же силу испускать пламя приписывают дракону. Дракон летает по воздуху, выдыхает из своей пасти дым, пламя и бурные вихри, пожигает зеленые травы и заражает воздух своим ядовитым дыханием; он или палит своего врага огнем, или изрыгает на него жгучий яд; человек, которого коснется блестящий взор дракона, падает мертвым, ибо из глаз его исходит тот же губительный яд. И, поражая змея, герой подвергается опасности погибнуть от его яду или крови, которая течет рекою из ран убитого чудовища...
В народных сказаниях змей изображается то как чудовищный зверь, то как великан. В грозовых тучах фантазия древнего человека созерцала существа самодействующие, признавала за ними ту же волю и те же страсти, какие приличны человеку; а потому рядом с животненными олицетворениями туч необходимо наделяла их и человеческими формами. Вот почему змей выезжает на битву, как вооруженный воин, на славном, богатырском коне; на плече у него сидит черный ворон (похититель живой воды), а позади хорт (собака-ветр) бежит. Но, перенося свои формы на облачный мир, человек расширял их до исполинских размеров, соответственно могуществу и громадности естественных явлений. Отсюда возникли сказания о великанах, к кругу которых принадлежит и змей, что до очевидности свидетельствуется греческим мифом о змеинохвостых гигантах и множеством других общеарийских преданий. О Тугарине Змеевиче народная сказка говорит: был он богатырь в вышину трех сажен, промеж глаз — калена стрела; пожирал он и выпивал также много, как и великаны, поедающие небесных коров и опорожняющие целые бочки дождевого напитка. Вглядываясь в развитие мифических представлений, нетрудно заметить, что под влиянием метафорического языка и неудержимого стремления фантазии олицетворять силы природы каждое физическое явление в одно и то же время воплощалось в нескольких разнохарактерных образах или принимало на себя облик, составившийся из смешения этих образов. Огненный змей, зримый на небе пламенным, искрометным шаром, прилетая в избу своей возлюбленной, обращается в молодца несказанной красоты. "Есть молодые молодцы зазорливые (говорит устное предание о летучих змеях), которые умеют прикидываться по-змеиному и по-человеческому". В одной русской сказке змей представляется человеком со змеиной головою: с виду змей — богатырь, а голова змеиная. Согласно с теми прихотливо-изменчивыми, фантастическими формами, какие принимают облака в своем бурном полете по небесному своду, воображение народа видело в них чудовище со многими головами и раскрытыми пастями. Сказочный эпос изображает драконов и змеев с тремя, шестью или семью, девятью и двенадцатью головами; по числу голов определяется большая или меньшая степень их силы... Быстрота, с которою несутся грозовые тучи, гонимые бурными ветрами, заставила уподобить их птице и борзо скачущему коню; означенные метафоры возникли в древнейшую эпоху языка, и по всему вероятию, одновременно с уподоблением тучи — небесному змею. Эти различные животненные олицетворения, относясь к одному и тому же явлению, необходимо должны были сливаться в убеждениях первобытных племен. Фантазия смешала формы птицы, коня и змея и составила из них баснословных животных. Старинная песня говорит, что богатырский конь-туча шип пускал по-змеиному и, отделяясь от земли — летал выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Огненного змея народ называет летучим, дает ему крылья птицы и наделяет его крылатым конем, на котором носится он по воздуху. На лубочных картинах змей рисуется с крыльями; сербская песня упоминает о змее шестикрылом. Русские и словацкие сказки говорят о двенадцатикрылом коне змея; по свидетельству былины, Тугарин Змеевич "садился на своего доброго коня, поднялся на крыльях по поднебесью летать", а конь у Тугарина "как бы лютый зверь, из хайлища пламень пышет, из ушей дым столбом". Следуя этому описанию, лубочная картина изображает Тугаринова коня крылатым. В сказках к услугам змея являются конь-ветер и конь-молния. Народная загадка обозначает змея под метафорическим образом коня: "Стоит конь вороной — нельзя за гриву взять, нельзя и погладить"... Шум грозовой бури сравнивали с шипением змеи. По свидетельству русских сказок и былин, огненный змей поднимает страшный свист и шип; голос его подобен завыванию вихрей: "Заревел Тугарин — и дрогнула вся дубрава!" Как от "змеиного шипа" коня сивки-бурки, как от свиста Соловья-разбойника падали стены и люди, так и свист мифического змея производит то же сокрушающее действие.
Мы знаем, что молнии уподоблялись стрелам, копьям и воинской палице. Эти поэтические представления должны были прилагаться и к змею, как воплощению громоносной тучи. Стрела-молния то служит ему, как бранное оружие, то принимается за необходимый атрибут его фантастического образа. Под влиянием метафорического языка, фантазия наделила дракона стреловидным жалом или острым огненным языком: верование это до такой степени проникло в убеждение народа, что, по мнению крестьян, даже простые змеи (гадюки) уязвляют не зубами, а жалом, которого они в действительности не имеют. На лубочных картинах огненный змей изображается с одною или несколькими стрелами в пасти, и самый конец хвоста его заостряется стрелою; так Еруслан-богатырь убивает змея о трех головах, в каждой голове по стреле — вместо жала, а хвост оканчивается четвертой стрелою. Существует поверье, что змея-медяница (или медянка — от слова мед) целый год бывает слепа и только на Иванов день получает зрение и тогда, бросаясь на человека или животное, пробивает свою жертву насквозь — точно стрелою. Эта медная стрела-змея тождественна с огненным Перуновым цветом, который распускается на Иванову ночь; сознание о таком тождестве выразилось в народном сказании о траве-медянице: зарождается трава-медяница от гниения зловредных гадов, "растет слепою, зрение получает в Иванов день, и когда увидит человека или другое животное — тогда бросается на него стрелою и пробивает насквозь"...
Весьма знаменательно русское название мифического змея — Горыныч, увеличительное Горынчище; оно происходит от слова гора и есть отечественная форма, означающая сына горы, т. е. горы-тучи, рождающей из себя извивистую змею-молнию. В былинах присваиваются змее эпитеты горынская и подземельная. Выше было объяснено это древнее представление тучи горою и указаны следы его в целом ряде народных сказаний и в названиях гор по имени громовника; наряду с "гремячими горами" можно поставить географическое название — гора Змеища. В гимнах "Ригведы" тучи называются горами змея Вритры, а сам Вритра — гороподобным. Связь огненного змея с горами и скалами подтверждается множеством поверий, сохранившихся у всех индоевропейских народов. Драконы и змеи живут внутри гор или в каменных пещерах и сюда скрывают похищенных ими дев. В Томской губ. рассказывают про Змееву гору (около Змеиногорского рудника), что в нее ушел змей-полаз. В Уваровой станице на берегу Иртыша есть пещера, в которую скрылся явившийся из реки змей, и там, где он полз, видна на траве выжженная тропинка. Беломорцы показывают на острове Робьяке (в Кандалашском заливе) большой камень с отверстием внутри, за которым начинается пропасть; в этой пропасти жил некогда страшный змей. Богатырь Добрыня приплыл в пещеры белокаменные, где жил змей Горынчище, застал в гнезде его малых детушек и всех пришиб, пополам разорвал. В "Нибелунгах"[142] Зигфрид находит дракона на горе, Беовульф поражает его в ущелии скал... Древнепольское предание рассказывает о князе Кроке, или Краке, от которого производят название города Кракова: во время его княжения народ терпел величайшие бедствия от страшного змея, который жил в пещерах горы Вавель и равно поедал и людей, и скот. Чтобы избавить свой народ от змея, Крок употребил хитрость: взял несколько воловьих шкур, начинил смолою, серою и другими горючими снадобьями и, запалив вложенные в них фитили, придвинул все это к змеиной горе. Змей выполз, проглотил воловьи шкуры; пламя вспыхнуло в его утробе, и он издох. Воловьи шкуры, пожираемые змеем, — уже знакомая читателю метафора облаков. Чем более поглощает их змей, или, выражаясь прозаически: чем более сгущаются, скучиваются облака, тем сильнее разгорается пламя молний, и он гибнет в грозе от собственной жадности. Прибавим, что в числе великанов народный эпос упоминает Горыню, который повергает целые горы, и что между другими славянскими названиями, присвоенными облачным женам, было берегиня — название, тождественное с именами: баба-горынинка и баба-алатырка (от слова "алатырь-камень"), какие встречаются в народных былинах. Древнейшее значение слова берег (брег, нем. berg) — гора...
Славянские сказки говорят о змеиных царствах или дворцах — медном, серебряном и золотом. В Германии ходят рассказы о таких же дворцах, окруженных медными, серебряными и золотыми лесами, принадлежащих драконам медному, серебряному и золотому. Три металлических царства и три металлических леса выражают одну и ту же мысль; эпитеты "медный, серебряный и золотой", иногда алмазный или жемчужный, объясняются теми яркими, блестящими красками, какими солнце с чудным великолепием расцвечивает облака, особенно при своем восходе и закате, и стоят в близком соотношении с преданиями о несчетных сокровищах, хранимых драконами и змеями. Об алмазном дворце змея русская сказка утверждает, что он вертится словно мельница и что из него видна вся вселенная — все государства и земли, как на ладони... В хорутанской приповедке читаем: "И подходит он к городу медному, который поворачивался на сорочьей ноге"; то же выражение употреблено и при описании городов серебряного и золотого, что прямо отождествляет их с вертящеюся избушкою бабы-яги (облачной, демонической жены). Этот дворец или избушка — метафора ходячего облака. В числе различных представлений, соединявшихся с молнией, она уподоблялась и ноге; блеск молний и удары грома потрясают тучи и приводят их в бурное движение, и потому народные предания говорят о ноге, на которой вертится облачное здание бабы-яги и змея. Нога эта — петушья или сорочья, что объясняется из той связи, в какую поставил древний миф петуха и сороку с явлениями грозы. Другие сказки говорят, что избушка бабы-яги поворачивается на курьих ножках, на собачьих пятках, а замок бога ветров вертится на мышиной ножке: собака — символ вихря, мышь — разящей молнии...
Быстрота полета бурной, дожденосной тучи заставила фантазию сравнивать ее с легконогим конем и гончею собакою; проливаемые ею потоки дождя повели к сближению тучи с дойною коровою, а сверкающие во тьме молнии — к сближению ее с кошкою, глаза которой светятся ночью как огни. Поэтому Буря-богатырь, коровьин сын, есть собственно сын тучи, т. е. молния или божество грома — славянский Перун, скандинавский Тор; понятно, что удары его должны быть страшны и неотразимы. Перун (Тор) вел постоянную борьбу с великанами-тучами, разбивал их своею боевою палицей и меткими стрелами; точно то же свидетельствует сказка об Иване, коровьем сыне, заставляя его побивать многоглавых, сыплющих искры змеев. Победивши змеев, он должен бороться с их сестрами или женами, которые, с целью погубить своего врага, превращаются одна золотою кроваткою, другая деревом с золотыми и серебряными яблоками, а третья криницею; но богатырь угадывает их замыслы, рубит мечом по кроватке, дереву и кринице, а из них брызжет струею алая кровь, т. е. дождь. Должен состязаться богатырь и с их матерью, ужасною змеихою, которая разевает пасть свою от земли до неба. Богатырь спасается от нее бегством на кузницу, и там змеиха, схваченная за язык горячими клещами, погибает под кузнечными молотами, подобно тому как гибнут великаны под ударами Торова молота (молнии), или по другому сказанию — она выпивает целое море и лопается с треском, изливаясь потоками дождя. Как естественный результат поражения змеев, или проще: разгрома темных туч, обнаруживается скрывавшийся за ними благотворный свет солнца. Такое появление сияющего солнца народный эпос представляет освобождением из-под власти чудовищных змеев похищенной ими красавицы; в сказке же об Иване Попялове, любопытной по свежести передаваемого ею древнего мифа, прямо повествуется: в том государстве, где жил Иван Попялов, не было дня, а царствовала вечная ночь, и сделал это проклятый змей; вот и вызвался богатырь истребить змея, взял боевую палицу в пятнадцать пудов и после долгой борьбы поразил его насмерть, поднял змеиную голову, разломал ее — и в ту же минуту по всей земле стал белый свет, т. е. из-за разбитой тучи явилось красное солнце. В другой русской сказке змей похищает ночные светила; богатырь отсекает ему голову, и из нутра чудовища выступил светел месяц и посыпались частые звезды. Об этом поглощении светил создалась у болгар следующая легенда: в старое время одна злая баба взяла грязную пелену и накрыла месяц, который тогда ходил низко и даже совсем по земле; месяц поднялся высоко на небо — туда, где и теперь виден, и проклял нечестивую: вследствие этого проклятия она превратилась в змею, и от нее произошли все теперь существующие земные змеи. Много она людей пожрала и истребила бы весь свет, да святой Георгий убил ее. Злая баба, очевидно, — злая ведьма, грязная пелена — мрачный облачный покров, Георгий — замена Перуна...
Богатырь Добрыня нашел в змеиных пещерах злато-серебро; хранение этих металлов и вообще кладов русские поверья приписывают огненному змею. Над кладами горят свечи; заметит ли кто такую свечу, увидит ли летящего змея — в обоих случаях должен произнести заклятие — и клад рассыпается деньгами, а змей искрами. Над чьим домом рассыпается змей, туда, по мнению поселян, носит он богатство. Сербское выражение "змаjеве отресине" означает: блестяк, золото, отрясаемое летучим змеем, а лужицкая поговорка: "Он имеет змея" — употребляется в смысле: у него не переводятся деньги. Лужичане верят, что мифический змей несется по небу с такою быстротою, что глаз не успевает за ним следовать, и над кем опустится, тому приносит счастье и благословение. Своих любимцев между людьми он наделяет золотом, являясь к ним через дымовую трубу; такого змея, приносящего золото (деньги), называют: денежный змей. Ему же принадлежит и охранение зарытых в земле сокровищ, присутствие которых узнается по яркому блеску играющего на том месте пламени. Кому служит змей, тот весьма скоро становится богачом; но за свои дары змей требует жертвенных приношений. В избах он поселяется за печкою, и на плите очага ставят для него молочную кашу, мясо и другие яства, которые и пожираются им в то время, как скоро все заснет в доме. То же поверье встречаем в Белоруссии о домовом цмоке (змее); здесь ходит рассказ о мужике, которому змей носил деньги, а этот обязан был ставить ему на кровле дома яичницу. Разбогатевши, мужик пренебрег своею обязанностью и однажды не поставил обычной яствы; змей улетел озлобленный, а на другой день изба и все надворные строения мужика сгорели, и он сделался бедняком. Чехи признают дракона за демона, готового служить человеку; когда он летит высоко, то предвещает счастье (плодородие), а низко — предвещает беду, преимущественно опасность от огня; несется ли он над городом или деревней, надо ожидать большого пожара. О людях, разбогатевших неизвестными средствами, чехи говорят: "У них поселился плевник" (огненный змей). Таким образом змей, как воплощение молнии, низведенной некогда (по свидетельству древнего мифа) на домашний очаг, отождествляется с домовыми духами и получает характер пената. Воображение простолюдинов помещает его за печкою и заставляет прилетать в избу чрез дымовую трубу; в России всюду убеждены, что именно этим путем появляется и исчезает огненный змей. По чешскому поверью, в каждой избе есть свой домовой змей, который иногда показывается людям; когда умирает этот гад, то вместе с ним умирает и хозяин дома. В некоторых деревнях утверждают даже, что в каждом доме живут две большие змеи; окруженные детенышами, они являются таинственными представителями хозяйской семьи. Если будет убит змей-самец, то немедленно умирает хозяин дома, а если самка — то смерть постигает хозяйку. Змеи эти оберегают дом и принадлежащие к нему владения от всякого несчастья и заботятся, чтобы все было сохранно...
Падающие звезды принимаются за огненного змея или дьявола, который, рассыпаясь искрами, — превращается в клад; в том месте, куда упадет звезда, можно найти под землею великие сокровища. Кто увидит змей, свившихся в клубок, и между ними царя-змея, тот должен бросить в их кучу камнем (метафора молнии), и змеи тотчас же обратятся в чистое золото.
Старинный метафорический язык уподоблял солнце не только золоту, но и драгоценному камню, и блестящей короне. Выражаясь поэтически, змей — облачитель дневного светила заключает в себе самоцветный камень или носит на голове золотую корону, украшенную дорогим камнем; а во время весенней грозы и дождевых ливней, просветляющих лик омраченного солнца, он сбрасывает с себя эту корону или камень. Но под тою же метафорой золотого, светящегося камня представлялась и молния, носимая змеем-тучею и роняемая им в быстром полете по воздуху. Давая сходные метафорические названия различным явлениям природы, фантазия древнего человека постоянно сливала их в своих мифических сказаниях, что замечается и в преданиях о змеином камне. Миф этот с течением времени был перенесен на земных змей, которые, по мнению народа, имеют у себя царя, украшенного чудною короною...
По болгарскому поверью, змеиный царь бывает о двух головах, на одной голове — корона, а язык — из бриллианта; если убить этого царя (что, впрочем, весьма трудно, ибо он окружен самыми лютыми змеями, которые все подымаются на его защиту) и завладеть бриллиантом и короною, то сделаешься повелителем всего мира и будешь бессмертным... У армян сохраняется верование, что между змеями горы Арарат есть порода, состоящая под владычеством могучей царицы, которая держит во рту волшебный камень и в известные ночи бросает его высоко на воздух, где он сияет, как солнце; вечное счастье тому, кто сумеет схватить его на лету. У разных народов существуют рассказы о камнях, зарождающихся в голове ехидны, змеи и петуха; кто достанет такой камень, тот может считать себя совершенно счастливым; все желания его будут немедленно исполняться. Эти суеверные предания вызвали в средние века желание отыскать философский камень, обладающий силою превращать все в золото, увеличивать продолжительность жизни и наделять мудростью. В русской сказке добрый молодец строит корабль и, нагрузивши его угольем, плывет в открытое море — к тому острову, где было логовище двенадцатиглавого змея, который выходил оттуда пожирать народ; змей спал, и сказочный герой, пользуясь этим, засыпал его угольем, развел огонь в принялся раздувать мехами: очевидно, это богатырь громов ник, раздувающий грозовое пламя кузнечными мехами. Когда змей лопнул, он отрубил ему мечом все двенадцать голов и в каждой голове нашел по дорогому самоцветному камню. В Белоруссии и Литве рассказывают о необыкновенной красоте царя-змея, о чудных переливах красок на его коже и об алмазном гребешке на голове; если станут его преследовать, то он издает ужасное шипение, и вмиг со всех сторон мчатся толпы ужей на его защиту — и тогда беда обидчику. Свист ужиного царя так громок, что его слышно по всей Литве. На Украине думают, что царь-уж или царь-змей отличаются от простых гадюк своею громадностью и, сверх того, имеют на голове золотые, светящиеся рожки. При встрече с ним в лесу должно положить на дороге красный пояс или платок; увидя красный цвет, он сбрасывает свои золотые рожки, и кто сумеет захватить их — тот будет и здоров, и счастлив, и богат; богат — потому, что ему будут доступны все клады. Рассказывают еще, что у царя-змея два золотых рога, овладевши которыми должно закопать их иод двумя еще не распустившимися дубами; один дуб засохнет, а другой покроется зеленью; рог, зарытый под первым деревом, — несчастливый, мертвящий, а зарытый под другим — счастливый, оживляющий. Два змеиных рога, оживляющий и мертвящий, вполне соответствуют представлению о Перуновом цвете, который и пробуждает от смерти, и погружает в безжизненный сон — воскрешает природу от зимнего оцепенения и наносит смертельные удары. Нет сомнения, что и с змеиным камнем могло соединяться не только представление весеннего солнца, охваченного темными тучами, но и сверкающей в них молнии. Все могучие свойства, какие придаются змеиному камню: просветление очей, открытие кладов, исполнение всевозможных желаний, дарование здоровья, счастья и победы — принадлежат и Перунову цвету, и Перуновой лозе.
Сверкающие в летние месяцы молнии исчезают на зиму, и глаз смертного не видит их более до прихода весны; вместе с тем перестают литься благодатные дожди и зимняя стужа налагает на облака свои леденящие оковы. Явление это на древнем живописном языке обозначалось так: змеи прячутся на зиму в облачных пещерах и скалах и засыпают в них долгим, непробудным сном — до тех пор, пока не явится весна и не отопрет эти пещеры и скалы ключом-молнией. Позднее, когда затерян был смысл старинных метафор, означенная поэтиче-кая фраза, понятая буквально, стала прилагаться к обыкновенным змеям и гадам, которых холодная зима повергает в сонное опеценелое состояние. До первого весеннего грома, по русскому поверью, змеи не жалят. В высшей степени интересен словацкий рассказ: однажды — это было осенью, в то самое время, когда змеи уходят спать в землю, — лежал в поле овчар и смотрел на ближнюю гору. Он увидел чудо: множество змей ползло со всех сторон к каменной горе; приближаясь к ней, каждая змея брала на язык травку, которая тут же росла, и прикасалась ею к твердой скале; скала открывалась, и змеи одна за другою исчезали в ее вертепах. "Надо посмотреть, что это за трава и куда ползут змеи!" — подумал овчар; трава была ему неведомая; как только он сорвал ее и дотронулся до скалы — эта тотчас же раскрылась перед ним. Очевидно, здесь идет речь о чудесной разрыв-траве, т. е. о молнии, разверзающей облачные горы; овчар же — не кто иной, как сам Перун, пастырь небесных стад — облаков-барашков. Он вошел в отверстие и очутился в пещере, стены которой блистали серебром и золотом. Посреди пещеры стоял золотой стол, а на нем лежала огромная старая змея. Вокруг стола лежали другие змеи. Все они спали так крепко, что ни одна не пошевелилась, когда вошел овчар. Долго осматривал он пещеру, наконец, опомнившись, хотел отправиться назад, но это нелегко было сделать: скала в ту же минуту сомкнулась за ним, как только он вступил в ее недра. Овчар не знал, как и где найти ему выход, и сказал сам себе: "Если нельзя отсюда выйти, так стану я спать!" Лег наземь и уснул. Сильный шум и шипение разбудили его; раскрывши глаза, он увидел множество змей, которые лизали золотой стол и спрашивали: "Не пора ли?" Старая змея медленно подняла голову и отвечала: "Пора!" Потом вытянулась от головы до хвоста, как гибкий прут, спустилась со стола на землю и направилась к выходу пещеры; все змеи поползли за нею. Старая змея прикоснулась к каменной стене — и скала немедленно отомкнулась; вышли змеи, вышел за ними и пастух, но каково было его удивление: вместо осени уже была весна, природа одевалась в новую зелень, и жаворонки оглашали воздух сладкозвучными песнями.
О старой змее (змеином царе) предание утверждает, что, пробужденная от зимнего сна — она летит по воздушным пространствам, помрачая собою светлое небо, извергая из очей искры, из открытой пасти пламя и ударяя хвостом с такою силою, что вековые деревья гнутся и ломаются, как трости; земля дрожит, горы (тучи) дают трещины, и с них падают шумные воды (дождь). В такой картине рисует миф весеннюю грозу с ее громовыми ударами, сверкающими молниями, стремительными вихрями и проливными дождями. Вместе с пробуждением царя-змея начинаются и бурные грозы. Предание это известно и в Болгарии, и в России. Как скоро наступит осень — (рассказывают болгары), змеи собираются около своего царя, который распределяет их на "змийща" — места, логовища, где они должны провести зиму. С каждым змеиным стадом царь отпускает по главному змею, который ложится в середине, а прочие располагаются вокруг него. То же самое делает и царь с своею свитою, которая состоит из змей, имеющих на хвостах колокольчики; звон — метафора грома. По русскому поверью, 14 сентября все змеи (гадюки) лезут в вирий или скрываются в землю; только те, которые укусили кого-нибудь в продолжение лета, обречены в наказание за это мерзнуть в лесах...
Не менее интересная сказка о кривой царевне. Весельчак пьяница вызвался вылечить ей глаза и поехал в змеиное царство; в том царстве жили одни змеи и гады. Кругом города лежала большая змея, обвившись кольцом, так что голова с хвостом сходилась. Пьяница воспользовался сном исполинской змеи, сделал веревочную лестницу с железными крюками на конце, накинул лестницу на городскую стену, забрался в город и посреди его нашел камень, а под камнем целебную мазь: стоит только помазать ею глаза, как слепота тотчас же проходит. Взял он эту мазь, спрятал под мышку, сел на корабль — и в море. Пробудилась большая змея, погналась за похитителем; плывет по морю, а под ней вода словно в котле кипит, махнула хвостом и разбила корабль вдребезги. Пьянице удалось выплыть на берег; он вылечил кривую царевну и получил щедрую награду. Смысл предания следующий: царевна Солнце в период зимы теряет свой блеск, или, говоря метафорически: кривеет (слепнет). Бог-громовник берется исцелить ее и для этого должен достать целебную мазь из-под змеиного камня, т. е. живую воду дождя, хранимую царем-змеем; именно этим нектаром и насыщаются змеи, когда лижут камень-алатырь. В весеннюю пору он будит змея от зимнего сна, вступает с ним в борьбу и счастливо похищает целебное снадобье; корабль — метафора тучи, несущейся по небесному океану, и гибель его есть поэтическая картина грозы; согласно с представлением молниеносного Перуна — богом, всегда готовым сосать дождевые облака и упиваться небесным вином, сказка дает своему герою характеристическое название пьяницы. Добытый им дождь проливается на землю, и царевна Солнце снова начинает блистать своим лучезарным оком. По русскому поверью, кто поймает белую змею, старшую над всеми змеями и, убивши, натопит из нее сала, и потом вымажет этим салом свои очи, тот получит дар видеть скрытые под землей клады; т. е. дождь, проливаясь из разбитой тучи, освобождает из туманных вертепов золотое сокровище солнечных лучей и открывает его взорам смертных. Эпитет белый указывает на змею — хранительницу небесного золота — на тучу, озаренную солнечными лучами. В Литве есть поверье, что свеча, сделанная из сала змеи или ужа, приносит своему обладателю счастье: если он зажжет эту свечу (намек на грозовое пламя), то со всех сторон приползут на его защиту змеи и ужи вместе со своим царем и принесут ему множество золота.
Из сказанного уже видно, что со змеем как олицетворением дождевой тучи неразлучна мысль о хранении им живой воды. Весьма знаменательное указание на эту связь находим в сказке о Василисе — золотой косе, где живой (богатырской, сильной) воде придано название змеиной. По свидетельству русских преданий, многоглавые змеи, испускающие жгучее пламя, лежат у входа в солнцево царство (т. е. в вирий, царство вечного лета) и стерегут доступ к устроенным там криницам живой воды; сюда-то отправляются сказочные герои за бессмертным напитком. Так, одна народная сказка говорит о чудесном саде, где растут моложавые яблоки и бьют ключи живой и мертвой воды, а вокруг того сада обвился кольцом громадный змей — голова и хвост вместе сошлись. В сказке про Ивана Голого и Марка Бегуна летучий змей указывает этим богатырям на два озера; пришли к одному озеру, бросили в воду зеленый прут — прут тотчас сгорел; пришли к другому, бросили в него гнилушку — она тотчас пустила ростки и зазеленела листьями. "Огненное" (мертвое, адское) озеро — поэтическое изображение дождевой тучи, пожигаемой молниями. По малорусскому варианту легенды о Марке Богатом, этот богач посылает своего зятя к царю-змею попросить живой водицы. Чехи ставят дождевые ливни в зависимость от змеиного дыхания: как скоро должен пойти дождь — из-под печи, где живет гад-господарик, исходит сильный запах.
В глубоких погребах драконов и змеев хранятся сосуды или бочки с сильною (живою) водою, и в пылу битвы они и враждебные им богатыри бросаются туда, чтобы испить этого нектара и укрепить себя для новой борьбы. Кто из соперников успеет прежде напиться, за тем остается и победа. Предание глубочайшей древности! Гимны "Вед" заставляют Индру пить из облачных источников небесную сому, чтобы укрепиться на битву со змеем Вритрою. "Пить живую воду" или "купаться" в ней — выражения однозначительные, равно указывающие на пролитие дождей; потому одна метафора легко заменялась другою. Отсюда возникло поверье, известное на Руси и в Богемии: кого укусит ядовитая змея, тот должен бежать к воде; если он прибежит к источнику прежде змеи и омоет свою рану, то укушение пройдет без последствий; если же змея успеет окунуться в воду прежде, то человек непременно умрет. По свидетельству народных сказок, змей теряет свою могучую силу и гибнет, как скоро обсохнет от внутреннего огня или солнечного жара, т. е. змей-туча сгорает в грозовом пламени и иссыхает под влиянием летнего зноя. Сражаясь с Кирилом Кожемякою, змей, когда ему становилось невыносимо жарко, спешил на Днепр и вскакивал в воду, "щоб прохлодитьця трохи"... Русская былина о Михайле Потоке Ивановиче рассказывает, что живая вода этому витязю была принесена лютой змеей из-под земли... Замечательно предание, занесенное в Стих о Голубиной книге:
У нас Индра-зверь всем зверям отец: Была на сем свети засушейца, Ня было добрым людям воспитанийца, Воспитанийца, обмыванийца; И он копал рогом сыру мать-землю, Выкопал ключи все глыбокие, Доставал воды все кипучии; И он пускал по быстрым рякам И по маленьким ручьявиночкам, По глубоким, по большим озярам; И он давал людям воспитанийца, Воспитанийца, обмыванийца.Приведем варианты:
а) Куда хочет (зверь) — идет по подземелью, Аки солнце по поднебесью, Он происходит все горы белокаменныя, Прочищает ручьи и проточины, Пропущает реки, кладязи студеные; Куда зверь пройдет — тута ключ кипит. Когда этот зверь возыграется, Словно облацы по поднебесью, Вся вселенная (мать-земля под ним) всколыбается. б) Когда этот зверь (рогом) поворотится, Воскипят ключи все подземные.Священные песни "Вед" утверждают, что бог Индра низводит из облачных гор стремительные потоки дождя и, собирая их в особые вместилища, творит земные источники, ручьи и реки, умножает их воды, роет для них широкие русла и направляет их бег. Сходство русского предания с ведаическим — в высшей степени поразительное!..
Змеи и драконы часто изображаются как чудовища, обитающие в водах или вблизи какого-нибудь источника. Так Тугарин-змей плывет по Оке-реке, длина ему триста сажень, спиною валит круты берега, угрожает залить всю страну. Герои старинных былин встречают Змея Горыныча на Израй-реке и Сафат-реке; змей, с которым сражался Кирила Кожемяка, жил на Днепре...
Разрывая своим рогом, т. е. молнией, облачные горы и подземелья и заставляя дрожать мать-сыру землю (потрясая ее громовыми раскатами), чудовищный зверь (змей) дает исток дождевым ключам и рекам. Молниеносный рог, которым наделяют народные предания мифического царя-змея, дал повод певцам о Голубикой книге подставлять непонятное для них название Инд-рик созвучным словом един-рог. В XVII веке рог единорога считался обладающим силою исцелять тяжкие недуги и поддерживать цветущее здоровье в продолжение всей жизни. Царь Алексей Михайлович соглашался за три таких рога заплатить десять тысяч рублей; говорили, что они светятся и бывают длиною до шести пядей. Небогатые люди старались доставать какие-то кости, признаваемые за змеиные рожки; толкли их в порошок, примешивали к питью и давали это снадобье больным. Как олицетворение молнии, змей буравит своим рогом облака, проливает дожди и производит наводнения; но как воплощение черной тучи, как существо демоническое, он сам задерживает дожди, запрятывая их животворную влагу в облачных пещерах, и причиняет засуху и бесплодие. С таким враждебным характером и является он в большинстве народных сказаний. По немецким сагам, драконы отравляют колодцы и чрез то насылают мор на людей и животных, особенно на коров, т. е. своим пламенным дыханием они на небе иссушают дождевые родники и изводят облачных коров, а на земле производят томительный зной, заставляют пересыхать источники, вызывают вредные испарения и творят неурожаи; естественным же и необходимым последствием всего этого бывает сильная смертность между людьми и падеж скота. При солнечных затмениях, которые издревле приписывались нападению страшного дракона, было в обычае закрывать колодцы, чтобы охранить их от порчи и отравы. Залегая источники и реки, змеи и драконы лишают всю окрестную страну воды, томят и людей и стада смертельною жаждою. В апокрифической статье про Федора Тирона (по рукописи XVI в.) читаем: "В граде том... бяше един кладязь кипяй водою благо: тъй же кладезь одержим бяше зверьми-змеями и множеством иного гаду, и даяше им царь жрътву по вся лета коров 12 и оунець 80 и агнець 25, и пущаху воду, и насыщаше весь народ". Когда обычная жертва была отменена, "разгневась змей и удръжа воду, и быша прискорбъни людие и скоти их издыхаше". Подобный же эпизод встречаем в малороссийской сказке: в чистом поле — на раздолье стояла криница, а вокруг нее лежало двенадцать змеев, только этот один источник и был во всем царстве; всякий раз, когда приходилось брать из криницы воду, народ должен был давать змеям по двенадцати человек на пожрание; так продолжалось долго, пока не явился богатырь, который перебил чудовищ и освободил народ от тяжелой дани. В Новгороде сохраняется предание о чародее Волхове, который в образе крокодила (вернее: дракона) залегал водяной путь в тезоименитой ему реке и тех, кто не хотел чтить его, топил и пожирал... Герои, убивающие змеев и открывающие для всех безопасное пользование водными ключами, суть представители бога-громовника, разителя туч и подателя дождей. Ту же мысль выражают и мифы о драконах, приставленных сторожить золотые яблоки Гесперид[143] и золотое руно[144] Колхиды; ибо золотые яблоки тождественны, по своему значению, с живою водою, а золотое руно — метафора весеннего дожденосного облака. По белорусскому поверью, кто желает вызвать дождь, тот должен убить змею и повесить ее на березе; чехи во время засухи ловят змею и вешают головою вниз на древесном суке, с полным убеждением, что через несколько дней непременно пойдет дождь. Эсты думают, что, вешая топор или змею, можно приманить ветры, пригоняющие дождевые облака.
Народные предания утверждают, что змеи любят пить и сосать молоко...
В Новгороде рассказывают, что на том месте, где теперь стоит Перюньский (Перынский) скит, жил некогда зверь-змияка Перюн (Перун), который каждую ночь ходил спать в Ильмень к волховской коровнице. Во многих деревнях убеждены, что огненный змей летает по ночам к молодым бабам и сосет у них из грудей молоко; такая женщина день ото дня все более и более слабеет, чахнет и наконец лишается жизни; оборотни и ведьмы превращаются в огненных змеев и в этом виде высасывают у коров молоко. С огненным змеем, говорят простолюдины, надо обходиться осторожно, не сердить его, и когда он прилетает на двор — ставить ему молоко; в противном случае он сожжет дом. Поверье это стоит в ближайшей связи с другим, по которому пожар, происшедший от удара молнии, можно затушить только молоком. У нас есть примета: "Если молоко поставлено непокрытое, то его пьет нечистая сила", и ходят рассказы, будто в сонных людей, привыкших спать с разинутым ртом, вползали змеи и, поселившись внутри человека, ничем другим не могли быть вызваны назад, как только запахом парного молока. Болгары уверяют, что змей-смок сосет коров и женщин; такой беды главным образом опасаются 9 августа; в этот день не гоняют коров на паству, а женщины, особенно те, которые кормят ребенка грудью, не выходят из дому; бывало, что женщины, отправляясь в поле жать, брали с собой грудных детей, и вот когда утомленная мать засыпала на ниве — тотчас приползал смок, высасывал у нее молоко с кровью, и так искусно, что она не чувствовала ни малейшей боли, а думала, что ее сосет ребенок... Когда мы напомним, что дождевые тучи представлялись нашим предкам то полногрудыми женами, то дойными коровами, которых сосал и доил своими молниями бог-громовержец, низводя на землю их благодатное молоко в виде дождя, то для нас будут понятны все приведенные сказания о змеях (т. е. молниях), являющихся пить молоко и сосать женщин и коров. Молоко здесь — метафора дождя, а выражения пить и сосать равносильны выражению: проливать, низводить влагу. По общему закону развития мифов, эти поэтические представления были впоследствии перенесены на землю и преобразились в суеверные рассказы и приметы, имеющие в виду обыкновенных змей, коров и баб. Когда молния сосет и доит тучи, они постепенно редеют, умаляются и исчезают с неба; отсюда — убеждение, что змей-сосун сутит коров и жен, отнимает у них вместе с молоком силы, здоровье и самую жизнь. Ему приписываются болезни и падеж скота; если у коровы опухнет вымя, это знак, что ее сосут змеи и лягушки; чума рогатого скота называется змеиным пострелом. Лужичане различают три рода огнедышащих, летучих змеев: первый приносит своим любимцам золото, второй — хлеб — урожаи, а последний наделяет коров изобильным и вкусным молоком. Такое раздробление мифического змея на три отдельных вида возникло под влиянием различных, усвоенных ему эпитетов: как укрыватель золотых лучей солнца, он назван был денежным; как обладатель и низводитель небесного молока, получил эпитет молочного; а как молоко-дождь воспитывает жатвы, дает урожаи, то ему присвоено название житного. Те же поверья находим и у других славянских племен. Чехи думают, что красно-огненный дракон приносит деньги, а синий — зерновой хлеб; для своего хозяина домовой драк похищает молоко и масло чужих коров; кто убьет гада-господарика, тот лишается счастья в скотоводстве, и на полях его будут родиться одни плевелы. Тому, кто сумел заслужить расположение цмока, он, по мнению белорусов, доставляет деньги, хлеб и молоко, делает его нивы плодородными, а коров богатыми молоком. Когда цмок несет золото, то бывает ясный, огненный; а когда — рожь и пшеницу, то летит черною тучею или принимает темно-синеватый цвет. Все это подтверждает сродство змеев с кобольдами; о последних рассказывают, что они любят пить молоко, собирая разлитые капли, и приносят своим хозяевам и хлеб, и деньги. Летты прямо называют змей молочными матерями, т. е. производительницами дождя. Литовское название громовой стрелки указывает на молнию, как на сосок облачной жены, посредством которого точится молоко-дождь из ее материнской груди. По мнению наших знахарей, змеиное молоко (теперь этим именем называют блестящую ртуть) может легко разрушить всякую мельничную плотину; стоит только влить этого молока в пруд — и плотина будет разорена, т. е. вследствие дождевых ливней прибывают воды и своим напором ломают поставленные им преграды.
С живою водою нераздельны понятия здоровья, крепости, сил, красоты, молодости, заживления ран и восстановления из мертвых. Боги-громовники (Индра и Донар), как щедрые податели дождей, почитались целителями всяких болезней; то же значение присваивалось и змею, как хранителю и проводнику животворной влаги небесных источников. Пробуждение природы от зимнего омертвения, дарование людям красоты и здоровья (поставленное народными поверьями в самое близкое соотношение с весенним громом и дождями), богатырская и целебная сила змея — все это представления, тесно между собою связанные. Заклятие против болезни "родимца" скрепляется обращением к змее медной медянице, закладенной в медный столб; в заговоре на защиту ратного человека от ран читаем: "В моих узлах сила могуча, сила могуча змеиная сокрыта — от змея двунадесятьглавого, того змея страшного, что пролетел со окиан-моря, со острова Буяна, со медного дома, того змея, что убит двунадесять богатырьми под двунадесять муромскими дубами. В моих узлах защиты змеиныя головы". Последние слова указывают на действительный обычай носить в амулетах (наузах) засушенные змеиные головки. Крестьяне, в предостережение от лихорадок, носят на шее змеиную или ужовую шкурку или ожерелье из змеиных головок; для защиты от чар и недугов привязывают к шейному кресту голову убитой змеи, а в привесках (ладанках) между прочим зашивают и лоскуток змеиной кожи: кто носит такую привеску, того все будут любить и желать ему всякого добра. Чехи ловят на Юрьев день змею и содранную с нее шкуру носят девять дней на шее от лихорадки. Со змеиною шкуркою они соединяют различные спасительные свойства: если превратить ее в пепел и присыпать раны — они скоро затянутся; если смешать этот пепел с водою и смочить глаза — никто тебя не очарует; если посыпать этим пеплом голову — враги будут бояться. Кто носит при себе язык, отрезанный у живой змеи на Юрьев день, тот будет силен, страшен своим недругам и непобедим в речах: поверье, возникшее из представлений молнии огненным или змеиным языком, а грома — победоносным словом. От падучей немочи чехи дают больному лепешку, приготовленную на змеином яйце. В прежнее время на Руси вышивали на ладанках змеиные головы в связке — числом десять или двенадцать; иногда они примыкали к круглому лицу, которое изображалось в средине и напоминало собою голову Медузы[145]...
У греков змея принималась символом возрождения, обновляющейся жизни. Асклепий изображался с жезлом, обвитым змеею; сын Аполлона, бог врачевства и целитель болезней, он обладал силою молодить старых и воскрешать мертвых. Такому искусству его научили змеи. Однажды обвилась змея вокруг его посоха, Асклепий убил ее, но выползла другая змея, держа во рту неведомую травку, прикосновением которой и воскресила убитую. Чудесная травка и посох Асклепия тождественны трехлиственному, обвитому змеями жезлу Гермеса, которым он призывает к жизни усопших; это — известная нам Перунова трава, или прут-молния, отмыкающая весной облачные горы, низводящая оттуда живую воду и тем самым пробуждающая природу от зимнего сна. Предание о змеиной траве известно у многих народов и даже занесено в старинные лечебники. Так, в одном из рукописных лечебников XVII века читаем о траве попутнике: "Сказывал де виницеянин торговой человек: лучилось им дорогою ехати с товары на возех тяжелых, и змея де лежит на дороге, и через ее перешел воз, и тут ее затерло — и она-де умерла. И другая змея пришла и принесла во рте припутник да на ее возложила, и змея-де ожила и поползла". В народной русской сказке встречаем следующий эпизод: идет лесом несчастная мать, несет на руках своего зарезанного ребенка и видит — лежит под кустом змейка, надвое разрубленная; приползла к ней большая змея с зеленым листком во рту, приложила листок к мертвой змейке — и та вмиг срослась и ожила. Женщина подняла тот листок, приложила к кровавой ране своего малютки — и ребенок в ту же минуту встрепенулся и вместе с жизнью получил непомерную силу — богатырскую. Немецкая сказка рассказывает о королевне, которая не хотела иначе выходить замуж, как под условием, чтобы жених дал обещание: если она умрет прежде, то и его схоронить вместе с нею. Выискался смелый юноша и женился на королевне. Через сколько-то времени умерла королевна и заклали ее в могильный склеп вместе с мужем. Смотрит он, а к нему змея ползет; выхватил меч и рассек ее на три части. Тогда выползла другая змея с тремя зелеными листьями во рту, приложила их к убитой змее — и та мгновенно исцелилась. Молодец поднял зеленые листья, приложил один к устам, а два к очам своей мертвой подруги — и она ожила: кровь побежала в ее жилах и лицо покрылось румянцем. То же самое сказание сообщает и русская былина о богатыре Потоке, но с весьма любопытными отменами. О живительных листьях здесь нет ни слова; вместо того богатырь, закладенный в могилу с своею мертвою женою, мажет ее змеиною кровью:
Как пришла пора полуночная, Собиралися к нему все гады змеиные, А потом пришел большой змей — Он жжет и палит пламенем огненным; А Поток Михайло Иванович На то-то не робок был, Вынимал саблю острую, Убивает змея лютого И ссекает ему голову, И тою головою змеиною Учал тело Авдотьино мазати; В те поры она еретица Из мертвых пробуждалася.По другому варианту, богатырь, хватает змею в клещи и бьет железными прутьями:
Ай же ты, змея подземельная! Принеси мне живой воды — Оживить мне молода жена.И змея подземельная (горынская) приносит ему живой воды, силу которой он пробует сначала на убитом змееныше, а потом уже оживляет свою молодую жену. Жена Потока принадлежит к разряду вещих лебединых нимф; в образе белой лебеди и является она своему суженому в первую их встречу: через перо лебедь золотая, а головка увита красным золотом, усажена скатным жемчугом...
Тому, кто желал одержать верх на судебном поединке, колдуны и знахари советовали: "Убей змею черную саблею или ножом, да вынь из нее язык, да вверти в тафту и положи в сапог левый, а обуй на том же месте... А когда надобно, и ты в тот сапог положи три зубчика чесноковые... и бери с собою, когда пойдешь на суд или на поле битвы". По указанию памятников, в старину пили в честь языческих богов, вкладывая в чаши чеснок; в слове христолюбца (рукопись XIV в.) сказано: "И огневе (Сварожичу) моляться, и чесновиток — богом же его творят — егда оу кого будет пир, тогда же кладут в ведра и в чаши, и пьют о идолех своих, веселящись не хужьши Суть еритиков". В слове, приписанном Григорию Богослову (рукоп. XIV в.): "Словене же на свадьбах, въкладывающе срамоту и чесновиток в ведра, пьють". Чесноку приписывается сила прогонять ведьм, нечистых духов и болезни. У всех славян он составляет необходимую принадлежность ужина накануне рождества; в Галиции и Малороссии в этот вечер кладут перед каждым прибором по головке чеснока или вместо того полагают три головки чеснока и двенадцать луковиц в сено, которым бывает устлан стол; делается это в охрану от болезней и злых духов. Чтобы оборонить себя от ведьм, сербы натирают себе подошвы, грудь и под мышками соком чеснока; чехи с тою же целью и для прогнания болезней вешают его над дверями; частым повторением слова чеснок можно отделаться от нападок лешего. По сербской поговорке, чеснок защищает от всякого зла; а на Руси говорят: "Лук от семи недуг", и во время морового поветрия крестьяне считают за необходимое носить при себе лук и чеснок и как можно чаще употреблять их в пищу.
Живая вода наделяла тех, кто испивал ее, великою мудростью и предвидением: эти вещие дары принадлежат и змею. Наравне с девами судьбы, обитавшими у небесных источников, он ведает все тайное; поэтому в сказке о Марке Богатом Василий Бесчастный идет к царю-змею, обращается к нему с тремя вопросами или загадками, и царь-змей разрешает их. Загадки все мифологического содержания: про вековой дуб, под которым спрятаны золотые сокровища (туча, закрывающая солнце), про кит-рыбу, что лежит мостом через все море широкое, и наконец о перевозчике, который обязан перевозить смертных на тот свет...
В Малороссии ходит такой рассказ: ехал чумак с наймитом[146], остановились на попас и развели огонь. Чумак отошел в сторону, свистнул — и сползлась к нему целая стая змей; набравши гадюк, он вкинул их в котелок и начал варить; когда вода закипела, чумак слил ее наземь; слил и другую воду и уже в третью всыпал пшена. Приготовил кашу, поел ее и велел наймиту вымыть котелок и ложку: "Да смотри, говорит, не отведывай моей каши!" Наймит не утерпел, наскреб полную ложку гадючьей каши и съел; чудно ему стало: видит и слышит он, что всякая травка на степи колышется, одна к другой наклоняется и шепчет: "Я от такой-то болезни помогаю!", "У меня такая-то сила!" Вздумал подойти к возу, а волы говорят: "Вот идет закладать нас в ярмо!" И во всех звуках, какие только доходили до его слуха, стали ему слышаться разумные речи. Народные былины вспоминают о богатырях, которым было доступно это высшее ведение; о князе Романе, например, сказано, что он был хитер-мудер, "знал языки ворониные, знал языки все птичии". Белая змея — олицетворение летнего, белоснежного, т. е. озаренного солнечными лучами, облака и потому в преданиях стоит в близкой связи с другим олицетворением дождевого облака — белою женою; и та и другая стерегут живую воду, и белые жены нередко принимают на себя змеиный образ. Вкусить мяса белой змеи — то же самое, что испить воды мудрости — пролить дождь и услышать (уразуметь) вещие глаголы грозовых птиц и животных.
Оплодотворяющая сила весенних гроз выразилась в мифе сказанием о любовной связи, в которую бог-громовник вступает с облачными женами и, девами. То же представление соединяется и с змеем, как воплощением молнии и громоносной тучи. Он — возбудитель любви, и в заговорах к нему обращаются с просьбою наслать в сердце девицы это пламенное чувство: "Встану я, пойду в чистое поле, в широкое раздолье к синему морю-окияну. У того у синего моря-окияна лежит огненный змей; сряжается-снаряжается он зажигать горы и долы и быстрые реки... Подойду я поближе, поклонюсь я пониже. Гой еси ты, огненный змей! не зажигай ты горы и долы, ни быстрые реки; зажги ты красну девицу (имя) в семьдесят семь составов, в семьдесят семь жил и в единую жилу становую, во всю ея хоть, чтоб ей милилось и хотелось, брало бы ее днем при солнце, ночью при месяце, чтобы она тосковала и горевала по рабу такому-то"...
До нас донеслась целая группа славянских преданий, повествующих о любовных связях огненного змея и похищении им дев. Вместе с усвоением змею богатырского типа ему придаются и человеческие страсти, и самое олицетворение это низводится на землю и ставится в условия обыкновенной людской жизни. Из представителя грозы, вступающего в брачный союз с вещими женами облачного неба, из молниеносного демона, низводящего плодотворное семя дождя, огненный змей становится обольстителем земных красавиц, их таинственным любовником и опасным врагом семейного счастья. Змей, говорят простолюдины, летит по поднебесью, дыша пламенем; над знакомою ему избою рассыпается он искрами и через трубу является перед избранною подругою и оборачивается молодцем несказанной красоты. С воздушных высот он высматривает красных девушек, и если очарует какую любовным обаянием — то зазноба ее неисцелима вовеки: зазнобу эту ни заговорить, ни отпоить нельзя. "Не любя полюбишь, не хваля похвалишь такого молодца (змея); умеет оморочить он, злодей, душу красной девицы приветами; усладит он, губитель, речью лебединого молоду молодицу; заиграет он, ненасытный, ненаглядную в горючих объятиях; растопит он, варвар, уста злые. От его поцелуев горит красна девица румяной зарею; от его приветов цветет она красным солнышком. Без змея красна девица сидит во тоске во кручине; без него она не глядит на божий свет, без него она сушит-сушит себя!" О падающих звездах говорят, что это огненные змеи или нечистые духи, поспешающие на любовное свидание к одиноким бабам и девицам; по некоторым местам уверяют, что звезда всегда упадает на тот двор, где девица потеряла невинность. Но и до сих пор предание не забыло о вещем характере тех жен и дев, с которыми вступает змей в брачное торжество; по народному поверью, любовницами его по преимуществу бывают ведьмы, чародейки, и та женщина, к которой летает огненный змей, уже ради этой связи приобретает волшебную силу. В песне про Добрыню полюбовница Змея Горынчища, молодая Марина, насылает на этого витязя чародейным заклятием любовную тоску, потом превращает его в тура — золотые рога, а сама оборачивается птичкой-касаточкой и летит в чистое поле. Плодом нецеломудренных связей жен с змеями бывают не обыкновенные дети, а богатыри-кудесники и кикиморы, т. е. грозовые духи. Припомним Тугарина Змеевича и Волха Всеславьевича.
По саду, саду зеленому ходила-гуляла Молода княжна Марфа Всеславьевна; Она с камени скочила на лютого змея — Обвивается лютой змей около чебота — зелен сафьян, Около чулочка шелкового, хоботом бьет по белу стегну; А в та поры княжна понос понесла, А понос понесла — и дитя родила.Родился могучий богатырь Волх; во время его рождения сотряслася земля, всколебалося море, как при рождении громовника (молнии) из недр тучи — трясутся облачные горы и шумят дождевые потоки. Древнейшему сказанию о происхождении богатыря-громовника от змея придана была впоследствии историческая окраска, и в самом богатыре этом стали видеть вещего Олега. То же применение мифического предания к историческим героям встречаем и у народов античных; так, по свидетельству Тита Ливия[147], об Александре Македонском рассказывали, будто он родился от огромной змеи, которую часто находили в спальне его матери и которая тотчас же уползала и скрывалась, как скоро показывались люди. Светоний говорит, что народ почитал Августа[148] за сына Аполлонова; однажды мать его заснула в храме, посвященном Аполлону; пользуясь се сном, явился дракон и совершил с нею соитие, плодом которого и был "божественный" Август. Любовь огненного змея точно так же сушит и изводит избранную красавицу, как и высасывание им молока из женских грудей: оба представления равносильны и в преданиях нередко заменяются одно другим; ибо та же извивающаяся змеем молния, которая сосет молоко-дождь, уподоблялась и фаллосу. Сербская царица Милица от змеиной любви стала "лицом бледна и вся извелась"; на Руси думают, что и шутовка (водяная — грозовая жена), если привяжется к парню, то непременно иссушит его своею любовью. В сказках змей представляется похитителем красавиц; эту роль разделяют с ним и олицетворения грозовых сил природы, выводимые в народном эпосе под своими нарицательными названиями: Ветер, Гром, Дождь и Град; о похищениях царевен Вихрем сказки упоминают весьма часто...
Красные девицы, которых сватают и уносят Вихри, Гром и змеи, суть или облачные (дожденосные) девы, или небесные светила; ибо отсутствие летних, дождевых облаков и закрытие блестящих звезд, луны и солнца темными тучами и туманами на древнем метафорическом языке называлось похищением ненаглядных красавиц драконами, змеями, великанами и вступлением с ними в насильственный или добровольный супружеский союз. В одной из русских сказок похищаемые девицы прямо названы Луной и Звездою; на крыльях вихря уносят их оборотень-медведь (или лесное чудо) и чудо морское, т. е. мрачные тучи, так как дождящего Перуна почитали морским царем, владыкою облачного моря, и давали ему животненный образ медведя. Название чудо равно присваивается и морскому царю, и змеям, и великанам. Как представитель черных туч, постоянно сближаемых с ночным мраком, змей получает в народных преданиях значение злого демона; ему приписывается не только скрадывание света, но и задерживание самых дождей в вертепах облачных гор — до тех пор, пока стрелы громовника не проложат свободного пути дождевым ливням и не откроют взорам смертных сияющего солнца. Так как тьма, производимая тучами и ночью, отождествлялась фантазией древнего человека с зимою, отнимающею яркие лучи солнца и благодатные дожди, то с змеем необходимо сочеталось и представление демона зимнего времени...
По преимуществу, как воплощение зимних туманов и снежных туч, змей и признавался хищником небесного света и дождей, скупым скрывателем золота и живой воды; этот злобный, хищнический тип удерживает он в большинстве сказаний, доныне живущих в устах индоевропейских народов. Отсюда понятно, почему народные поверья смешивают его с дьяволом, представляют его гнусным, ужасным чудовищем и почему в заговорах, наравне с другою нечистою силою, заклинается и летучий змей огненный. В областных наречиях черт называется хитник (от хититъ — похищать), а слово хитка употребляется в смысле беды, насланной сглазом или недобрым пожеланием; о черте рассказывают, что он ворует все, что кладут без благословения. Хитник одного корня с словом хитрый (лукавый), какое служит одним из обычных эпитетов дьявола. Где упадет огненный змей или метеор, то место почитается жилищем нечистых духов; падающие звезды и метеоры во многих деревнях признаются за низвергаемых с неба демонов, и потому при виде их осеняют себя крестным знамением, а детям и вовсе запрещают смотреть на эти явления; о блуждающих огнях говорят, что это вертится дьявольское сонмище. На Ильин день нечистые духи поселяются в змей и гадов, и только громовые стрелы в состоянии разогнать их. В сагах и сказках змей (дракон) и черт принимаются за названия синонимические, могущие свободно заменяться одно другим; народное воображение наделяет черта огромным зевом и драконовыми крыльями и нередко заставляет его показываться совершенно в образе дракона. Согласно с демоническим характером змея, его облачное царство, представляемое мрачными горными вертепами, внутри которых пылает негасимый огонь молний, уже в глубочайшей древности принималось за подземную адскую область смерти и злых духов; самый змей получил название пепельного (от пекло — ад)...
Похищая красавиц, змей уносит их в подземный мир, заключает в утесистые скалы или в свои крепкие города (металлические царства), где хранятся у него и бесчисленные сокровища и живая вода, и держит их там в злой неволе — до той поры, пока не явится могучий избавитель. Эти подземелья, скалы и города — поэтические метафоры темных туч... Странствование в подземное царство или в змеиные горы и города сопряжено с величайшими затруднениями, несмотря на то, сказочный герой едет освобождать красавицу, спускается в глубокие пропасти или взбирается на крутые, неприступные скалы и сражается там со страшными, многоглавыми змеями, сила которых зависит от количества поглощенной ими живой воды (дождя). Добрый молодец сам упивается этой водой, побивает змеев несокрушимою палицею (молнией) и таким образом совершает подвиг освобождения. Этот богатырь, избавитель похищенной девы, — не кто иной, как бог-громовник; в некоторых сказках он носит имя Ивана Затрубника, Запечного и Попялова, что указывает на близкое отношение его к божеству очага. В битвах его с змеями народный эпос живописует удары молний, разбивающих тучи и выводящих из-за их мрачных затворов красное солнце и благодатные дожди.
Сокрытие небесных светил туманами и тучами и задержание дождевых потоков демоническими силами зимы древний человек обозначал еще другою метафорою; на его поэтическом языке явления эти назывались не только похищением, но и пожиранием небесных дев лютым змеем. Надвигая на горизонте массы туч, окутывая ими солнце, луну и звезды, чудовищный змей как бы проглатывает светила, этих ненаглядных красавиц неба; в живой воде дождя, наполняющей громадное чрево змея, видели поглощенный им нектар, а в молниях, потухающих во мраке туч, поедаемый им огонь. Олицетворяя дождевые облака то дойными коровами, то водяными нимфами, а сверкающую молнию — сильномогучим громовником, народная фантазия приписала змею пожирание коров, дев и богатырей. Так возникло верование, что драконы, а наравне с ними и другие демонические олицетворения туч: великаны, колдуны и ведьмы — любят поедать человеческое мясо и тотчас чуют его запах. Поселяясь в водах или горных пещерах какого-либо царства, поедучий змей требует себе в дань красной девицы. Обречение ему несчастной девы и смелый подвиг ее избавления, требующий от героя (представителя весенней грозы) необыкновенной твердости духа и громадной физической силы, составляют любимый мотив, на котором основано множество сказочных и песенных повествований, исполненных трогательной поэзии...
В русской сказке повествуется о стране, где каждый месяц выдавали семиглавому змею по одной девице на съедение; дошла наконец очередь до прекрасной царевны, вывели ее на взморье и оставили там беспомощною... Но судьба посылает ей защитника — молодого царевича; в ожидании страшного врага он прилег к девице на колена и заснул крепким сном. Уже летит змей за своею жертвою, а царевна никак не может добудиться своего защитника; с горя заплакала она, и слеза ее капнула на лицо царевичу. Он тотчас же пробудился и промолвил: "О, как сладко ты обожгла меня слезою!" Змей спускался; царевич сразился с прожорливым зверем и убил его. Тот же эпизод встречаем в валахской сказке. После различных приключений Петру пришел в большой город, вблизи которого поселился уродливый двенадцатиглавый дракон. Каждая семья должна была отдавать чудовищу на съедение по одной деве; теперь выпал жребий на царевну, и несчастную повели за городские ворота. Петру купил двенадцать стрел и пошел смотреть на проводы царевны; чем более приближались к дракону, тем меньше становилась сопровождавшая ее толпа; наконец разбежались все и покинули ее одну. Царевна рыдала; Петру подошел к ней, стал утешать, и его слова были так убедительны, что она перестала думать о близкой опасности. Смелый юноша прилег к ней на колена, попросил расчесать его волосы, задремал и заснул. Вскоре увидела царевна, что дракон близится; она оцепенела от ужаса, слова замерли на ее устах, но горячая слеза скатилась с ее щеки на лицо юноши, и он проснулся; пущенные им стрелы сбили с дракона его страшные головы. В этой сказочной царевне узнаем мы богиню Ладу; теплое веяние весны, согревая облака, заставляет ее плакать, т. е. проливать росу и дожди; от ее горючих слез пробуждается Перун и низлагает злого демона зимы. Предание о пожирающем змее приурочивается на Руси к различным местностям. В давнее время (рассказывают в Малороссии) появился около Киева змей; брал он с народа поборы немалые — с каждого двора по красной девке: возьмет да и съест! Пришел черед — послал и князь свою дочь, а она была так хороша, что и описать нельзя. Змей потащил ее в берлогу, а есть не стал — больно она ему полюбилась. Приласкалась княжна к змею и спрашивает: "Чи есть на свити такий чоловик, щоб тебе подужав?" — "Есть такий у Киеви над Днипром: як затопить хату, то дым аж пид небесами стелецця; а як вийде на Днипр мочить кожи (бо вин кожемяка), то не одну несе, а дванадцять разом, и як набрякнуть вони водою в Днипри, то я визьму да-й учеплюсь за их, чи витягне-то вин их? А ёму й байдуже: як поцупить, то-й мене з'ними трохи на берег не витягне! От того чоловика тилько мини й страшно". Княжна вздумала дать про то весточку домой, а при ней был голубок; написала к отцу грамотку, привязала голубю под крыло и выпустила его в окно. Голубь взвился и полетел на княжье подворье. Тогда умолили Кирила Кожемяку идти против змея; он обмотался коноплями, обмазался смолою, взял булаву пудов в десять и пошел на битву. "А що, Кирило, — спросил змей, — пришов битьця, чи миритьця?" — "Де вже миритьця! битьця з'тобою, з'Иродом проклятым!" Вот и начали биться, аж земля гудёт; что разбежится змей да хватит зубами Кирила, так кусок конопель да смолы и вырвет; а тот его булавою как ударит, так и вгонит в землю. Жарко змею, надо хоть немного в воде прохладиться да жажду утолить, и вот пока сбегает он на Днепр, Кожемяка успеет вновь и коноплей обмотаться и смолой вымазаться. Убил Кирила змея, освободил княжну и привел к отцу. С того времени урочище, где жил богатырь, стало слыть Кожемяками. В этом предании явственны родственные черты с Несторовым сказанием о богатыре-усмошвеце, победившем печенежского великана. "Однажды я его бранил (так рассказывал про него старый отец), а он мял кожи и, рассердившись на меня, тут же разорвал их руками!" Князь Владимир решил испытать его силу, и вот "налезоша бык велик и силен, и повеле раздраждити быка; возложиша на-нь железа горяча, и быка пустиша, и побеже бык мимо и (его), и похвати быка рукою за бок и выня кожу с мясы, елико ему рука зая". Печенежский великан заступает в летописном рассказе место змея: яркое свидетельство, что уже в эту раннюю эпоху мифические предания стали низводиться к явлениям действительного быта и пo-гучать историческую окраску. Облака издревле уподоблялись быкам, коровам и снятым с них кожам; а потому бог-громовник, ударяющий по облакам своею палицею, перешел в народных сказаниях в богатыря-кожемяку. Богатырь этот обматывается осмоленными коноплями, т. е. облекается грозовою тучею, потому что конопля (пряжа) принималась за метафору облачного покрова, а смола — за метафору дождевой влаги. В других народных сказках герой, решившийся одолеть змея и освободить царевну, наряжается в воловью шкуру и вступает со своим противником в состязание: змей срывает с него воловью шкуру, а герой снимает со змея его собственную кожу. "От-же, — замечает сказка о богатыре-кожемяке, — Кирило зробив трохи й нерозумно: взяв змея — спалив, да й пустив по витру попел; то з'того попелу завелась вся тая погань - мошки, комари, мухи. А як би вин узяв да закопав той попел у землю, то ничого б сёго не було на свити". На Украине убеждены, что насекомые эти родились от змея. Смысл поверья тот, что комары, мошки и мухи, исчезающие на зиму, снова нарождаются с весною, когда пробудившийся от зимнего сна громов-ник убьет демона-змея. В Бериславле сохраняется такое предание: в пещере крутой горы, лежащей в тамошних окрестностях, жил крылатый змей; он похитил красавицу и заключил ее в пещере; всех, кто осмеливался приближаться к горе, он пожирал живьем — до тех пор, пока не убил его богатырь на белом коне...
Как существо демоническое, змей в народных русских преданиях выступает нередко под именем Кощея бессмертного. Значение того и другого в наших сказках совершенно тождественно: Кощей играет ту же роль скупого хранителя сокровищ и опасного похитителя красавиц, что и змей; оба они равно враждебны сказочным героям и свободно заменяют друг друга, так что в одной и той же сказке в одном варианте действующим лицом выводится змей, а в другом — Кощей. В польской сказке король подземный Кощей бессмертный заступает место Морского Царя. Морской Царь, в первоначальном его значении, есть бог дождевых туч, помрачающий светлое солнце, или, выражаясь поэтически: похищающий эту златокудрую деву; отсюда понятна подставка этого мифического лица подземным царем, т. е. владыкою облачных гор и вертепов, каким изображает народный эпос Змея Горыныча и Кощея. В старославянских памятниках слово кощъ, кошть попадается исключительно в значении: сухой, тощий, худой телом и, очевидно, стоит в ближайшем родстве со словом кость, как прилагательное к существительному; глагол же окостенеть употребляется в смысле: застыть, оцепенеть, сделаться твердым, как кость или камень, от сильного холода. На основании этого лингвистического указания должно думать, что название Кощей принималось сначала как эпитет, а потом — и как собственное имя демона — иссушителя дождевой влаги, представителя темных туч, окованных стужею; в зимнее время года тучи как бы застывают, превращаются в камни и не дают более плодоносных дождей, а вследствие того и сама земля лишается своей производительной силы. До сих пор именем Кощея называют старых скряг, иссохших от скупости и дрожащих над затаенным сокровищем (золотом солнечных лучей и живительною влагою дождя); народная сказка приписывает ему и обладание гуслями-самогудами, которые так искусно играют, что всякий невольно заслушивается их до смерти — метафора песни, какую заводят суровые осенние вихри, погружающие в долгий сон и оцепенение всю природу. В сближении с этими данными надо искать объяснения и той эпической прибавке, которою характеризуется вещая сказочная старуха, заправляющая вихрями и вьюгами и по самому своему имени родственная с змеем: баба-яга — костяная нога.
В нижнелужицком kostlar — колдун, чародей; старинное русское "кощуны творить" — совершать действия, приличные колдунам и дьяволу (кощунствовать), а в областных говорах костить — ругать, бранить. Демон зимы в народных преданиях нередко представляется старым колдуном, волею которого сказочные герои и героини, вместе с их царствами, подвергаются злому очарованию или заклятию. Подобно поедучим змеям, Кощей чует "запах русского духа", и в заговорах доныне произносится заклинание против Кощея-ядуна. После этих общих замечаний обращаемся к разбору народных сказок о Кощее бессмертном. Польская сказка рассказывает, что он усыпил своим дыханием целое царство, буйным вихрем схватил прекрасную королевну, унес в свой замок и напустил на нее непробудный, смертный сон. В королевском дворце настала гробовая тишина. Непробудный сон продолжался до тех пор, пока не явился освободитель, который победил Кощея и добыл чудесные гусли-самограи. Едва послышались звуки этих гуслей, т. е. едва раздалась песня весенней грозы, — как тотчас все ожило, задвигалось, засуетилось: король окончил начатый тост, воевода стал продолжать свой доклад, гости принялись кушать и разговаривать, и т. д. Не менее интересно содержание русской сказки: юный царевич (бог-громовник) женится на Марье Моревне, прекрасной королевне. Ее воинственный, богатырский характер, неописанная красота и прозвание Моревна (дочь моря) указывают, что в ней надо видеть богиню весны, славянскую Венеру — Ладу (Фрею). В этом образе сочеталось представление весеннего солнца с облачною, дожденосною девою. Ради яркого блеска, разливаемого этой богинею, и под влиянием метафоры, уподобившей солнечные лучи золотым волосам, сказочная королевна в других вариантах называется Ненаглядною Красотою или царевною — золотой косою. Но брак царевича с красавицей непродолжителен; Марью Моревну похищает Кощей бессмертный или змей, а иногда просто черт. Народная фантазия изображает этого злого демона заключенным и скованным: в запертой комнате дворца висит он на железных цепях и крюках, что означает тучу, окованную зимним холодом, и только тогда срывается с них, когда вдоволь напьется воды, т. е. весною; вода, наделяющая Кощея столь великою силою, что ему нипочем разорвать железные узы, есть вода живая — сгустившийся и готовый излиться дождь. "Вздумалось королевне, — говорит сказка, — на войну собираться; покидает она на Ивана-царевича все хозяйство и приказывает: везде ходи, за всем присматривай; только в этот чулан не моги заглядывать! Он не вытерпел; как только Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул — а там висит Кощей бессмертный, на двенадцати цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича: сжалься надо мной, дай мне напиться! десять лет я здесь мучаюсь, не ел не пил — совсем в горле пересохло! Царевич подал ему целое ведро воды; он выпил и еще запросил: мне одним ведром не залить жажды, дай еще! Царевич подал другое ведро; Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро — взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал". Итак, змей-туча, окостеневший от холода, получает имя Кощея и представляется заключенным в железные оковы пленником. Согласно с этим, слово кощей употребляется в древних памятниках в значении пленника (на старинном языке вязенъ — узник) и раба. Сорвавшись с цепей, Кощей овладевает красавицей и уносит ее далеко-далеко в свои горы или подземные пещеры, т. е. закрывает ее светозарный лик мрачным, облачным покровом. Царевич отправляется искать свою милую подругу; в этом искании ему помогают силы весенней природы: Ветер, Гром и Дождь (Град) или их олицетворения — птицы орел, со-Шол и ворон. Царевичу удается увезти ее из заключения, но Кощей (или змей) быстро нагоняет их на своем славном коне, отымает беглянку и снова запирает ее в неволю. Тогда царевич решается добыть себе такого коня, который был бы сильней и быстрее Кощеева, и за трудную службу у бабы-яги достигает своей цели. Он опять увозит Марью Моревну; Кощей пускается в погоню, но богатырский конь царевича убивает его ударом своего копыта. Так рисует народный эпос весеннюю грозу, когда красавица Солнце то выходит из-за туч, то снова заволакивается ими, пока наконец не осилеет добрый молодец Громовник. Конь царевича соответствует Зевсову Пегасу: как тот ударом копыта творил живые источники, так этот поражает копытом Кощея, т. е. уничтожает тучу, заставляя ее пролиться на землю обильным дождем. Вместо указанного эпизода о добывании богатырского коня другие варианты сказки заставляют царевича отыскивать Кощееву смерть. Чтобы совершить такой подвиг, нужны необычайные усилия и труды, потому что смерть Кощея сокрыта далеко: на море на океане, на острове на Буяне есть зеленый дуб, под тем дубом зарыт железный сундук, в том сундуке заяц, в зайце утка, а в утке яйцо; стоит только добыть это яйцо и сжать его в руке, как тотчас же Кощей начинает чувствовать страшную боль; стоит только раздавить яйцо — и Кощей мгновенно умирает. То же рассказывают и про змея: существует остров, на острове камень, в камне заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце желток, в желтке каменек— это и есть змеиная смерть; надо только добыть каменек и бросить им в змея! Красавица царевна выведывает у Кощея его заветную тайну, сообщает ее царевичу, и тот отправляется на чудесный остров. Долго идет он путем-дорогою, долго не ел, не пил ничего, голод его донимает. Вот летит ястреб (или орел, сокол, ворон), Иван-царевич прицелился: "Ну, ястреб! Я тебя застрелю да сырым скушаю". — "Не стреляй меня, царевич! — отвечает птица. — В некое время я тебе пригожуся". Бежит медведь: "Ах, косолапый! Я тебя убью да сырым съем". — "Не бей меня, царевич! В некое время я тебе сам пригожуся". Подобная же встреча была и с волком. Наконец видит царевич — на берегу щука трепещется: "А, попалась зубастая! Я тебя возьму — сырьем скушаю". — "Не ешь меня, царевич? В некое время сама тебе пригожуся". Перемог царевич свой голод и. бросил щуку в море. Добрался он до острова, свалил зеленый дуб с корнем, вырыл из-под него железный сундук — и не знает, как его отпереть. На ту пору явился медведь, ударил и раздробил сундук на мелкие части; из сундука прыснул заяц и не успел еще из виду скрыться, как за ним уже волк гонится; догнал зайца и принес царевичу; тот распорол его острым ножом, из зайца вылетела утка и понеслась в поднебесье; за уткою ястреб летит; схватил ее и к царевичу. Царевич разрезал утку, стал вынимать яйцо и уронил его в море; но тут помогла ему щука, вынесла яйцо со дня морского...
Кощей (змей, великан, старый чародей.), следуя обычному приему народного эпоса, сообщает тайну своей смерти в форме загадки; чтобы разрешить ее, нужно подставить метафорические выражения общепонятными. На море на окиане, на острове на Буяне, т. е. среди небесного океана, в блаженной стране рая, высится зеленый дуб, а под ним зарыт железный сундук; этот дуб — знакомое нам Перуново древо, из-под корней которого струится живая вода дождя; зарытый в земле железный сундук в других вариациях загадки заменяется замкнутою горою или камнем (скалою). Гора, камень, подземелье суть метафоры тучи, сокрывающей в своих недрах солнечный свет и дождевые ключи (колодец, пруд или озеро). Охваченная зимнею стужею, дожденосная туча уподоблялась не только окаменевшей, твердой скале, но и гробу или сундуку, окованному железными обручами, в котором до поры до времени покоятся могучие силы грозы. У дождевого источника встречается дракон, из рассеченного туловища которого является вепрь, из убитого вепря — заяц, а из зайца — птица; по другим указаниям, заяц выскакивает из разбитого железного сундука, или возле источника стоит бык, а из убитого быка вылетает огненная птица. Все эти животные: дракон, вепрь, бык, заяц и огненная птица — служили мифическими обозначениями громовых туч. Описывая весеннюю грозу, сказка заставляет своего героя сокрушать железные запоры и вступать в борьбу с облачными демонами; будучи разимы ударами грома и разносимы порывами ветров, тучи беспрерывно меняют свои формы и принимают различные фантастические образы, возникающие один из другого. Сам герой выступает на подвиг в сопровождении таких же баснословных животных, олицетворяющих собою те стихийные силы, с помощью которых Перун одолевает своих врагов. Как скоро убита огненная птица (голубь — приноситель небесного пламени или утка, несущая золотые яйца), из нее выпадает яйцо, в котором горит яркий свет или лежит самоцветный камень. По свидетельству одной сказки, этот камень добывают герою Гром, Ветер и Град. Золотое яйцо и самоцветный камень издревле принимались за метафоры солнца; солнце, окутанное тучами, представлялось драконовым сердцем. Но золотое яйцо служило также и метафорой молнии, и в настоящем случае народная фантазия, кажется, смешала эти различные представления вместе. Овладевши чудесным яйцом, царевич бросает его в лоб Кощея — и он тотчас же умирает, подобно тому как о дьяволе существует поверье, что его можно убить только серебряною пулею (молнией) или яйцом, снесенным курицею накануне рождества, когда, по старинному мифу, рождается солнце. Точно так же великаны мрака (зимних туч) гибнут от лучей восходящего (весеннего) солнца. Преданиям о смерти, постигающей Кощея, по-видимому, противоречит постоянно придаваемый ему эпитет бессмертного, ко именно это и свидетельствует за его стихийный характер. Растопленные весенними лучами солнца, разбитые стрелами Перуна, тучи вновь собираются из восходящих на небо паров, и пораженный насмерть демон мрака как бы опять возрождается и вызывает на битву своего победителя; также и демон зимних туманов, стужи и вьюг, погибающий при начале весны, снова оживает с окончанием летней половины года и овладевает миром. Вот почему Кощей причислялся к существам бессмертным, хотя вместе с этим и заболевал от наносимых ему ран и подлежал временной кончине. После победы над ним Перун выводил из-за темных облачных затворов богиню летнего плодородия и вступал с нею в торжественный брачный союз. Оттого смерть Кощея, по сказочным преданиям, скрывается там же, где и любовь заколдованной красавицы, временно охладевшей к своему супругу; когда погибает царство Кощея, или, по другим сказкам — царство дракона и великанов, тогда же возвращается и любовь ненаглядной царевны к покинутому ею царевичу... Захватывая светлую красавицу, богиню летнего плодородия, в свои мрачные объятия, демон-змей, по свидетельству народного эпоса, вступает с нею насильно в любовную связь, и связь эта продолжается до того времени, пока не победит змея могучий громовник...
Был-жил король, повествует русская сказка, у него была дочь — славная красавица, и повадился к ней летать двенадцатиглавый змей; иссушил ее проклятый, чуть совсем не извелась! Но явился Илья Муромец, постоянно заменяющий в народных преданиях Перуна; сразился со змеем: что ни ударит жезлом — то и голова долой, победил врага и избавил королевну от страшного любовника. В другой сказке Сила-царевич сватается на гордой и неприступной королевне, которая зналась с нечистым духом: каждую ночь прилетал он к ней по воздуху в образе шестиглавого змея и прикидывался человеком. В этом сватовстве помогает царевичу богатырь Ивашка — белая рубашка, в благодарность за то, что Сила-царевич освободил его из гроба, обитого железными обручами, в котором плавал он по синему морю: названный богатырь есть пробужденный от зимнего усыпления бог-громовкик, а белая рубашка — облекающее его летнее облако; таким образом Перун, победитель змея и жених освобожденной им красавицы, распадается в этой сказке на два отдельных лица. Когда женился Сила-царевич, Ивашка — белая рубашка три ночи сражался со змеем, срубил ему острым мечом все головы, туловище на огне сжег, а пепел пустил по чистому полю; после того рассекает он пополам самую королевну, и как скоро рассек — из ее чрева поползли разные гады, плод незаконной любви со змеем; богатырь пожег гадов, а тело королевны сложил и спрыснул живою водою: в ту же минуту она ожила и сделалась столь же кроткою, сколько прежде была злою. В этой королевне мы узнаем облачную жену, очарованную змеем; в весеннюю пору Перун рассекает ее своею громовою палицею, и из раскрытых недр ее выползают гады-молнии. Сожигание убитого змея и гадов — поэтическая картина грозового пламени; в Иллирии[149] существует предание, что змеи слетаются и сгорают в разведенном костре под звуки чудесной музыки, т. е. под бурные напевы грозы. Окропление живою водою — метафора падающего дождя. На той же мифической основе создалась сербская песня "Царица Милица и змей". Не весела царица Милица, закручинилась, лицом пасмурна. Спрашивает ее царь Лазарь: "Что так не весела, моя царица? Чего закручинилась? Или чего недостает тебе на нашем дворе?" — "Всего вдоволь, — отвечает она; только полюбил меня змей от Ястребца и повадился летать ко мне в терем". Царь Лазарь советует ей выведать от змея лестью, кого из юнаков он больше всех на свете страшится? Вот прилетел змей в терем, пал на мягкую постель, сбросил с себя огненную одежду и лег с царицею на подушках. Лаская, выпытала у него Милица тайну, что в целом свете боится он одного юнака — Змея-Деспота-Вука. Такое прозвание прямо указывает, что юнак этот — лицо мифическое, так же владеющее громом и молниями, как и его противник. На другой день дано знать Деспоту-Вуку; он не замедлил приехать и поразил змея от Ястребца...
Существует еще целая группа сказаний, в которых связь змея с красавицей изображается не как насилие с его стороны, а напротив, как измена сказочной царевны своему долгу. Прекрасная богиня земного плодородия на все время зимы покидает своего молниеносного супруга и отдается демону-змею; и в летнюю пору, облекаясь в мрачные тучи, она представлялась фантазии древних поэтов как бы обольщенною тем же змеем и в его объятиях предающеюся незаконной любви. Иногда эти отношения изменницы-жены к мужу народный эпос заменяет отношениями злой матери к сыну или злой сестры к брату, и таким образом любовь к змею сопровождается нарушением самых священных семейных обязанностей. Таково содержание многих из русских сказок. Сильномогучий богатырь, царевич-громовник, победитель чудовищных змеев, овладевает их богатым, полным злата, серебра и самоцветных каменьев дворцом и поселяется в нем со своею любимою сестрою (или матерью); но один из главнейших змеев успевает скрыться от поражения. Вскоре сестра героя влюбляется в прелестника Змея Горыныча или Огненного Царя; слюбившись, они начинают придумывать, как бы извести царевича. А тот царевич был славный охотник, и были у него такие сильные и свирепые собаки, что нагоняли страх и на Змея Горыныча. Следуя обычному эпическому приему, царевна притворяется больною, рассказывает своему брату вымышленные сновидения о тех снадобьях, которые должны помочь ей, и посылает его за этими целебными лекарствами на опасные подвиги в надежде, что он безвременно погибнет. Царевич должен надоить и принести ей молока от волчицы, медведицы, кабанихи и львицы и совершает это с успехом; звери эти — зооморфические воплощения туч, молоко их — метафора дождя; они не только дают царевичу молока, но еще дарят ему своих детенышей, которые и следуют за богатырем, как его "верная охота", т. е. как послушные охотничьи собаки. Тогда царевна объявляет, что добытое молоко ей не в пользу, и отправляет брата в толкучие горы за живою водою, а потом на чертову мельницу достать мучной пыли. Ворочаясь домой, царевич не успел вызвать из чертовой мельницы свою "охоту"; так быстро захлопнулись ее железные двери. Беззащитный, он попадает в руки лютого змея и уже готовится к смерти; но звери прогрызли железные двери и вовремя явились на выручку. По другому варианту, царевич сламывает три зеленых прута, ударяет ими — и вмиг распадаются все запоры и освобождаются его верные псы. Эти зеленые прутья тождественны с волшебной разрыв-травою и означают разящие молнии, а толкучие горы и быстро замыкающиеся мельницы — метафоры громовых туч. Как скоро разбиты молнией крепкие затворы туч, из-за них вырываются небесные псы-вихри и льется живая вода дождя: бог-громовник, сопутствуемый собаками и зверями, является во всей своей грозной силе — подобно Одину, когда тот несется во главе дикой охоты. Измена открывается, змей гибнет, и коварная сестра получает достойное наказание. Этот ряд сцен, следующих одна за другою, есть не что иное, как поэтические картины весенней грозы. Разобранная нами сказка известна у многих народов; у других славян содержание ее развивается с некоторыми любопытными особенностями. Были сын да мать, рассказывает словацкая сказка. Трижды семь лет сосал сын материнскую грудь и сделался великий силач, так что мог обхватить и вырвать с корнем хоть какое толстое дерево. Этот богатырь — бог-громовник, как олицетворение молнии, он рождается от облачной жены и сосет из ее груди животворное молоко-дождь. С громадным деревом, вместо дубинки, отправляется он искать новое, лучшее жилье для своей матери. Нашел богатый замок, очистил его от змеев и поселился в нем вместе с матерью. В одной из комнат замка сидел змей, прикованный к стене тремя железными обручами; так поступили с ним его собственные братья. "Отпусти меня на волю!" — просит змей богатыря.
"Э, если тебя приковали твои же братья, то немного от тебя добра будет! Сиди-ка лучше здесь". Не удалось змею обмануть сына; зато удалось обольстить мать. Он обещал взять ее замуж, и она принесла ему из погреба три стакана вина; за каждым выпитым стаканом лопается и падает с змея по одному обручу; эпизод уже нам знакомый! Так же срывается с цепей и Кощей бессмертный. И вот змей на свободе и замышляет, как бы извести богатыря. По его наущению, мать притворяется больною и посылает сына за разными снадобьями, добывание которых сопряжено с опасностью потерять жизнь. Он должен принести ей поросенка от дикого кабана, живой и мертвой воды, золотое яблоко из драконова сада и птицу, которая своими крыльями подымает столь сильный вихрь, что исторгает из земли деревья. В этих подвигах ему помогает Неделька, заменяемая в других редакциях вещею, водяною девою или вилою; она дает витязю и необходимые советы, и волшебного коня Татошика. Добытую живую воду и птицу-вихрь Неделька удерживает у себя, подменяя их простой водою и обыкновенной птицею. Наконец, коварной матери удается связать своего сына шелковым шнуром; на ее призыв является змей и убивает молодца. Мать вынимает из него сердце и оставляет у себя, а прочие части расчлененного трупа привязывает к Татошику, промолвив: "Ты носил его живого, неси же и мертвого — куда знаешь!" Конь приносит хозяина к Недельке, а та воскрешает его живою водою. "Странно, — говорит оживленный молодец, — мое сердце не бьется!" — "Как ему биться, когда его нету!" — "Где же оно?" Неделька рассказала ему все, что случилось. Молодец не почувствовал ни малейшего гнева, потому что у него не было сердца. Неделька нарядила его в нищенское платье, дала в руки волынку и послала в замок: "Ступай и в награду за музыку выпроси и свое сердце!" Богатырь пришел в замок, заиграл на волынке; мать его пустилась плясать со своим возлюбленным змеем и плясала день и ночь, пока из сил не выбилась, т. е. под звуки грозовой музыки начинается неистовая пляска облачных духов. Получивши свое сердце, богатырь воротился к мудрой Недельке. Неделька смочила сердце живою водою и приказала чудесной птице взять его в клюв и вложить доброму молодцу на прежнее место. Затем богатырь является в замок, где в то время мать его делила любовь со змеем; схватил острый меч и отсек змею голову. Преступная мать также должна быть наказана, но врожденное чувство сына ужасается при мысли быть палачом своей матери, и он предоставляет ее суду божьему: "Пусть судит тебя сам бог!" И выводит ее на двор замка и бросает вверх свой острый меч: "Кто из нас не прав, того бог накажет!" Быстро пронесся меч мимо головы сына и вонзился в сердце матери. Эта глубоко нравственная черта повторяется и в русской сказке: Иван-царевич берет тугой лук и каленую стрелу и идет с матерью в чистое поле; натянул лук, положил поодаль и говорит: "Становись, матушка, рядом со мною; кто из нас виноват, того каленая стрела сама найдет". Мать прижалась к нему близко-близко, но стрела нашла виноватого, сорвалась с лука и угодила ей прямо в сердце. Так разит Перун молниеносным мечом и стрелами мать свою — облачную нимфу, находя ее в объятиях демона-змея. То же предание о сыне-богатыре и злодейке-матери, вступившей в связь с демоническим существом, содержит и черногорская песня, где вместо змеев встречаемся с дивами, а роль Недельки исполняет вила. Семьдесят дивов, говорит песня, жили на дивской горе, в студеной пещере; богатырь Йован всех их перебил своею саблею, но дивский старейшина успел скрыться и, оставшись в живых, вошел в любовь к его матери. Хитрая мать связывает сына по рукам крепкой тетивою и предает его своему любовнику. Слепой, он был исцелен горною вилою, которая умыла его водою и сотворила ему ясные очи. Йован торжествует над злобою матери и убивает дивского старейшину. У сербов див — великан, гигант; в болгарской загадке слово это служит для обозначения бурного вихря. Собственно див означает: светлый, блестящий и принималось арийскими племенами за название небесного свода; но так как, с одной стороны, небо есть царство грозовых туч, а с этими последними соединялось представление демонов мрака, чудовищных змеев и великанов и так как, с другой стороны, в самих сверкающих молниях предки наши усматривали падших, низверженных с неба духов, то слово "див" стало употребляться для обозначения нечистой силы и великанов. Отсюда понятно тождество дивов сербской песни, обитающих в горной пещере, с нашими Змеями Горынычами. Старинные русские памятники говорят о поклонении богу Диву, и если в этом свидетельстве вероятнее видеть указание на светлое небесное божество, то все-таки не может быть сомнения, что уже в отдаленной древности со словом "дивы" связывалось понятие о драконах и великанах туч. "Слово о полку Игореве" упоминает о диве, восседающем на дереве, подобно Соловью-разбойнику и мифическим змеям. Рисуя картину ночной грозы, певец говорит: "Див кличет вверху древа, велит послушати земли незнаеме"; крик дива означает громовой грохот и завывание бури. В другом месте поэмы, при описании военного погрома от половцев, сказано: "Уже вержеся Дивь на землю" — выражение, тождественное по смыслу с ныне употребительным: "Як хмара (туча) на нас испала!", т. е. пришла беда. На Украине до сих пор слышится клятва: "Щоб на тебе див пришов!" Со словом диво однозначительно чудо (чудовище), встречаемое в старинных рукописях в значении исполина, гиганта. Морское чудо — Морской Царь, владыка дожденосных туч, точно так же как Лесное чудо — леший, обитатель облачных лесов. Как у сербов див — великан, так, по русским преданиям, великаны суть дивии народы или дикие люди; лешего и лесунок также называют диким мужиком и дивоженами. Дикий — сокращенная форма из дивокий (дивий). Первоначально эпитет этот означал: небесный или находящийся под открытым небом, но впоследствии с ним соединилось нравственное понятие. Когда славяне оселись на постоянных местах, сделались оседлыми землепашцами, тогда свой домашний быт под родною кровлею стали они противополагать кочевью по лесам и степям. Вместе с этим и прилагательное дивий — дикий (живущий под открытым небом) стало употребляться для обозначения той особенной грубости нравов и привычек, которая нераздельна с бытом кочевым, пастушеским. Такою ничем не обузданною грубостью, дикостью номадов[150] отличалась и порода великанов, как воплощение вечно враждующих и разрушительных стихий природы — буйных вихрей и громовых туч, постоянно блуждающих (кочующих) по широким воздушным пространствам.
К одному разряду с приведенными нами сказками принадлежит и валахская "Цвет-королевич". Рождение юного героя, его смерть и снова возрождение к жизни — вот основная мысль этой сказки. У некоего короля была дочь — чудная красавица. Раз принесла она пучок прекрасных, пахучих цветов, поставила их в воду и потом, когда вся вода покрылась цветочною плодотворною пылью, выпила ее и сделалась беременна. Раздраженный король заключил дочь в бочку и пустил в море. Там родила она сына-богатыря. Мальчик вырос быстро, потянулся и разломал бочку: так рождается молниеносный бог в бочке-облаке, плавающем по небесному океану, и рожденный тотчас же разбивает свою колыбель. Мать с сыном вышли на сушу и поселились в замке, который принадлежал чудовищным змеям. Флориан победил и заковал их в цепи; только один змей успел спрятаться и остался на свободе. Во время отлучек богатыря из дому змей этот превращается в красивого юношу, обольщает королевну и сообщает ей разные средства, как погубить Флориана, чтобы не было никакой помехи их взаимной любви. Королевна притворяется больною и просит сына достать ей целебного лекарства. Один раз Флориан приносит матери живого буйвола, мозг которого она признала необходимым для ее выздоровления; в другой раз он убивает медведя, мясо которого должно служить для той же цели; в третий раз мать посылает его на черную гору за живой водою. Флориан отправился в путь; близ черной горы (тучи) расстилалось белое озеро, и в том озере купались водяные девы (нимфы, дарующие дождь): они были так прекрасны, что юноша долго не в силах был отвести от них глаз. Девам также понравилась его мужественная красота. Они расспросили: куда и зачем он идет? И, опасаясь за его жизнь (ибо живую воду оберегал злой дух), приглашали Флориана остаться навсегда с ними. Но он, ради сыновней любви, отказался и пошел на гору. Там на верху черной горы окружил его густой, непроницаемый туман, и только он наклонился, чтобы почерпнуть воды из источника жизни, как в ту же минуту закрутился страшный вихрь, подхватил юношу на воздух, разорвал на тысячи кусков и разметал их по берегу озера. В полночь, когда полный месяц взошел над озером, проснулись водяные девы от своей дремоты на глубоком дне, выплыли на поверхность вод и стали играть и плескаться. Вдруг одна из них подымает жалостный плач, является и подает своей царице сердце Флориана, которое нашла в волнах озера. Царица опечалилась, созвала подруг и приказала собрать все растерзанные члены несчастного юноши, а одну из дев послала за живою водою. Когда приказ был исполнен, царица взяла собранные члены Флориана, сложила их вместе, спрыснула живою водою, и возрожденный герой тотчас встал, будто пробудившись от крепкого сна. Тут сведал он про злой умысел на его жизнь, задушил змея, покинул преступную мать и отправился странствовать по белому свету и совершать великие подвиги. В такой благоухающей свежести, по замечанию Буслаева[151], сохраняет народная поэзия глубокомысленные мифы о растерзанном и возрожденном Озирисе, Вакхе и другие подобные. В борьбе с демоническим змеем погибает и сам дожденосный Перун (Вакх[152]); дробимый на множество шумнольющихся потоков и разносимый буйными вихрями по лицу земли, он умирает вместе с окончанием ливня; но потом снова возрождается, как скоро рассеянные части его тела будут собраны и окроплены живою водою, т. е. как скоро восходящие к небу пары снова соберутся и образуют из себя дождевые тучи. В позднейших, подновленных вариантах рассматриваемой нами сказки вместо змеев, с которыми сражается богатырь, выводятся разбойники, а вместо Змея Горыныча — любовником царевны выставляется разбойничий атаман; замена эта — нисколько не удивительна, ибо со сказочными змеями нераздельно представление о их воровском, разбойничьем характере. Таким образом, древние мифические предания с течением времени сводятся народом к простым объяснениям, заимствуемым из его действительной жизни.
Те же самые облака и тучи, в которых фантазия древнего человека видела змеев — похитителей живой воды и золота солнечных лучей, рассматривались и как внешний покров, одежда или шкура, в которую облекаются светлые боги и богини. Окутываясь темным облачным покрывалом, боги как бы оборачиваются в змеиную шкуру и принимают на себя чудовищный змеиный образ. Представление это стоит в тесной связи с общим верованием в оборотничество. Сам бог-громовник, засыпающий на зиму в оцепененных стужею тучах и до весны незримый в блеске настоящей его красоты (т. е. перестающий блистать золотистыми молниями), на метафорическом языке эпических сказаний превращается в змея и скрывает свой светлый лик под его безобразными формами. В народных сказках царевич-жених изображается иногда в виде страшного змея, но такой демонический образ есть следствие очарования враждебных сил (Зимы), и только временно затемняет несказанную красоту доброго молодца. С поцелуем любящей невесты колдовство разрушается: чудовищный змей преобразуется в прекрасного, статного юношу, и затем следует веселое торжество брачного союза, т. е. горячее дыхание из уст богини весны вызывает к жизни Перуна...
Подобно жениху Перуну, и невеста его — богиня весеннего солнца и гроз представляется в некоторых народных сказаниях в чудовищном образе змеи. Смысл этих сказаний все тот же, только жених и невеста меняются своими ролями. Прекрасная царевна, околдованная Кощеем бессмертным, превращается в зимний период времени в змею; герой, принимающий на себя подвиг ее избавления, должен семь лет оставаться в оловянном замке, на крутой горе, и только по истечении этого срока, т. е. после семи зимних месяцев, проведенных в темном облачном замке на горе-небе, царевне возвращается ее неописанная красота, а избавитель в награду за подвиг получает славные диковинки, в которых поэтически изображаются силы весенней природы. Таково содержание русской сказки. В немецких сагах, изданных братьями Гриммами, встречаем предание о зачарованной деве, с золотой короной на голове и с длинными косами, ниспадающими до земли. Ниже пупа она имела вид змеи и могла быть избавлена от этого превращения только под условием, чтобы целомудренный юноша трижды поцеловал ее. С преданиями о змеиной деве родственны сказки, сохраняющиеся у различных народов в весьма близких и сходных редакциях, о вещей царевне, превращенной в гадину, преимущественно в лягушку или жабу. Эта царевна — дивная, несказанная красавица, и только на время, вследствие колдовства злой ведьмы (Зимы), облекается в лягушечью кожурину. Стихийная природа ее очевидна: когда свекор заставляет ее показать образцы своего рукоделья, она обращается к буйным ветрам, и те приносят к ней чудно сотканные ковер и сорочку — метафоры облачных покровов; собираясь на царский пир, она наказывает своему мужу-царевичу: "Станет накрапывать дождь, ты скажи: это моя жена умывается! заблистает молния — объяви всем: это моя жена одевается! а загремит гром — говори: это моя жена едет!" Когда царевич сжег лягушечью кожурину — вещая жена покидает его, и он вынужден искать ее в подсолнечном царстве — у Кощея бессмертного, где и находит свою суженую не прежде, как истоптавши железные сапоги и изглодав три железных просвиры[153]. Чтобы возвратить ее любовь, царевич должен добыть то чудесное яйцо, в котором скрывается Кощеева смерть, т. е. сила заклятия тогда только прекращается, когда окончательно будет побежден демон зимних туч...
Заклятая или очарованная царевна выступает героинею весьма многих сказок у всех индоевропейских народов, и сказки эти, несмотря на обилие сходных сторон, представляют довольно разнообразные вариации одной и той же основной темы. Очарование не всегда состоит в изменении человеческого образа на змеиный или иной животненный, что тесно связывается с древнейшим олицетворением сил природы различными птицами и зверями; но выражается еще в более простой форме — в изменении белого цвета на черный, т. е. в утрате блеска, сияния, а следовательно, и красоты. Царевна-красавица, царством которой овладевает вечно шумная, беспокойная нечистая сила, теряет свой белоснежный цвет и делается черною, а белые кони, на которых выезжает ее колесница, превращаются в вороных. В таком помраченном виде сидит она в заколдованном дворце или замке (в зимней туче). Чтобы освободить ее из-под заклятия, от сказочного героя требуется семь лет молчания; это потому, что на все зимние месяцы Перун действительно замолкает. Злые духи напрягают все свои усилия, чтобы устрашить и прогнать избавителя, и в продолжение трех ночей испытуют его смелость различными демонскими наваждениями: то грозят ему мучительною смертью, то скачут на него бешеными конями, то со всех сторон окружают его клокочущим пламенем и так далее. По мере того как близится срок избавления, чернота все более и более умаляется: и царевна, и кони ее становятся белыми сначала до пояса, потом до колен, а наконец,, и совсем освобождаются от влияния нечистой силы. Это — то самое представление, на котором зиждется большая часть народных эпических сказаний: богиня весны (дева Солнце), обессиленная ведьмою Зимою или помраченная демоном-змеем, утрачивает на известное время свою блистательную красоту и снова обретает ее по окончании срока испытания. Той же изменчивой судьбе подвластны и прекрасные нимфы вод (т. е. дождевых источников): являясь в летнюю пору в легких, белоснежных облачных тканях, озаренных яркими лучами солнца, в зимние месяцы они одеваются в черные, траурные покровы и подвергаются злому очарованию...
Итак, временная утрата красоты сказочною царевною выражалась в мифе: во-первых, принятием ею змеиного образа и, во-вторых, помрачением ее светлого лика и заменою белой одежды черною. Но, сверх сего, встречаются еще третье мифическое представление: под влиянием зимней стужи легкая облачная одежда красавицы превращается в жесткую кору, охватывающую ее тело, что и продолжается до тех пор, пока не разрубит молниеносным мечом и не снимет эту кору пробудившийся в весеннюю пору могучий Перун. Поехал Святогор (исполин-громовник, обитающий в святых горах, т. е. тучах) разузнать свою судьбину: где и на ком ему жениться? И было ему предсказано мифическими кузнецами, кующими брачные узы: "Твоя невеста в поморском царстве, в престольном городе тридцать лет лежит во гноище". Призадумался богатырь, направил путь в поморское царство и нашел девицу — лежит во гноище, спит крепким сном, а тело у ней словно кора еловая; поднял свой острый меч, ударил ее в грудь и уехал из царства. Очнулась девица от крепкого сна — а еловая кора с нее спала, и сделалась она красавицей и невиданной, и неслыханной. Далеко пронеслась молва про ее красу, посватался за девицу Святогор-богатырь и, женившись на ней, спознал, что от судьбы не уйдешь.., В ту эпоху, когда позабыт был действительный смысл древних метафорических выражений, мифы о летучих, огненных змеях повели к обожанию змей обыкновенных, ползучих. В Литве и Польше дозволяли ужам и змеям селиться в домах, под печкою, чтили их как пенатов и приносили им в дар молоко, сыр, яйца и кур; если они вкушали предложенную им яству — это принималось за добрый знак, и, наоборот, нетронутая пища указывала на грядущие бедствия; наносить какой бы то ни было вред этим гадам и убивать их было строго воспрещено. Крестьяне наши до сих пор считают счастливым предзнаменованием, если в избе поселится уж, и охотно ставят для него молоко; убить такого ужа — величайший грех! За змеиными и ужовыми головками и шкурками признается целебная сила...
Нечистая сила
Древнейшие представления о боге-громовнике носят двойственный характер: являясь, с одной стороны, божеством светлым, разителем демонов, творцом мира и подателем плодородия и всяких благ, он — с другой стороны — есть бог лукавый, злобный, приемлющий на себя демонический тип. Эта двойственность в воззрениях первобытных племен возникла под влиянием тех естественных свойств, с какими выступает гроза, то оплодотворяющая землю, разгоняющая мрачные облака и вредные испарения, то посылающая град и бурные вихри, опустошающая поля, леса и нивы и карающая смертных молниями. Шествуя в тучах, громовник усваивает себе и их великанские признаки и — согласно с представлением туч темными подземельями — становится богом подземного (адского) царства. Чтобы обозначить эти различные, одна другой противоположные стороны в характере громовника, народ давал ему и соответственные им прозвания, которые впоследствии перешли в имена собственные, обособились и разъединили единое божество на две враждебные личности: рядом с небесным Зевсом является другой, владычествующий не на небе, а под землею, Плутон, царь того света и усопших; возле благого, плодородящего Тора — лукавый Локи. Этот последний вполне соответствует Гефесту (Вулкану), богу подземного огня, искусному ковачу молниеносных стрел, о котором греческий миф рассказывает, что раздраженный Зевс схватил его за ногу и стремительно низвергнул с высокого Олимпа на землю и что вследствие этого падения Гефест повредил ногу и навсегда остался хромым... Быстрота молний заставила сближать их не только с летучими, окрыленными стрелами, но и с ногами, как необходимыми орудиями движения, резвого бега. Отсюда объясняется, почему русский сказочный эпос изображает героев, представителей весенних гроз, с ногами по колено в золоте, почему греки давали своим богиням эпитеты сребро-и злато-ногих, почему наконец подвижная избушка ведьмы (ходячее облако) стоит и повертывается на курьих ножках, т. е. на ногах петуха (кура), имя которого доныне употребляется в значении огня. Богатырские кони и козлы Тора, ударяя своими копытами по облачным скалам, высекали из них молниеносные искры и открывали путь дождевым источникам. Так как молния падает с воздушных высот изломанной, искривленной линией, то полет ее фантазия стала сравнивать с шатким, нетвердым бегом хромоногого человека или животного; а громовому удару стала приписывать отшибание пят или повреждение ноги у героя-громовника, когда он является в облачные подземелья добывать оттуда золото солнечных лучей и живую воду дождя... Зевсу в битве его с Тифоном были подрезаны на ногах жилы[154]; по свидетельству индийского мифа, Кришна[155], славный победитель дракона, был ранен в подошву, откуда объясняется и греческое предание об Ахиллесовой пятке; наши сказочные герои иначе не могут освободиться из подземного мира, как отрезав свои икры и скормив их дракону или вихрю-птице, на крыльях которых вылетают они на белый свет. То же увечье испытывают и мифические животные, в которых издревле олицетворялись грозовые тучи. По указанию русской сказки, когда царевич доставал живую воду, толкучие горы (тучи) отшибли его богатырскому коню задние ноги. Падение молнии на метафорическом языке обозначалось утратою того члена, какому уподоблялась она в данном случае; бог-громовержец или демон-туча терял свой золотой волос, зуб, палец, фаллос, перо из своих крыльев или ногу. Звери, в образе которых народные предания живописуют грозовые явления (собака, заяц и др.), весьма часто представляются треногими. Взирая на извив молнии, как на тот непрямой путь, которым шествует бог-громовник, древний человек, под непосредственным воздействием языка, связал с этим представлением понятия коварства и злобной хитрости. В эпоху незапамятной, доисторической старины ни одно нравственное, духовное понятие не могло быть иначе выражено, как чрез посредство материальных уподоблений. Поэтому кривизна служила для обозначения всякой неправды, той кривой дороги, какою идет человек недобрый, увертливый, не соблюдающий справедливости; до сих пор обойти кого-нибудь употребляется в смысле: обмануть, обольстить. Лукавый — хитрый, злобный, буквально означает: согнутый, искривленный, от слова лук — согнутая дуга, с которой и смертные и сам Перун бросают свои стрелы; лукать — бросать, кидать, излучина, лукоморье — изгиб морского берега; сравни: кривой, кривда и криводушный. Напротив, с понятием правды соединяется представление о прямоте душевной; прямить — говорить правду (напрямки, впрямь), прямой человек — честный, неподкупный, идущий прямым путем. Лукавство и хитрость считались у грубых первобытных племен существенными признаками ума, мудростью; другие выражения сближают ум с быстротою — понятием, неразлучным со всеми представлениями стихийных духов: достремиться (стремный, стремый — скорый, проворный) — догадаться, достремливый — то же, что дошлый: смышленый, догадливый, буквально: добегающий, достающий до цели; угонка — сметливость, догадка... Следовательно, хитрый первоначально могло означать то же, что и прилагательное ловкий, т. е. тот, который удачно, скоро ловит, а затем уже — умный. Приведенный ряд слов переносит нас в те отдаленные времена охотничьего быта, когда меткость стрелы, быстрота в преследовании дичи были главными достоинствами мужчины, ручательством за его ум. Наряду со словом лукавый, которое сделалось нарицательным именем черта, хитник так же служит для обозначения нечистого духа как коварного обольстителя и в то же время похитителя небесного света и дождей; сравни: вор и проворный. Под влиянием указанных воззрений и языка бог разящих молний переходит в хромоногого демона, и доныне у разных народов продолжают давать этот эпитет дьяволу. В народных сказках черт нередко является искусным кузнецом, с чем (как нельзя более) гармонируют и его черный вид, и его пребывание в покрытых сажею и горящих адским пламенем пещерах; в самый короткий срок он может перековать в гвозди огромное количество железа... Как представитель легко изменчивых облаков и туманов, черт может превращаться во все те образы, в которых древнейший миф олицетворял тучи. Согласно с эпическими названиями облаков ходячими, а ветров буйными, черти вечно бродят по свету и отличаются неустанною, беспокойною деятельностью; на областном наречии шатун означает и бродягу, и дьявола. По быстроте своего полета тучи уподоблялись хищным птицам, легконогому коню, гончим псам и диким козлам и козам, а ради той жадности, с какою они пожирают (помрачают) небесные светила — волку и свинье. Все эти животненные формы принимает и нечистый...
Наряду с бесами мужского пола предания говорят о чертовках, которые, по характеру своему, совпадают с облачными, - водяными и лесными женами и девами. У малорусов есть поговорка: "Дождался чертовой матери!" В народных сказках в жилище черта сидит его бабка, мать или сестра, которая в большей части случаев оказывается благосклонною к странствующему герою, прячет его от своего сына и помогает ему в нужде...
Живому неестественно не страшиться смерти, потому что жизнь уже сама по себе есть и высочайшее благо, и высочайшее наслаждение, об исходе которого нельзя думать без особенного тревожного чувства. У всех народов ходит много примет и совершается много обрядов, указывающих на тот страх и то опасение, с которыми смотрят на все, что напоминает о последнем конце. Так, встреча с похоронами считается предвестием несчастья и неудачи; у греков прикосновение к усопшим, долгое пребывание в доме покойника, посещение больных и умирающих требовало очищения; у римлян жрецам воспрещалось прикасаться к мертвому телу. На Руси кто прикасался к трупу покойника, тот не должен сеять, потому что семена, брошенные его рукою, омертвеют и не принесут плода; если умрет кто-нибудь во время посева, то в некоторых деревнях до тех пор не решаются сеять, пока не совершатся похороны. В Литве, как только приметят, что больной умирает, тотчас же выносят из избы всё семена, полагая, что если они останутся под одною кровлею с мертвецом, то не дадут всходов. С другой стороны, так как зерно, семя есть символ жизни, то по выносе мертвого лавку, где он лежал, и всю избу посыпают рожью. Тогда же запирают и завязывают ворота, чтобы отстранить губительные удары смерти и закрыть ей вход в знакомое жилье. Горшок, из которого омывали покойника, солома, которая была под ним постлана, и гребень, которым расчесывали ему голову, везут из дому и оставляют на рубеже с другим селением или кидают в реку, веря, что таким образом смерть удаляется за пределы родового (сельского) владения или спускается вниз по воде. Все присутствующие при погребении обязаны, по возврате домой, посмотреть в квашню или приложить свои руки к очагу, чтобы через это очиститься от зловредного влияния смерти.
Вместе с болезнями, особенно повальными, быстро приближающими человека к его кончине, смерть признавалась у язычников нечистою, злою силою. Оттого и в языке, и в поверьях она сближается с понятиями мрака (ночи) и холода (зимы). В солнечном свете и разливаемой им теплоте предки наши видели источник всякой земной жизни; удаление этого света и теплоты и приближение нечистой силы мрака и холода убивает и жизнь, и красоту природы. Подобно тому смерть, смежающая очи человека, лишает его дневного света, отнимает от него ту внутреннюю теплоту, которая прежде согревала охладелый его труп, и обезображивает лицо покойника предшествовавшими болезненными страданиями и предсмертного агонией. Смерть и черт в народных сказаниях нередко играют тождественные роли. Слова: смерть, мор, Морана родственны по корню с речениями: морок (мрак) — туман, замерек (замерень) — первозимье, замореки — начальные морозы, мара — у нас: злой дух, призрак, у лужичан: богиня смерти и болезней, мерек — черт. Основу родства означенных речений должно искать в доисторической связи выражаемых ими понятий...
Встречая весну торжественным праздником, славяне совершали в то же время обряд изгнания Смерти или Зимы и повергали в воду чучело Мораны. Сербы дают зиме эпитет черная; в одном из похоронных причитаний говорится о покойнике, что он уходит туда, где померкло солнце и царствует черная зима; там будет он вечно зимовать, и лютая змея выпьет его очи! У вас глагол околеть употребляется в двояком смысле: озябнуть и умереть; а глагол истыватъ (стынуть) — в смысле издыхать. Если идея смерти сближалась в доисторическую эпоху с понятием о ночном мраке, то так же естественно было сблизить се и с понятием о сне. Сон неразделен с временем ночи, а заснувший напоминает умершего. Подобно мертвецу, он смежает сбои очи и делается недоступным впечатлению света; остальные чувства его также чужды внешним впечатлениям...
В славянских и немецких сказках богатыри, убитые врагами, воскресая при окроплении их трупов живою водою, обыкновенно произносят эти слова: "Ах, как же я долго спал!" — "Спать бы тебе вечным сном, если б не живая вода и не моя помощь", — отвечает добрый товарищ. В современном языке вечный сон остается метафорическим названием смерти; наоборот, сон летаргический слывет в простонародье обмиранъем, во время которого, по рассказам поселян, душа оставляет тело, странствует на том свете, видит рай и ад и узнает будущую судьбу людей. Животные, впадающие в зимнюю спячку, по общепринятому выражению — замирают на зиму. Заходящее вечером солнце представлялось не только умирающим, но и засыпающим, а восходящее утром — восстающим от сна; зимняя смерть природы иначе называется ее зимним сном; о замерзших реках и озерах выражаются, что они заснули. Язык засвидетельствовал близость и сродство означенных понятий до осязательной наглядности. Умерших называют: а) усопшими, от глагола спать, усыпить, т. е. их буквально называют уснувшими, или б) покойниками — успокоившимися от житейской суеты вечным сном; подобно тому, о рыбе говорят, что она заснула, вместо: умерла, задохлась.
В Смоленской губ. мертвецы называются жмурики (от глагола жмурить — закрывать глаза), т. е. сомкнувшие свои очи; в Архангельской губ. существует поверье: кто засыпает тотчас, как ляжет в постель, тот долго не проживет; у литовцев была примета: когда молодые ложились в первый раз вместе, то кто из них засыпал прежде — тому и умереть суждено раньше. Сербы не советуют спать, когда заходит солнце, чтобы вместе с умирающим светилом дня не заснуть и самому вечным сном. Слово стемнеть употребляется в народном говоре в значении: ослепнуть и умереть; согласно с этим свидетельством языка, упырей (мертвецов, являющихся по смерти) большею частью представляют слепыми. Как сон сближается со смертью, так, наоборот, бодрствование уподобляется жизни; поэтому жилой означает неспящего, например: "мы приехали на жилых", т. е. мы приехали, когда еще никто не спал; глагол жить употребляется в некоторых местах в смысле: бодрствовать, не спать.
Эти данные, свидетельствующие о братстве сна и смерти, и то верование, по которому душа во время сна может оставлять тело и блуждать в ином мире и видеть там все тайное, послужили основанием, почему сновидениям придано вещее значение. Для живой и впечатлительной фантазии наших предков виденное во сне не могло не иметь прямого отношения к действительности, среди которой так много было для них непонятного, таинственного, исполненного высшей, священной силы. Они признали в сновидениях то же участие божества, какое признавали в гаданиях и оракулах; сновидения являлись, как быстролетные посланники богов, вещатели их решений. Таких, которые бы, по примеру сказочного богатыря Василия Буслаева, не верили ни в сон, ни в чох, а полагались бы только на свой червленный вяз, в старое время бывало немного.
В наших народных песнях есть несколько прекрасных поэтических рассказов, содержанием которых служит "вера в сон". Приведем примеры:
Как по той ли реке Волге-матушке Там плывет, гребет легкая лодочка. Хорошо лодка разукрашена, Пушкам, ружьицам изстановлена; На корме сидит асаул с багром, На носу стоит атаман с ружьем, По краям лодки добры молодцы. Добры молодцы — все разбойнички; Посередь лодки да и бел шатер, Под шатром лежит золота казна, На казне сидит красна девица, Асаулова родная сестрица, Атаманова полюбовница, Она плакала, заливалася, Во слезах она слово молвила: Нехорошь вишь сон ей привиделся — Расплеталася коса русая, Выплеталася лента алая, Лента алая, ярославская, Растаял мой золот перстень, Выкатался дорогой камень: Атаману быть застрелену, Асаулу быть поиману, Добрым молодцам быть повешенным, А и мне-то, красной девице, Во тюрьме сидеть, во неволюшке.Потеря обручального кольца, по народной примете, — худой знак, вещающий расторжение брака и любовной связи; распущенная коса — символ печали по усопшему другу или родичу. Другая песня:
Ох ты, мать моя, матушка, Что севоднешну ноченьку Нехорошь сон мне виделся: Как у нас на широком дворе Что пустая хоромина — Углы прочь отвалилися, По бревну раскатилися; На печище котище лежит, По полу ходит гусыня, А по лавочкам голуби, По окошечкам ласточки, Впереди млад ясён сокол.Пустая хоромина — чужая сторона, углы опали, и бревна раскатились — род-племя отступилось, кот — свекор, гусыня — свекровь, голуби — деревья, ласточки — золовки, ясен сокол — жених. В "Слове о полку Игореве" встречается следующий рассказ о вещем сне князя Святослава: "А Святъславь мутен сон виде в Киеве на горах. Си ночь, с вечера, одевахуть мя — рече — черною паполомою на кроваты тисове; черпахуть ми синее вино, с трудомь смешено; сыпахуть ми тощими тулы поганых толковин великый женчугь на лоно и неговаху мя. Уже доскы безъ кнеса в моем тереме златоверсем; всю нощь с вечера босуви врани възграяху". Сон Святослава состоит из ряда печальных примет: черный покров и карканье ворона предзнаменуют грядущее несчастье; терем без кнеса означает лишение членов семейства, жемчуг — слезы; вино, смешанное с горем, напоминает выражение: упиться горем.
И Сон, и Смерть были признаваемы славянами, как и другими индоевропейскими народами, за живые мифические существа. Следы такого олицетворения сна замечаем в колыбельных песнях:
Сон идет по сеням, Дрема по терему; Сон говорит: Усыплю да усыплю! Дрема говорит: Удремлю да удремлю!Кто ленив на подъем, медлителен в исполнении поручений, о том говорят на Руси: "Его только что за смертию посылать".
К опасно больному приходит Смерть, становится около его постели и заглядывает ему в очи; если кто вдруг, неожиданно вздрогнет — это знак, что ему "смерць в очи поглядзела". Согласно с злобным демоническим характером Смерти, на которую (по пословице), как на солнце, во все глаза не взглянешь и от которой нельзя ни откупиться, ни отмолиться, она олицетворялась в образе устрашающем. Русские памятники (старинные рукописи, стенная живопись и лубочные картины) изображают Смерть или страшилищем, соединяющим в себе подобия человеческое и звериное, или сухим, костлявым человеческим скелетом с оскаленными зубами и провалившимся носом, почему народ называет ее курносою...
С понятием смерти фантазия соединяет различные поэтические уподобления: Смерть то жадно пожирает людской род своими многоядными зубами; то похищает души, как вор, схватывая их острыми когтями; то, подобно охотнику, ловит их в расставленную сеть; то, наконец, как беспощадный воин, поражает людей стрелами или другим убийственным оружием. Тот же тип хитрого ловчего и губителя христианских душ присваивается и владыке подземного царства, искусителю-сатане. Вооруженная в ратные доспехи, Смерть вступает в битву с человеком, борется с ним, сваливает его с ног и подчиняет своей власти; судороги умирающего суть последние знаки его отчаянного сопротивления. Усопшие следуют за нею, как пленники за своим победителем — опутанные крепкими веревками и цепями... С такою же обстановкою является Смерть в "Повести о бодрости человеческой" или "О прении Живота со Смертию"[156]. Повесть эта принадлежит к разряду общераспространенных в средние века поучительных сочинений, толкующих о тленности мира, и попадается во многих рукописных сборниках XVII века. Составляя у нас любимое чтение грамотного простонародья, она (по мнению исследователей) перешла из рукописей в устные сказания и на лубочную картину и дала содержание некоторым духовным стихам и виршам. Но можно допустить и обратное воздействие, т. е. переход устного древнемифического сказания о борьбе жизни (живота) и смерти в старинные рукописные памятники, причем оно необходимо подверглось литературной обработке; соответственно с воззрениями и приемами грамотников допетровского времени, сказанию придан нравственно-наставительный тон и само оно разукрашено обильными примерами, заимствованными из доступных автору хроник; Смерть лишается своего строго трагического стиля и впадает в хвастливую болтовню о тех богатырях и героях, которых некогда сразила она своею косою. Тем не менее основная мысль повести — борьба смерти с жизнью, олицетворение этих понятий и внешние признаки, с которыми выступает эта страшная гостья, бесспорно, принадлежат к созданиям глубочайшей древности. Справедливость требует заметить, что, пользуясь устными преданиями, книжная литература в свою очередь не остается без влияния на народное творчество и взятое у него возвращает назад с новыми чертами и подробностями; но эти позднейшие прибавки легко могут быть сняты и не должны мешать правильному взгляду на сущность дела. Чтобы ярче изобразить непобедимое могущество смерти, повесть противопоставляет ей не простого слабого человека, но богатыря, славного своею силою и опустошительными наездами, гордого, жестокого и самонадеянного; народная фантазия личность этого богатыря связала с именем известного в преданиях разбойника Аники-воина. Жил-был Аника-воин; жил он двадцать лет с годом, пил-ел, силой похвалялся, разорял торги и базары, побивал купцов и бояр и всяких людей. И задумал Аника-воин ехать в Ерусалим-град церкви божии разорять, взял меч и копье и выехал в чистое поле — на большую дорогу. А навстречу ему Смерть с острою косою. "Что это за чудище! — говорит Аника-воин, — царь ли ты царевич, король ли королевич?" — "Я не царь-царевич, не король-королевич, я твоя смерть — за тобой пришла!" — "Не больно страшна: я мизин-ным пальцем поведу — тебя раздавлю!" — "Не хвались, прежде богу помолись! Сколько ни было на белом свете храбрых могучих богатырей — я всех одолела. Сколько побил ты народу на своем веку! — и то не твоя была сила, то я тебе помогала". Рассердился Аника-воин, напускает на Смерть своего борзого коня, хочет поднять ее на копье булатное; но рука не двигается. Напал на него великий страх, и говорит Аника-воин: "Смерть моя Смерточка! Дай мне сроку на один год". Отвечает Смерть: "Нет тебе сроку и на полгода". — "Смерть моя Смерточка! Дай мне сроку хоть на три месяца". — "Нет тебе сроку и на три недели". — "Смерть моя Смерточка! Дай мне сроку хоть на три дня". — "Нет тебе сроку и на три часа". И говорит Аника-воин: "Много есть у меня и сребра, и золота, и каменья драгоценного; дай сроку хоть на единый час — я бы роздал нищим все свое имение". Отвечает Смерть: "Как жил ты на вольном свете, для чего тогда не раздавал своего имения нищим? Нет тебе сроку и на единую минуту!" Замахнулась Смерть острою косою и подкосила Анику-воина: свалился он с коня и упал мертвый. Стих об Анике-воине начинается таким изображением Смерти:
Едет Аника через поле, Навстречу Анике едет чудо: Голова у него челевеческа, Волосы у чуда до пояса, Тулово у чуда звериное, А ноги у чуда лошадиные.Косматые волосы и лошадиные ноги — обыкновенные признаки нечистых духов. В тексте лубочной картины Аника называет Смерть бабою: "Что ты за баба, что за пияница! (намек на высасывание ею крови) аз тебя не боюсь и кривыя твоея косы и оружия твоего не страшусь". Кроме косы, Смерть является вооруженною серпом, граблями, пилою и заступом:
Вынимает пилы невидимые, Потирает ею (ими) по костям и жилам — Аника на коне шатается И смертные уста запекаются.На лубочных картинах Смерть рисуется в виде скелета, с косою в руках; Коровью Смерть (чуму) крестьяне наши представляют безобразною, тощею старухою, в белом саване, и дают ей косу или грабли. Такая обстановка прямо вытекла из метафорических выражений древнейшего языка, который сравнивал губительную силу смерти с понятиями, самыми близкими и доступными земледельцу и плотнику: Смерть косит и загребает человеческие жизни, как коса и грабли полевую траву; жнет род человеческий, как серп колосья ("яко незрелую пшеницу"); она как бы вынимает незримую пилу и, потирая ею по костям и становым жилам, расслабляет человека — и он падает, словно подпиленное дерево; наконец Смерть, работая заступом, роет людям свежие могилы.
По указанию "Слова о полку Игореве" и народных песен, в битве земля засевается не пшеницею, а костями ратников, поливается не дождем, а кровью и растит не хлебные злаки, а печаль и общее горе. Современный язык удерживает выражение: сеять раздоры, вражду и крамолы; в "Слове о полку Игореве" сказано: "Тогда при Олзе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами"... По словам старинных русских летописцев, дьявол сетовал или радовался, смотря по тому: примирялись ли князья или враждовали между собою. "Усобная рать, замечает Нестор, бывает от соблажненья дьяволя. Бог бо не хочет зла человеком, но блага; а дьявол радуется злому убийству и кровопролитью, подвизая свары и зависти, братоненавиденье, клеветы". Понятно, что Смерть, поражающая ратников в бою, стала представляться владеющею всеми теми воинскими орудиями, какие только знала старина: в наших памятниках ей даются меч, сечиво, стрелы, ножи, рожны, оскорды[157].
Борьба жизни и смерти, лета и зимы, дня и ночи совершенно тождественны по значению, ибо понятия эти издревле сливались и в языке и в народных верованиях. Зима называлась Мораною, а богиня лета Живою (Живаною) — имя, знаменующее жизнь. Как царица зимы и ночного мрака, Смерть роднится с горными великанами; и самое жилище ее помещается в холодных странах севера, в недрах бесплодных и покрытых вечными снегами скал; в Богемии ее считают владычицей гор. Всесильная, всеистребляющая, она тем не менее бывает побеждаема, с приходом весны, богинею жизни и, поверженная наземь, заключается в оковы. С другой стороны, миф, сроднивший представления грозы и мрачных туч с адом и нечистою силою, признавший в молниях смертоносные стрелы владыки подземного царства, изображает смерть как разрушительное существо, сопутствующее богу-громовнику в его весенних походах и битвах...
Перед Смертью напрасны человеческие мольбы и рыдания, она глуха к ним, и эту неумолимость ее поэтическая фантазия болгар изображает тем, что Смерть является к людям с завязанными ушами. Русская легенда рассказывает об ангеле, который в наказание за то, что не хотел взять души одной матери, должен был три года жить на земле. Родила баба двойню, и посылает бог ангела вынуть из нее душу. Ангел прилетел к бабе; жалко ему стало двух малых младенцев, не вынул он обреченной души и полетел назад к богу. "Что, вынул душу?" — спрашивает его господь. "Нет, господи! У той бабы есть два младенца; чем же они станут питаться?" Бог взял жезло, ударил в камень и разбил его надвое, указал в трещине двух червей и провещал: "Кто питает этих червей, тот пропитал бы и двух младенцев!" И отнял бог у ангела крылья и осудил его в течение трех лет вести земную жизнь.
Наряду с легендами и стихами об ангелах смерти возникли средневековые сказания о борьбе ангелов и чертей за обладание душою усопшего. По нашим преданиям, при одре умирающего присутствуют и спорят за его душу ангел-хранитель и дьявол; если добрые дела человека перевешивают злые, то ангел-хранитель прогоняет дьявола копьем, а если перевешивают злые дела, то ангел удаляется с плачем.
В числе других представлений смерти особенною поэтическою свежестью дышит то, где она является невестою. Этот прекрасный образ объясняется из старинных метафорических выражений, уподоблявших кровавую битву — свадебному пиршеству, а непробудный сон в могиле — опочиву молодых на брачном ложе. Умирая от ран, добрый молодец, по свидетельству русской песни, наказывает передать своим родичам, что женился он на другой жене, что сосватала их сабля острая, положила спать калена стрела. Когда смерть сражает цветущего юношу, она (выражаясь поэтическим языком) сочетается с ним браком...
Болезни рассматривались нашими предками как сопутницы и помощницы смерти, а повальные и заразительные прямо признавались за самую смерть, и ни в чем так ярко не выступает стихийное значение этой древней богини, как в народных преданиях и поверьях о различных недугах. Немецкая легенда рассказывает, что одному юноше обещалась Смерть прежде, чем возьмет его душу, прислать своих послов, и он зажил весело и разгульно, не помышляя о последнем конце. Но вот он состарился, и за ним явилась Смерть. На упрек, что она не исполнила своего обещания, Смерть отвечала: "Как, я не посылала к тебе моих послов? Разве не трясла тебя лихорадка, разве ты не чувствовал головокружения, лома в костях, зубной боли, ослабления зрения и глухоты?"...
Далее, мы имеем положительные свидетельства языка, что болезни причислялись некогда к сонму нечистых духов. Областной словарь представляет тому обильные примеры: стрел — черт и стрелы — колотье: "Пострел бы тебя побрал!"; чёмор — дьявол ("Поди ты к чёмору!") и чемер — спазмы в животе или боль в пояснице, а чемеръ — головокружение, страдание живота и болезнь у лошади; игрец — истерический припадок, кликушество и дьявол; худоба — сухотка, истощенность, худобищё — конвульсия в тяжкой болезни, худая боль — сифилис, сибирск. "в худых душах" — при смерти и худой — злой бес; черная немочь {немощь — недуг; мощный и дюжий — сильный, здоровый) — паралич, черна — скотская чума, черная смерть — мор, опустошавший русскую землю в 1352 году (при Симеоне Гордом[158]), и черный — эпитет нечистого духа, черный шут — дьявол; лядетъ — долго хворать, лядить — томиться, изнывать, хиреть, лядащий — бессильный, больной, негодный и ляд — черт: "Ну те к ляду!" У белорусов лядашцик — дух, причиняющий людям порчу. Входя в человека или животное, демон порождает в нем болезненные припадки и безумную ярость. Ворогуша — лихорадка и враг (ворог) — дьявол; лихой — злой дух и болезнь у лошадей, старинное лихновъць (в Святославовом изборнике) — сатана, лихо-радка (лихо-манка, лихо-дейка), лихота — нездоровье, немощь, лиховатъ —быть нездоровым, чувствовать тошноту; тоснутъ — болеть, скучать и тошная — нечистая сила; шатун — черт и шат — обморок, головокружение, болезнь у собак; "тяжкая пришла", т. е. посетила болезнь, и тяжкун или тяжкий в значении дьявола; икота (икотка) — болезненный припадок и человек, одержимый бесом, икотница — страдающая икотою; притка — падучая и всякий нежданный, нечаянно приключившийся недуг ("Чтоб тебя разопритчило!", "Мне на таком-то месте попритчилось!"), а следующие выражения: "Эк ця притка принесла!", "Притка его ведать, откуда он!" — указывают на демона; сравни: "Кой черт тебя принес!", "Черт его ведает!" Лишай — гнойный струп на голове и дьявол. Тесная связь нечистой силы с болезнями, расслабляющими тело человеческое, подтверждается и следующими названиями: облом (от ломать) — дьявол, домовой; костолом и кожедер — злой человек, леший, черт; в числе болезненных ощущений известен и лом в костях...
Нечистая сила смерти и недугов изображается в народных преданиях вечно голодною и прожорливою; она с жадностью бросается на людей и животных и питается их кровью и мясом. По народному выражению, больной изнашивается: полнота и крепость его тела как бы поглощаются злобными демонами; напротив, исцелить (восстановить здравие) буквально означает: сделать человека целым...
Нечистые духи в своем древнейшем, языческом значении были существа стихийные, демоны темных туч, опустошительных гроз, вихрей и вьюг, то посылающие на поля и нивы безвременные ливни и град, то задерживающие в облачных горах животворную влагу дождя и карающие землю засухою; в том и другом случае они истребляют жатвы и лишают человека его насущной пищи. К разряду стихийных демонов причислялись нашими предками и болезни, как порождение тех же естественных причин: простуды, сырости, томительного зноя и вредных испарений, разносимых буйными ветрами, и как обычные спутники неурожаев, вслед за которыми в древности всегда шествовал мор. Эпидемические, заразительные болезни слывут на Руси: поветрие, ветроносное язво и мор; с последним названием родственны слова: об-морок — болезненный припадок, мгла, туман и обморочить.
По мнению народа, болезни посылаются по ветру или по воде: "С ветру пришло", "С воды приключилось". Колдун выходит на дорогу и выжидает: не подует ли попутный ветер в ту сторону, где живет обреченный на порчу. Выждавши, он берет с дороги горсть пыли или снегу (смотря по времени года) и бросает на ветер, причитывая: "Ослепи (запороши) у раба такого-то черные очи, раздуй его утробу толще угольной ямы, засуши его тело тоньше луговой травы!" Главные напускные болезни — икота и стрелы. Икотою называют на севере России припадки кликушества; икать во Псковской губ. — кричать, кликать. Силою чародейного слова нечистый дух заклинается на чье-нибудь имя; быстро летит он на крыльях ветра, и первый встречный, кто носит означенное имя, делается его жертвою. Иногда наговаривают икоту на камни или насекомых, и тот, кто запнется о такой камень или проглотит летучую мошку, подвергается истязаниям злого демона. Стрелы (колотье) напускаются так: берется коровий рог, насыпается песком, дресвою, истолченным стеклом, и все это выдувается в отверстие рога с заклятием на известное лицо. Ветер подхватывает песок, дресву и стекло, несет их на человека и производит в нем такое ощущение боли, как будто вся внутренность его была наполнена острою пылью и режущими осколками. Эта чара и самое название болезни напоминают нам: с одной стороны,эпическое выражение "Слова о полку Игореве" о ветрах, веющих с моря стрелами, а с другой — то старинное олицетворение ветров, которое представляло их дующими в рога и трубы. По свидетельству народных преданий, нечистые духи, купаясь в источниках, оскверняют воды и порождают различные недуги. Эти источники первоначально означали дождевые тучи, живительная влага которых иссушается знойным дыханием демонов, губителей земного плодородия; впоследствии же в них стали видеть обыкновенные омуты и болота, заражающие воздух своими тлетворными испарениями в жаркие месяцы лета...
Особенно интересны верования и предания, живущие в нашем народе, о лихорадках. Название это происходит от глагола лихо-радеть, т. е. действовать в чей-нибудь вред, заботиться о ком-нибудь с злобным намерением, с лихостью; другие общеупотребительные названия: лиходейка, лихо-манка от мануть — качать, махать (трясти; чеш. manouti se — метаться; сравни: мановение, помаваю, манья — привидение в виде старой и тщедушной женщины, манить — лгать, обманывать, лихоман, лихоманщик — злой, обманчивый человек). Лихорадок — девять или двенадцать крылатых сестер; они обитают в мрачных подземельях ада и представляются злыми и безобразными девами: чахлыми, заморенными, чувствующими всегдашний голод, иногда даже слепыми и безрукими. Одна из них — старшая — повелевает своими сестрами и посылает их на землю мучить людской род: "Тело жечь и знобить, белы кости крушить". 2 января Мороз или Зима выгоняет их, вместе с нечистою силою, из ада, и лихорадки ищут себе пристанища по теплым избам и нападают на "виноватых"; на заре этого дня предусмотрительные старушки омывают наговорною водою притолки у дверей, дабы заградить вход в избу незваным гостьям. Поверье это условливается теми простудами и ознобами, которые так обыкновенны в холодную пору зимы. Напротив, о весенних болезнях думают, что они запираются на зиму в снежные горы (ад) и сидят там до начала оттепелей; когда же солнце сгонит снег и отогреет землю, они, вслед за вешними испарениями, разбегаются по белому свету тощие, заморенные и с жадностью бросаются на неосторожных. Уже с 25 февраля, по замечанию поселян, опасно предаваться сну с раннего вечера: можно наспать лихорадку. Подобно Смерти и владыке демонов (сатане), лихорадки сидят в подземных вертепах, заключенные в цепи, и вылетают мучить народ только тогда, когда будут сняты с них эти железные оковы, т. е. весною. В Калужской губ. рассказывают, что старшая и злейшая из сестер-лихорадок прикована к железному стулу двенадцатью цепями и в правой руке держит косу, как сама Смерть; если она сорвется с цепей и овладеет человеком, то он непременно умрет. То же предание у юго-западных славян прилагается к моровой язве: три сестры куги, были заключены отцом своим королем в тесные узы и томились в темнице, но впоследствии, будучи освобождены, разбрелись в разные стороны и доныне блуждают по свету. Сбрасывая с себя оковы, лихорадки прилетают на землю, вселяются в людей, начинают их трясти, расслаблять их суставы и ломить кости. Измучив одного, лихорадка переходит в другого; при полете своем она целует избранные жертвы, и от прикосновения ее уст человек немедленно заболевает; кому обмечет болезнь губы, о том говорят: "Его поцеловала лихоманка"...
Лихорадки исчисляют свои названия и описывают те муки, которыми каждая из них терзает больного. Вот эти названия:
1. Трясея (тресучка, трясуница, в областных говорах: потресуха, трясучка, трясца от глагола трясти, в старинных поучительных словах XV—XVI столетья упоминается про "немощного беса, глаголемого трясцу").
2. Огнея, или огненная: "Коего человека поймаю (говорит она о себе), тот разгорится аки пламень в печи", т. е. она производит внутренний жар. Южнославянское название г розница ставит лихорадку в связь с грозовым пламенем, с молниеносными стрелами.
3. Ледея (ледиха), или озноба (знобея, забуха): аки лед знобит род человеческий, и кого она мучит, тот не может и в печи согреться; в областных наречиях даются лихорадке названия: студенка (от студа — стужа), знобуха и подрожье (от слова дрожь), а у чехов — зимница.
4. Гнетея (гнетница, гнетуха, гнетучка от слова гнет, гнести — давить): она ложится у человека на ребра, гнетет его утробу, лишает аппетита и производит рвоту.
5. Грынуша (?), или грудица(грудея) — ложится на груди, у сердца, и причиняет хрипоту и харканье.
6. Глухея (глохня) — налегает на голову, ломит ее и закладывает уши, отчего больной глохнет.
7. Ломея (ломеня, ломовая), или костоломка: "аки сильная буря древо ломит, такоже и она ломает кости и спину".
8. Пухнея (пухлея, пухлая), дутиха или отекная — пущает по всему телу отек (опухоль).
9. Желтея (желтуха, желтуница): эта желтит человека, "аки цвет в поле".
10. Коркуша, или корчея (скорчея) — ручные и ножные жилы сводит, т. е. корчит.
11. Глядея — не дает спать больному (не позволяет ему сомкнуть очи, откуда объясняется и данное ей имя); вместе с нею приступают к человеку бесы и сводят его с ума.
12. Огнеястра и Невея — испорченное старинное нава — смерть или навъе — мертвец, что служит новым подтверждением мифической связи демонов-болезней с тенями усопших. Невея (мертвящая) — всем лихорадкам сестра старейшая, плясавица, ради которой отсечена была голова Иоанну Предтече (Согласно библейской легенде, Иоанн Предтеча (т. е. предвестник Иисуса Христа) пал жертвой злобы галилейского даря Ирода Антипы и танцовщицы Иродиады, которых он обличал за незаконную связь.); она всех проклятее, и если вселится в человека — он уже не избегнет смерти.
В замену этих имен ставят еще следующие: сухота (сухея) от которой иссыхает больной, аки древо, зевота, блевота, потягота, сонная, бледная, легкая, вешняя, листопадная (т. е. осенняя), водяная и синяя (старинный эпитет огня и молнии). Ясно, что с лихорадками народ соединяет более широкое понятие, нежели какое признает за ними ученая медицина; к разряду этих мифических сестер он относит и другие недуги, как, напр., горячку, сухотку, разлитие желчи и проч.: знак, что в древнейшую эпоху имя "лихорадки", согласно с буквальным его значением, прилагалось ко всякой вообще болезни. Тождество внешних признаков и ощущений, порождаемых различными недугами, заставляло давать им одинаковые или сходные по корню названия и таким образом смешивать их в одно общее представление злых, демонических сил; сравни: огнея — лихорадка и горячка, называемая в простонародье огневицею и палячкою; в некоторых местностях России, вместо сестер-трясавиц, рассказывают о двенадцати безобразных старухах-горячках; огники — красная сыпь по телу, золотуха — в областных говорах огника (огница) и красуха, изжога — боль под ложечкой. Эпитеты: красный, желтый, золотой — исстари служили для обозначения огня, и в заговорах лихорадка называется не только желтухою, но и златеницею...
Повальные болезни, от которых гибнут целые поколения людей и животных, отождествлялись в языке и верованиях с представлением смерти: измереть — исхудать, исчахнуть, подтереть — завянуть, засохнуть, отощать, замирать — захворать, морный — тощий (заморенный), морная корова — падеж рогатого скота, помора — отрава; пропадать —болеть, чахнуть, пропадина или пропастика — мертвечина, стерво, пропасть — адская бездна, погибель, смерть и гниющий труп. Когда туманные испарения и гнетущая духота зноя отравляют воздух — внезапно появляется зараза и, направляя путь свой чрез населенные местности, похищает жертвы за жертвами. В качестве богини смерти и согласно с грамматическим родом присвоенных ей названий, зараза олицетворяется в образе мифической жены; и хотя рядом с этими названиями у нас, чехов и поляков употребляется еще слово жор, но в поэтических сказаниях оно уступает женским формам. Завися от воздушных перемен и климатических условий, моровая язва, как и другие болезни, признавалась существом стихийным, шествующим в вихрях ("поветрие") и владеющим огненными, молниеносными стрелами. Свидетельство Гомера о моровых стрелах Аполлона совпадает с славянскими преданиями: общепринятые в русском языке названия зараза (от разить) и язва указывают на раны, наносимые острым оружием болезни; кроаты представляют чуму (гиргу) злою фурией, легкою как молния; по рассказам болгар, она — вечно озлобленная, черная жена, посылающая на людей и животных огненные, ядовитые стрелы. Болгары видят в ней существо, родственное с облачными девами, и называют ее чума-самодива или юдо-самовила. Приближаясь к городу или деревне, Чума точит свои стрелы, и кому случится на ту пору выйти в поле — в того и стреляет; а затем уже входит в самое село или город. Оттого первые заболевающие страшным недугом бывают приезжие и странники. Наравне с эльфами и ведьмами Чума может оборачиваться кошкою, лошадью, коровою, птицею и клубком пряжи; где она покажется — там начинают выть собаки, туда прилетает ворон или филин и, садясь на кровлю, криком своим предвещает беду. Чехи и малорусы рассказывают, что Смерть, принимая вид кошки, царапается в окно, и тот, кто увидит ее и впустит в избу, должен умереть в самое короткое время. Южные славяне уверяют, что во время чумы петухи хрипнут и замолкают, а собаки теряют способность лаять и только ворчат и с визгом бросаются на ужасную гостью. Один крестьянин спал на стогу сена; пробужденный шумом, он увидел огромную женщину, в белой одежде (в саване), с растрепанными волосами, которая бежала от стаи собак; она вскочила на лестницу, приставленную к стогу, и стала дразнить собак ногою. Крестьянин узнал Чуму, подкрался сзади и столкнул ее с лестницы; Чума погрозила ему пальцем и исчезла, и хотя он остался в живых, но с той самой минуты беспрестанно дергал ногою. Выше было объяснено, что громовые раскаты уподоблялись крику петуха и колокольному звону и что вследствие этих метафор петух возгласом своим прогоняет нечистую силу, а от звона колоколов рассеиваются темные тучи и устрашенные демоны, эльфы и ведьмы спешат сокрыться в дальние страны. Вместе с этим петуший крик и колокольный звон признаны были за целебное средство против болезней, особенно против лома в руках, падучей, холеры и вообще всякого поветрия. Сверх того, в завывании грозовой бури арийские племена слышали лай небесных псов, сопутствующих богу громов и вихрей в его дикой охоте; по народному убеждению, собака одарена чрезвычайно тонким чутьем и острым зрением; она узнает присутствие нечистых духов, чует приближение Чумы и Смерти и кидается на них, как верный страж домохозяина и его семьи. Когда собака воет — это считается знаком, что она видит Смерть. Отсюда возникли поверья, что Чума боится собак, что у петухов она отымает голос и вырывает хвосты и что там, где владычествует нечистая сила смерти — зараза, уже не раздаются ни петушиный крик, ни собачий лай; согласно с этим, малорусские заговоры отсылают сестер-лихорадок и другие болезни в те пустынные страны, где не слышится ни пения петухов, ни лая собак, ни церковного звона, т. е. собственно в царство туч, оцепененных холодным дыханием зимы (в вертепы северного ада). Рассказывают также, что Чума не любит кошек и при удобном случае убивает их; эта враждебность объясняется страхом перед богиней Фреею, которая выезжала на кошках, участвовала в дикой охоте и поборывала демонов. В давнее время, по словам болгар, кошка была старшею сестрою Чумы и часто била ее; теперь же, при появлении моровой язвы, кошки прячутся от нее в печках. Любопытно, что чехи, для излечения детей от сухотки, купают их в ключевой воде вместе с собакою или кошкою. В большей части земель, заселенных славяно-литовским племенем, моровая язва олицетворяется женщиною огромного роста (иногда на ходулях), с распущенными косами и в белой одежде; она разъезжает по свету в повозке или заставляет какого-нибудь человека носить себя по городам и селам; своею костлявою рукою она веет на все на четыре стороны красным (кровавым) или огненным платком — и вслед за взмахом ее платка все кругом вымирает. Был жаркий день; русин[159] сидел под деревом. Приблизилась к нему высокая женщина, закутанная в белое покрывало. "Слыхал ли ты про Моровую язву? — сказала она. — Это — я сама. Возьми меня на плечи и обнеси по всей Руси; не минуй ни одного села, ни города; я должна везде заглянуть. Кругом тебя будут падать мертвые, но ты останешься невредим". Затем она обвилась длинными, исхудалыми руками вокруг шеи русина, и бедняк пошел со своею страшною ношею, не чувствуя ни малейшей тяжести. На пути лежало местечко, где раздавалась музыка и весело, беззаботно пировал народ; но Чума повеяла своею хусткою[160] — и веселье исчезло: стали рыть могилы, носить гробы, кладбище и улицы наполнились трупами. Где ни проходил русин, всюду богатые города и деревни превращались в пустыни; бледные, дрожащие от страха жители разбегались из домов и в мучительных страданиях умирали в лесах, полях и по дорогам. Наконец добрался он до своего родного села; здесь проживали его старушка мать, любимая жена и малые дети. Отчаянье и жалость овладели душою несчастного; он решился утопить и себя и Чуму, ухватил ее за руки и, обойдя село, бросился вместе с нею с крутого берега в волны Прута; сам он утонул, но Моровая язва не могла погибнуть: с легкостью стихийного существа она поднялась из воды и, напуганная отважною смелостью человека, убежала в лесистые горы...
В Литве чуму и вообще всякую повальную болезнь называют Моровой девою; показываясь в деревне, она обходит дома, просовывает руку в окно или дверь и машет красным платком, навевая на хозяев и домочадцев смертельную заразу. При ее появлении жители запираются в своих избах, не открывают ни окон, ни дверей, и только совершенный недостаток припасов и голод заставляет их нарушать эту предосторожность. В старые годы жил-был шляхтич; решившись пожертвовать собою для общего блага, он взял саблю и сел у нарочно открытого окна; как только Моровая дева протянула в окно руку, шляхтич ударил саблею и отрубил ей кисть. Сам он умер, померло и его семейство, но с той поры язва уже не показывалась в этой местности. Подобное же предание уцелело и в памяти русского народа: храбрый казак отрубил руку ведьмы, которая действовала так же губительно, как Моровая язва; в глухую полночь являлась она вся в белом, отворяла окно избы, просовывала руку с кропилом и начинала кропить в разные стороны, а к утру вымирала вся семья...
По своему стихийному характеру, богиня смерти и Чума роднятся в преданиях литовцев с облачной женою — лаумой, о которой уверяют, что она рядится в различные одежды: если лаума надевает зеленое платье — это предвещает хороший урожай — роскошную зелень на лугах и нивах; если она показывается в красном платье — это предвещает жестокую войну — убийства и пролитие крови, а если в черном — это знаменует приближение голода и мора. Поляки уверяют, что Моровая дева разъезжает в двухколесной повозке; а лужичане рассказывают о невидимой колеснице, которая с грохотом носится по улицам в двенадцать часов ночи, и в том доме, возле которого она остановится, непременно кто-нибудь да сделается добычею смерти. Поезд Чумы в Подолии называют гомин — слово, означающее: громкий говор, неистовые звуки, шум, завывание бури. Потеряв во время моровой язвы жену и детей, русин покинул свою хату и ушел в лес; к вечеру он развел огонь и заснул. В самую полночь его разбудил страшный шум: издали неслись нестройные, дикие клики, слышались дудки и звон бубенчиков. Голоса приближались, и вскоре видно было, что по дороге тянется гомин. На высокой черной колеснице ехала Чума, сопровождаемая толпою чудовищ, стаею сов и нетопырей. Свита ее с каждым шагом более и более умножалась, потому что все, что ни попадалось на пути, даже камни и деревья превращались в чудовищные привидения и приставали к поезду. Когда гомин поравнялся с разведенным костром, Чума затянула адскую песню. Подолянин хотел было с испугу ударить в ближайшее к нему привидение топором, но и топор вырвался из его рук, превратился в живое существо на козьих ногах и понесся вслед за демонским сборищем. Подолянин упал без чувств, и когда очнулся — на небе уже сияло солнце; платье его было изорвано в лоскутья, а топор лежал переломленный. Таким образом, Чума, подобно древним богиням, восседает на колеснице, и поезд ее сопровождается бурею и привидениями, т. е. злыми духами и тенями усопших...
Облачные жены и девы
Прародительское племя ариев называло дождь небесным молоком; вместе с этим дождевые облака рисовались его фантазии сосцами дойной коровы и грудями женщины-матери. Понятие "ваздояющей" равно соединялось и с коровою, и с мамкою, кормилицею; а молния, которая сосет облачные груди, вытягивает из них молоко-дождь, получила название слюка-сосуна... Представление туч материнскими грудями засвидетельствовано поэтическими преданиями индусов; следы того же древнего воззрения встречаем и у других индоевропейских народов. Трогательная сербская песня рассказывает, что, когда в стены города Скадра была замурована молодая жена — она просила зодчего:
Оставь мне оконцы для грудей, Выпусти мои белые груди; Когда принесут моего бедного Йована — Пусть пососет груди. Просьба ее была исполнена. Итак, заложили ее в стену; Приносили к ней ребенка в колыбели — И кормила она его целую неделю, А потом хотя потеряла голос, Но все давала пищу своему дитяти И кормила его целый год. Как было тогда, так и осталось: И теперь идет от нее питание — Ради чуда и ради исцеления Женам, у которых нет молока.Говорят, прибавляет Вук Караджич[161], "и доныне из тех оконцев, откуда выказывались сосцы, течет некая влага, которая оседается внизу стены, как известь, и жены, не имеющие молока или с больными грудями, носят ее (при себе) или пьют в воде". Прототипом этих сказаний был миф о небесных, облачных грудях, дарующих неиссякаемое млеко дождя; припомним, что, на ряду с означенным представлением, тучи уподоблялись еще твердым скалам и возводимым на небе городам и башням. В разных местах из каменных стен и утесов точится, по народному поверью, живительная вода или целебное масло.
Олицетворяя явления природы в живых, человеческих образах, предки наши пришли к убеждению, что эти облачные груди принадлежат тем небесным нимфам, которые льют на землю дождевые потоки, и в самых облаках летнего периода стали признавать прекрасных полногрудых жен. Такой взгляд разделялся всеми народами индоевропейского происхождения. Индусы видели в облаках и тучах не только толпы демонов, но и божественных водяных жен, обитающих в воздушном океане, которые из своих материнских сосцов поят и питают землю дождем. Этих мифических жен они называли матерями, супругами, родильницами и почитали их возлюбленными подругами богов. С ними родственны апсарасы — небесные девы, населяющие воздушную область между землею и солнцем; имя это означает: "не имущие образа" или "шествующие по водам", Облака и туманы отличаются необыкновенно легкою подвижностью, беспрестанным изменением своих форм, что и дало повод фантазии представлять их в разнообразных олицетворениях и породило многочисленные басни о их превращениях. По своей облачной, туманной природе, апсарасы любят превращаться и нередко являются коровами, несущими в своих сосцах обильное молоко; в этом виде их настигают и доят грозовые гении —¦ гандарвы...
В Баварии темное, дождевое облако называют: бабка с щёлоком (кипучим дождем); у чехов об осенних туманах, когда они подымаются вверх, выражаются: "бабы встали". В летнее время бабы или Мраченка (от mгаcno — черная туча) выходят из колодцев и возносятся к облакам, неся с собой воду, которою потом орошают землю, и тем самым даруют урожай. Отсюда объясняется старинная русская поговорка: "Шла баба из-за моря, несла кузов здоровья", т. е. облачная жена несет из воздушного океана живую, целящую воду — дождь; по народному поверью, эта спасительная вода скрывается на зиму в крепких затворах и только в марте месяце, прилетая из-за моря, легкокрылые птицы, как воплощение ветров, приносят ее из неволи. Когда моют ребенка в бане, то при этом причитывают: "Шла баба из-за морья, несла кузов здоровья: тому-сему кусочек, тебе весь кузовочек!", а затем, окачивая водою, приговаривают: "С гуся вода, с тебя худоба; вода б к низу, а ты бы к верху!" (подымался, рос). Когда в марте месяце неожиданно завернут холода и вьюги и оцепенят дождевые тучи, тогда по выражению сербов, наступают бабины уковы, т. е. облачные жены снова попадают в зимние оковы. Но, кроме дождя, те же мифические жены шлют на землю град и снег. По чешскому поверью, град падает из тех туч, на которых восседают ведьмы; у нас в начале зимы, как только покроет землю первый снег, крестьянские дети делают из него бабу, т. е. катают снежный шар.
Обитая в дождевых тучах — небесных источниках и морях, облачные нимфы получили прозвание водяных или морских жен и дев. Впоследствии, когда утратилось ясное понимание старинных метафор и когда поэтические сказания о небесных потоках были низведены на землю, эти жены и девы покинули воздушные области и овладели земными водами, хотя и удержали при этом многие любопытные черты своего первоначального происхождения. Так явились в Греции наяды, нереиды, в Германии никсы, у нас и чехов — русалки. Русалка означает водяную деву; во многих славянских землях (в России, Польше, Богемии, Сербии, Болгарии) встречаем родственные с этим именем названия источников, рек и прибрежных стран, что заставляет предполагать в них древнейший корень, служивший для обозначения воды вообще. По рассказам поселян, реки (Днепр, Десна, Сейм, Сула и др.), криницы, озера и моря населены русалками. Древность этого верования засвидетельствована Прокопием[162], который в своей хронике замечает о славянах, что они обожали речных нимф. Смотря по тому, где живут водяные жены и девы, их называют водянами (водявами, воденицами) и морянами; первые обитают в реках, озерах и колодцах, а последние — в море. Они любят селиться обществами и по преимуществу в пустынных местах — в омутах, котловинах и под речными порогами, устраивая там гнезда из соломы и перьев, собираемых по деревьям во время Зеленой недели. По другим поверьям, у них есть подводные хрустальные чертоги, блестящие внутри (подобно волшебным дворцам драконов) серебром, золотом, алмазами, яхонтами, жемчугом, разноцветными раковинами и кораллами; дневное солнце сияет и светлые волны с шумом катятся через прозрачные кровли и стены этих роскошных чертогов. У чехов vodna panna, высокая, красивая, но бледнолицая, имеет жилище под водою, сделанное из чистого серебра и золота и украшенное розами и перлами. Такой же богатый дворец, по литовскому преданию, был у царицы Балтийского моря Юраты. Выходя на поверхность вод, русалки плавают, плещутся, играют с бегучими волнами или садятся на мельничное колесо, вертятся вместе с ним, любуясь брызгами, а потом бросаются вглубь и с возгласом: куку! ныряют под мельницей. Эти черты принадлежат русалкам наравне с водяным дедом, под властью которого они и состоят по народному убеждению. Как водяной, так и русалки известны своими проказами: сидя в омутах, они путают у рыбаков сети, цепляют их за речную траву, ломают плотины и мосты и заливают окрестные поля, перенимают заночевавшее на воде стадо гусей и завертывают им крылья одно за другое, так что птица не в силах их расправить; о морских русалках в Астраханской губ. рассказывают, что, появляясь из вод, они воздымают бурю и качают корабли. Что колодцы, реки и моря, населенные русалками, составляют не более как смутное воспоминание о небесных дождевых источниках, это подтверждается и тем, что, наряду с водами, фантазия населяет ими горы и леса (старинные метафоры туч) и таким образом роднит их не только с водяными, но и с горными и лесными, т. е. грозовыми, духами. Предание о горах, как обиталищах русалок, почти позабыто на широких равнинах Руси, потому что отсутствие горных возвышений лишило это древнемифическое представление необходимой для него обстановки и не позволило ему развиться в целый ряд поэтических сказаний, какие встречаем у других славян. Тем не менее в "Абевеге русских суеверий"[163] записано, что русалки живут не только в реках, но и в горах и любят бегать по их скатам. В Галиции рассказывают, что они пляшут и веселятся на горах, а тождественные с ними мавки обитают на горных вершинах; чехи называют высокие скалы бабьи горы. Эти бабьи, русальи горы слились в народном воображении с возвышенными, нагорными берегами рек. Паисьевский сборник и рукописи новгородского Софийского собора упоминают о требах, поставляемых рекам, источникам и берегиням. Древнейшее значение слова брег (берег) есть гора, а потому название берегиня могло употребляться в смысле ореады, горыни и вместе с тем служить для обозначения водяных дев, блуждающих по берегам рек и потоков. В некоторых местностях рассказывают о лесных русалках, и вообще весною, выходя из глубоких вод, они разбегаются по соседним лесам и рощам и и совершенно смешиваются с лесунками: так же любят качаться по вечерам на гибких ветвях деревьев, так же неистово хохочут, так же защекочивают на смерть и увлекают в омуты неосторожных путников, завидя которых — манят к себе ласковым голосом. Вероятно, в связи с качаньем леших и русалок на древесных ветвях возник старинный обычай ставить при начале весны (на Светлой и троицкой неделях) качели как необходимую принадлежность тогдашних игр, — обычай, строго осуждаемый моралистами допетровской эпохи. До сих пор крестьяне свивают на троицу ветви двух смежных берез, чтобы, цепляясь за них, могли качаться русалки. Подобно лешим, русалки носятся по рощам и бьют в ладоши или, свернувшись клубком, с громким хохотом катаются по траве и дорогам, и хохот их далеко раздается в глубине лесной чащи; волоса у них обыкновенно зеленые или увенчанные зелеными венками; чешская vodna panna носит легкую зеленую одежду и белое покрывало, усыпанное перлами. На Днепре есть старый густой лес, называемый гаем русалок.
Как владетельницы источников живой воды, все вызывающей к бытию, всему дарующей красоту, молодость и силы, русалки вечно юны и так же прелестны собою, как эльфы, с которыми у них много общего, близкого, родственного: ибо в сказаниях о тех и других лежат одни мифические основы. Лицо русалки исполнено несказанной, пленительной красоты, всегда распущенные русые, черные или зеленые косы ниспадают по спине и плечам ниже колен, стан — стройный, глаза — голубые или черные, с длинными пушистыми ресницами; но вместе с этим, как в существе стихийном, во всем ее теле замечается что-то воздушно-прозрачное, бескровное, бледное. Сходно с эльфами, русалки большею частью представляются семилетними девочками; есть между ними и взрослые девы, с полными, хорошо развитыми и белоснежными грудями, но это — несчастные утопленницы, осужденные по смерти быть русалками.
Кто увидит русалку и услышит манящие звуки ее голоса, поддается неодолимому обаянию ее красоты, кидается в волны и тонет — при злобном хохоте водяных дев. С русалками могут купаться одни ведьмы.
Мы знаем, что массы сгущенных облаков сравнивались с разбросанными по воздуху, всклокоченными и спутанными волосами, которые во время грозы расчесывал бог ветров и молний. Эта поэтическая мысль нераздельна со всеми олицетворениями облачных и грозовых явлений природы: длинные, косматые волоса даются и домовым гениям, лесным и водяным духам, ведьмам и трясавицам. С распущенных волос русалки беспрерывно сочится вода, т. е. по первоначальному значению — с густых прядей ее облачной косы льются дождевые потоки. Поселянам случалось видеть, как русалки, сидя у колодца, на уединенном берегу реки, озера или на мельничном колесе, расчесывали гребнем, сделанным из рыбьей кости, свои русые или зеленые косы, с которых целым потоком струилась неиссякаемая вода. В Новгород-северском уезде есть две криницы, Заручейская и Сухомлинская, пользующиеся в народе особенным уважением. На срубах этих колодцев каждый год на Зеленой неделе, при утреннем рассвете, сидят прекрасные девы, с распущенными русыми косами, и расчесывают их гребнем. Девы эти называются криницами и русалками. В том же уезде сохраняется предание о ручье Буковище. В его водах потонула когда-то девочка, у которой мать была ведьма; опечаленная мать стала клясть ручей и бросила в него горячую сковороду. Проклятие было так сильно, что нимфа этих вод удалилась с прежнего места на новое: красною девицею, в плахте, монистах и с растрепанной косою, пошла она из Юрнавки в Бялицу и так горько плакала, "аж дуброва стонала". Окрестные жители видели, как она села у Бялицы на кринице, расчесала свою косу, бросилась в воду и исчезла. Если при русалке есть гребень, то она может затопить любое место, расчесывая свои волнистые локоны; но зато если волоса ее обсохнут — она немедленно умирает, т. е. с окончанием грозы и дождевых ливней, с появлением ясного, все иссушающего солнца облачные девы исчезают с просветленного неба. Вот почему русалки боятся отходить далеко от берегов реки или озера, не захватив с собою гребенки...
Жизненная деятельность стихийных духов, или, прямее — самой природы, проявляется в летнюю половину года. Пока лед оковывает воды — водяной покоится тихим сном, и пробуждается не прежде вскрытия рек и озер; лешие проваливаются на зиму в подземное царство и выходят оттуда на свет божий при первых начатках весны. Точно так же и русалки исчезают на все время холодной и суровой зимы. В Малороссии уверяют, что они показываются, как только разольются по лугам весенние воды, распустятся вербы и зазеленеют поля, и остаются в этом (земном) мире до глубокой осени. Четверг, как день, посвященный богу-громовнику, владыке всех облачных духов и дев, получил особенно важное значение в преданиях о русалках. Языческий праздник в честь русалок совершался одновременно с праздником весны, когда леса уже оделись листьями, поля украсились цветами, а нивы — хлебными травами. В христианскую эпоху он приурочен к троицыну и духову дням, причем само название духова дня наводило непросвещенный народ на мысль о чествовании стихийных духов и душ усопших предков. Несмотря на то, народная память не изменила старине и доныне связывает праздник русалок с Перуновым днем, начиная его с четверга предшествующей троице так называемой семицкой недели, которая еще в VII веке была известна под именем русальной. В Киевской летописи под 1170 годом сказано: "Володимеру бысть болезнь крепка, ею же скончался мая в 10-е русальное (-ныя) недели в понедельник"; а троицын день приходился в том году 16 мая. На Украине же четверг на троицкой неделе называется русальчин велик день. Старинные памятники не раз упоминают о русальях, как о бесовских, богопротивных и подлежащих церковному запрету игрищах... Игрища, происходившие на русальную неделю, сопровождались плясками, музыкой и ряженьем, что служило символическим знамением восстающих с весною и празднующих обновление жизни грозовых и дожденосных духов. Принадлежа к разряду этих духов, русалки сами облекались в облачные шкуры и смешивались с косматыми лешими и чертями.
С тем же двояким значением: а) весеннего праздника и б) вообще народного игрища — упоминаются русальи и в памятниках других славян...
Май и июнь месяцы — пора полного развития творческих сил, пора явления облачных жен и дев, шлющих земле плодородие; в шуме грозы выступают на небо прекрасные нимфы, начинают свои легкие пляски, поют громкие песни (быстрый полет туч и завывание бури) и, сочетаясь с богом-громовником, орошают нивы благодатным семенем дождя. Отсюда возникли рассказы о плясках, песнях и брачном веселье русалок. На Зеленой, или русальной неделе они празднуют свои свадьбы, плещутся в водах, бегают по лугам и рощам, бьют в ладоши, аукаются, водят хороводы, пляшут и поют песни; тихие, ласкающие слух звуки ветров принимаются за их отдаленные напевы, а плеск воды приписывается их пляскам. Крестьянские девушки, приходя в лес, бросают русалкам зеленые венки с просьбою доставить им богатых женихов; а по венкам, кинутым в воду, они гадают о замужестве и будущем своем житье. И после, в продолжение всей петровки, русалки выходят по ночам из воды и при свете месяца предаются танцам на избранных для того местах, называемых игравицями. В Малороссии и Галиции рассказывают, что там, где танцуют русалки и мавки, видны на полях круги и "трава ще краще росте и заедно як рута зеленее". Нередко они заманивают к себе овчара (собственно: пастыря небесных стад) с рожком или сопелкою, заставляют наигрывать во всю ночь и пляшут под его музыку; на том месте, где овчар бьет ногою такт, остается на земле ямка. Черты эти общи русалкам с эльфами и феями. В великорусских губерниях ходит рассказ о том, как русалка являлась невидимкою к молодому промышленнику и танцевала под звуки его гуслей. Та же любовь к пляскам приписывается и лесным женам; по рассказам чехов, они охотно отдаются этому веселью в полдень и ночью при свете месяца. Была одна резвая девушка, дочь вдовы. С утра уходила она в лес пасти козье стадо, и пока козы щипали траву — пряла лен. Раз, увлекаемая своим веселым и живым характером, стала она плясать, подняв над головою руки. Это было в полдень; вдруг — словно из земли выросла — явилась перед ней прекрасная дева в белой и тонкой, как паутина, одежде, с золотыми волосами до пояса и с венком из полевых цветов на голове. Она пригласила пастушку танцевать вместе; "Мне хочется тебя поучить!" — прибавила красавица, и обе пустились выказывать свое искусство под чудную музыку, которая неслась с древесных ветвей: то были звуки соловьев, жаворонков, малиновок и других певчих пташек. Ножки пляшущей лесной девы, как ноги немецких эльфов, были так быстры и легки, что даже не мяли травы, а стан ее гнулся будто ивовая ветка. Так плясали они от полудня до вечера. Когда лесная дева исчезла, пастушка хватилась за свою пряжу; но было уже поздно, она не успела окончить своего урока и воротилась домой, крепко опечаленная. Надеясь завтра наверстать потерянное время, она скрыла от матери то, что с нею случилось. Но и на следующий день явилась лесная дева, и они опять проплясали до самого вечера. По окончании танцев, лесная дева заметила печаль своей подруги и помогла ее горю: взяла лен, обмотала вокруг березы, тотчас спряла его в тонкие нити и затем исчезла — будто ветром ее спахнуло... В третий раз лесная дева подарила пастушке березовых листьев, которые потом превратились в золото...
Тот, кто ступит на холст, разостланный русалками, делается расслабленным или хромым; а кто не чтит русальной недели, у того они портят домашний скот и птицу. В светлые, лунные ночи наши русалки, выказываясь из вод, поют чарующие песни, которым не в силах противиться ни один смертный. Когда раздадутся их звуки, странник бросается в воду, увлекаемый столько же обаянием их красоты, как и гармонией сладостного пения; пловец спешит направить к ним свою ладью и также гибнет в бездне, где схватывают его водяные девы...
Злые ветры и ливни — дело русалок. Чтобы колосья налились, вызрели и дали хороший урожай, нужна погода тихая, теплая, с умеренными дождями; а потому в некоторых местностях России совершается обряд изгнания или проводов русалок. Следующее за троицей воскресенье в Спасске рязанском называется русальным заговеньем. На другой день там приготовляют соломенное чучело, одетое в женские уборы и представляющее русалку; потом собирают хоровод, затягивают песни и отправляются в поле; в середине хороводного круга пляшет и кривляется бойкая женщина, держа в руках соломенную куклу. В поле хоровод разделяется на две стороны: наступательную и оборонительную; последняя состоит из защитниц русалки, а первая нападает и старается вырвать у них чучело; при этом обе стороны кидают песком и обливают друг друга водою. Борьба оканчивается разорванием куклы и разбрасыванием по воздуху соломы, из которой она была сделана. После того возвращаются домой и говорят, что проводили русалок. В Тульской губ. подобный обряд совершается на Зеленой неделе: женщины и девицы идут толпою на засеянные поля и ловят русалку, которая, по народному сказанию, ворует тогда хлеб. Связавши из соломы куклу и нарядив ее в женское платье, уверяют, что это и есть пойманная русалка; с песнями и плясками несут ее к реке и бросают в воду. В уездах Ефремовском, Епифановском и Новосильском накануне троицы (в "клечальную" субботу) молодежь собирается вечером на полянах и бегает, размахивая помелами, с криками: "Догоняй, догоняй!" Иные утверждают, что собственными глазами видели, как гонимые с полей русалки убегали в лес с плачем и воплями. В некоторых местностях около того же времени бывают проводы Весны, и в соломенной кукле видят изображение именно этой дожденосной богини. В полете весенних гроз исчезают облачные девы; разметаемые помелом-вихрем, они убегают с неба или, будучи размыканы, разорваны на части, тонут в дождевых потоках, и вслед за тем наступают летние жары. Выпроваживая русалок, земледельческое население думало отстранить от своих нив опустошительные бури и безвременные ливни, от которых хлеб ложится наземь, ломается, мокнет и не вполне вызревает или уже созрелый осыпается и прорастает без всякой пользы для человека...
Русалкам соответствуют сербские вилы и болгарские самовилы,: это только другое прозвание, данное облачным девам по связи их с молниями и вихрями. В древности оно, вероятно, было известно и русским славянам, но потом позабыто, вытесненное более употребительным именем русалок, тогда как в преданиях сербов и болгар, наоборот, русалки уступили место вилам. Слово вила образовалось от глагола вить, вью — плести, скручивать, соединять пряди в одну нить или вервь и указывает на мифическую деву, которая прядет облачные кудели и тянет из них золотые нити молний. Молния извивается — вьется огненной нитью или змейкою, мелькает искривленной линией; глагол вьется прилагается и к полету птиц, и в народных загадках (русской и сербской) ласточка, отличающаяся особенно быстрым и извилистым полетом, называется вило. Так как видимая глазом кривизна наводила на понятие нравственной кривды, хитрости и лукавства, составляющих самую существенную сторону в характере эльфов, то отсюда: вилавый — хитрый, лукавый, вила — юла, человек увертливый — виляющий (вилющий). Стремительные вихри, подымая столбом пыль или снег (вьюга, у болгар: вилни ветерушки), крутят их словно веревку; а неся на своих крыльях облака и тучи, завивают их в кудри и сбивают вместе, как спутанную пряжу или всклокоченные волоса. Рядом со словами: куделя (лен, приготовленный для пряжи), кудло, кудеря, в областном говоре употребляется глагол куделится — метет вьюга; вихор, вихры (чуб, пряди волос) одного происхождения со словом вихрь (вихорь). В народных сказаниях вилы изображаются не только нимфами, управляющими полетом облаков и молний, но и вещими пряхами...
Подобно русалкам, вила — существо, родственное светлым эльфам, и потому данное ей имя сопровождается постоянным эпитетом белая. Этот эпитет, указующий на блеск, сияние и красоту, также тесно сливается со словом "вила", как в нашем эпическом языке прилагательное красная со словом "девица", и вместе с тем свидетельствует о тождестве вил с белыми женами германцев, чехов и моравов. Вилы представляются юными, прекрасными, бледнолицыми девами, в тонких белых одеждах и с длинными косами, распущенными по спине и грудям; в этих косах — их сила и даже самая жизнь; тело у них нежное, прозрачное, легкое, как у птицы, очи блистают подобно молнии, голос — приятный, сладкозвучный. По свидетельству хорутанских сказок, косы у вил золотые, ниспадающие до земли, одежда не только белая, но и золотая, с серебряным поясом. Беда человеку, который прельстится вилою! ему опостылит весь мир, и жизнь будет не в радость. Хваля красоту девицы, сербы и черногорцы сравнивают ее с вилою: "Она хороша, как горная вила!" Наравне с русалками вилы обитают на горных вершинах, в лесах и воде и потому различаются на горных, лесных и водяных...
Как молниеносный эльф, вила рождается от горы-тучи и, вскормленная росою (дождевою влагою), убаюкивается ветром. Поселяне убеждены, что вилы могут насылать бури, дожди и град; подымая буйные ветры, они ломают растущие по горам деревья, волнуют пучины и топят лодки и пловцов; во время морской бури случается видеть, как они бегают по верхушкам волн и своими ногами пенят встревоженные воды. По свидетельству сербских песен, вилы носятся по воздуху, между небом и землею, собирают летучие облака и любуются на молнии...
Тех же мифических дев болгары знают под именами: а) самовила и б) самодива; первая преимущественно обитает в горах, а последняя — в реках и колодцах. Оба имени сопровождаются придаточным само и напоминают наши эпические выражения: ковер-самолет, скатерть-самобранка, топор-саморуб и др. Самовила (самовьющая, самопряха) существенно ничем не отличается от сербской и словенской вилы; а самодива должна быть поставлена в сродство с дивами-великанами и змеями-тучами. Как этим последним присваивается прозвание юдо, так присваивается оно и самовилам ("юдо-самовило!"). Юды, по рассказам болгар, — жены с длинными косами, живут в глубоких реках, озерах и водоворотах; выходя на берег, они любят расчесывать волосы, а если завидят кого в воде, то оплетают и удавливают его своими косами. В песнях самовилам даются постоянные эпитеты: самогорска, прекуморска; у них — славные русые косы, они водят хороводы, вступают с юнаками в побратимство, помогают им в нужде и спасают их от преждевременной смерти; подобно сербским вилам, они созидают облачные города.
Наравне с эльфами, лесными и водяными духами самодивы признаются за падших светлых ангелов; низвергнутые с неба, они населили воды, а иные остались в воздухе и по ночам нарушают тишину своими чудными звуками, которые слышатся то как отдаленная музыка, то как девичьи песни, то как скрип бесчисленных колес. Самодивы поют и пляшут по лугам и оставляют на траве большие круги, состоящие из узкой, убитой их ногами дорожки. Если человек, заслыша их песню, осмелится приблизиться к самодивскому хороводу, они или убивают его, или навсегда лишают языка и памяти. На связь их с губительными болезнями указывает и то, что Моровая дева причисляется болгарами к самодивам и юдам-самовилам. В качестве облачных нимф они влияют на земное плодородие: когда нивы стоят еще зеленые, в них, по народному поверью, прячутся самодивы и орисницы; последние колосья, оставляемые на полях жнецами, называются божя брада и считаются достоянием самодив; кто поскупится и не оставит для них колосьев на своей полосе, у того вихри отнимут ноги; когда приезжают на мельницу с зерновым хлебом, то часть смолотой из него муки бросают в воду самодивам, а муку, которая, подымаясь пылью, осаживается по стенам мельницы, называют дяволски хлеб...
Летучие облака предки наши уподобляли птицам; под влиянием этого уподобления облачным девам приписана была способность превращаться в голубя, утку, гуся и всего чаще в лебедя. Собственно на этих птицах фантазия остановилась потому, что голубь издревле посвящался громовнику, а гусь, утка и лебедь — птицы водяные; облачные же девы (как известно) признавались нимфами рек и источников и постоянно плавали и купались в их водах. Сверх того, на сближение облачной девы с лебедем наводил сам язык. Эльфы, русалки, вилы и полудницы, как духи, вооруженные молниеносными стрелами, являющиеся весною под легкими покровами облаков, согретых и озаренных яркими лучами солнца, представлялись существами светлыми, блестящими, белыми. Что же касается лебедя, то он получил присвоенное ему имя по белоснежному цвету своего пера. Так возникли сказания о девах-лебедях, и тем легче было сочетать эти различные представления, что слово лебедь в народном говоре большею частью употребляется в женском роде...
Сербские вилы оборачиваются и прилетают лебедями, а у наших русалок, по народному поверью, пальцы на ногах соединены перепонкою, как у гуся, что заключают по их следам, какие остаются на мокром песку у берегов рек и источников. Следы эти можно видеть только тогда, когда, застигнутые врасплох, русалки поспешно бросаются в воду; обыкновенно же они прежде, чем покинуть берег, взметают песок и тщательно сглаживают свои ступни...
Более живые воспоминания о лебединых девах сохранились в народных сказках. Особенно интересною представляется нам сказка о Морском царе и его премудрой дочери: юный Иван-царевич отправляется в подводное царство, приходит к морю и прячется за кусты. На ту пору прилетели туда двенадцать голубок или уточек, сбросили свои крылышки (или перышки), обернулись красными девицами и стали купаться: это были водяные красавицы, дочери Морского царя. Иван-царевич подкрался потихоньку и взял крылышки Василисы Премудрой. Девицы испугались, похватали крылышки и улетели голубками или уточками; оставалась одна Василиса Премудрая, начала упрашивать доброго молодца возвратить ей крылья, и царевич отдает их под условием, чтобы она согласилась быть его женою. По народному поверью, превращение в зверя совершается набрасыванием на себя его мохнатой шкуры, то же самое значение, какое в данном случае соединяется со звериною шкурою — при изменении человеческого образа в птичий, приписывается крыльям и перьям. По другим вариантам, вместо крылышек царевич похищает сорочку и кушак морской девы; эта замена основывается на поэтическом представлении облаков — одеждами, покровами, что в слиянии с метафорою, сблизившею их с птицами, породило сказания о пернатых сорочках (орлиных, сокольих, лебединых). Девы-птицы встречаются и во многих других сказках, и везде им равно придается вещее значение и необычайная мудрость; они исполняют трудные, свыше сил человеческих, задачи и заставляют себе подчиняться самую природу. В одной сказке эти мифические девы прилетают белыми лебедушками, а в других героиней выводится премудрая Лебедь-птица, красная девица, или Лебедь-королевна такой чудной красоты, что ни око не видело, ни ухо не слышало; в былине о Потоке-Михаиле Ивановиче добрый молодец увидал на тихих заводях белую лебедушку: через перо птица вся золотая, а головка у ней — красным золотом увитая, скатным жемчугом усаженная. Вынимает Поток из налушна тугой лук, из колчана калену стрелу, хочет стрелять по лебеди:
Провещится ему лебедь белая: "Не стреляй ты меня..." Выходила она на крутой бережок, Обернулася душой красной девицей, — и вышла замуж за молодца...
Все означенные стихийные существа: эльбины, вилы и русалки поставлены в народных преданиях в самую близкую связь с мифическим представлением душ, издревле уподобляемых то возжженному огню, то дующим ветрам; они или сами принимаются за души усопших, или смешиваются с теми вещими девами, которые, присутствуя при рождении младенца, как бы влагают в него душу живу, а потом изымают ее при кончине человека и таким образом определяют начало и конец человеческой жизни...
Души усопших
Последний акт, которым завершается земная жизнь человека, исполнен таинственного значения. Неумолимая смерть, постоянно унося новые жертвы, для остающихся в живых поколений ничего не открывает о той безвестной стране, куда увлекла их предшественников. Но человек, по самому свойству своей возвышенной природы, жаждет знать о том, что будет с ним за могилою. Мысль о конечном уничтожении так враждебна инстинкту жизни, ощущаемому человеком, что она уже в глубочайшей древности отстранялась им во имя надежды в жизнь загробную, которая составляет один из главнейших вопросов во всех религиях. Праздники в честь умерших, приношения и возлияния на их могилы, вера в явление мертвецов и множество других преданий ярко свидетельствуют, что наряду с другими языческими племенами и славяне были убеждены, что там — за гробом — начинается новая жизнь, и имели о ней свои довольно подробные, хотя и не строго определившиеся представления.
Прежде всего отметим тот многозначительный факт, что славяне признавали в душе нечто отдельное от тела, имеющее свое самостоятельное бытие. По их верованиям, согласным с верованиями других индоевропейских народов, душа еще в течение жизни человека может временно расставаться с телом и потом снова возвращаться в него; такое удаление души обыкновенно бывает в часы сна, как сон и смерть - понятия родственные. Черногорцы и сербы убеждены, что в каждом человеке обитает дух, которого они называют "ведогонь", и что дух этот может покидать тело, объятое крепким сном. Ведогони нередко ссорятся и дерутся между собой, и тот человек, ведогонь которого погибнет в драке, уже более не пробуждается: его тотчас же постигает быстрая смерть. О колдунах и колдуньях рассказывают, что они, погружаясь в сон, могут выпускать из себя воздушное демоническое существо, т. е. душу, которая принимает различные образы и блуждает по тем или другим местам, причем оставленное ею тело лежит совершенно мертвым. И во время обмиранья или летаргического сна душа, по русскому поверью, покидает тело и странствует на том свете. Таким образом, тело есть как бы жилище живого духа, та временная оболочка, в которую оно заключается при рождении дитяти и которую покидает при кончине человека.
Душа человеческая, по древним языческим преданиям, представлялась в самых разнообразных видах: во-первых, огнем. Славяне признавали в душе человеческой проявление той же творческой силы, без которой невозможна на земле никакая жизнь: это сила света и теплоты, действующая в пламени весенних гроз и в живительных лучах солнца. Душа — собственно частица, искра этого небесного огня, которая и сообщает очам блеск, крови — жар и всему телу — внутреннюю теплоту. Различные душевные движения народ обозначает уподоблением огню: чувству он дает эпитеты горячее, теплое, пылкое; о любви, вражде и злобе выражается, что они возгорелись или погасли; на эпическом языке сербов гнев называется живым огнем, а белорусы о раздражительных, вспыльчивых людях говорят: "Одзин с огнем, другой с поломем". В тесной связи с указанным воззрением стоят мифы, приписывающие богу-громовнику создание первого человека и низведение огня на его домашний очаг, дарование женам чадородия (возжжение в новорожденных младенцах огненных душ) и устройство семейного союза... В южной приднепровской Руси ходят рассказы о синих огнях, вспыхивающих на могилах и курганах; огни эти разводятся русалками. По мнению чехов, над могилами летают огненные душечки; в блуждающих огнях они видят души отверженных грешников или скупцов, оберегающих зарытые ими клады; всякий проклятый за грехи осуждается по смерти на вечное странствование в сем мире и показывается то в виде огненного столба, то в виде человека, у которого язык и глаза — огненные...
Если душа понималась как огонь, то жизнь возможна была только до тех пор, пока горело это внутреннее пламя; погасало оно — и жизнь прекращалась. У нас уцелело выражение: погасла жизнь; выражение это в народной песне заменено сравнением смерти человека с погасшею свечою. Неумолимая Смерть тушит огонь жизни, и остается один холодный труп...
Древние греки изображали Смерть с потухшим факелом: гений смерти опускал зажженный факел, потрясал им, и вместе с тем, как погасало пламя, померкал и свет жизни. У немцев есть прекрасная сказка о куме Смерти. Жил-был бедняк, у него было двенадцать детей; и день и ночь работал он, чтобы пропитать свою семью. Когда родился у него тринадцатый ребенок, он вышел на большую дорогу и решился взять в кумовья встречного. Идет костлявая Смерть и говорит: "Возьми меня кумою". — "А ты кто?" — "Я — Смерть, которая всех уравнивает". — "Да, ты — правдива, ты не различаешь ни богатых, ни бедных!" — и бедняк взял ее кумою. Когда мальчик подрос, он пошел однажды навестить своего крестного. Смерть повела его в лес, указала на одну траву и сказала: "Вот тебе дар от твоего крестного! Я сделаю из тебя славного лекаря. Всякий раз, как позовут тебя к больному, ты увидишь меня: если я буду стоять в головах больного — смело говори, что можешь его вылечить; дай ему этой травы, и он выздоровеет; но если я стану у ног больного — он мой, и никакое лекарство в мирз не спасет его!" В короткое время повсюду разнеслась молва о новом славном лекаре, которому стоит только взглянуть на больного, чтобы наверно узнать: будет ли он снова здоров или умрет. Со всех сторон звали его к больным, много давали ему золота, и вскоре он сделался богачом. Но вот заболела тяжким недугом дочь короля; это было его единственное дитя, день и ночь плакал опечаленный отец и повсюду приказал объявить: кто спасет королевну, тот будет ее мужем и наследует все царство. Лекарь явился к постели больной, взглянул — Смерть стояла в ногах королевны. Дивная красота больной и счастье быть ее мужем заставили его прибегнуть к хитрости: он не замечал, что Смерть бросала на него гневные взгляды, приподнял больную, положил ногами к изголовью и дал ей травы; в ту же минуту на щеках ее заиграл румянец и она выздоровела. Обманутая Смерть приблизилась к лекарю и сказала: "Теперь настал твой черед!", ухватила его своей ледяной рукой и повела в подземную пещеру. Там увидел он в необозримых рядах тысячи и тысячи возжженных свеч: и большие, и наполовину сгоревшие, и малые. В каждое мгновение одни из них погасали, а другие вновь зажигались, так что огоньки при этих беспрестанных изменениях, казалось, перелетали с места на место. "Взгляни, — сказала Смерть, — это горят человеческие жизни; большие свечи принадлежат детям, наполовину сгоревшие — людям средних лет, малые — старикам, но нередко и дети и юноши наделяются небольшими свечами". Лекарь просил показать, где горит его собственная жизнь. Смерть указала ему на маленький огарок, который грозил скоро погаснуть. Устрашенный лекарь стал просить своего крестного: "Зажги мне новую свечу, позволь мне насладиться жизнью, быть королем и мужем прекрасной королевы". — "Это невозможно, — отвечала Смерть, — прежде, чем зажечь новую, надо погасить прежнюю." — "А ты поставь этот догорающий остаток на новую свечу — так, чтобы она тотчас же зажглася, как скоро он потухать станет". Смерть притворилась, что хочет исполнить желание своего крестника, но, переставляя старый огарок, нарочно его уронила: пламя погасло, и в ту же минуту лекарь упал бездыханным. Сказка эта известна и у славян...
Идеи смерти и рока в убеждениях арийских племен роднились и сливались между собою, почему и в приведенной сказке богиня Смерть является при рождении младенца дружелюбной гостьей, возжигает в нем свет жизни и приносит ему подарок — подобно тому как при постели родильницы являются девы судьбы (парки, норны, суденицы), воспламеняют таинственный светоч, с которым связана нить жизни новорожденного, и наделяют его своими дарами, т. е. определяют его будущее счастье. Такое сближение Смерти с девами судьбы основывается на древнейшем веровании, что вся жизнь человеческая, начиная с первого дня и до кончины, была определением фатума: парки не только пряли жизненную нить, но и перерезывали ее, не только возжигали пламя души, но и гасили его и в этом смысле отождествлялись с неумолимою Смертью... Итак, Смерть гасит огонь жизни и погружает человека во тьму небытия. Самое слово Морана (мор, смерть) лингвистически связывается со словом мрак; глагол гасить доныне употребляется в смысле: истреблять, уничтожать, а гаснуть — истощаться, худеть; no-тухнуть говорится о погасшей свече и заснувшей рыбе, а за-тухнуть — о борове, в значении: околеть; тушить —издавать сильный, неприятный запах (про-тухнутъ), no-тухлый — издохший, разлагающийся, поту холь — начинающие гнить съестные припасы; засмирить свечу — погасить. Наоборот, глагол разживлять — разводить, поддерживать огонь. Еще яснее связь понятий огня и жизни в слове воскресать, которое образовалось от старинного крес — огонь (кресало, кресиво — огниво, кресать — высекать искры) и буквально означает: возжечь пламя, а в переносном смысле: восстановить погасшую жизнь...
По другому представлению, Смерть не погашает животворного огня жизни, а исторгает его из тела, которое после того обращается в труп. В старинной иконописи сохранилось изображение, как пораженный ангелом грешник испускает свою душу в пламени, о чем рассказывают и народные легенды.
Во-вторых, душа представлялась звездою, что имеет самую близкую связь с представлением ее огнем; ибо звезды первобытный человек считал искрами огня, блистающими в высотах неба. В народных преданиях душа точно так же сравнивается с звездою, как и с пламенем; а смерть уподобляется падающей звезде, которая, теряясь в воздушных пространствах, как бы погасает. Такое уподобление, когда позабылась его первоначальная основа и метафора стала пониматься в ее буквальном смысле, послужило источником тому верованию, которое связало жизнь человеческую с небесными звездами. Каждый человек получил на небе свою звезду, с падением которой прекращается его существование; если же, с одной стороны, смерть означалась падением звезды, то с другой — рождение младенца должно было означаться появлением или возжжением новой звезды... У славян существует поверье, что, указывая на звезды пальцем, можно повредить живущим людям. Древность этого воззрения несомненна ; уже римляне, по свидетельству Плиния[164], думали, что каждый человек имеет свою звезду, которая вместе с ним рождается, и смотря по тому: озаряет ли его земную жизнь блеск счастья или омрачают ее бедствия — светится то ярко, то сумрачно, а по смерти его упадает с небесного свода. Падающая звезда почитается в русском народе знаком чьей-либо смерти в селе или городе; потому, увидя падение звезды, обыкновенно говорят: "Кто-то умер!", "Чья-то душа покатилась!"... Народная песня сравнивает смерть царевича с падучею звездою:
Упадает звезда поднебесная, Угасает свеча воска ярого — Не становится у нас млада царевича.Рядом с представлением, что звезда сияет на небе, пока продолжается жизнь человека, и угасает вместе с его смертью — было другое, по которому душа в виде пламенной звезды нисходила из райских стран в ребенка в самую минуту его зачатия или рождения, а когда человека постигала смерть — покидала его тело, уносилась в свое прежнее отечество и начинала блистать на небесном своде... Есть предание о трех вещих сестрах, которым, после их кончины, досталось весь век гореть тремя звездами и возле Млечного Пути — на дороге, ведущей в царство небесное; звезды эти называются девичьи зори. Гуцулы знают летавицу — духа, который слетает на землю падучей звездою и принимает на себя человеческий образ — мужской или женский, но всегда юный, прекрасный, с длинными желтыми волосами.
3. Как огонь сопровождается дымом, как молниеносное пламя возгорается в дымчатых, курящихся парами облаках, так и душа, по некоторым указаниям, исходила из тела дымом и паром...
4. Далее — душа понималась как существо воздушное, подобное дующему ветру. Язык сблизил оба эти понятия, что наглядно свидетельствуется следующими словами, происходящими от одного корня: душа, дышать, воз(вз)-дыхатъ, д(ы)хнутъ, дух (ветр), дуть, дунуть, духом — быстро, скоро, воз дух, воз-дыхание, вз-дох... Такое представление души совершенно согласно с тем физиологическим законом, по которому жизнь человека уславливается вдыханием в себя воздуха. В Южной Сибири грудь и легкие называются вздухи; простолюдины полагают, что душа заключена в дыхательном горле, перерезание которого прекращает жизнь. Глаголы из-дыхатъ, за-душить, за-дохнутъся означают: умереть, т. е. потерять способность вдыхать в себя воздух, без чего существование делается невозможным. Об умершем говорят: "Он испустил последнее дыхание" или "последний дух". Наоборот, глагол отдыхать (отдохнуть) употребляется в народной речи в смысле: выздороветь, возвратиться к жизни. Чтобы прийти к подобным заключениям, предкам нашим достаточно было простого, для всех равно доступного наблюдения: в ту минуту, когда человек умирал, первое, что должно было поражать окружающих его родичей, это прекращение в нем дыхания; перед ними лежал усопший с теми же телесными органами, как у живых; у него оставались еще глаза, уши, рот, руки и ноги, но уже исчезло дыхание, а с ним вместе исчезла и жизненная сила, которая управляла этими органами. Отсюда возникло убеждение, что душа, разлучаясь с телом, вылетает в открытые уста вместе с последним вздохом умирающего. По указанию Краледворской рукописи, душа исходит длинною гортанью и румяными устами. "Слово о полку Игореве" выражается о князе Изяславе, что он изронил свою душу из храброго тела чрез злато ожерелье; а народные русские стихи говорят об изъятии души ангелом смерти "в сахарные уста". Обозначая различные душевные свойства, мы сравниваем их не только с пламенем, но и ветром; в языке нашем употребительны выражения: бурное расположение духа, ветреный человек, буйная голова (сравни: "буйный ветер"), завихрился — загулялся, отбился от дела.
По смерти человека тело его разлагается и обращается в прах, и только в сердцах родных, знакомых и друзей живет воспоминание о покойнике, его лице, приемах и привычках: это тот бестелесный образ, который творит сила воображения для отсутствующих и умерших и который с течением времени становится все бледнее и бледнее. Образ умершего хранится в нашей памяти, которая может вызывать его пред наши внутренние очи; но образ этот не более как тень некогда живого и близкого нам человека. Вот основы древнеязыческого представления усопших бестелесными, воздушными видениями, легкими призраками — тенями. Греки и римляне думали, что друзья и родственники, по смерти своей, являются к постели близкого им человека, чтобы он в сновидениях мог проводить с ними время. Так, Ахиллесу явилась во сне тень Патрокла[165]. Одиссей, посетивши Аид[166], пожелал обнять тень своей матери; три раза простирал к ней объятия, и трижды она проскользала между его руками, как воздух. Наш летописец, рассказывая о полочанах, избиваемых мертвецами (навъе), изображает этих последних неуловимыми для взора призраками. По русскому поверью, кто после трехдневного поста отправится в ночь накануне родительской (поминальной) субботы на кладбище, тот увидит тени не только усопших, но и тех, кому суждено умереть в продолжение года. Слово тень (бестелесный образ) употребляется и в смысле привидения, и в смысле того темного изображения, какое отбрасывается телами и предметами, заслоняющими собою свет. Отсюда возникли приметы и поверья, связующие идею смерти с тенью человека и с отражением его образа в воде или в зеркале... Когда кто умрет в доме, то все зеркала занавешиваются, чтобы покойник не мог смотреться в их открытые стекла. Зеркало отражает образ человека — так же как и гладкая поверхность воды, а по сербскому поверью, человек, смотрясь в воду, может увидеть в ней свой смертный час; по мнению раскольников, зеркало — вещь запретная, созданная дьяволом.
5. В отдаленные века язычества молниям придавался мифический образ червя, гусеницы, а ветрам — птицы; душа человеческая роднилась с теми и другими стихийными явлениями и, расставаясь с телом, могла принимать те же образы, какие давались грозовому пламени и дующим ветрам. К этому воззрению примкнула еще следующая мысль: после кончины человека, душа его начинала новую жизнь; кроме естественного рождения, когда человек является на свет с живою душою, эта последняя в таинственную минуту его смерти как бы снова, в другой раз, нарождалась к иной жизни — замогильной. Оставив телесную оболочку, она воплощалась в новую форму; с нею, по мнению наблюдательного, но младенчески неразвитого язычника, должна была совершиться та же метаморфоза, какая замечается в животном царстве. Фантазия воспользовалась двумя наглядными сравнениями: а) раз рожденная гусеница (червяк), умирая, вновь воскресает в виде легкокрылой бабочки (мотылька) или другого крылатого насекомого; б) птица, рождаемая первоначально в форме яйца, потом, как бы нарождаясь вторично, вылупливается из него цыпленком. Это обстоятельство послужило поводом, почему птица названа в санскрите дважды рожденною; тот же взгляд встречаем и в наших народных загадках: "Двичи родится, а раз помира"; "Два раза родится, ни разу не крестится, а черт его боится" — петух. Младенца же народная загадка называет метафорически яйцом... И птица, и бабочка, и вообще крылатые насекомые, образующиеся из личинок (муха, сверчок, пчела и пр.), дали свои образы для олицетворения души человеческой. Некоторые из славянских племен считают светящихся червячков — душами кающихся грешников; а чехи принимают червячка, который точит деревянные стены дома, за душу покойного предка. Это — любопытные отголоски того старинного верования, по которому низведенная с неба, пламенная душа обитала в теле человеческом светящимся червем или личинкою, а в минуту смерти вылетала оттуда, как легкокрылая бабочка из своего кокона...
6. Народный язык и предания говорят о душах как о существах летающих, крылатых. По мнению наших поселян, душа усопшего, после разлуки своей с телом, до шести недель остается под родною кровлею, пьет, ест, прислушивается к заявлениям печали своих друзей и родичей и потом улетает на тот свет...
Наравне с прочими индоевропейскими народами славяне сохранили много трогательных рассказов о превращении усопших в легкокрылых птиц, в виде которых они навещают своих родичей...
7. Понимая душу как пламя и ветер, арийское племя должно было сроднить ее с стихийными существами, населяющими небо и воздух. По индийским верованиям, толпы стихийных духов, олицетворяющих небесные лучи, молнии и ветры, ничем не различались от отцов, предков, т. е. от усопших, называемых у славян родителями и дедами. Ведаическая религия признает небо и воздушный мир за две отдельные области. В беспредельных пространствах неба пребывает свет как вечная, творческая сила; между этою страною света и землею простирается царство воздуха, в котором плавают облака и тучи, носящие живую воду дождей и преграждающие путь лучам солнца. Души отцов населяют и ту и другую области, и отсюда позднее, когда стали рассуждать о загробном возмездии за земную жизнь человека, развилось верование о двойственной судьбе усопших: о душах блаженных, наследующих царство небесное, и отверженных, осужденных блуждать по воздуху и вращаться в пекле грозовых туч. Высоко, по ту сторону облачных вод, лежит блестящее небо, с которого солнце, луна и звезды посылают свой свет на землю; там-то, на отдаленной границе Вселенной, живут отшедшие из земной юдоли предки под властию Варуны, наслаждаясь вечным блаженством и блистая очам смертных яркими звездами. Но, чтобы достигнуть этих райских селений, они должны шествовать через воздушный океан, странствовать посреди дождевых потоков и грозового пламени и принимать участие в их животворной или разрушительной деятельности. По свидетельству гимнов, отцы носятся в тучах, сверкают в молниях, извлекают из облаков дождь и проливают его на поля своих потомков; они полагают в ночи тьму, а утром находят сокрытый свет и призывают к пробуждению прекрасную Зарю, т. е., нагоняя черные тучи, омрачают небо ночеподобными покровами, а рассеивая их в грозе, выводят из мрака светозарное солнце. Таким образом, отжившие предки смешивались и отождествлялись с бурными и грозовыми духами...
Что души у славян представлялись существами эльфическими, карликами, наиболее важное тому свидетельство предлагает древнерусское навь, навье. В старинных русских памятниках, как и в современных областных говорах, навье — мертвец: "Приведе Янка митрополита Иоанна скопьчину, его же видевше людье вси рекоша: се навье (по другому списку: мертвец) пришел; от года бо до года пребыв умре" (Лаврентьевская летопись); "В нави зрети" — ожидать смерти ("Повесть о Петре и Февронии Муромских"[167]); в древних переводах библейских книг навь употребляется в смысле ада, тартара как царства мертвых; наконец Радуница, когда совершаются поминки по усопшим, называется в народе навий ( мертвецкий) день и навьи проводы. Летописец, рассказывая о явлении в 1092 году незримых духов, которые рыскали на конях и поражали смертию полочан, прибавляет, что в то время говорили: "Яко навье бьють полочаны", т. е. мертвецы карают народ чумными стрелами (молниями)... В старинной иконной живописи душа изображается в виде младенца, который исходит из уст покойника вместе с его последним дыханием и улетает на небо или возносится туда ангелами. Подобные изображения встречаем и в миниатюрах, украшающих древние рукописи, и в печатном издании Киево-Печерского патерика[168], и на лубочных картинах...
Народные поверья доселе связывают с душами усопших атмосферные явления, указывая тем самым на их стихийный характер. Когда зимою, после трескучих морозов, станет вдруг оттепель, русские поселяне выражаются об этом так: родители вздохнули, т. е. мертвые повеяли (дохнули) теплым ветром. По мнению полещуков, усопшие родители в день свадьбы своих детей сходят на землю дождевой тучей, чтобы благословить молодую чету...
По свидетельству народных легенд, места будущей жизни, приуготованные для добродетельных и грешных, находятся у колодцев. Для посмертного пребывания первых предназначены студенцы с чистой ключевой водою, при которых растут благоухающие цветы, зреют на деревьях вкусные плоды и поют райские птицы; а грешники будут ввержены в колодцы, наполненные змеями, жабами, лягушками и другими гадами. Итак, один и тот же поэтический образ, только с различною обстановкою, прилагается и к раю — вирию, и к аду — пеклу. Праведных ожидает у райских источников такое полное блаженство, что время для них как бы перестанет существовать: год будет пролетать, как единый неуловимый миг, а триста лет покажутся за три счастливые минуты...
Девы судьбы
Облачные девы, как хранительницы живой воды, наделяющей мудростью и предвидением, как спутницы бога грозовых бурь, призванные, с одной стороны, приносить на землю младенческие души, а с другой — увлекать души усопших в загробное царство, явились в народных представлениях устроительницами судьбы человеческой. Согласно с этим, древние племена присваивали им эпитеты, обозначавшие их вещий характер и влияние на рождение, смерть и вообще на всю жизнь человека. Такие эпитеты впоследствии стали употребляться как имена нарицательные и мало-помалу приняты были за прозвания особенного разряда божественных существ. Тем не менее предания и доныне удерживают многие черты первоначального сродства их с облачными и грозовыми нимфами. У славян девы эти назывались рожаницами, так как они присутствуют при рождении младенцев и определяют их судьбу при самом появлении на свет. Прежде всего обратим внимание на свидетельства азбуковников[169] и Паисьевского сборника (XIV века). В последнем памятнике находим "Слово св. Григория о том, како первое погани суще языци кланялися идолом и требы им клали". Желая указать на языческое происхождение веры в Род и рожаницу, проповедник сближает их с подобными же мифическими представлениями у других народов. По его мнению, Род и рожаница значили у славян то же, что у греков Артемида; для полного соответствия он придает ее имени и мужское окончание: Артемид, и противопоставляет это новое имя — Роду, божеству мужского пола. Одно главнейших свойств, приписанных Артемиде, касалось деторождения. Она считалась покровительницею женщин и брачных союзов, заведовала родами, разрешала пояс родильницы, играла роль повивальной бабки и кормилицы и вместе с тем была доброю пряхою, как бы одною из парк... Хотя Артемид, о котором упоминается в Паисьевском сборнике, и не существовал в греческой мифологии, но зато греки присваивали эпитеты рождающих, производящих и Зевсу, и Посейдону. Та же творческая, призывающая к жизни сила принадлежала Роду и рожаницам, на что указывают самые названия их, относящиеся к одному корню со словами: рожать или рождать, родитель, родильница, родной, роженый, родина, роды, на-род, за-родыш, у-рожай, по-рода, родник и многие другие. Роже(а)ница в словаре Памвы Берынды определена так: "матиця, породеля, пороженица". Словом род в древних памятниках означаются: родственники и потомки, земляки и целый народ, как образующийся чрез нарождение; от теснейшего смысла слово это восходило к более широкому, по мере того как человек от тесных, исключительно семейных и родовых связей переходил к связям и отношениям более широким — племенным и общинным. Но все эти понятия, усвоенные роду, вытекли из того первоначального, основного его значения, по которому под ним разумелась производящая сила природы вообще. Еще теперь в народной речи слышится выражение: "Земля принялась за свой род".
По указанию старинных азбуковников, рожаницами "еллиньстии звездословцы наричють седмь звезд, глаголемых планиты, и кто в кую планиту родится — и по той планите любопрятся предвозвещати нрав младенца, или к коим похотем естеством уклонителен будет"...
Приведенные нами свидетельства, приписывая рожаницам влияние на рождение, характер и счастье человека, вместе с тем указывают, что эти мифические девы стояли в таинственной связи со звездами. Простой, не просветленный наукою взгляд наблюдателя не различает планет от звезд, и если рожаницами названы в азбуковнике собственно планеты, то такое ограничение было следствием того средневекового астрологического учения, которое перешло к нам сравнительно уже в позднейшее время — в переводных книгах, известных под названиями: Астрономия, Зодий и др. Но как самое астрологическое учение возникло из древнейших народных верований, общих всем племенам и востока, и запада, — из верований, утверждающих зависимость жизни человеческой от сияния звезд, то понятно, почему оно всюду так легко было принимаемо и всюду пользовалось сочувствием массы. Оно ничего не говорило такого, что бы противоречило национальным преданиям. Этим объясняются и те постоянные протесты, с которыми вынуждена была выступать церковь против так называемого "звездословия". Древний переводчик хроники Григория Амартола[170] употребляет выражение рождественное волшение в смысле искусства предсказывать судьбу по звездам... По древнеарийскому воззрению, душа представлялась искрою небесного огня или звездою, возжигаемою при самом рождения младенца; как скоро звезда эта погасала, вместе с нею погасала и жизнь человека, а пока она горела — ее блеском и мерцанием условливались все его житейские радости и печали (его светлые и черные дни). И доныне народные поверья связывают зарождение младенца и его будущую судьбу с звездами. Над чьим домом упадает звезда, в той семье (по мнению поселян) девица утратила девственность — сделалась беременною. В одной песне сын, жалуясь на свою долю, обращается к матери с этими словами:
Ты скажи-скажи, моя матушка родная, Под которой ты меня звездой породила, Ты каким меня счастьем наделила?Богатырь Добрыня упрекает мать, что породила его несчастливого, а та отвечает:
Видно, ты, чадо мое милое, Зародился ты в ту звезду, В ту минуту бессчастную, не в таланную!Василий Буслаевич говорит в сказке: "Недаром мне моя счастливая звезда дала силу богатырскую". Вера в таинственную связь рождения со звездами, в благое или враждебное действие этих последних на участь отдельных людей была распространена у всех индоевропейских народов; думали, что звезды, сиявшие при рождении человека, берут его под свою охрану и что рожденные под благоприятным влиянием этих светил должны быть непременно счастливы и наоборот. До сих пор в русском языке сохранились выражения: "Он родился в добрый, счастливый час, под счастливой звездою (планидой)" или "в недобрый час, под злую, лихую годину, под несчастной звездою"...
По литовскому преданию, как скоро родится младенец, тотчас же Верпея (пряха), восседающая на небесном своде, начинает прясть нить его жизни; конец этой нити она прикрепляет к новой звезде, которая непременно является в минуту рождения человека. Когда же наступает его последний час, Верпея перерезает нитку: звезда падает, гаснет в воздухе, и человек умирает: поэтому в каждой из падающих звезд видят знамение чьей-либо смерти. Здесь слиты воедино два мифических представления: а) возжжение пламенной, звездоподобной души и б) пряденье жизненной нити. Народившийся младенец только тогда вступает в среду живущих, когда его пуповина будет перевязана, или, выражаясь пластически: когда он будет привязан к жизни выпряденною ниткою, что у славян обозначается словом повить (повой[171], повитуха, повивальная бабка). Облачные девы, как мы видели, признавались пряхами; являясь при родах, влагая в ребенка "душу живу", они в народных верованиях получили характер повивальных бабок и помощниц при разрешении беременных жен. Как своим светочем они таинственно возжигали в ребенке огонь жизни, так своею пряжею, незримо для смертных, привязывали его к бытию, и пока связь эта оставалась крепкою — душа не могла отрешиться от тела; но едва Смерть или девы судьбы разрывали ее, человек немедленно умирал — точно так же как умирал он вместе с угасшим пламенем души: это две различные метафоры, выражавшие одну и ту же идею. Отсюда, во-первых, течение человеческой жизни стали уподоблять тянущейся нити, а затруднения, ожидающие человека на жизненном пути, представлять узлами, которые надо распутывать (завязка и развязка события). Выражение "нить жизни" пользуется гражданством почти во всех индоевропейских языках; счастливый ход жизни соответствует ровной, гладкой нити, и наоборот, жизнь, исполненная страданий и бедствий, тянется суровою, узловатою нитью, опутывает человека словно сетями и налегает на него тяжелой обузою. Во-вторых, образовалось убеждение, что девы судьбы суть вечно работающие пряхи; своими руками они прядут жизненную нить и вплетают в нее все, что должно совершиться с человеком во время его земного существования. Под влиянием означенных воззрений повой младенца получил религиозный характер; дело это поступило в руки вещих жен, служительниц богов, и нет сомнения, что в отдаленной древности оно сопровождалось священными обрядами; существительное бабка имеет при себе глагол бабкатъ — нашептывать, ворожить. Кроме указанного предания о мифической пряхе, литовцы рассказывают еще о семи богинях, из которых первая (Верпея) прядет человеку жизнь из кудели, данной верховным божеством ; другая мотает выпряденные нити и делает из них основу; третья ткет холст; четвертая старается песнями и рассказами обворожить своих сестер, и когда они заслушиваются — портит их работу, отчего тотчас же постигают смертного неудачи, болезни, ссоры и прочие беды; пятая ей противодействует, не дает портить холст и пробуждает сестер к труду: когда ее усилия не остаются напрасными и работа идет без помехи, то жизнь человека бывает исполнена спокойствия, радостей, здоровья и счастья; шестая отрезает холст — и человек умирает; наконец, седьмая моет изготовленную ткань и вручает ее верховному богу. Из этой ткани делается рубашка, которую и должен носить усопший на том свете; таким образом он постоянно имеет перед собой полную историю земной своей жизни, всех ее радостей и горя. По основному значению мифа, посмертная рубашка, изготовляемая богинями судьбы, есть та облачная ткань, в которую одеваются стихийные духи и родственные с ними тени усопших; в погребальном обряде ей соответствует белый саван. В настоящем случае это представление о посмертной сорочке смешивается с другим, не менее древним, представлением о телесной одежде, облекающей душу со дня рождения по день смерти человека.
Пряха Верпея и мифические ткачихи стоят в несомненной связи с лаумами, что прямо свидетельствует за их первоначальное тождество с облачными нимфами. На участие лаумы в грозовых явлениях природы указывают названия: громовой стрелки — ее сосцом, радуги — ее поясом и воды (т. е. дождя) — ее потом; вместе с этим ей приписывается и влияние на земное плодородие: она предвещает урожаи и голод, помогает возделывать нивы и собирать жатвы. Как сербские вилы и наши русалки, лаумы живут в лесах, полях и в воде. Они крадут и подменивают новорожденных младенцев, налегают на сонных людей, давят их в грудь или живот и любят заниматься пряжею и тканьем...
Собственно о рожаницах мы не встречаем свидетельств, чтобы они пряли жизненную нить; думаем, однако, что и с ними в старину соединялось подобное же представление и только позабыто в течение последующих веков. На эту мысль наводят нас хорутанские сказки, отождествляющие рожаниц с вилами. Едва народится младенец (рассказывают хорутане), как тотчас же — бог знает откуда и как — являются в избу три сестры-роженицы, садятся за стол и в кратких изречениях определяют судьбу новорожденного; произнеся свои предсказания, они тихо удаляются, и если на ту пору светит сквозь окно месяц, то, озаренные его лучами — бывают видимы их легкие, воздушные образы и радужные покровы...
Из трех сестер-рожениц, устанавливающих судьбу младенца, мнение последней постоянно принимается за окончательное решение; она есть действительная владычица смертного часа и потому соответствует злой парке, перерезывающей жизненную нить человека, или Смерти, погашающей огонь его души. То, что присуждено роженицами, нельзя ни изменить, ни устранить никакими силами: это приговор всемогущего, непреложного рока! Предрекут ли вещие жены смерть от волка — зверь этот явится в урочный час к своей жертве, хотя бы она скрывалась за каменными стенами; присудят ли человеку погибнуть в воде, и хотя бы кругом на далекое расстояние не было ни единого источника — он задохнется в луже. Одной царевне было предсказано, что она умрет от укушения змеи. Царь устроил стеклянный терем, куда даже и муравей не мог пробраться; заключил там свою дочь и приказал не выпускать ее из терема. Когда наступил "судный день", царевна пожелала винограду; слуга принес ей большую кисть, в которой скрывалась малая ядовитая змейка — и предсказание исполнилось! Подобные рассказы существуют и в нашем народе, хотя древние краски в них более или менее уже стерлись...
С белыми летними облаками издревле соединялись идеи плодородия, зачатия и брака; наоборот — с черными тучами, несущими опустошительные бури, связывались представления о злых демонах ночи и смерти. В силу этих воззрений облачные девы стали заведовать рождением, бракосочетанием и кончиною человека, что все вместе и определило понятие о могучей судьбе, властвующей над смертными в пределах их земного существования — от колыбели и до могилы. Согласно с троякими обязанностями, возложенными на облачных дев, из толпы их выделились три богини судьбы, из которых на долю каждой выпал особый труд. Из них две — представительницы белоснежных облаков: одна распоряжалась родами, другая — брачными союзами; а третья — дева черной молниеносной тучи — разила смертью. Впоследствии, с забвением стихийных, натуралистических основ, на которых возникло означенное верование, цвета эти приняты были за символы нравственных понятий: белый цвет сделался знамением благих, дружелюбных чувств, одушевляющих богиню счастья, а черный — знамением злобы и коварства богини смерти. Почти у всех индоевропейских племен предания говорят о трех девах судьбы; число это одинаково прилагается к мойрам, паркам, феям, норнам и роженицам. Рождение, свадьбы и смерть, колыбель, брачное ложе и смертный одр или могила наводили мысль на соответственные им понятия детства, юности и старости — утра, полдня и вечера или заката человеческой жизни. Когда человек мужал и задумывался о могуществе всесильного рока, его рождение и первые годы детства были уже прошлым, а смерть ожидала его в будущем, и потому с тремя девами судьбы он необходимо сочетал представление о трехсоставном времени: одна из них должна была ведать прошедшее, другая — настоящее, третья — будущее (вчера, сегодня и завтра)...
У славян сохранилось множество пословиц и поговорок, намекающих на стародавнее верование в судьбу, идея которой неразрывно связывается с рождением, браком и смертью человека: родись ни хорош, ни пригож, родись счастлив; не накормить коня сухопарого, не наделить дитя бессчастное; счастливый — к обеду, а роковой — под обух; счастливый скачет, а бессчастный плачет; счастливый — что калач в меду (к нему все пристает, все на прибыль); кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; таланный и в море сыщет; без счастья и по грибы в лес не ходи; коли нету талану, так не пришить к сарафану; всем бы молодец — да нет талану на роду; мой талан пошел по горам (или по рукам, т. е. нет счастья); мое счастье разбежалось по сучкам, по веточкам; такова наша доля — на то, знать, мы и родились; таков наш рок, что вилами в бок! На кого рок, на того и добрые люди; никто от своего рока не уйдет; чему быть, того не миновать; так рок судил; знать, так уж суждено! видно, такая судьба! От судьбы не уйдешь; бойся не бойся, а от части своей не уйдешь; злая напасть — и то часть; судьбу на паршивом поросенке не объедешь; беду (или суженого) и на кривых оглоблях не объедешь; судьба придет — ноги сведет, руки назад свяжет. Слово судьба одного корня с глаголом судить, и следовательно, означает то, что присуждено-предопределено человеку... В старинных памятниках слово "суд" прямо употребляется в значении судьбы; например, в "Слове о полку Игореве" сказано: "Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа (судьбы или смерти) не минути"; "Бориса же Вячеславлича слава на суд (на смерть) приведе". Здесь смерть рассматривается как определение судьбы, которая в руках своих содержит все благое и гибельное и приговоров которой невозможно отклонить ни умом, ни хитростью...
По глубокому убеждению народа, запечатленному в его пословицах, "без року смерти не бывает; кому быть повешену, тот не утонет; кому за тыном окоченеть, того до поры обухом не пришибешь; кому суждено опиться, тот обуха не боится; кому быть на виселице, того и грозой не убьет; кому скоромным куском подавиться — хоть век постись, комаром подавится! Ловит волк роковую овечку; обреченная скотинка уж не животинка" (непременно околеет или достанется хищному зверю). Дочь Соловья-разбойника, желая убить Илью Муромца, ринула на него тяжелую подворотню, да "Илье то не к суду пришло" — и он остался невредим. В древнерусской повести о борьбе Живота со Смертью эта последняя говорит человеку: "В чем тя застану, в том и сужду". Брак, по народному выражению, — божий суд. В свадебных песнях и причитаниях фраза: "Идти ко суду божию" употребляется в смысле: "Идти под венец", согласно с этим жених и невеста называются у нас сужеными. Обращаясь к брату невесты, песня возглашает от имени жениха:
Ах, шурин мой, шурин ласковый! Ты отдай мой дар, мое суженое, Мое суженое, мое ряженое (т. е. невесту).Супружеский союз, со всеми его удачными и неудачными последствиями, не зависит от произвола и расчетов человека, а уже наперед определяется божественною волею: "Кому на ком жениться, тот в того и родится", "Всякая невеста для своего жениха родится". Приговоры судьбы в этом отношении так же неотвратимы, как и самая смерть, предназначенная человеку: "Суженого конем не объедешь", "сужено-ряжено не объедешь в кузове"...
Повстречав Микулу Селяниновича, Святогор спросил его: "Ты скажи-поведай, как мне узнать судьбину божию?" — "А вот поезжай к горам; у тех гор под великим деревом стоит кузница, и ты войди туда и спроси кузнеца про свою судьбину". Ехал Святогор целых три дня, доехал до кузницы и видит — кует кузнец два тонких волоса. "Что ты куешь?" — спрашивает богатырь. "Кую судьбину: кому на ком жениться". Спросил Святогор о своей невесте и услышал в ответ, что невеста его в поморском царстве — тридцать лет лежит во гноище, тело у нее словно кора еловая. Не захотелось богатырю жениться на такой хворой и некрасивой жене, поехал в поморское царство, поднял свой острый меч, ударил девицу в грудь — и поскакал своею дорогою. От того удара спала с девицы кора, и очнулась она красавицей невиданной и неслыханной. В урочный час посватался за нее Святогор-богатырь и женился. Как легли они опочив держать, увидал Святогор у своей новобрачной рубец на груди, расспросил и на самом деле спознал, что от судьбы не уйдешь. Вещий кузнец, кующий судьбы человеческие, есть бог-громовник; мастерская его устроена в горах, т. е. грозовых тучах.
Народная фантазия заставляет мифического кузнеца сковывать воедино два тонких волоса; эти волосы — не что иное, как две нити, выпряденные парками для жениха и невесты. Оба понятия : нить и волос —¦ отождествляются как в языке, так и в поверьях; поэтому и в сказаниях о судьбе им придано одинаковое значение. По свидетельству сербской приповедки, дева, светлая как самое солнце, сидя над озером, вышивала солнечными лучами по основе, сделанной из юнацких волос (т. е. по облачной ткани); сама же она имела в голове червленный, как кровь, волос, напоминающий красно-огненные кудри громовника. Когда взяли и разделили этот волос надвое, то нашли, что в нем было записано много славных деяний, совершившихся от начала света. Итак, устраниться от своей суженой — невозможно; наоборот, сколько бы ни старался добрый молодец взять за себя девицу, не назначенную ему судьбою, хлопоты его будут напрасны...
Как для всех других представлений язычества источником служило обожание природы, так и мысль о судьбе в глубочайшей древности должна была связываться с естественными, стихийными явлениями. Отвлеченные понятия предполагают долгое развитие; по своей бестелесности, отрешенности от тех самых предметов, свойствами и признаками которых определилось их значение, понятия эти не могли быть доступны грубым, младенческим племенам. Ученые исследования показали, что вещие девы-судицы принадлежали к существам облачным, дожденосным. Судьба, следовательно, была не более как олицетворение всемогущих, то благотворных, то разрушительных, но всегда неотвратимых сил природы. Слова, служившие для обозначения этого понятия, были вначале эпитетами или прозваниями верховного божества, неба, бурных гроз, дождевых ливней и земного плодородия...
Вера в таинственную, всем управляющую волю судьбы с особенною наглядностью заявляет себя: а) в суде божием (ордалиях), самое название которого тождественно с именем Судьбы; б) в обычае метать в сомнительных случаях жребий и его указание принимать за приговор всеведущего божества, и в) в гаданиях о будущем. Решение частных тяжб и общественных вопросов жребием было употребительно у всех индоевропейских народов. Дело, в котором боролись противоположные интересы, через это возвышалось над произволом и страстями людей и восходило на тот верховный, непреложный суд, перед которым умолкали все личные расчеты, ибо избегнуть определений рока не дано ни единому смертному...
Саксон Грамматик говорит, что на острове Ране славяне кидали три дощечки — с одной стороны белые, а с другой — черные — и замечали: какой именно стороной упадут они кверху: белая предвещала успех, а черная — неудачу. К этому гаданию прибегали и штетинцы, чтобы определить исход морской битвы. В числе запретных книг и суеверных обрядов старинный памятник называет: Метание или Розгомечец. По словам Константина Порфирородного, русы метали жребий и, следуя его указанию, одних птиц закалывали в жертву, а других пускали на волю.
Даже в выборе жениха и невесты предки наши руководились жребием, как это можно заключать из следующего выражения "Слова о полку Игореве": "Врьже Всеслав жребий о девицю себе любу".
В торговом договоре Новгорода с немцами и готландцами[172] (XIII столетия) постановлено, чтобы тяжбы между русскими и ганзейскими гостями[173], при недостатке судебных доказательств и противоречий свидетелей, решались жребием. В Судебник Ивана Грозного занесено следующее узаконение, подтвержденное потом и в Уложении[174]: если между русским и чужеземцем возникает дело, которое не иначе может быть решено, как разве присягою, то целовать крест предоставляется той стороне, чей вынется жребий. Англичанин Лэн описал нам самый обряд вынимания жребия : два восковых шарика с именами спорящих клались в шапку и кто-нибудь из посторонних доставал один шарик голою правою рукою; чье имя вынималось, тот давал клятву и выигрывал дело. Из уставной грамоты[175] шуянам 1606 года видно, что и в том случае, когда оба противника были люди русские, право целовать крест определялось жребием. Тем же способом решали в XVI столетии вопрос: кому из тяжущихся о поземельном владении должно предоставить право идти с образом на голове и указывать межу. По Уложению иск не свыше рубля решался жребием, а больше рубля присягою...
Для наших предков солнце было божество рождающее — дарующее земле урожаи и наделяющее смертных изобилием, богатством, а следовательно, и счастьем. У славян солнце — синоним счастья, на что указывают следующие выражения: "Взойдет солнышко и на наш двор!", "Померкло мне солнце!", "Закатилось мое счастье!". Как всевидящее око, озирающее небо и землю, Солнце знает все явное и сокровенное, что только совершается в мире. От его взоров ничто не может утаиться. Свет и зрение — обычные метафоры знания, мудрости, а мрак и слепота — невежества, отсутствия всяких сведений...
В любопытной чешской сказке юный герой отправляется за разрешением загадочных вопросов к Солнцу, тогда как, по сербскому преданию, он с тою же целью идет к Судьбе. Солнце названо в этой сказке златовласым дедом Всеведом, а в матери ему дана пряха-судица, которая вечером принимает его на западе и успокаивает на своих коленах; поутру Солнце пробуждается от сна, прощается с матерью и вылетает восточным окном на дневное странствование...
Солнцева мать упоминается во многих сказках, и везде о ней говорится как о вещей пряхе: она дает странствующим героям мудрые советы и на золотой прялке прядет золотую кудель.
Впоследствии, когда нравственные представления стали брать перевес над религиозным натурализмом, идея судьбы отрешилась от стихийных богов, строителей мировой жизни, и обособилась в отдельное, самостоятельное божество. В Малороссии сохранилось такое предание: шел крестьянин по лесу и заблудился. Наступила ночь, вдали заблестел приветливый огонек; крестьянин поспешил на его свет, набрел на ветхую избушку и попросился ночевать. Его приняла бедная старушка и на вопрос гостя: "Кто ты?" — назвалась Судьбою. Еще крестьянин не успел заснуть, как кто-то постучался в окно. "Что?" — спросила Судьба. "Столько-то родилось мальчиков и столько-то девочек, — отвечал неведомый голос, — какая их судьба?" — "Та же, что у меня сегодня!" За окном послышался вздох. Наутро проснулся крестьянин не в бедной избушке, а в богатых палатах: всюду роскошь и золото! И остался он у Судьбы еще на одни сутки. Ночью повторилась прежняя сцена: кто-то постучался в окно и сказал: "Столько-то родилось мальчиков и девочек; какая их судьба?" — "Та же (раздалось в ответ), что у меня сегодня!" Судьба жила попеременно — один день, как нищая, а другой, как богачка, обладающая несметными сокровищами; кто в какой день родился, таково его и счастье. Возвратясь домой, крестьянин нашел, что жена родила ему двух сыновей: одного — в бесталанный день, а другого — в счастливый. Вся жизнь близнецов послужила оправданием той судьбы, которая каждому из них была определена при рождении. Не менее интересна малорусская сказка о двух Долях. Жили два брата — младший в довольстве и счастии, а старший — в бедности. Настало лето. Старший брат нанялся у младшего жать хлеб. Раз приходит он в поле и видит: женщина в нищенском рубище ходит между копнами, выдергивает самые крупные колосья из снопов, полученных старшим братом за работу, и втыкает их в снопы младшего. "Кто ты?" — спросил бедняк. "Я — Доля твоего брата; он спит, а моя обязанность денно и нощно трудиться на него, как на своего господина, с самого рождения его до смерти я ему верная слуга: берегу его от опасностей, лелею его детей, окропляю его поля и огород росою, гоню ему рыбу в бредень, рои пчел — в улья, охраняю от хищного зверя и холю его скотину, привожу к нему купцов, набиваю цену на его товар и дарю его семью здоровьем. Твоя же Доля — белоручка, думает только о песнях и нарядах, и потому ты беден"...
Доля употребляется в народной речи иногда в смысле положительно-счастливой судьбы, а с отрицанием не (недоля) в смысле судьбы несчастливой, печальной. Недоля нередко заменяется выражениями: беда, лихо, напасть, горе и нужда. В народных пословицах, песнях и сказках беда выступает как бы некий демон, как существо живое, самодействующее. Она странствует по белому свету, ищет людей, обреченных несчастию, идет к ним навстречу, гонится за ними: "Беда (горе) ходит не по лесу, а по людям", "Где беда ни шаталась, а к нам пришатилась", "Где беда ни голодала, а к нам на пирушку", "Пришла беда — растворяй ворота!", "Дома ль хозяин? Беда пришла"...
Лихая, горькая, недобрая Доля, по выражению народных песен, рождается вместе с человеком, шаг за шагом следует за ним в продолжение всей жизни и провожает его в самую могилу:
Ой ты, Горе мое, Горе серое, Лычком связанное, подпоясанное! Уж и где ты, Горе, ни моталося — На меня, бедную, навязалося... Уж я от Горя во чисто поле; Оглянусь я назад — Горе за мной идет, За мной идет, вослед грозит: "Уж я выжну-повыжну все чисто поле, А сыщу я, найду тебя горькую!" Я от Горя во темны леса, Оглянусь я назад — Горе за мной идет, За мной идет, вослед грозит: "Порублю я, посеку все темны леса, А найду я тебя горемычную!" Уж я от Горя к гробовой доске, Оглянусь я назад — Горе за мной идет, С топорешечком, со лопаточкой. Не отрастить дерева суховерхого, Не откормить коня сухопарого... Ай Горе, Горе-Гореваньице! А и лыком Горе подпоясалось, Мочалами ноги изопутаны. А я от Горя в темны леса — А Горе прежде в лес зашел; А я от Горя в почестной пир — А Горе зашел, впереди сидит; Я от Горя на царев кабак — А Горе встречает, уж пиво тащит: Как я наг-то стал — насмеялся он.Замечательны обороты: "Горе зашел", "Горе насмеялся"; из них очевидно, что (несмотря на средний грамматический род слова) горе в воззрениях народа доселе не утратило характера одушевленного, демонического существа.
Обувалося Горе в лапти, одевалося в рогозиночки, опоясывалось лыками, приставало к добру молодцу.
Видит молодец: от Горя деться некуды! Молодец ведь от Горя во чисто поле, Во чисто поле серым заюшком, А за ним Горе вслед идет, Вслед идет, тенета несет, Тенета несет все шелковые: "Уж ты стой, не ушел, добрый молодец!" Молодец ведь от Горя во быстру реку, Во быстру реку рыбой-щукою, А за ним Горе вслед идет, Вслед идет, невода несет, Невода несет все шелковые: "Уж ты стой, не ушел, добрый молодец!" Молодец ведь от Горя во огневушку, Во огневушку, да в постелюшку — а Горе в ногах сидит.Видит молодец — некуда от Горя спрятаться, как разве в тесовый гроб да в могилушку, а Горе и тут с лопатою:
"Уж ты стой, не ушел, добрый молодец!" Загребло Горе во могилушку, Во могилушку, во матушку-сыру землю.В таких прекрасных поэтических образах, достойных великого художника, представляется народной фантазии горе. Оно доводит бесталанного молодца до кабака и злобно насмехается над его наготою; оно ловит его в расставленные сети и тенета; выживает его с белого света и, являясь с топором и лопатою, сколачивает ему гроб и роет могильную яму. Как третья недобрая парка, разрывающая нить жизни, Горе отождествляется с богинею смерти; эта последняя так же охотится за живущими в мире, опутывает их своими сетями и роет заступом свежие могилы. Сказочным героям удавалось обманывать Смерть и томить ее в тесном заключении; то же предание прилагается и к Горю. В одной деревне жили два мужика, два родных брата: один — бедный, другой — богатый. Богач переехал в город, выстроил себе большой дом и записался в купцы; не то выпало на долю бедного: иной раз нет ни куска хлеба, а ребятишки — мал мала меньше — плачут, есть просят. С утра до вечера бьется мужик как рыба об лед, а все ничего нет. Пошел к богатому попросить хлеба. Тот заставил его проработать целую неделю и дал за то одну ковригу. "И за то спасибо!" — сказал бедный и хотел было домой идти. "Постой! Приходи-ка завтра ко мне в гости — на именины и жену приводи". — "Эх, братец! Куда мне? К тебе придут купцы в сапогах, в шубах, а я в лаптях да в худеньком зипунишке хожу". — "Ничего, приходи! И тебе будет место". Наутро пришел бедный брат с женою к богатому; поздравили и уселись на лавку. За столом уж много именитых гостей сидело; всех их угощает хозяин на славу, а про бедного брата с его женой и думать забыл — ничем их не потчует. Кончился обед; гости поехали домой пьяные, веселые — шумят, песни поют; а бедный идет назад с пустым брюхом. "Давай-ка, — говорит жене, —и мы запоем песню!" —"Эх ты, дурак! Люди поют оттого, что сладко поели да много выпили; а ты с чего?" — "Ну все-таки у брата на именинах был; как запою, всякий подумает, что и меня угостили". —"Пой, коли хочешь, а я не стану!" Мужик затянул песню, и послышались ему два голоса; он перестал и спрашивает жену: "Это ты мне подсобляла петь тоненьким голоском?" — "И не думала!" — "Так кто же?" — "Не знаю! — сказала баба, — а ну запой — я послушаю". Он опять за песню: поет-то один, а слышно два голоса; остановился и спрашивает: "Это ты, Горе, мне петь подсобляешь?" Горе отозвалось: "Да, хозяин! Это я". Пришел мужик домой, а Горе зовет его в кабак. "Денег нет!" — отвечал бедняк. "Ох ты, мужичок! На что тебе деньги? Вишь, на тебе полушубок надет, а на что он? Скоро лето будет, все равно носить не станешь! Пойдем в кабак, да полушубок побоку..." Мужик и Горе пошлл в кабак и пропили полушубок. На другой день Горе заохало (с похмелья-то голова болит!) и зовет хозяина винца испить. "Денег нет!" — отвечает мужик. "Да на что нам деньги? Возьми сани да телегу — с нас и довольно!" Нечего делать, не отбиться мужику от Горя; взял он сани и телегу, потащил в кабак и пропил вдвоем со своим неотвязным товарищем. Наутро Горе еще больше заохало — зовет мужика опохмелиться; мужик пропил соху и борону... Месяца не прошло, как он все спустил; даже избу свою соседу заложил, а деньги в кабак снес. Горе опять пристает к нему: "Пойдем да пойдем в кабак!" — "Нет, Горе! Воля твоя, а больше тащить нечего". —"Как нечего? У твоей жены два сарафана: один оставь, а другой пропить надобно". Мужик взял сарафан, пропил и думает: "Вот когда чист! Ни кола ни двора, ни на себе, ни на жене!" Поутру проснулось Горе, видит, что с мужика нечего больше взять, и говорит: "Хозяин!" — "Что, Горе?" — "Ступай к соседу, попроси пару волов с телегою". Привел мужик пару волов, сел вместе с Горем на телегу и поехали в чистое поле. "Хозяин! — спрашивает Горе. — Знаешь ли ты на этом поле большой камень?" — "Как не знать!" — "А когда знаешь, поезжай прямо к нему". Приехали. Горе велит мужику поднимать камень; мужик подымает, Горе пособляет; вот подняли, а под камнем яма — полна золотом насыпана. "Ну, что глядишь? — сказывает Горе мужику. — Таскай скорее в телегу". Мужик принялся за работу, все из ямы повыбрал и говорит: "Посмотри-ка, Горе, никак там еще деньги остались?" Горе наклонилось: "Где? Я что-то не вижу!" — "Да вон в углу светятся! Полезай в яму, так увидишь". Горе полезло в яму; только что опустилось туда, а мужик и накрыл его камнем. "Вот эдак-то лучше будет! — сказал мужик. — Не то коли взять тебя с собою, так ты, Горе горемычное, хоть не скоро, а все же пропьешь и эти деньги!" Воротился мужик на деревню, купил лесу, выстроил большие хоромы и зажил вдвое богаче своего брата. Случилось позвать ему брата на именины; уподчивал его и медами, и винами. Спрашивает тот, откуда ему досталось такое добро? Мужик рассказал все по чистой совести. Завистно стало богатому: дай, думает, поеду в чистое поле, подыму камень да выпущу Горе; пусть оно дотла разорит брата! Погнал в поле, своротил камень в сторону и только нагнулся посмотреть в яму, а уж Горе выскочило и уселось ему на шею: "А, — кричит, — ты хотел меня уморить! Теперь от тебя ни за что не отстану". — "Это мой брат засадил тебя, а я пришел тебя выпустить!" — "Нет, врешь! Раз обманул, в другой не проведешь!" Крепко насело Горе богатому купцу на шею; привез он его домой, и с той поры пошло у него все хозяйство вкривь да вкось. Горе уж с утра за свое принимается, каждый день зовет опохмелиться; много добра в кабак ушло! В основе сообщенных нами преданий кроется мысль, что Доля и Недоля — не просто олицетворения отвлеченных понятий, не имеющие объективного бытия, а напротив — живые мифические лица, тождественные девам судьбы (рожаницам). До сих пор необразованному люду еще мало доступно понятие о счастье и несчастье как о необходимом последствии тех обстоятельств, в какие ставят человека борьба житейских интересов и его собственные наклонности: предприимчивость, ловкость, догадливость, трудолюбие или апатия, нерасчетливость, лень и так далее. Как болезненные припадки и страдания заставляют простолюдина предполагать удары, наносимые ему демоном, так точно счастье и несчастье, по народному убеждению, обуславливаются добрыми или недобрыми действиями сверхъестественных существ. Доля и Недоля действуют по собственным расчетам, независимо от воли и намерений человека, которому они принадлежат: счастливый вовсе не работает — и живет в довольстве, потому что за него трудится его Доля. Когда Доля покидает своего клиента, перестает на него работать — он впадает в нищету. Несчастный страдает, испытывает всевозможные лишения, потому что Доля его предается сну, праздности или гульбе, бражничает, веселится и не хочет знать никакого труда. Наоборот, деятельность Недоли постоянно направлена во вред человеку; пока она бодрствует — беда следует за бедою, и только тогда становится легче бесталанному, когда засыпает его Недоля: "Коли спит Лихо, не буди ж его".
Особенно важны для ученого исследователя предания о злыднях, соответствующих Горю, Лиху и Недоле сказочного эпоса. Злыднями называются в Малороссии маленькие существа неопределенных образов; где они поселятся, тому дому грозит большое зло: как бы ни было велико богатство хозяина, оно быстро сгинет и на место довольства наступит страшная нищета. Существует клятва: "Най (нехай) го злидни побъють!" У белорусов сохранилась пословица: "Впросилися злыдни на три дни, а в три годы не выживешь!" Своим крохотным ростом и неугомонным характером они напоминают домовых карликов (злых эльфов, кобольдов, кикимор) и тем самым дают новое свидетельство о древнейшей связи мифических олицетворений судьбы и смерти с духами стихийными, грозовыми. Подобно марам, злыдни, поселяясь в домах, живут невидимками и непременно за печкою; то же рассказывается о Горе, Нужде и Кручине. И мары, и злыдни странствуют по свету и располагаются на житье обществами; точно так же, по свидетельству народных поговорок, "беда не приходит одна", "беды вереницами ходят". Как злой кобольд или мар, Горе наседает на спину бедняка; в одной из сказок Горе похваляется, что нет такой щели, куда бы не могло оно спрятаться, и в подтверждение слов своих влезает в ступицу колеса; по другому рассказу, Нужда ночует в корчаге: ясно, что народному воображению они представляются малютками, карлами. Но есть и другие черты, роднящие их со стихийными духами. Так, великорусская песня наделяет Горе чудесною способностью превращений; изображая бегство удалого добра молодца от неустанно преследующего Горя, она живописует следующую поэтическую картину:
Повернулся добрый молодец ясным соколом, Поднимался выше леса под самые облаки, А Горюшко вслед черным вороном И кричит громким голосом: "Не на час я к тебе Горе привязалося!" Падет добрый молодец серым волком, Стал добрый молодец серым волком доскакивать, А Горюшко вслед собакою.В одном из многих вариантов сказки о двух братьях, счастливом и бессчастном, Доля является в образе мыши, что стоит в несомненной связи с представлением души-эльфа (пената, оберегающего семейное счастье и богатство) этим шаловливым зверьком. Почти у всех индоевропейских народов сохраняется предание о Ветре, который за развеянную им у бедного крестьянина муку дарит ему желанные (счастливые) вещи. Те же самые диковинки получает сказочный герой и от своей Доли. Жили-были два брата: старший — богатый да злой, меньший — работящий, добрый да бедный. Что ни делал бедняк, все ему не удавалось. Вот он вздумал и пошел искать свою Долю; долго ли, коротко ли — нашел ее в поле: лежит себе Доля, прохлаждается! Стал ее бить плетью, а сам приговаривает: "Ах ты, Доля ленивая! у других людей Доли ночь не спят, все для своих хозяев труждаются; а ты и днем ничего не делаешь. По твоей милости мне скоро и с женой и с детками с голоду умирать придется!" — "Полно, перестань драться! — отвечает ему Доля. — Вот тебе лубочный кузовок — только раскрой, будет что и попить и поесть тебе". Мужик пришел домой, раскрыл кузовок, а там — чего только душа желает! Старший брат прослышал про то, пришел и отнял у него диковинку силою. Отправился бедняк опять к Доле; она ему дала золотой кузовок. Вышел он на дорогу, не стал долго раздумывать — тотчас же открыл золотой кузовок: как выскочат оттуда молодцы с дубинками и давай его бить! Больно прибили и спрятались в кузов. "Ну, думает мужик, этот кузовок не накормит, не напоит, а больше здоровья отымет! Не хочу его и брать-то с собою!" Бросил золотой кузов на землю и пустился в путь; прошел с версту, оглянулся назад, а кузов у него за плечами висит. Испугался мужик, сбросил его долой и побежал во всю прыть; бежит, ажио задыхается! Оглянулся назад — а кузов опять за плечами... Нечего делать, принес его домой. Старший брат польстился на золотой кузовок, пришел меняться: "Я тебе, — говорит, — отдам лубочный кузовок, а ты подавай сюда золотой". Поменялся, да потом долго-долго помнил эту неудачную мену. Первый кузовок соответствует скатерти-самобранке, а второй — кнуту-самобою (метафоры дождевой тучи, поящей и насыщающей мать-сыру землю, и Перуновой плети — молнии). Эти диковинки, принадлежащие богу ветров и бурных гроз, в настоящем рассказе принимаются в значении тех даров счастья, какими наделяют смертных вещие девы судьбы. В одной из лубочных сказок невидимка-Кручина (Горе), выскочив из-за печки, отымает у бедного старика последнюю краюху хлеба, а потом дарит ему утку, несущую золотые яйца...
Возвращаемся к злыдням; в народной сказке они играют ту же роль, что и Горе. Было два брата: убогий и богатый. Убогий наловил рыбы и понес на поклон богатому в день его именин. "Славная рыба! — сказал тот. — Спасибо, брат, спасибо!" — и только; не дал ничего ему на бедность и даже к себе не позвал. Сгрустнулось убогому, повесил он голову и пошел со двора. На дороге повстречался ему старичок: "Что ты, детинушка, такой невеселый?" Бедняк рассказал свое горе. "Что ж, — сказал старик, — спасибо — дело великое! Продай мне его". — "Как же продать-то его? Бери, пожалуй, даром!" — "Так спасибо мое!" — молвил старик, сунул ему мошну в руки — и с глаз пропал. Мужик посмотрел — полна мошна золота, радехонек воротился к жене, купил себе новый дом и живо перебрался на новоселье, а старую избушку запер, заколотил наглухо. Как-то разговорился он с женою про свое прежнее убожество. "Неладно, Иван, — говорит баба, — что мы покинули в старой избушке свои жернова; ведь они нас кормили при бедности, а теперь как ненадобны стали — мы и забыли про них!" — "Правда твоя!" — отвечал Иван и поехал за жерновами. Приехал — покинутое жилье полынью поросло, и слышатся ему голоса из ветхой избушки: "Злодей Иван! Стал богат — нас покинул, запер тут на долгую муку". — "Да вы кто такие? — спрашивает Иван. — Я вас совсем не знаю". — "Не знаешь! Видно, забыл нашу верную службу: мы твои злыдни!" — "Бог с вами! Мне вас не надо!" — "Нет, уж мы от тебя не отстанем!" — "Постойте же!" —¦ думает Иван и говорит вслух: "Хорошо, я возьму вас, только с тем уговором, чтобы вы донесли жернова на своих плечах". Припутал к ним тяжелые жернова и заставил идти впереди себя. Надо было переходить через глубокую реку по мосту: мужик собрался с силою, да как толканет — и пошли злыдни как ключ ко дну. Окончание этой сказки — то же самое, что и выше приведенной про Горе горемычное...
В сербских приповедках Караджича напечатан превосходный рассказ о Судьбе и двух Долях, дополняющий некоторыми любопытными подробностями предания нашего сказочного эпоса. Жили вместе, сообща двое братьев: один — работящий, а другой — беспечный и ленивый. "Что мне на брата трудиться!" — думает работящий — и вот они разделились. У работящего все пошло не впрок, на убытки; а ленивый богатеет себе, да и только. Идет однажды бессчастный и видит на ливаде стадо овец, пастуха нет, а заместо него сидит прекрасная девица и прядет золотую нитку. "Чьи это овцы и кто ты сама?" — "Я — Доля твоего брата, и овцы ему принадлежат". — "А где ж моя Доля?" — "Далеко от тебя! Ступай поищи ее". Бессчастный зашел к брату, и тот, видя его боса и нага, сжалился и подарил ему постолы[176]. Повесив на спину торбу и взяв в руки палку, бедняк отправился искать свою Долю; шел-шел и попал в лес, смотрит — под одним дубом спит седая старуха. Он размахнулся палкою и ударил ее по заду. "Моли бога, что я спала! — сказала старуха, открывая глаза. — А то не добыть бы тебе и постолов!" — "Что так?" — "Да я — твоя Доля!" Вслед за этим посыпались на нее удары: "Если ты — моя Доля, то убей тебя бог! Кто мне дал тебя убогую?" — "Судьба", — отвечала Доля. Бедняк отправляется искать Судьбу; встречные на пути, расспросив, куда он идет, умоляют его разведать о своей участи... Наконец странник является к Судьбе; в то время она жила богато, весело, в большом дворце, но потом с каждым днем становилась все бедней и беднее, а дом ее меньше и печальнее; каждую ночь Судьба назначала младенцам, народившимся в продолжение суток, точно такую же долю, какою пользовалась сама в истекший день. На расспросы пришельца она сказала ему: "Ты родился в сиротинскую ночь — такова и доля твоя!" — и посоветовала ему взять к себе братнину дочь Милицу, рожденную в счастливый час, и все, что бы ни приобрел он, — не называть своим, а Милициным. Бессчастный последовал этому мудрому совету и с той поры стал жить в довольстве. Раз как-то был он на ниве, на которой уродилось славное жито; проходил мимо путник и спросил: "Чье это жито?" Хозяин в забывчивости отвечал: "Мое!" — в тот же миг вспыхнула его нива. Увидя огонь, бросился он догонять прохожего: "Постой, брате! Это жито не мое, а моей племянницы Милицы". И как только вымолвил эти слова — тотчас пожар затих и погас...
Ведуны, ведьмы, упыри и оборотни
Народные предания ставят ведуна и ведьму в весьма близкое и несомненное сродство с теми мифическими существами, которыми фантазия издревле населяла воздушные области. Но есть и существенное между ними различие: все стихийные духи более или менее удалены от человека, более или менее представляются ему в таинственной недоступности; напротив, ведуны и ведьмы живут между людьми и с виду ничем не отличаются от обыкновенных смертных, кроме небольшого, тщательно скрываемого хвостика...
Ведун и ведьма (ведунья, вещица) — от корня вед, вещ — означают вещих людей, наделенных духом предвидения и пророчества, поэтическим даром и искусством целить болезни. Названия эти совершенно тождественны со словами: знахарь и знахарка — указывающими на то же высшее ведение. Областные говоры, летописи и другие старинные памятники предлагают несколько синонимов для обозначения ведуна и ведуньи, называют их колдунами, чародеями, кудесниками и волхвами, вещими женками, колдуньями, чаровницами, бабами-кудесницами и волхвитками. Чары — это те суеверные, таинственные обряды, какие совершаются, с одной стороны, для отклонения различных напастей, для изгнания нечистой силы, врачевания болезней, водворения семейного счастья и довольства, а с другой — для того, чтобы наслать на своих врагов всевозможные беды и предать их во власть злобных, мучительных демонов. Чаровник, чародеец — тот, кто умеет совершать подобные обряды, кому ведомы и доступны заклятия, свойства трав, корений и различных снадобей; очарованный — заклятый, заколдованный, сделавшийся жертвою волшебных чар...
Слово "колдун" в коренном его значении доселе остается неразъясненным. По мнению Срезневского, колдуном (славянский корень клъд-колд или калд-клуд-куд) в старое время называли того, кто совершал жертвенные приношения; в хорутанском наречии калдовати — приносить жертву, калдованц —жрец, калдовница и калдовише — жертвенник. В словаре Даля колдовать истолковано: ворожить, гадать, творить чары ("чем он колдует? снадобьями, наговорами"). Наконец, волхв — название, известное из древних рукописей и доныне уцелевшее в лубочных сказках и областных говорах...
Итак, обзор названий, присваивавшихся ведунам и ведьмам, наводит нас на понятия: высшей, сверхъестественной мудрости, предвидения, поэтического творчества, знания священных заклятий, жертвенных и очистительных обрядов, умения совершать гадания, давать предвещания и врачевать недуги. Все исчисленные дарования исстари признавались за существенные, необходимые признаки божественных и демонических существ, управлявших дождевыми тучами, ветрами и грозою. Как возжигатель молниеносного пламени, как устроитель семейного очага, бог-громовник почитался верховным жрецом. С тем же жреческим характером должны были представляться и сопутствующие ему духи и нимфы. Как обладатели небесных источников, духи эти и нимфы пили "живую воду" и в ней обретали силу поэтического вдохновения, мудрости, пророчества и целений, — словом, становились вещими — ведунами и ведьмами. Но те же самые прозвания были приличны и людям, одаренным особенными талантами и сведениями в деле вероучения и культа; таковы служители богов, гадатели, ворожеи, врачи, лекарки и поэты, как хранители мифических сказаний. В отдаленную эпоху язычества ведение понималось как чудесный дар, ниспосылаемый человеку свыше; оно по преимуществу заключалось в умении понимать таинственный язык обожествленной природы, наблюдать и истолковывать ее явления и приметы, молить и заклинать ее стихийных деятелей; на всех знаниях, доступных язычнику, лежало религиозное освящение: и древний суд, и медицина, и поэзия — все это принадлежало религии и вместе с нею составляло единое целое. "Волсви и еретицы и богомерские бабы-кудесницы и иная множайшая волшебствуют", — замечает одна старинная рукопись, исчислив разнообразные суеверия. Колдуны и колдуньи, знахари и знахарки до сих пор еще занимаются по деревням и селам врачеваниями. Болезнь рассматривается народом как злой дух, который после очищения огнем и водою покидает свою добычу и спешит удалиться. Народное лечение главнейшим образом основывается на окуривании, обрызгивании и умывании, с произнесением на болезнь страшных заклятий. По общему убеждению, знахари и знахарки заживляют раны, останавливают кровь, выгоняют червей, помогают от укушения змеи и бешеной собаки, вылечивают ушибы, вывихи, переломы костей и всякие другие недуги; они знают свойства как спасительных, так и зловредных (ядовитых) трав и кореньев, умеют приготовлять целебные мази и снадобья... В травах, по народному поверью, скрывается могучая сила, ведомая только чародеям; травы и цветы могут говорить, но понимать их дано одним знахарям, которым и открывают они, на что бывают пригодны и против каких болезней обладают целебными свойствами. Колдуны и ведьмы бродят по полям и лесам, собирают травы, копают коренья и потом потребляют их частью на лекарства, частью для иных целей; некоторые зелья помогают им при розыске кладов, другие наделяют их способностью предвидения, третьи необходимы для свершения волшебных чар. Сбор трав и корений главным образом совершается в середине лета, на Ивановскую ночь, когда невидимо зреют в них целебные и ядовитые свойства. Грамота игумена Памфила[177] 1505 года восстает против этого обычая в следующих выражениях: "Исходят обавници, мужи и жены-чаровници по лугам и по болотам, в пути же и в дубравы, ищуще смертные травы и привета чревоотравнаго зелиа, на пагубу человечеству и скотом; ту же и дивиа копают корениа на потворение и на безумие мужем; сиа вся творят с приговоры действом дияволим". Заговоры и заклятия, эти обломки древнеязыческих молитвенных возношений, доныне составляют тайную науку колдунов, знахарей и знахарок; силою заповедного слова они насылают и прогоняют болезни, делают тело неуязвимым для неприятельского оружия, изменяют злобу врагов на кроткое чувство любви, умиряют сердечную тоску, ревность и гнев, и наоборот — разжигают самые пылкие страсти, — словом, овладевают всем нравственным миром человека. Лечебные заговоры большею частию произносят над болящим шепотом, почему глагол шептать получил значение: колдовать; шептун — колдун, наговорщик, шоптунья или шептуха — колдунья; у южных славян лекарь называется мумлавец от мумлати — нашептывать; в некоторых деревнях на Руси слово ворожея употребляется в смысле лекарки, ворожиться — лечиться, приворожа — таинственные заклятья, произносимые знахарями, ворожбит — колдун, знахарь.
В народной медицине и волшебных чарах играют значительную роль наузы, узлы, навязки — амулеты...
Знахарям, занимавшимся навязыванием таких амулетов, давались названия наузника и узольника. Наузы состояли из различных привязок, надеваемых на шею: большею частию это были травы, коренья и иные снадобья (уголь, соль, сера, засушенное крыло летучей мыши, змеиные головки, змеиная или ужовая кожа и проч.), которым суеверие приписывало целебную силу от той или другой болезни; смотря по роду немощи, могли меняться и сами снадобья. Иногда, вместо всяких целительных средств, зашивалась в лоскут бумажка с написанным на ней заговором и привешивалась к шейному кресту. У германских племен привязывались на шею, руку или другую часть тела руны (тайные письмена) для излечения от болезни и противодействия злому колдовству... В христианскую эпоху употребление в наузах ладана (который получил особенно важное значение, потому что возжигается в храмах) до того усилилось, что все привязки стали называться ладанками — даже и тогда, когда в них не было ладану. В XVII веке был приведен в приказную избу и наказан батогами крестьянин Игнашка за то, что имел при себе "корешок невелик, да травки немного завязано в узлишки у (шейного) креста". Навешивая на себя лекарственные снадобья или клятвенные, заговорные письмена, силою которых прогоняются нечистые духи болезней, предки наши были убеждены, что в этих наузах они обретали предохранительный талисман против сглаза, порчи и влияния демонов и тем самым привязывали, прикрепляли к себе здравие. Подобными же наузами девы судьбы привязывали новорожденным младенцам дары счастья — телесные и душевные совершенства, здоровье, долголетие, жизненные радости и проч. Народные сказания смешивают дев судьбы с вещими чародейками и возлагают на тех и других одинаковые обязанности. Так, скандинавские вёльвы отождествляются с норнами: присутствуют и помогают при родах и предсказывают . будущую судьбу младенца. В той же роли выступали у славян вещие женки, волхвицы; на это указывают: с одной стороны, обычай приносить детей к волхвам, которые и налагали на них наузы, а с другой стороны — областной словарь, в котором повитуха, помощница при родах, называется бабка, глагол же бабкать означает: нашептывать, ворожить.
Но приведенное нами объяснение далеко не исчерпывает всех поводов и побуждений, какими руководствовались в старину при наложении науз. Речения связывать, делать узлы, опутывать могут служить для указания различных оттенков мысли и, смотря по применению, получают в народных преданиях и обрядах разнообразное значение. В заговорах на неприятельское оружие выражения эти означают то же, что запереть, забить вражеские ружья и тулы, чтоб они не могли вредить ратнику: "Завяжу я (имярек) по пяти узлов всякому стрельцу немирному, неверному, на пищалях, луках и всяком ратном оружии. Вы, узлы, заградите стрельцам все пути и дороги, замкните все пищали, опутайте все луки, повяжите все ратные оружия; и стрельцы бы из пищалей меня не били, стрелы бы их до меня не долетали, все ратные оружия меня не побивали. В моих узлах сила могуча змеиная сокрыта — от змея двунадесятьглавого". По сходству ползучей, извивающейся змеи и ужа с веревкою и поясом, сходству, отразившемуся в языке (ужище — веревка, гуж и уж; в народной загадке пояс метафорически назван ужом), чародейным узлам заговора дается та же могучая сила, какая приписывается мифическому многоглавому змею. В старину верили, что некоторые из ратных людей умели так "завязывать" чужое оружие, что их не брали ни сабли, ни стрелы, ни пули. Такое мнение имели современники о Стеньке Разине...
Вещие мужи и женки призываются для унятия разгневанного домового, кикимор и разных враждебных духов, овладевших жильем человека; они обмывают притолки от лихорадок, объезжают с особенными обрядами поля, чтобы очистить их от вредных насекомых и гадов. Когда на хлебные растения нападет червь, то нарочно приглашенная знахарка три зари выходит в поле, нашептывает заклятия и делает при концах загонов узлы на колосьях: это называется "заламывать червей", т. е. преграждать им путь на зеленеющие нивы. Колдун — необходимое лицо на свадьбах; на него возлагается обязанность оберегать молодую чету и всех "поезжан" от порчи. В Пермской губ. при невесте всегда находится знахарка, а при женихе — знахарь. Этот последний идет впереди свадебного поезда с озабоченным лицом, озираясь по сторонам и нашептывая: по народному объяснению, он борется тогда с нечистою силою, которая следует за новобрачными и строит им козни. Вообще в затруднительных обстоятельствах жизни: нападет ли на сердце кручина, приключится ли в доме покража или другая беда, отгуляет ли лошадь, угрожает ли мщение врага и т. д. — во всех этих случаях крестьяне прибегают к колдунам и колдуньям и просят их помощи и советов... Колдуны и ведуньи тотчас обличают вора и находят потерянную вещь. Они обладают способностью проникать в чужие мысли, знают все былое, настоящее и грядущее; для них достаточно посмотреть человеку в очи или прислушаться к его голосу, чтобы в ту же минуту овладеть его тайною. От глубокой древности до наших дней их считают призванными совершать гадания, ворожить и давать предвещания. Князь Олег обращался к волхвам с вопросом: какая суждена ему смерть? и получил в ответ: "Князь! Ты умрешь от любимого коня". Рассказавши о том, как сбылось это предвещание, летописец прибавляет: "Се же дивно есть, яко от волхования сбывается чародейством"...
Наделяя вещих жен и мужей теми же эпитетами и названиями, которые употреблялись для обозначения облачных духов, присваивая тем и другим тождественные признаки, естественно было породнить и смешать их: за первыми признать стихийные свойства, а последних низвести на землю и поставить в условия человеческой жизни. Большая часть народных поверий о ведунах и ведьмах представляет такие яркие, знаменательные черты древнейших воззрений на природу, которые не оставляют ни малейшего сомнения, что первоначально они могли относиться только к демонам облачного мира. Таковы поверья: а) о наслании ведунами и ведьмами грозовых туч, бурных вихрей и града, б) о скрадывании ими росы, дождей и небесных светил, в) о их полетах в воздушных пространствах, г) о сборищах на "лысой горе", неистовых плясках и нечестивых оргиях, д) о доении ведьмами коров, е) о влиянии колдовства на земное плодородие и, наконец, ж) о волшебной силе оборотничества.
Славянская "Кормчая" (по списку 1282 г.) и "Домострой" называют чародеев облакопрогонниками. Митрополит Даниил[178] советует налагать запрещение на "глаголемых облакопрогонников и чаровников и наузников и волшебников". В Западной Европе существует глубоко укорененное верование, что колдуны и ведьмы могут носиться в тучах, производить грозы, напущать бури, дождевые ливни и град. Верованье это идет из отдаленной древности.
Скандинавская сага говорит о двух полубогинях-получародейках Ирпе и Торгерде, которые производили ненастья, бури и град. Из преданий, сохраненных германскими племенами, узнаем, что колдуны и ведьмы употребляют для этого кружки или чаши. Подобно тому как древние боги и богини проливали из небесных урн дожди и росу, так точно колдуны и ведьмы, уносясь в воздушные выси, посылают из своих кружек разрушительную бурю; опрокидывая одну кружку, они творят гром и молнии, из другой пускают град и метели, из третьей — суровые ветры и ливни. Облака и тучи, содержащие в своих недрах дождь, град и снег, в поэтических сказаниях старины представлялись сосудами, котлами и бочками, в которых изготовлялся и хранился волшебный напиток, или небесными родниками и колодцами. На этих давно позабытых метафорах основаны многие из народных поверий. Так, о ведьмах рассказывают, что, погружая в воду горшки и взбалтывая ее, они вызывают ненастье. С той же целью они потрясают котлом или вздымают пыль против солнечного заката. Сверх того, в своих котлах и горшках они стряпают (варят) непогоду, проливные дожди и град; рассказывают еще, что ведьмы пускают по воде синие огоньки, бросают в воздух кремневые камни (т. е. возжигают в дождевых источниках молнии и мечут "громовые стрелки") и катают бочки, разрыв которых производит грозу и бурю...
В Южной России существует любопытный рассказ о знахаре, который по собственному желанию мог располагать и дождем, и градом. Бывало, во время жатвы надвинется на небо дождевая туча; все бросятся складывать снопы, станут убираться домой, а ему и горя мало! "Не будет дождя!" — скажет он — и туча пройдет мимо. Раз как-то собралась страшная гроза, все небо почернело. Но знахарь объявил, что дождя не будет, и продолжал работать на своей ниве. Вдруг, откуда ни взялся, скачет к нему черный человек на черном коне: "Пусти!" — умоляет он знахаря. "Ни, не пущу! — отвечает тот. — Було не набирать так богато!" Черный ездок исчез, тучи посизели, побледнели, и мужики стали ожидать града. Несется к знахарю другой ездок — весь белый и на белом коне: "Пусти, сделай милость!" — "Не пущу!" — "Эй, пусти, не выдержу!" Знахарь приподнял голову и сказал: "Ну, вже ступай, да тилько у той байрак, що за нивою". И вслед за тем град зашумел по байраку...
На Руси существует поверье, что, когда повеет весна, черти проветривают колдунов и с этой целью подымают их на воздух и держат головами вниз. От малорусов можно услышать следующее предание: работал мужик в поле, глядь — прямо на него летит вихрь. Мужик выхватил из-за пояса секиру и бросил в самую середину вертящего столба пыли. Вихрь понесся дальше и увлек с собою топор, вонзившийся в него, словно в дерево. Вскоре случилось этому мужику остановиться на ночлег в одной деревушке. Было поздно, когда он вошел в хату, в которой еще светился огонь. В хате лежал больной, и на вопрос пришельца домашние сказали: "То наш батько скалечил себя секирою!" Располагаясь спать, мужик ненароком заглянул под лавку и увидел там свой собственный топор. Тотчас узнал он, Что ранил колдуна, и в страхе, чтобы не попасться ему на глаза, поспешил из хаты вон. Таким образом, колдун, увлекаемый буйным ветром, подвергается удару топора — точно так же как выстрел охотника поражает ведьму, несущуюся в бурной туче. О крутящемся вихре крестьяне наши думают, что это вертится нечистый дух, что это — свадебная пляска, которой предается он вместе с ведьмою. Чехи о том же явлении выражаются: ведьмы чаруют — подымают вихрь. Чтобы напугать путников, ведьмы нередко превращаются пыльным столбом и мчатся к ним навстречу с неудержимою быстротою. По народному поверью, если в столб пыли, поднятый вихрем, бросить острый нож, то можно поранить черта или ведьму, и нож упадет на землю весь окровавленный. Канцлер Радзивил[179], описывая в своих мемуарах страшную бурю, которая была 5 мая 1643 года, утверждает, что ее произвели ведьмы. Так глубоко проникли в народное убеждение заветы старины, что и самые образованные люди XVII века не теряли к ним доверия. Отсюда становится понятною примета, по которой ни одна баба не должна присутствовать при отправлении рыбаков в море. Особенно стараются, чтобы она не видела, как забирают и кладут в лодку рыболовные и мореходные снасти: не то ожидай большой беды! Примета эта возникла из боязни морской бури, которую может наслать тайная колдунья, если только сведает про отъезд рыбаков. Желая произвести засуху, ведьма — как скоро покажется дождевая туча — машет на нее своим передником, и туча удаляется с горизонта. С помощью "громовых стрелок" чародейки могут низводить с неба молнии, зажигать дома и поражать людей; словенские вештицы, подобно вилам, владеют губительными стрелами.
В Малороссии рассказывают, что ведьмы скрадывают с неба дождь и росу, унося их в завязанных кринках или мешках (в облачных сосудах и мехах) и запрятывая в своих хатах и каморках (кладовых). В старые годы похитила ведьма дождь, и во все лето не упало его ни единой капли. Раз она ушла в поле, а дома оставила наймичку и строго наказала ей не дотрагиваться до горшка, что стоял под подкутом. Мучимая любопытством, наймичка достала горшок, развязала его, смотрит: внутри не видать ничего, только слышится исходящий оттуда неведомый голос: "Вот будет дождь! Вот будет дождь!" Испуганная наймичка выскочила в сени, а дождь уже льется — словно из ведра! Скоро прибежала хозяйка, бросилась к горшку, накрыла его — и дождь перестал. После того принялась бранить наймичку: "Если б еще немного оставался горшок непокрытым, — сказала она, — то затопило бы всю деревню!" Рассказ этот передается и с некоторыми отменами: ведьма запретила наймичке входить в одну из своих кладовых, где стояли завязанные кадки; та нарушила запрет, развязала кадки и нашла в них жаб, ужей, лягушек и других гадов; гады подняли страшный гам и расползлись в разные стороны. И что же? То было ясно, тихо, безоблачно, а тут откуда что взялось! — понадвинулась черная-черная туча, подули ветры, и полился дождь. Ведьма поскорей домой, посбирала гадин, сложила в кадки, завязала, и только это сделала, как дождь перестал идти. Принимая дожденосные облака за небесные источники, озера и реки, фантазия древнего человека населила их теми же гадами, какие обитают в водах низменного мира: жабами, лягвами и ужами. Если припомним, что сверкающие в тучах молнии уподоблялись змеям и ужам, что самые тучи олицетворялись демоническими змеями (гидрами, драконами) и что исстари представления эти были распространяемы и на других водяных гадов, то для нас будет понятно, почему змеи, ужи, лягушки и жабы признаны были созданием нечистой силы, сокрывателями и проводниками дождей, а их шипенье и кваканье — знамением небесных громов... Потому-то колдуны и ведьмы и стараются окружать себя всеми исчисленными гадами и пользуются ими как необходимыми орудиями при совершении своих чар. Баба-яга и ведьмы варят в котлах или поджаривают на огне (т. е. в грозовом пламени) жаб, змей и ящериц, приготовляют из них волшебные составы и сами питаются их мясом; они нарочно приходят к источникам, скликают гадов и кормят их творогом...
В бурных грозах древние племена узнавали битвы облачных духов, и потому как валькирии и вилы помогают сражающимся героям, а ведогони одной страны воюют с ведогонями соседних земель, так и ведьмы (по малорусскому сказанию) слетаются на границе и сражаются одни против других. Вооруженные небольшими мечами, они наносят друг другу удары, и при этом приговаривают: "Що втну, то не перегну!" — чтобы удары меча не были смертельными. Таким образом ведьмы, после каждого поражения, восстают снова к битве, подобно воюющим героям валгаллы, которые если и падают бездыханными трупами, то всякий раз воскресают на новые подвиги. В ночь накануне духова дня ведьмы воруют деревянные мечики, которыми поселянки трут конопли, затыкают их за пояс и, слетаясь на Лысую гору или пограничные места, рубятся ими, как саблями... Ведьмы не остаются равнодушными и к народным битвам; помогая той стороне, которая прибегла к их чародейной помощи, они напускают на вражескую рать сокрушительные вихри и вьюги.
В XVI веке ходила молва, что во время осады Казани (в 1552 году) татарские колдуны и колдуньи, стоя на городских стенах, махали одеждами на русское войско и посылали на него буйные ветры и проливные дожди: "Егда солнце начнет восходити, взыдуть на град, всем нам зрящим, ово престаревшие их мужи, ово бабы, и начнут вопияти сатанинския словеса, машуще одеждами своими на войско наше и вертящеся неблагочинне. Тогда абие востанет ветр и сочинятся облаки, аще бы и день ясен зело начинался, и будет такий дождь, и сухия места в блато обратятся и мокроты исполнятся; и сие точию было над войском, а по сторонам несть". Своим заповедным словом колдуны и ведьмы могут давать бранному оружию победоносную силу и неизменную меткость и, наоборот, могут заговаривать его так, что удары и выстрелы его делаются совершенно безвредными: первоначальный смысл этого поверья был тот, что колдуны и ведьмы, возбуждая грозы, посылают разящие молнии, а похищая дожди и производя засуху, тем самым завязывают лук и стрелы бога-громовника.
Послушные волшебным чарам, тучи сгущаются, закрывают небесные светила, претворяют ясный день в темную ночь. Отсюда возникло убеждение, что ведуны и ведьмы скрадывают солнце, луну и звезды, что их шумные сборища и воздушные полеты происходят обыкновенно по ночам...
На Руси есть поверье, что ведьмы, скрадывая с неба месяц и звезды, складывают их в горшки и кувшины и прячут в глубоких погребах или опускают в криницы, т. е. скрывают (погребают, хоронят) их за дождевыми тучами. Случится ли затмение, или густые облака неожиданно заволокут небесные светила, поселяне с наивно-детским, но твердым убеждением обвиняют в похищении их колдунов, ведьм и злых духов, которым во мраке удобнее творить безбожные дела и уловлять в свои сети христиан. О падающих звездах в Малороссии говорят, что их уносит ведьма и прячет в кувшины. С особенною ревностью занимаются ведьмы скрадыванием месяца и звезд на праздники Коляды и Купалы, когда бывают главные ведовские сборища и нечистая сила предается самому дикому разгулу...
У нас сохранилось следующее причитанье:
Красная девица По бору ходила, Болесть говорила, Травы собирала, Корни вырывала, Месяц скрала, Солнце съела. Чур ее колдунью, Чур ее ведунью!Здесь ведьма, подобно змею и великанам, представляется съедающею солнце, т. е., погружая это светило в тучи, она тем самым в качестве облачной жены принимает его в свои собственные недра — проглатывает его.
Распоряжаясь стихийными явлениями природы, двигаясь вместе с грозовыми тучами, ведуны и ведьмы могут переноситься с места на место с быстротою крылатого ветра. Представление колдовства везде неразлучно с полетами и поездами по воздуху, через горы и долы. Обычными орудиями воздушных полетов колдунов и ведьм, по немецким, литовским и славянским рассказам, служат: метла (помело, веник), кочерга, ухват, лопата, грабли и просто палка (костыль) или прут. Верхом на метле или граблях ведьма летает по поднебесью: это не более как поэтическая картина ветра, несущего на своих крыльях облачную жену-чародейку. Ветер представлялся помелом, потому что метет туманы и тучи и расчищает небо; представлялся граблями, потому что скручивает облака — сгребает их в густые, темные массы: образы, взятые из быта земледельческого народа. В числе различных мифических представлений молнии она уподоблялась карающей палке, лозе или пруту; сама же туча, сверкающая молниями, рисовалась воображению младенческих племен небесною печью, очагом, на котором высочайший владыка огня и верховный жрец (бог-громовник) возжигает свое чистое пламя. Вместе с этим громовая палица получила значение кухонного орудия: а) кочерги, которою мешается жар и разбиваются горящие головни, б) ухвата и лопаты, с помощью которых сажаются в печь приготовленные яства. В областных говорах кочерга называется ожог (ожиг), а печная лопата — пёкло. Вот почему о ведьмах, ночной полет которых сопровождается блестящими огоньками-молниями, народные предания утверждают, что они, садясь на кочергу, ухват, лопату или веник, вылетают в дымовую трубу, следовательно, тем же путем, каким являются огненные змеи и нечистые духи, прилетающие в виде птиц, т. е. грозовые демоны...
По русскому поверью, у ведьмы постоянно хранится вода, вскипяченная вместе с пеплом купальского костра. Когда она захочет лететь, то обрызгивает себя этой водою — и тотчас подымается на воздух и мчится, куда только вздумает. С той же целью ведьма старается добыть траву ти(е)рлич, корень ее варит в горшке и приготовленным снадобьем мажет у себя под мышками и коленками и затем с быстротою молнии уносится в трубу. Соку тирлича приписывается чудесное свойство делать человека оборотнем и сообщать ему силу полета: по всему вероятно, здесь таится воспоминание о Перуновой траве (молнии); чародейное же снадобье (мазь) есть живая вода дождя, которую кипятят ведьмы в облачных котлах и сосудах при помощи грозового пламени...
Русские ведьмы и баба-яга носятся по воздуху в железной ступе (котле-туче), погоняя пестом или клюкою (громовою палицею) и заметая след помелом, причем земля стонет, ветры свищут, а нечистые духи издают дикие вопли. Когда они собираются на Лысой горе, там горят огни яркие и кипят котлы кипучие. Таким образом, кипятят на грозовом пламени дождевую влагу, и, опрыскиваясь ею, ведьмы совершают свои воздушные полеты и посылают на поля и леса разрушительные бури, с градом, ливнями и вьюгою. Ведуны и ведьмы обладают и другими баснословными диковинками, служившими некогда для поэтического обозначения летучего облака: по свидетельству сказок, они хранят у себя живую и мертвую воды, летают на коврах-самолетах и обуваются в сапоги-скороходы...
Как властелины вихрей, колдуны и ведьмы могут насылать на своих ненавистников и соперников порчи по ветру, подымать их на воздух и кружить там со страшною, ничем не удержимою быстротою. Так, существует рассказ, что один колдун, из ревности к молодому парню, заставил его целые месяцы носиться в стремительном вихре. Неведомая сила подхватила его на воздух, закружила и понесла все выше и выше. Томимый голодом и жаждою, летел он — сам не ведая куда. Отчаянные жалобы его не достигали до людей, никто не видел его жгучих слез, несчастный иссох до костей и не чаял себе спасения. Когда наконец буйный вихрь оставил его, парень спустился на землю. Пытаясь отомстить своему ворогу, он отыскал хитрую колдунью и прибегнул к ее помощи. Чародейка запалила в печи зелье — и среди ясного, безоблачного дня вдруг завыл ветер, схватил колдуна и понес его высоко над землею. С той поры кружился он по воздуху в неистовой пляске, а за ним носились стаи крикливых ворон и галок. Когда ведьма пожелает призвать кого-нибудь из дальней стороны, она варит корень тирлича, и как только вода закипит .— в ту же минуту призываемый "зниметця и полетать як птах". В своем воздушном полете он томится жаждою и беспрерывно повторяет возглас: "Пить, пить!" Чаще всего чародейки пользуются этим средством для призыва своих возлюбленных. Заваривая зелье, они приговаривают: "Терлич, терлич! Мого милого прикличь". Чем сильнее закипает снадобье, тем выше и быстрее он несется: "Як дуже зилля кипить (говорят малорусы) — милий поверх дерева летить; а як не дуже — о половини дерева" — и в этом последнем случае легко можно налететь на древесный ствол и ушибиться до смерти...
По русскому поверью, ведьмы во время купальского сборища приезжают на Лысую гору не только на помелах, но и на борзых, неутомимых скакунах; в сказках они наделяют героев чудесными летучими конями. Разъезжая на волках или конях, взнузданных и бичуемых змеями, ведьмы, собственно, летают на бурно несущихся облаках и погоняют их молниями. С течением времени, когда память народная позабыла первичные основы и действительный смысл зооморфизма, сказания о небесных животных были перенесены на их земных близнецов. Ведьмам стали приписывать поездку на обыкновенных волках, лошадях и кошках, стали окружать их стаями лесных зверей и змеями ползучими, осужденными пресмыкаться на земле, а не парить по поднебесью. По мнению русского простонародья, волчье сердце, когти черной кошки и змеи составляют необходимую принадлежность чародейных составов, приготовляемых колдунами и ведьмами. Обычное в народной поэзии олицетворение облаков и ветров легкокрылыми птицами также не осталось без влияния на суеверные представления о колдовстве. Впрочем, предания чаще говорят о превращении ведунов и ведьм в различных птиц, чем о полетах на этих воздушных страницах. Петуху, как мы знаем, присвоялось в язычестве особенно важное значение. Как представитель грозового пламени жертвенного очага, он и доныне считается необходимым спутником вещих мужей и жен. Немцы знают о воздушных поездках ведьм на черном петухе. Чехи рассказывают о колдуне, которой ездил в маленькой повозке, запряженной петухами. А русские поселяне убеждены, что при ведьме всегда находятся черный петух и черная кошка. Заметим, что в старину осужденных на смерть ведьм зарывали в землю вместе с петухом, кошкою и змеею. Колдуны обыкновенно представляются стариками с длинными седыми бородами и сверкающим взором. О ведьмах же рассказывают, что это — безобразные старухи незапамятных лет или молодые красавицы. Такое мнение, с одной стороны, согласуется с действительным бытом младенческих племен, ибо в древности все высшее, священное "ведение" хранили старейшие в родах и семьях; а с другой стороны — совпадает с мифическим представлением стихийных сил природы. Облака и тучи (как не раз было указано) рисовались воображению наших предков и в мужском олицетворении бородатых демонов, и в женских образах — то юных, прекрасных и полногрудных нимф, несущих земле дожди и плодородие, то старых, вражеских баб, веющих стужею и опустошительными бурями. В ночную пору ведьмы распускают по плечам свои косы и, раздевшись догола, накидывают на себя длинные белые и не подпоясанные сорочки (или саваны), затем садятся на метлы, заваривают в горшках волшебное зелье и вместе с клубящимися парами улетают в дымовые трубы творить порчи и злые дела или гулять на Лысой горе. По рассказам поселян, когда ведьма собирает росу, доит чужих коров или делает в полях заломы — она всегда бывает в белой сорочке и с распущенными волосами.. Своими развевающимися косами и белыми сорочками (поэтические обозначения облачных прядей и покровов) ведьмы сближаются с русалками, вилами и эльфами. Наравне с этими мифическими существами они признаются за небесных прях, изготовляющих облачные ткани...
И ведуны, и ведьмы любят превращаться в клубок пряжи и в этом виде с неуловимой быстротою катаются по дворам и дорогам. Иногда случается: вдруг раздастся на конюшне страшный топот, лошади начинают беситься и рваться с привязи, и все оттого, что по стойлам и яслям катается клубок-оборотень, который так же внезапно появляется, как и пропадает. В славянских сказках ведьма или баба-яга дает странствующему герою клубок; кинутый наземь, клубок этот катится впереди странника и указывает ему дорогу в далекое, неведомое царство. Малорусы обвиняют ведьм в покраже тех снарядов, которыми трут лен...
Уподобляя облака одеждам, сорочкам, тканям, фантазия древнего человека стала изображать грозу в поэтической картине стирки белья: небесные прачки-ведьмы бьют громовыми вальками и полощут в дождевой воде свои облачные покровы. Эти и другие представления стихийных сил природы, представления, заимствованные от работ, издревле присвоенных женщинам (как-то: пряжа, тканье, мытье белья, доение коров и приготовление яств), послужили основанием, почему в чародействе по преимуществу обвиняли жен и дев и почему ведьмы пользуются в народных преданиях более видною и более значительною ролью, нежели колдуны и знахари. Нестор выражает общее, современное ему воззрение на женщину в следующих словах: "Паче же женами бесовская волъшванья бывають; искони бо бес жену прелсти, си же мужа; тако в си роди много волхвують жены чародейством и отравою и инеми бесовьскыми козньми?"
Лысая гора, на которую вместе в бабою-ягою и нечистыми духами собираются ведуны и ведьмы, есть светлое, безоблачное небо. Сербские вещицы прилетают на "пометно гумно": так как громовые раскаты уподоблялись нашими предками стуку молотильных цепов, а вихри, несущие облака, метлам, то вместе с этим небесный свод должен был представляться гумном или током. Выражение: "Ведьмы летают на Лысую гору" — первоначально относилось к мифическим женам, нагоняющим на высокое небо темные, грозовые тучи. Позднее, когда значение этих метафор было затеряно, народ связал ведовские полеты с теми горами, которые высились в населенных им областях. Так, малорусы говорят о сборщиках ведьм на Лысой горе, лежащей на левой стороне Днепра, у Киева, этого главного города Древней Руси, где некогда стояли кумиры и был центр языческого культа. От этого и самой ведьме придается эпитет киевской. Название "Лысая гора" встречается и в других славянских землях... Полеты ведьм на Лысую гору обыкновенно совершаются в темные, бурно-грозовые ночи, известные в народе под именем "воробьиных". Но главные сборища их на этой горе бывают три раза в год: на Коляду, при встрече весны и в ночь Ивана Купалы. В эти праздники крестьяне с особой заботливостью стараются оберегать своих лошадей, чтобы ведьмы и нечистые духи не захватили и не измучили их в быстром поезде. Время ведовских сборищ, совпадая с началом весны и с двумя солнечными поворотами, наводит на мысль, что деятельность ведьм стоит в непосредственной зависимости от тех изменений, какие замечаются в годичной жизни природы. Духи бурных гроз, замирающие на зиму, пробуждаются вместе с нарождением солнца, а в половине лета достигают наибольшей полноты сил и предаются самому неистовому разгулу. Рождение же солнца старинные мифы сочетали и с зимним его поворотом — на праздник Коляды, и с благодатным просветлением его весною...
Если ухватиться за ведьму в ту минуту, когда она хочет лететь на Лысую гору, то можно совершить воздушное странствование: того, кто решается на это, она уносит на место сборища. На Украине ходит рассказ о полете одного солдата на ведовский шабаш. Ночью, накануне Иванова дня, удалось ему подсмотреть, как улетела в трубу его хозяйка; солдат вздумал повторить то же, что делала ведьма: он тотчас же сел в ступу, помазал себе под мышками волшебной мазью — и вдруг, вместе со ступою, взвился на Лысую гору: там играют и пляшут ведьмы, черти и разные чудища, со всех сторон раздаются их дикие клики и песни! Испуганный невиданным зрелищем, солдат стал поодаль — под тенистым деревом. В ту же минуту явилась перед ним его хозяйка: "Ты зачем? — молвила она. — Скорее назад, если тебе жизнь дорога! Как только завидят наши, сейчас тебя задушат! Вот тебе славный конь, садись и утекай!" Солдат вскочил на коня и вихрем пустился домой. Приехал, привязал коня к яслям и залег спать. Наутро проснулся, пошел в конюшню, глядит — а вместо коня привязано к яслям большое полено...
Слетаясь на Лысую гору, ведьмы предаются дикому разгулу и любовным наслаждениям с чертями, объедаются, опиваются, затягивают песни и пляшут под звуки нестройной музыки. За железным столом или на троне восседает сатана. Чехи уверяют, что он присутствует на этом празднестве в образе черного кота, петуха или дракона. Рассказывают также, что на Лысой горе живет старшая из ведьм, и к ней-то в известную пору года обязаны являться все чародейки. По литовскому преданию, на горе Шатрие угощает чародеек их главная повелительница. Песни и пляски — обыкновенное и любимое занятие ведьм. Если в летнее время поселяне заметят на лугах ярко зеленеющие или пожелтелые круги, то думают, что или хозяин поля поверстался в колдуны на этих кругах, или старшая женщина в его семье покумилась с ведьмами. По мнению народа, ведьмы каждую ночь собираются на луга, водят хороводы и оставляют на траве следы своих ног. "Покумиться с ведьмами" — то же, что "поверстаться в колдуны", т. е. сделаться чародейкою, принять на себя это вещее звание. Такое вступление в колдуны и ведьмы сопровождается круговыми плясками. Отправляясь на шабаш и при самых игрищах, ведьмы поют волшебные песни, доступные только им и никому более. На Лысой горе они с бешеным увлечением пляшут вокруг кипящих котлов и чертова требища, т. е. около жертвенника, на котором совершаются приношения демонам. Народные сказки знают искусных, неутомимых танцовщиц, которые каждую ночь удаляются в подземное (облачное) царство и предаются неистовой пляске с духами, населяющими эту таинственную страну. Так как демоны грозовых туч. издревле олицетворялись драконами, то ведьмы заводят нецеломудренные гульбища и сочетаются плотски не только с чертями, но и с мифическими змеями. На Руси существуют поверья, что женщина, с которою живет огненный змей, есть ведьма, что всякая волшебница нарождается от нечистой связи дьявола или змея с бабою и что самые ведьмы летают к своим любовникам, обращаясь огненными змеями. Рассказывая о том, как богатырь Добрыня учил чародейку Марину, полюбовницу Змея Горынчища, песня останавливается на следующих подробностях:
Он первое ученье — ей руку отсек, Сам приговаривает: "Эта мне рука ненадобна, Трепала она Змея Горынчища!" А второе ученье — ногу ей отсек: "А и эта-де нога мне ненадобна, Оплеталася со Змеем Горынчищем"! А третье ученье — губы ей обрезал и с носом прочь: "А и эти-де губы ненадобно мне, Целовали они Змея Горынчища!" Четвертое ученье — голову ей отсек и с языком прочь: "А и эта голова ненадобна мне И этот язык ненадобен, Знал он дела еретические!"Старинная повесть о бесноватой Соломонии (ХVII в.) основана на глубоко укорененном народном веровании в возможность любодейного смешения жен со злыми духами: "В девятый день по браце, по захождении солнца, бывши ей в клетце с мужем своим на одре, восхотеста почити, и внезапу виде она Соломония демона, пришедша к ней зверским образом, мохната, имущи когти, и ляже к ней на одр. Она же вельми его убояси — иступи ума. Той же зверь оскверни ее блудом... и с того же дни окаяннии демони начаша к ней приходити, кроме великих праздников, по пяти и по шти человеческим зракам, якоже некотории прекраснии юноши, и тако нападаху на нея и скверняху ея и отхождаху, людем же ничто же видившим сего". Нечистые увлекли ее в воду, и от связи с ними она родила нескольких демонов. Подобные рассказы и доныне обращаются в нашем простонародье.
Если послушать бывалых людей, то черт нередко принимает на себя вид умершего или отсутствующего мужа (любовника) и начинает посещать тоскующую женщину; с той поры она сохнет, худеет, "словно свеча на огне тает"...
Под влиянием этих мифических представлений, поставивших ведунов и ведьм в самые близкие и родственные отношения с демоническою силою, естественно, что на них должны были смотреть с робкою боязнью и подозревать их во всегдашней наклонности к злобе и нечестивым действиям. Со своей стороны, христианство окончательно утвердило эти враждебные воззрения на колдовство, чародеев и чародеек. По народному убеждению, всякий колдун и всякая ведьма заключают с дьяволом договор, продают ему свои грешные души и отрекаются от бога и вечного блаженства; договор этот скрепляется распискою, которую прибегающие к нечистому духу пишут своею собственною кровью, и обязывает первых творить чары только на зло людям, а последнего помогать им во всех предприятиях. На Руси ходит много рассказов о том, когда, как и при каких обстоятельствах отчаянные грешники продавали дьяволу свои души. Названия еретик, еретица в различных местностях употребляются в смысле злого колдуна, упыря и колдуньи. Сравни: ворог — знахарь и враг — черт. Все чудесное и страшное колдуны творят бесовским содействием. Они — и властелины, и рабы демонов: властелины, потому что могут повелевать нечистою силою; рабы, потому что эта последняя требует от них беспрестанной работы, и если колдун не приищет для нее никакого занятия, то она тотчас же замучивает его самого. Во избежание такой опасности колдуны придумали заставлять чертей, чтобы они вили из песку и воды веревки, т. е. по первоначальному смыслу предания: чтобы они крутили вихрями столбы пыли и подымали водяные смерчи. Умирая, колдун и ведьма испытывают страшные муки: злые духи входят в них, терзают им внутренности и вытягивают из горла язык на целые пол-аршина. Душа колдуна и ведьмы до тех пор не покидает тела, пока их не перенесут через огонь и пока они не передадут своего тайного знания кому-нибудь другому. Вся природа тогда заявляет невольный трепет: земля трясется, звери воют, от ворон и воронов отбою нет. В образе этих птиц слетаются нечистые духи, теснятся на кровлю и трубу дома, схватывают душу умершего колдуна или ведьмы и с страшным карканьем, шумно взмахивая крыльями, уносят ее на тот свет. По свидетельству народных сказаний и стиха о страшном суде, чародеи и ведьмы идут по смерти в "дьявольский смрад" и предаются на казнь сатане и его слугам. Напомним, что, по древнейшим верованиям, тени усопших возносились в загробный мир в полете бурных гроз, преследуемые и караемые адскими духами. Трясение земли и звериный вой — метафорические обозначения громовых раскатов и завывающей бури; хищные птицы — олицетворения стремительных вихрей.
В предыдущих главах объяснено нами, что старинные религиозные игрища и богослужебные обряды возникли из подражания тем действиям, какие первобытные племена созерцали на небе. В силу этого и ведовские сборища (шабаши, сеймы) должны представлять черты, общие им с древнеязыческими празднествами как по времени совершения, так и по самой обстановке тех и других. И в самом деле, полеты ведунов и ведьм на Лысую гору совпадают с главнейшими праздниками встречи весны, Коляды и Купалы, на которые сходились некогда роды и семьи установлять общественный распорядок и совершать общественные жертвоприношения, игры и пиршества. Сходки бывали на местах, исстари признаваемых священными: среди тенистых лесов и на высоких горах. Кипучие котлы и горшки, в которых ведьмы варят свои волшебные составы и опьяняющий напиток, заклание, сожжение и пожирание ими небесных животных (козла, коровы, коня), в которых олицетворялись дождевые облака, соответствуют жертвенным и пиршественным приготовлениям, действительно совершавшимся во время народных праздников. Ведьмам, по народному поверью, необходимы для чародейства нож, шкура и кровь (символы молний, облака и дождя), следовательно — все то, без чего немыслим обряд жертвоприношения; нож и шкура употребляются ими при оборотничестве, с помощью ножа они доят облачных коров и допрашивают вихри о будущем урожае. Ведуны и ведьмы собираются на Лысую гору для общей трапезы, веселья и любовных наслаждений. Все эти характеристические черты были непременным условием языческих празднеств, которые обыкновенно сопровождались песнями, музыкой, плясками и шумными пирами. Такой разгул, при излишнем употреблении крепких напитков, и поклонение оплодотворяющей силе Ярила придавали этим празднествам нецеломудренный характер и превратили их в оргии, "срамословия и бесстудие". Летописцы, проникнутые духом христианского учения, смотрели на них как на крайнее проявление разврата и нечестия...
Любопытно, что те же атрибуты, которыми ведуны и ведьмы творят свои волхования, могут быть обращаемы и против них самих, как предохранительные средства от их злого влияния. По своему демоническому характеру ведуны и ведьмы, подобно чертям и великанам, боятся разящих стрел молнии и потрясающих звуков грома. А потому все орудия и обряды, какие исстари служили символическим знамением небесной грозы, заставляют их поспешно удаляться. Так, в некоторых местностях уверяют, будто ведьма боится ножей, воткнутых под верхнюю доску стола, а если приставить к дверям кочергу загнутым (железным) концом вверх, то колдун до тех пор не уйдет из хаты, пока не будет принята эта неодолимая для него преграда...
Когда бог-громовник доит облачных коров, он это делает, чтобы напоить дождем жаждущую землю и возрастить засеянные нивы. Наоборот, ведьмы, согласно со своим демоническим характером, доят этих коров с тою же целью, с какою высасывают их мифические змеи, т. е. они иссушают облака, скрадывают росу и дожди и тем самым обрекают землю на бесплодие. Им приписываются и летние засухи, и зимнее бездождие. Ведьмы доят и высасывают коров не только летом, но и зимою. По русскому поверью, ведьма, опиваясь молоком, обмирает (впадает в зимнее оцепенение), и для того, чтобы она очнулась, надо запалить солому и жечь ей пяты, т. е. необходимо развести грозовое пламя. Во все продолжение зимы творческие силы природы, по выражению сказочного эпоса, бывают заколдованы. Ведьмы щедры только на безвременные и вредоносные ливни, сопровождаемые градом, вьюгами и опустошением. Стада сгущенных облаков, изливаясь в дождевых потоках, мало-помалу разрежаются, становятся бледнее, прозрачнее и наконец совсем исчезают. Явление это на старинном поэтическом языке называлось пожиранием (сожжением, иссушением) небесных коров драконами или порчею их ведьмами. И драконы, и ведьмы равно представляются в народных преданиях существами голодными, жадными, любящими упиваться коровьим молоком до полного бесчувствия. Низводя древнемифические сказания с небесных высот на землю, предки наши стали верить, что ведьмы доят и сосут обыкновенных коров, которые вследствие этого лишаются молока, спадают с тела и в скором времени издыхают — точно так же как чахнут и гибнут лошади, на которых ездят ведьмы на свои буйные сборища. Таким образом, доение ведьмами коров признано было нечестивым делом, влекущим за собою скотский падеж, иссыхание дождевых источников и повсеместный неурожай. В духовной песне грешная душа, обращаясь к своему телу, говорит: "Пойду я в муку вечную, бесконечную, в горючи огни". — "Почему ж ты, душа, себя угадываешь?" — спрашивает тело. — Потому я, тело белое, себя угадываю, Что как жили мы-были на вольном свету — Из чужих мы коров молоко выдаивали, Мы из хлеба спорынью вынимывали. В другом стихе читаем:
Четвертая душа согрешила: В чистом поле корову закликала, У коровки молочко отымала, Во сыру землю выливала, Горькую осину забивала, Горькую осину засушивала...Приведенные свидетельства духовных песен весьма знаменательны. Сопоставление рядом отнятия у коров молока, а у хлеба спорыньи звучит как отголосок глубокой старины, которая под молоком разумела плодородящие дожди. Выдаивать молоко — то же, что похищать росу или дождь или отымать у хлеба спорынью, производить неурожаи и голод. Такое действие необходимо должно было казаться самым страшным грехом...
Кроме плодов земных, ведьмы могут скрадывать и другие припасы, необходимые для благосостояния человека. Так, они уносят мед из ульев, загоняют к себе рыбу и забирают птиц и зверей, за которыми ходят на промысел охотники. Скрадывание меда объясняется уподоблением дождя медовому напитку, а захват рыбы, птиц и лесного зверя — мифическими представлениями грозы рыбною ловлею и дикою охотою. Между малорусами ходит такой рассказ: жили-были три брата, занимались рыболовством и звериной охотою; и на лове, и на охоте братья не знали неудачи: закинут ли сети — а они уже полнехоньки рыбою, возьмутся ли за ружья — зайцы сами бегут на выстрелы. Дело в том, что мать у них была ведьма. Раз братья решили ее испытать: взяли тенета и ружья, пошли за зайцами, а матери сказали, что идут ловить рыбу. Что же? Раскинули тенета — и вместо зайцев полезли в них окуни, караси да щуки! Еще от XI века донеслись до нас интересные летописные свидетельства о подобных обвинениях, взводимых на тех женщин, в которых подозревали ведьм. В 1024 году, говорит летописец, восстали в Суздале волхвы, "избиваху старую чадь, по дьяволю наученью и бесованью, глаголюще, яко си держать гобино. Бе мятеж велик и голод по всей той стране. Слышав же Ярослав... изымав волхвы, расточи, а другыя показни, и рек сице: Бог наводит по грехом на куюждо землю гладом, или мором, или ведром (засухою?), ли иною казнью, а человек не весть ничтоже". Под 1071 годом находим следующее известие: "Бывши бо единою скудости в ростовстей области, всташа два волхва от Ярославля, глаголюща, яко ве свеве (мы ведаем) — кто обилье держить. И поидоста по Волзе; кде придут в погост, туже нарицаху лучшие (добрыя) жены, глаголюща, яко си жито держать, а си мед, а си рыбы, а си скору[180]. И привожаху к нима сестры своя, матере и жены своя; она же в мечте прорезавше за плечем, выимаста любо жито, любо рыбу, и убивашета многы жены, именье их отъимашета собе". Наконец, волхвы пришли на Белоозеро; за ними следовало до трехсот человек. В это время Ян собирал на Белоозере княжескую дань. "Поведоша ему белозерци, яко два кудесника избила уже многы жены по Волъсве и Шексне". Ян потребовал от них выдачи волхвов; но белоозерцы "сего не послушаша". Ян решился действовать против волхвов собственными средствами, и когда они были схвачены, то спросил: "Что ради погубиста толико человек?" Волхвы отвечали: "Яко ти держать обилье; да аще избиеве сих — будет гобино; аще ли хощеши, то перед тобою вынимеве жито, ли рыбу, ли ино что". Ян же рече: "По истине лжа то!" Итак, по словам летописи, волхвы обвиняли старых женщин в том, что они производили голод, скрадывали обилье (гобино), т. е. урожаи, и делали безуспешными промыслы рыбака и охотника. Вера в возможность и действительность подобных преступлений была так велика в XI веке, что родичи сами выдавали на побиение своих матерей, жен и сестер. Жители не только не хотели сопротивляться волхвам, но следовали за ними большою толпою. Обвинение "старой чади" в бедствиях голодных годов вполне соответствовало грубому и суеверному взгляду тогдашнего человека на природу, и волхвы (даже допуская с их стороны обман и своекорыстные расчеты) только потому и действовали так открыто и смело, что опирались на общее убеждение своего века. Все физические явления предки наши объясняли себе, как действия богов или демонов, вызванные мольбами, заклятиями и чарами вещих людей. Позднее, после принятия христианства, та же сила властвовать и управлять природою была распространена и на представителей нового вероучения. Бывали примеры, что народ обвинял духовных лиц в засухах и других физических бедствиях. Так, в 1228 году новгородцы, напуганные тем, что "тепло стоит долго", прогнали своего владыку "акы злодея пьхающе". Женщин, заподозренных в чародействе и обвиняемых в похищении дождей и земного плодородия, преследовали в старину жестокими казнями : жгли, топили и зарывали живыми в землю...
На Украине до позднейшего времени узнавали ведьм по их способности держаться на воде. Когда случалось, что дождь долго не орошал полей, то поселяне приписывали его задержание злым чарам, собирались миром, схватывали заподозренных баб и водили купать на реку или пруд. Они скручивали их веревками, привязывали им на шею тяжелые камни и затем бросали несчастных узниц в глубокие омуты: неповинные в чародействе тотчас же погружались на дно, а настоящая ведьма плавала поверх воды вместе с камнем. Первых вытаскивали с помощью веревок и отпускали на свободу; тех же, которые признаны были ведьмами, заколачивали насмерть и топили силою...
В середине прошлого столетия управляющий имением графа Тышкевича, в Литве, писал к нему: "Ясновельможный пане! С возвращающимися крестьянами доношу, что с вашего позволения сжег шесть чаровниц: три сознались, а остальные нет. Две из них престарелые, третья тоже лет пятидесяти, да к тому же одиннадцать дней они все просидели у меня под чаном, так, верно, и других заколдовали. Вот и теперь господская рожь в двух местах заломана. Я сбираю теперь с десяти костелов святую воду и буду на ней варить кисель; говорят, непременно все колдуньи прибегнут просить киселя; тогда еще будет мне работа! Вот и господин Эпернети, по нашему примеру, сжег женщину и мущину... этот несчастный ни в чем не сознался, зато женщина созналась во всем и с великим отчаяньем пошла на тот свет". Сожжение колдунов и ведьм засвидетельствовано многими старинными памятниками. В Грузии при всяком общественном бедствии хватали подозрительных старух, истязали в присутствии князей и духовенства и выпытывали у них сознание во мнимых сношениях с нечистою силою. В 1834 году, во время бывшего неурожая кукурузы... в некоторых грузинских деревнях бросали колдунов в воду или вешали на деревьях и прикладывали к их обнаженному телу раскаленное железо. Поступая так, парод не только думал удовлетворить чувство своего мщения, но и был убежден, что казни эти суть единственные средства, какими можно отвратить засуху, вызвать дожди и плодородие. Такое убеждение возникло из древнемифической основы. Облачные жены, похищающие росу, дождь и урожаи, только тогда возвращают эти сокрытые ими блага, когда сгорают в небесном пламени молний или купаются и тонут в разливе дождевых потоков. Позднее, когда в засухах и бесплодии почвы стали обвинять смертных жен, народ уверовал, что сожжение и потопление их непременно должно возвратить земле дожди и плодородие — точно так же как обливание водою "додолы" признается сербами за лучшее средство против летней засухи. Но с другой стороны, так как гроза, пожигающая тучи, нередко сопровождается розрушительной бурею и градом, то отсюда родилось верование, что ведьмы, желая произвести непогоду, град и буйные вихри, рассевают по полям дьявольский пепел (пепел демона градовой тучи)...
Губительное влияние ведунов и ведьм распространяется на все, обещающее приплод, нарождение. По народным поверьям, они делают баб неплодными, отымают у жениха мужскую силу; присаживают ему килу, а у невесты скрывают половой орган. При всякой свадьбе необходимо соблюдать особенные предосторожности для охраны новобрачных и поезжан от злого очарования; в некоторых деревнях, там, где празднуется свадьба, нарочно затворяют двери и затыкают трубы, чтобы не влетела ведьма. Ведьмы глазят беременных женщин и выкрадают из них зачатых младенцев. Существует примета: если на дворе стрекочет сорока, то беременная баба не должна выходить из-под крова избы, оберегаемой священным пламенем очага; иначе ведьма, которая любит превращаться сорокою, похитит из ее утробы ребенка. Самый ребенок, еще до появления на свет, легко может быть испорчен колдуном или ведьмою...
Содействуя стихийным демонам, насылая неурожаи, бескормицу и голод, ведуны и ведьмы тем самым порождают между людьми и животными различные недуги и усиленную смертность. Вследствие их чар вместе с холодными вьюгами и продолжительными ливнями появляются простудные болезни, а вместе с знойным дыханием лета и повсеместною засухою подымаются вредные испарения и настает моровая язва. В тех же кипучих котлах, в которых ведьмы заваривают бурные грозы и град, приготовляют они и мучительные недуги, несущиеся в удушливых парах по направлению ветров.
По мнению русских поселян, колдуны и колдуньи напускают на людей и домашний скот порчу, т. е. томят их, сушат, изнуряют болезненными припадками. Испорченные колдовством люди называются кликушами: это — несчастные, страдающие падучею или другими тяжкими болезнями, соединенными с бредом, пеною у рта и корчами; они издают дикие вопли и под влиянием господствующего в народе суеверия утверждают, будто злые вороги посадили в них бесов, которые и грызут их внутренности. Силою страшных заклятий колдуны и колдуньи насылают нечистых духов по воздуху: послушные им ветры несут и навевают на людей неисцелимые недуги, называемые стрелами, икотою, поветрием или заразою...
Несчастный, которым овладела болезнь, носит ее с собою везде, куда бы ни направил свои стопы. Такая неотвязность болезни выразилась в поверье, что злобные духи (эльфы, мары) поселяются внутри больного (делают его бесноватым) или разъезжают на его спине. Налегая на человека страшною тяжестью, они заставляют его возить себя, изнуряют, ломают и трясут его. То же представление соединяется и с ведьмами: в ночные часы они являются в избы, садятся на сонных людей, давят их и принуждают носить себя по окрестностям. Нередко ведьма оборачивает доброго молодца конем и скачет на этом коне по горам и долам до тех пор, пока он не потеряет силы и не упадет от усталости. Рассказывают еще, будто ведьма ездит ночью на думе спящего человека, который хотя и не сознает, что с ним делается, но тем не менее, пробуждаясь на следующее утро, чувствует во всем теле полное изнеможение. Колдуны и ведьмы собирают ядовитые травы и коренья, готовят из них отравное снадобье и употребляют его на погубу людей. В областных говорах "отрава" обозначается словами: порча, портёж, а колдуна и колдунью называют: порчелъник (портжник) и порчелъница; для всех одуряющих зелий существует общее, собирательное имя бесиво, Народные песни говорят о девах-чаровницах, приготовляющих отравный напиток: no-край моря синего, по зеленым лугам
Тут ходила-гуляла душа красная девица, А копала она коренья — зелье лютое; Она мыла те кореньица в синем море, А сушила кореньица в муравленой печи, Растирала те коренья в серебреном кубце, Разводила те кореньица меды сладкими, Разсычала коренья белым сахаром И хотела извести своего недруга...
По указанию другой песни, задумала сестра избыть постылого брата:
Брала стружки красна девица, Бравши стружки, на огонь клала, Все змей пекла, зелье делала; Наливала чару прежде времени, Подносила брату милому. Зелье было страшное: едва Канула капля коню на гриву, У коня грива загорелася.Колдуны и ведьмы могут причинить недуги прикосновением, дыханием, словом, взглядом и самою мыслию; в них все исполнено губительной чародейной силы! Под влиянием древнейшего метафорического языка, который уподобил гром вещему слову, веяние ветра — дыханию, блеск молний — сверкающим очам, а все душевные движения сблизил со стихиями, возникли суеверные убеждения, заставившие наших предков чувствовать страх перед всяким проявлением души человеческой. Недобрая мысль, затаенная зависть и неискренняя похвала уже влекут за собою несчастье для того, кто возбудит их в чародее. Высказанное колдуном злое пожелание действует так же неотразимо, как заговор или клятвенная формула. Своим взглядом он может сглазить, а своим дыханием озеватъ человека, т. е. наслать на него порчу. Как небесные стада теряют молоко и иссыхают от ударов молний, так точно от взгляда ведьмы пропадает молоко в грудях матери и чахнет ее ребенок, сглазу приписываются и болезни домашнего скота. Как небесные волки и змеи (драконы) страшатся блестящей молнии, так точно взор волшебника смиряет волков и змей, населяющих леса и пустыни. Что ведьмы были обвиняемы в распространении повальных, заразительных болезней, это засвидетельствовано грамотою царя Михаила Федоровича, упоминающею о бабе-ведунье, которая наговаривала на хмель с целью навести на русскую землю моровое поветрие. Крестьяне до сих пор убеждены, что колдуну стоит только захотеть, как тысячи народу падут жертвами смерти. Русская сказка возлагает на ведьму ту же самую роль, какая обыкновенно исполняется Моровою девою: в глухую полночь она является в белой одежде, просовывает руку в окно избы, кропит волшебными соками и всю семью — от старого и до малого — усыпляет навеки смертельным сном. По уцелевшим на Руси преданиям, в старину при всякой повальной болезни и скотском падеже обрекали на смерть женщину, заподозренную миром в злом волшебстве. Женщину эту завязывали в мешок вместе с собакою, черною кошкою и петухом и зарывали в землю или топили в реке с полным убеждением, что после этого мор немедленно должен прекратиться. Еще недавно высказывалось поселянами мнение, что если бы первого заболевшего холерою похоронить заживо, то означенная болезнь тотчас бы приостановила свои губительные действия. В некоторых деревнях на том месте, где пала первая зачумленная скотина, приготовляют яму и в этой яме зарывают падаль, привязав к ее хвосту живых собаку, кошку и петуха... Сожжение, потопление или зарытие ведьмы в землю исторгает из нее злого демона (нечестивую душу) и удаляет его из здешнего мира в мир загробный (в подземное царство Смерти). Петух, кошка и собака, как мифические представители грозового пламени и вихрей, признавались необходимыми спутниками тени усопшего, призванными сопровождать ее на тот свет. В образе коровы издревле олицетворялась черная молниеносная туча, а с этою последнею были нераздельны представления нечистой силы и смерти. Из свидетельств памятников и народных преданий известно, что в отдаленной языческой древности вместе с трупом покойника сожигались корова, собака и петух. Впоследствии этот погребальный обряд получает характер уголовного возмездия и совершается только в исключительных случаях, с целью увеличить позор смертной казни за особенно важные преступления. Когда вайделотка, хранительница священного огня, теряла свое девство, литовцы зашивали ее в кожаный мешок с кошкою, собакою и змеею, вывозили на паре черных коров на место казни и зарывали в землю или топили в воде. В дополнительных статьях к Судебнику сказано: "Кто убьет до смерти отца или мать, или кто хоти сродича своего убьет, и тому дата сыну муку: в торгу его возити и тело его клещами рвати и по тому посадити на него собаку, куря и ужа и кота, и то все вместе собравши с ним в воде затопить. А которая дочь отца убьет или матерь — и указ тот же". Литовский Статут[181] за означенное преступление постановляет: "Всадити в мех скуряный с псом, курем, ужом, кошкой и зашить".
С колдовством нераздельно понятие о превращениях. Вера в превращения или оборотничество принадлежит глубочайшей древности. Источник ее таится в метафорическом языке первобытных племен. Уподобляя явления природы различным животным, называя те и другие тождественными именами, древний человек должен был наконец уверовать в действительность своих поэтических представлений, как скоро обозначающие их слова и выражения потеряли для него свою первичную прозрачность. Вначале способность превращений исключительно связывалась с существами стихийными, принадлежащими миру фантазии и мифа. Ходячие по небу, дышащие ветрами дождевые, градовые и снежные облака (как мы знаем) олицетворялись то легкокрылыми птицами, то быстроногими конями и оленями, борзыми собаками, рыскучими волками, медведями, кошками, рысями, дойными коровами, козами, овцами и так далее. Рядом с этим облака, тучи и туманы, как темные покровы, застилающие собой ясное небо представлялись руном или звериными шкурами, в которые облачаются — одеваются — бессмертные владыки надземных стран. Бог-громовник и сопутствующие ему духи бури, вихрей и дождей постоянно являются в облачных нарядах, и следовательно, переодетыми или превращенными в птиц и зверей. Язык и предания ярко засвидетельствовали тождество понятий превращения и переодевания: слова оборотиться, обернуться (об-воротитъся, об-вернуться) означают собственно: окутаться, покрыть себя платьем, а пре-вратитъся — переодеться, изменить свою одежду (свой внешний вид), надеть ее навыворот. В позднейшем переносном смысле малорус. перевертень, сербск. превращага — человек изменчивый, непостоянный. Созерцая в полете грозовых туч толпы оборотней, т. е. демонов, облачившихся в животные шкуры, и переводя это воззрение в символический обряд, предки наши допустили в своих религиозных игрищах участия окрутников. "Окрутниками" называются все замаскированные, наряженные по-святочному, одетые в мохнатые шкуры или вывороченные тулупы, от слова крутить, которое от первоначального значения: завивать, плести перешло к определению понятий: одевать, наряжать (окрута — женское нарядное платье и вообще одежда, окрутить — одеть, окручаться и окрутиться — наряжаться, маскироваться) и в этом смысле явилось синонимом глаголам: облача(и)тъ и оборотить (обворотитъ), точно так же, как слово окрута (одежда) тождественно по значению со словом облако (облачение). Очевидно, что и колдуны, и ведьмы, по своей тесной связи с облачным миром, должны были усвоить себе чудесную способность превращений...
Народный эпос любит останавливаться на таинственной науке оборотничества и нередко заставляет своих героев. По темным лесам летать черным вороном, По чисту полю скакать серым волком, По крутым горам тонким, белым горностаем, По синим морям плавать серой утушкою.
Богатырь Волх Всеславьевич, имя и подвиги которого указывают на его чародейное значение (когда он родился — сотряслось все царство индийское), с детства учился трем премудростям: оборачиваться ясным соколом, серым волком и гнедым туром-золотые рога; далее былина рассказывает, что он оборачивался горностаем и мурашкою. Царь Афромей, по свидетельству былины об Иване Годиновиче. Скоро вражбу (ворожбу) чинил: Чистые поля туром перескакал, Темные леса соболем пробежал, Быстрые реки соколом перелетал.
"Слово о полку Игореве" замечает о князе Всеславе, что у него вещая душа была в теле, что он "в ночь волком рыскаше: из Кыева дорыскаше до кур (до петухов), Тмутороканя, великому Хорсови волком путь прерыскаше", т. е. достигал Тмутаракани до рассвета, предупреждая восход солнца.
В зимние месяцы небо и царствующие на нем светила помрачаются густыми туманами, бог-громовник перестает разить демонов и заключается в окованные стужею тучи. Таким образом, все светлые боги облекаются в темные облачные покровы и теряют свою благодатную силу или, выражаясь мифически: надевают мохнатые одежды, делаются оборотнями и подчиняются злой чародейке Зиме. В ту печальную пору колдуны, ведьмы и демонические духи овладевают небесным царством, набрасывают на богов волчьи и другие звериные шкуры, превращают их в мифических животных, в образах которых и пребывают они до начала весны. Такое невольное превращение в сказаниях индоевропейских народов называется околдованием, зачарованием. заклятием... Остановимся на сказке о заклятых детях. "Если б Иван-царевич взял меня замуж (говорит красна девица), я бы родила ему сыновей — по колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре", или: "Во лбу красное солнце, на затылке светел месяц, по косицам частые звезды". Иван-царевич взял за себя девицу; пришло время, родила ему царевна сыновей — таких ненаглядных, каких обещала; но злая ведьма (иногда ее заменяют завистливые сестры: пряха, что с помощью одного веретена может одеть все царство, и искусная ткачиха, обещающая выткать ковер-самолет, т. е. вещие жены, изготовительницы облачных тканей и вместе с тем злые парки) подменяет их щенками и котятами, а настоящих детей прячет в подземелье возле старого дуба. Родила еще царевна сына-богатыря и успела скрыть его от ведьм за пазухой; между тем ее осудили, посадили в смоленую бочку, оковали железными обручами и пустили в океан-море глубокое, а Иван-царевич женится на дочере хитрой волшебницы. Долго носило бочку по морю и наконец прибило к далекому берегу, а тем временем сын-богатырь растет не по дням, а по часам, как тесто на опаре всходит; вырос, потянулся — и вмиг бочку разорвало, железные обручи поспадызали. Мать с сыном выходят из бочки; богатырь с помощью кремня и огнива, топора и дубинки (эмблемы молнии) строит славный дворец, добывает разные диковинки (мельницу, которая сама мелет, сама веет, пыль на сто верст мечет, кота-баюна, который песни поет, сказки сказывает, и золотое дерево с певчими на нем птицами) и освобождает из подземелья братьев. Доходит о том слух до Ивана-царевича: он приезжает посмотреть на диковинки — тут все изобличается, ведьму предают казни, и царевич берет к себе прежнюю жену. Интересен вариант, записанный в Пермской губернии: молодая царица родила трех чудесных младенцев; баба-яга вызвалась быть повитухою, оборотила царевичей волчатами, а взамен их подложила простого крестьянского мальчика. Царь разгневался на жену, велел посадить ее вместе с ребенком в бочку и пустить в сине море. Бочка пристает к пустынному берегу и разваливается. Царица и подкидыш выходят на сухое место, молят бога даровать им хлеб насущный, но по их молитве превращается вода в молоко, а песок — в кисель. Проходили мимо нищие и немало дивилися, что вот живут себе люди — о хлебе не думают: под руками река молочная, берега кисельные; пришли к царю и рассказали ему про то диво неслыханное. А царь уже успел на другой жениться — на дочери бабы-яги. Услыхала те речи новая царица, выскочила и кликнула: "Экое диво рассказывают! у моей матушки есть получше того: кувшин о семи рожках — сколько ни ешь, сколько ни пей, все не убывает". Этими словами она отуманила царя: то хотел было ехать, на диво посмотреть, а то и думать перестал. Когда сведал про это подкидыш, тотчас же собрался в путь и унес у бабы-яги заветный кувшин. Снова заходят к царю нищие, рассказывают про реку молочную, берега кисельные и кувшине о семи рожках. Ягинична выскочила: "Нашли, говорит, чем хвастаться! У моей матушки получше того: зеленый сад, в том саду птицы райские, поют песни царские". Подкидыш отправился сам добывать; обошел вокруг него и, произнеся заклятие: "Как дует ветер, так лети за мною, зеленый сад!" — заиграл в дудочку — и в ту же минуту деревья двинулись с места и последовали за своим вожатым. Тогда Ягинична стала похваляться зеркальцем: "У моей матушки есть почище того: чудное зеркальце — как взглянешь в него, так сразу весь свет увидишь". Подкидыш заказал кузнецу сковать три прута железные да щипцы, пришел к бабе-яге, поймал ее за язык щипцами, начал бить прутьями железными и заставил отдать себе зеркальце. Принес зеркало домой; царица глянула в него и увидела своих деток волчатами — на чистой поляне, промеж густого орешника, по травке-муравке валяются. Подкидыш вызвался на новое дело: он пришел на поляну и, пока волчата спали — развел костер и связал у них хвосты в один крепкий узел, да как крикнет зычным голосом: "Не пора спать, пора вставать!" Волчата вскочили и рванулись бежать в разные стороны — волчьи шкуры с них мигом слетели, и явились три добрых молодца, три родных братца. Подкидыш схватил волчьи шкуры и бросил в огонь; когда они сгорели, братья воротились к матери. Услыхал царь про царицу и царевичей, не вытерпел, поехал к ним и узнал все, что было; в тот же день он приказал расстрелять бабу-ягу вместе с ее дочкой. Сказка эта передается еще со следующими отменами: царица породила двух сыновей и третью дочь-красавицу, которая когда улыбалась — розы сыпались, а когда плакала — вместо слез алмазы с бриллиантами падали. При самом рождении дети подменяются щенками да котятами; впоследствии царевичи были превращены в камни, а царевна добывает птицу-говорунью, поющее дерево и живую воду; этою водою она возвращает братьев к жизни, колдовство рушится, и правда торжествует над злобою...
Подобные сказки составляют общее наследие индоевропейских народов. Внимание наше прежде всего останавливается на тех чудесных приметах, с какими рождаются на свет царевичи: во лбу красное солнце, на затылке светел месяц, по бокам (или косицам) часты звезды; по колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре; волоса у них золотые и на каждом волоске по жемчужине; сымая свои шапочки, они все вокруг себя освещают яркими лучами. Такие приметы указывают, что это — не простые смертные, а светлые боги, представители высокого неба и тех блестящих светил, которые присвоены им, как всегда присущие атрибуты. Красное солнце во лбу напоминает глаз Одина, месяц на затылке — лунный серп, венчающий голову Дианы, частые звезды по телу — многоочитого Аргуса; золотые волосы, руки и ноги суть поэтические обозначения солнечных лучей. Сестрою этих сказочных героев является прекрасная дева Заря, рассыпающая по небу розовые цветы и роняющая алмазные слезы в утренней и вечерней росе. В соответственной греческой сказке прямо указано, что царицею были рождены Солнце, Луна и Денница. Рождение Солнца праздновалось на Коляду, когда оно поворачивает на лето; но этот поворот совпадает с самыми сильными морозами, вьюгами, метелями и самым неистовым гульбищем нечистых духов и ведьм. Злая колдунья Зима тотчас же овладевает светоносным героем и его братьями и обращает их в волчат; подмена новорожденных щенками и котятами обозначает ту же мысль: боги ли превращаются в зверей, или звери заступают их место — это только различные формы выражения, суть же остается неизменною. Сверх того, фантазия воспользовалась и другими метафорическими выражениями: ведьма прячет новорожденных в темные подземелья (в мрачные вертепы туч) и даже подвергает их окаменению. Но с приходом весны владычество темных сил оканчивается: бог-громовник, заключенный в бочку-облако, несется по воздушному океану, разрывает свою темницу и творит молочные реки и кисельные берега, т. е. пускает на землю дождевые потоки и производит грязи; окамененные герои оживают, а превращенные сбрасывают с себя чуждые им звериные шкуры и предстают во всей своей несказанной красоте. Такой акт освобождения совершается тотчас, как скоро добыта живая или "прыгающая" вода, т. е. как скоро польется с неба дождь и зимние льды и снега претворятся в журчащие, скачущие с гор потоки. Вот почему сказки заставляют богатыря-громовника, или, по другим вариантам: красавицу Зарю (богиню весны), с такою неустанною заботою отыскивать и отымать у ведьмы разные диковинки — знамения творческих сил природы. Неисчерпаемый кувшин соответствует тем урнам, из которых небесные богини слали на поля и нивы плодородящие дожди; дерево с золотыми плодами есть дерево-туча, с которым предания связывают источники живой воды; оно названо поющим, потому что с ним нераздельно представление о песнях, заводимых весеннею грозою; на том же основании птица-туча названа говоруньей, а мифическому коту придан эпитет баюна (от глагола баять). В числе других диковинок бог-громовник отымает у ведьмы славное зеркальце, в которое можно видеть весь мир, т. е. выводит из-за туч всеозаряющее солнце, издревле уподобляемое зоркому глазу и блестящему металлическому щиту или зеркалу; щипцы, которыми тянет он за язык бабу-ягу, и железные прутья, которыми бьет ее, — символы разящих молний: теми же орудиями побеждают богатыри и чертей, и драконов. Снятые с царевичей волчьи шкуры сожигаются на костре, т. е. в грозовом пламени.
Сила околдования или заклятия превращает сказочных героев различными зверями (волком, медведем, рысью, конем, собакою, козлом и бараном), чудовищными змеями и гадами (жабою, лягушкою и пр), и во всех этих метаморфозах главное значение принадлежит шкуре животного. В Белоруссии для тех оборотней, которые являются в виде жаб, лягушек и кошек, употребительны названия: жабалака и кошкалачень — названия, образовавшиеся наподобие слова вовкулак и буквально означающие жабью (лягушечью) и кошачью длаку[182]. По свидетельству народной сказки, царевна-лягушка освобождается от заклятия после сожжения ее лягушечьей кожурины; точно так же предаются огню змеиная сорочка, свиной кожух и другие шкуры, в которые рядятся очарованные царевичи и царевны. На Руси хранится такое предание: красавица, превращенная мачехой-ведьмою в рысь, прибегала к своему осиротелому ребенку, сбрасывала с с себя звериную шкуру и кормила его материнскою грудью, а накормив — снова оборачивалась рысью и удалялась в дремучий лес; муж красавицы, улучив удобную минуту, захватил звериную шкурку, спалил ее на огне и тем самым освободил свою подругу от волшебного очарования...
Одетые во время зимы в животные шкуры, небесные боги просветляются с возвратом весны — рядятся в блестящие, светозарные одежды и с тем вместе снова обретают те прекрасные человекоподобные формы, в каких обыкновенно олицетворяла их фантазия. Этот счастливый исход возможен только под условием, чтобы сказочная героиня не плакала, не смеялась и не говорила целые семь лет, т. е. освобождение наступает не прежде, как по истечении семи зимних месяцев, в продолжение которых дева Заря (царевна Несмеяна) не плачет — не роняет росы и не смеется — не рассыпает розовых, золотистых лучей; в ту же печальную пору она, как богиня весенних гроз, пребывает бесчувственной и немою — не льет дождевых слез и не вещает громовых глаголов.
Приписывая превращения влиянию злого колдовства и в то же время признавая души человеческие за существа стихийные, способные менять свои телесные одежды, предки наши пришли к убеждению, что колдуны, ведьмы и нечистые духи могут превращать людей в различных животных. Убеждение это глубоко вкоренилось у всех индоевропейских народов и вызвало множество любопытных сказаний. На Руси думают, что колдун, зная имя человека, может по собственному произволу сделать его оборотнем; а потому имя необходимо утаивать и называться иным, вымышленным. В пылу злобы и мщения колдуны и ведьмы творят чары и оборачивают своих недругов навсегда или на известный срок зверями. На Украине и в Белоруссии таких невольных оборотней называют вовкулаками, потому что всего чаще их представляют в виде волков. Это — более страждущие, чем зловредные существа; они живут в берлогах, рыскают по лесам, воют по-волчьи, но сохраняют человеческий смысл и почти никогда не нападают на деревенские стада; только нестерпимый голод может понудить их искать себе поживы. Нередко бродят они возле родного села и когда завидят человека, смотрят на него так жалостливо, как будто умоляют о помощи; случалось замечать при этом, что из глаз бедного вовкулака струились в три ручья слезы: сырого мяса, которое ему предлагают, он не берет, а брошенный кусок хлеба поедает с жадностью. Один пригожий юноша презрел любовь ведьмы, и вскоре его постигло жестокое мщение: раз поехал он за дровами, остановился в лесу, взялся за топор и только что замахнулся на дерево — как руки его превратились в волчьи лапы, а затем и весь он покрылся мохнатою шкурою; несчастный бросился к своим волам, но те в испуге шарахнулись в сторону; хотел было остановить их своим голосом, но вместо людской речи раздался протяжный дикий вой. Другая ведьма оборотила волком своего соседа, который впоследствии, когда освободился от заклятия, рассказывал, что, будучи оборотнем, он подружился с настоящим волком, ходил с ним на добычу, и хотя чувствовал себя человеком, но не мог выражать своих мыслей словами, а выл по-волчьи...
У белорусов сохраняется предание, что некогда праздновалась свадьба, и вдруг нежданно-негаданно среди шумного веселья жених и все прочие мужчины были превращены чародеем в волков, женщины — в сорок, а невеста — в кукушку; с той самой поры эта горемычная кукушка носится следом за своим суженым и роняет несчетные слезы; там, где она пролетает, текут ручьи и растет трава, известная под названием "кукушечьих слез". Скандинавская мифология заставляет волков сопутствовать богу побед; а потому шведы появление вовкулаков связывают с военной грозою. Когда, во время последней войны Швеции с Россией[183], около Кальмара появилось множество волков, то между окрестными жителями пронесся слух, что эти волки суть шведские пленники, превращенные чарами неприятеля в зверей и посланные опустошать свое собственное отечество. По указанию старинной былины, чародейка Марина, полюбовница Змея Горынчища, превратила девять богатырей быками, а десятого — Добрыню — гнедым туром — золотые рога.
Средства, употребляемые колдунами и ведьмами для превращения людей в животненные образы, сходятся с теми, силою которых они сами становятся оборотнями. Средства эти следующие:
а) Набрасывание звериной шкуры. Крестьяне уверяют, что в старые годы случалось, снимая шкуру с убитой волчицы или медведицы, находить под нею бабу в сарафане. Есть рассказ, что на охотничьей облаве убили трех волков, и когда стали снимать с них шкуры, то под первою нашли молодого жениха, под второю — невесту в ее венчальном уборе, а под третьей — музыканта со скрипкою...
б) Волшебная науза. Чтобы превратить свадебное сборище в стаю волков, колдуны берут столько ремней или мочалок, сколько нужно оборотить лиц; нашептывают на них заклятия и потом этими ремнями или мочалами подпоясывают обреченных, которые тотчас же и становятся вовкулаками. Такой оборотень не иначе может получить прежний человеческий образ, как разве в том случае, когда чародейный пояс изотрется и лопнет; но и после избавления долгое время бывает дик, сумрачен и не скоро навыкает людской речи...
в) Народные сказки свидетельствуют еще, что колдуны и ведьмы превращают людей различными зверями и птицами, ударяя их зеленым прутиком, палкою или плетью (кнутом-самобоем). Такое верование разделялось греко-италийским племенем. Знаменитая чародейка Цирцея быстрым ударом жезла оборотила в свиней спутников Одиссея[184]; Пик был наказан превращением в дятла[185]: едва волшебница коснулась его тростью, как он тотчас же сделался пестрокрылою птицею. Эта чудесная трость или плеть — эмблема молнии и указывает на тесную связь оборотничества с грозовыми тучами; с этой эмблемою сочетались противоположные представления: с одной стороны, удар волшебного прута повергает сказочных героев в окаменение и непробудный сон (зимнее оцепенение), а с другой — призывает их к жизни (к весеннему творчеству). То же двоякое значение придается удару волшебного прута и в преданиях о вовкулаках и оборотнях: им превращаются люди в звериные образы, и, наоборот, им же разрушается сила заклятия, и превращенные возвращаются в среду людей. На Украине думают, что если ударить вовкулака вилами или цепом, то он тотчас же делается человеком, т. е. бог-громовник, ударяя своей палицей, срывает с него волчью длаку (разносит тучу). Оборотни, т. е. стихийные духи и тени усопших, облаченные в облачные шкуры, появляются и исчезают вместе с бурными грозами. С каждым дуновением ветра, с каждым извивом молнии и раскатом грома облака и тучи меняют свои прихотливые формы, или, выражаясь метафорическим языком, с каждым ударом громовой палицы стихийные духи перекидываются, перебрасываются, кувыркаются и тем самым как бы переворачивают или переменяют свои облачные одежды и переходят из одного видимого (телесного) образа в другой. Для того, чтобы обозначить акт превращения, народные сказки и песни употребляют выражения, указывающие на быстрое движение, стремительный удар и круговой поворот: молодец "ударился оземь и оборотился собакою", "колдун хлопнулся о сырую землю, сделался серым волком и пустился в погоню", "перекинулся медведем, жеребцом, добрым молодцем", "перекинулся в сиву зозуленьку"; "колдун может окинуться и в кошку, и в собаку"...
Памятники XV—XVII столетий сохранили нам свидетельства о тех несчастных жертвах народного суеверия, которых обвиняли, будто они превращаются в волков, пьют младенческую кровь, пожирают детей, и вследствие этих обвинений подвергали суду и предавали сожжению. В Армении рассказывают, что, когда волчий оборотень приблизится к людскому жилищу — окна и двери сами собой отворяются, вовкулак входит внутрь дома, бросается на детей и утоляет свой голод их кровью и мясом. В некоторых местностях России поселяне убеждены, что вещицы выкрадывают из утробы спящей матери ребенка, разводят на шестке огонь, жарят и съедают его, а взамен похищенного дитяти кладут ей в утробу голик, головню или краюшку хлеба: поверье, напоминающее вышеприведенные рассказы похищении ведьмою сердца, на место которого она влагает обрубок дерева или связку соломы. Поэтому беременные женщины, в отсутствие мужей своих, не иначе ложатся спать, как надевая на себя что-нибудь из мужниной одежды или, по крайней мере, опоясываясь мужниным поясом; эта одежда служит знамением, что они продолжают состоять под покровом (защитою) главы семейства, а пояс преграждает (завязывает) к ним доступ злой чародейке. В народных сказках ведьмы уносят тайком или заманивают к себе маленьких детей, жарят их в печи и, пресытившись этою яствою, катаются по земле и причитывают: "Покачуся, повалюся, Ивашкина мяса наевшись". Белорусы уверяют, что Смерть передает усопших бабе-яге, вместе с которою разъезжает она по белому свету, и что баба-яга и подвластные ей ведьмы питаются душами покойников и оттого делаются столь же легкими, как самые души: предание в высшей степени знаменательное! Рассказывают также, что баба-яга крадет детей, подымает их в воздух и бросает оттуда мертвыми на кровлю дома...
Бабе-яге принадлежит весьма важная и многознаменательная роль в народном эпосе и преданиях славянского племени. Она живет у дремучего леса в избушке на курьих ножках, которая поворачивается к лесу задом, а к пришельцу передом; летает по воздуху и ездит на шабаши ведьм в железной ступе, погоняя толкачом или клюкою и заметая след помелом. Белорусы утверждают, что баба-яга ездит по поднебесью в огненной ступе и погоняет огненною метлою, что во время ее поезда воют ветры, стонет земля, трещат и гнутся вековые деревья. Как эта ступа, так и подвижная избушка (домашний очаг) — метафоры грозовой тучи, а толкач или клюка — Перунова палица. Сверх того, баба-яга обладает волшебными, огнедышащими конями, сапогами-скороходами, ковром-самолетом, гуслями-самогудами и мечом-самосеком, т. е. в ее власти состоят и быстролетные облака, и бурные напевы грозы, и разящая молния. Преследуя сказочных героев, убегающих от ее злобы и мщения, она гонится за ними черною тучею. Там, где в славянских сказках действующим лицом является баба-яга, параллельные места новогреческих и албанских сказок выставляют ламию и дракониду: лат. lamia — колдунья, ведьма, и болг. ламъя, ламя — баснословная змея. Скажем более: у самых славян бабя-яга и мифическая змеиха выступают в преданиях как личности тождественные; что в одном варианте приписывается змее, то нередко в другом исполняется ягою, и наоборот; на Украине поедучую ведьму обыкновенно называют змеею. Замечательно, что те же эпические выражения, какими обрисовывается избушка бабы-яги, прилагаются и к змеиному дворцу. Словацкая сказка изображает сыновей ежи-бабы лютыми змеями. Очевидно, что под этим именем, смысл которого давным-давно утрачен народною памятью, предки наши разумели мать змея Вритры, демона, похищающего дожди и солнечный свет. Подобно змею, баба-яга любит сосать белые груди красавиц, т. е. извлекать молоко (дождь) из грудей облачных нимф; подобно змею, она ревниво сторожит источники живой воды и заботливо прячет в своих кладовых медь, серебро и золото, т. е. сокровища солнечных лучей. Так, по свидетельству одной сказки, жили-были два богатыря, взяли к себе названую сестру, и повадилась к ней ходить и сосать груди баба-яга. Богатыри заприметили, что сестра их стала хиреть и сохнуть; подстерегли ягу, изловили и заставили указать себе источник с живою водою. Приводит их яга в лесную трущобу, указывает на колодец и говорит: "Вот целющая и живущая вода!" Тогда богатырь по имени Катома сломил с дерева зеленую ветку и бросил в колодец; не успела ветка до воды долететь, как вся огнем вспыхнула. Разгневались добрые молодцы, вздумали за такой обман бросить бабу-ягу в огненный колодец (метафора грозовой тучи); но она упросила-умолила пощадить ее и привела к другому колодцу. Катома отломил от дерева сухой прутик и только что кинул в воду — как он тотчас же пустил ростки, зазеленел и расцвел. Словаки верят, что баба-яга может по собственному произволу насылать ненастье и ясную погоду. Так как наводимый тучами мрак уподоблялся ночи, а следующее за грозой прояснение солнца напоминало утренний рассвет, то русская сказка отдает во власть яги трех таинственных всадников — белого, красного и черного, олицетворяющих собою день, солнце и ночь. Наконец, подобно змею, баба-яга пожирает человеческое мясо. Вокруг избы, в которой живет она, тянется забор из человеческих костей или высокий тын с воткнутыми на нем черепами; из тех же костей устроены и ворота: вереями служат ноги, засовом — рука, а замком — челюсть с острыми зубами. Баба-яга и ведьмы чуют присутствие скрытого человека и при всякой встрече со странствующими героями восклицают: "Фу-фу! Доселева русского духа видом не видано, слыхом не слыхано, а ныне русский дух в очью проявляется!" или: "Что это русским духом пахнет!" Те же слова произносят при встрече с людьми и все другие мифические лица, которым приписывается пожирание человеческого мяса: Чудо Морское, Вихрь, драконы, великаны, черти...
Именем "яги" — точно так же как именем "ведьмы" — поселяне называют в брань старых, сварливых и некрасивых женщин. Следуя эпическому описанию сказок, баба-яга, костяная нога, голова пестом, лежит в своей избушке из угла в угол, нос в потолок врос, груди через грядку повисли. Замечательно, что Лихо (Недоля, злая парка) олицетворяется в наших сказаниях бабой-великанкою, жадно пожирающею людей; по выражению южнорусского варианта, Лихо покоится на ложе из человеческих костей, голова его лежит на покути, а ноги упираются в печку. Бабу-ягу называют на Руси: ярою, бурою, дикою, что указывает на связь ее с бурными, грозовыми тучами и с неистовой породою великанов, и железною...
Замечательно, что бабе-яге приписывается обладание волшебным прутом, которым стоит только махнуть, как тотчас же все живое превращается в камень: это — тот молниеносный жезл, прикосновением которого Гермес (проводник усопших в загробное царство) погружал людей в непробудный, вечный сон. Длинный сопливый нос бабы-яги — черта, не лишенная значения и столь же древняя, как и спутанные, растрепанные ее косы. Напомним, что, по свидетельству сказок, прекрасный герой (бог светлого неба) на семь зимних месяцев делается неопрятным замарашкою (Неумойкою): во все это время он не чешется, не стрижется, не моется и не сморкается, т. е. покрывается облаками и туманами, которые исстари уподоблялись косматым волосам, и не проливает дождей...
По другому преданию, сказочный герой превращается в сопливого козла; но вот наступает пора освобождения: он берется за гусли и начинает (грозовую) песню; наносимые ему удары (удары грома) прекращают силу чародейного заклятия, козлиная шкура спадает и предается сожжению...
Сказки нередко упоминают о трех вещих сестрах — бабах-ягах, изображая их хотя и сварливыми, но добрыми и услужливыми старухами: они предвещают страннику, что ожидает его впереди, помогают ему мудрыми советами, дают ему богатырского коня, клубок, указывающий дорогу в неведомые страны, ковер-самолет и другие диковинки...
Процессы о колдунах и ведьмах
В предыдущей главе указано нами, что обвинения волхвов и жен-чародеек в сношениях с нечистыми духами, в похищении дождей и земного плодородия, в наслании болезней, голода и моровой язвы возникли из древнейших основ языческого миросозерцания. Подобные обвинения всякий раз, как только страну постигало общественное бедствие, возбуждали против них народную месть и вызывали суровые казни сожжения, потопления и зарывания в землю. Впоследствии, когда водворилось христианство, высшие духовные власти редко и небезусловно возвышали свой голос против несправедливости и жестокости таких казней. Мы знаем только протест епископа Серапиона (XIII в.), который, впрочем, не отвергает возможности колдовства, а осуждает произвол народной мести и требует для обвиняемых правильного суда. По необходимому закону всякого исторического развития, новая религия должна была стать во враждебные отношения к старым народным верованиям и главным образом противодействие свое направить на лиц, которые были представителями и хранителями языческого культа: умели гадать, предвещать, целить недуги, обладали тайной молитвенных заклинаний и священных обрядов. Такими лицами были волхвы, кудесники, чаровницы, мужи и жены вещие. Христианская иерархия не могла относиться к ним индифферентно; по ее выражению, это были "бесовские сосуды", пособники сатаны, через посредство которых он рассевает в народе злое семя неверия. Со своей стороны, волхвы и кудесники также не могли оставаться равнодушными при виде тех успехов, какие делала религия, чуждая их интересам, недоступная их пониманию, направленная против "старожизненных" богов и праотческих заветов...
По сведениям, занесенным в "Повесть временных лет", в XI столетии волхвы громко, всенародно хулили христианство и, пользуясь своим влиянием на массу населения, старались возбуждать ее к открытому сопротивлению. Так, в 1071 году в Киеве явился волхв, который предсказывал, что через пять лет Днепр потечет назад, земля греческая станет на месте русской, а русская на месте греческой; тогда же переставятся и прочие земли. В народе нашлись невегласи, которые охотно слушали волхва и верили его предсказаниям; но "верные" посмеялись ему, говоря: "Бес тобою играет на погубу тобе" — и действительно, волхв пропал в одну ночь без вести. Переяславский летописец дополняет, что, по словам волхва, ему предстали пять богов и велели поведать людям о будущих изменениях стран и что сам он погиб, вринутый в ров ("и вринуша его беси в ров"). Также и волхв, явившийся в Ростове в 1091 году, погибе вскоре. Можно догадываться, что волхвы гибли не без участия ревностных приверженцев христианской стороны. На это имеется и несколько положительных указаний. Посланный на Белоозеро для сбора княжеской дани Ян, вместе со священником и двенадцатью вооруженных отроков, выходил на волхвов, которых не хотели выдать ему местные жители. Волхвов было двое, но у них были свои сторонники; эти люди ринулись на Яна, один из них уже замахнулся на него топором, но по старинному выражению — огрешился, не попал; тогда Ян, оборотя топор, ударил своего противника тульем, а остальных приказал рубить отрокам. Мятежная толпа не устояла и побежала в леса. В этой схватке убит и священник. Наконец настояния и угрозы Яна заставили белозерцев схватить и выдать ему волхвов. Начался допрос. Волхвы требовали поставить их перед князем Святославом: "Сам ты ничего не можешь нам сделать, — говорили они Яну, — так поведают наши боги!" — "Лгут ваши боги!" — возразил Ян и велел их бить и рвать за бороды; потом связал их, посадил в ладью и вместе с ними поплыл по Шексне. Остановясь на устье этой реки, он спросил: "Что вам поведают боги?" — "Боги поведают, — отвечали волхвы, — что не быть нам в живых". — "Правду говорят!" — "Но если отпустишь нас — много будет тебе добра; а погубишь — многую печаль и зло приимешь". Ян не поверил предсказанию: оба волхва были убиты и повешены на дуб; трупы их достались в пищу лесным зверям...
Хотя народ и принял христианство, но уставы и предания предков не вдруг утратили для него свою обаятельную силу; втай еще продолжали жить старые верования и соблюдаться старые обряды. "Невегласи" (а такими следует признать целые массы населения) еще долгое время совершали мольбы и требы языческим богам и во всех сомнительных и тревожных случаях прибегали к помощи колдунов и чародеев. Заветы древней религии и культа сохранялись в семьях, передавались по наследству от отцов детям и потому легко укрывались от постороннего вмешательства и преследований...
Старинные моралисты называли наших предков людьми двоеверными, и нельзя не признаться, что эпитет этот верно и метко обозначал самую существенную сторону их нравственного характера.
Духовенство, в высших представителях, сознавало вред и незаконность такого положения дел и в поучениях своих постоянно возвышало голос как против басней и обрядов, наследованных от языческой старины, так и против народного доверия к волхвам, ведунам и ведуньям...
Другою заботою духовенства было уничтожение народных игрищ; вместе с музыкой, песнями, плясками и ряженьем в мохнатые шкуры и личины игрища эти вызывали строгие запретительные меры, как дело нечестивое, бесовское, принадлежавшее некогда к религиозным обрядам язычества...
С особенною ревностью были преследуемы так называемые "отреченные" или "отметные" книги, принесенные к нам вместе с грамотностью из Византии и отчасти с Запада; к ним причислялись и те листы и тетрадки, в которых записывались народные заговоры, приметы и суеверные наставления. Следуя церковному индексу[186], запретными книгами признавались:
Остролог (другие названия: Мартолой, Острономия, Звездочетец и Зодий). В статье о ложных книгах сказано: "Звездочетец — 12 звезд; другий Звездочетец, ему же имя Шестодневец: в них же безумнии людие верующе волхвуют, ищущие дний рожения своего, санов получения и урока житию". Это — сбор ник астрологических замечаний о вступлении солнца в различные знаки зодиака, о влиянии планет на счастье новорожденных младенцев (то же, что Рожденник, Родословие), а также на судьбы целых народов и общественное благоденствие; отсюда почерпались предсказания о грядущих событиях: будет ли мир или война, урожай или голод, повсеместное здравие или моровая язва.
Рафли — астрологическая книга, разделенная на двенадцать схем, в которой трактуется о влиянии звезд на ход человеческой жизни. "Стоглав" замечает, что тяжущиеся, как скоро доходило до судебного поединка, призывали на помощь волхвов — "и в те поры волхвы и чародейники от бесовских научений пособие им творят, кудесы бьют, и в Аристотелевы Врата и в Рафли смотрят, и по планетам глядают и смотрят дней и часов... и на те чарования надеяся, поклепца и ябедник не мирятся и крест целуют и на поли бьютца, и поклепав побивают"...
Аристотелевы Врата — перевод средневекового сочинения, составление которого приписывалось Аристотелю. Книга эта, сверх нравственных наставлений, содержит сведения по астрологии, медицине и физиогномике; она состоит из нескольких отделов, называемых вратами.
Громник или Громовник - в рукописи императорской венской библиотеки означен "творением премудрого Ираклия, царя перскаго". Книга эта известна по спискам XV—XVI столетий, сербского письма, и заключает в себе различные, расположенные по месяцам, предзнаменования (о состоянии погоды, о будущих урожаях, болезнях, ратях и пр.), соединяемые с громом и землетрясением; к этому присоединяются иногда и заметки "о состоянии луны право или полого", с указанием на значение таких признаков в разные времена года.
Молник (Молнияник), сохранившийся в сербской рукописи XV столетия: здесь собраны сведения, в какие дни месяцев что предвещает удар молнии.
Коле(я)дник — содержит в себе приметы, определяемые по дням, на какие приходится рождество Христово (праздник Коляды); например: "Аще будет рождество Христово в среду — зима велика и тепла, весна дождева, жатва добра, пшеници помалу, вина много, женам мор, старым пагуба" (по списку XV стол).
Записка о днях и часах добрых и злых.
Мысленник — вероятно, то же самое, что Разумник, содержащий апокрифические сказания о создании мира и человека.
Волховник — сборник суеверных примет, "еже есть се: храм трещит, ухозвон, воронограй, куроклик, окомиг, огнь бучит, пес выет" и проч. Некоторые статьи Волховника переписывались отдельно и занесены в индекс под своими частными названиями, каковы: Воронограй (приметы и гадания по крику воронов), Куроглашенник (по крику петухов), Птичник, или Птичьи чарове (по крику и полету птиц вообще) и Трепетник — истолкователь примет, основанных на трепете различных частей человеческого тела: "Аще верх главы (челюсть, бровь, око и т. д.) потрепещет, лицо или уши горят, во ухо десное и левое пошумит (или позвонит), длань посвербит, подошвы отерпнут..." Подлинник Трепетника найден в одной из греческих рукописей венской библиотеки.
Сносудец (Сновидец, Сонник).
Путник — "книга, в ней же есть написано о стречах" добрых или злых.
Зелейник — описание волшебных и целебных трав (зелий), с указанием на заговоры и другие суеверные средства, употребительные в народной медицине; подобные тетрадки и доныне обращаются между простолюдинами под названием "травников", "цветников" и "лечебников".
*Чаровник, состоящий из 12 глав, "в них же суть двоена-десять опрометных лиц звериных и птичиих", т. е. сказания о блуждающих оборотнях.
Метание (Метаньеимец, или Розгомечец) — книга гаданий посредством жребия. Желающие допросить судьбу метали жребии, т. е. прутики (розги) с нарезанными на них чертами; вместо этих прутиков могли употребляться и помеченные точками игральные кости; по числу выпавших нарезок или точек определялся номер того изречения гадательной книги, которое должно было служить ответом на задуманный вопрос...
Альманахи.
Максим Грек[187], который не раз протестовал против заблуждений современников, в одном обличительном слове коснулся и альманахов, обыкновенно наполнявшихся разными астрологическими предсказаниями. К нам они занесены с Запада.
Таким образом календарные прогностики, напечатанные в 1710-м и последующих годах, уже имели своих предшественников в рукописных сборниках допетровского времени. Отреченные книги ясно свидетельствуют, что научные познания о природе были смешиваемы с языческими верованиями и волшебством. Духовная власть установляет бегать этих книг, аки Содома и Гомора, и если они попадутся в руки, то немедленно истреблять их огнем...
Христианские пастыри не ограничились только поучениями и запретами; они требовали предания обличаемых строгому суду и казням... Как сжигались музыкальные инструменты и волшебные книги, так подобную же участь испытывали и колдуны, и ведьмы. В 1227 году, по сказанию летописца, в Новгороде "изъжгоша волхвов четыре, творяхуть я потворы деюща, а бог весть, и сожгоша на Ярославле дворе". По свидетельству Никоновской летописи, волхвы были приведены сперва на архиепископский двор, а потом уже преданы сожжению на Ярославовом дворе, несмотря на заступничество бояр. В начале XV столетия (в 1411 году) псковичи сожгли двенадцать вещих женок; заметим, что около этого времени действовала на Руси страшная моровая язва, которая и могла послужить поводом к их обвинению. О князе Иване Андреевиче Можайском сохранилось известие, что он сжег за волшебство мать Григория Мамона. Повесть о волховании, написанная для Ивана Грозного, доказывает необходимость строгих наказаний для чародеев я в пример выставляет царя, который вместе с епископом "написати книги повеле и утверди, и проклят чародеяние, и в весех заповеда таких огнем пожечи". Котошихин[188] говорит, что в его время мужчин за богохульство, церковную татьбу, волховство, чернокнижество и ереси сожигали живых, а женщинам за те же преступления отсекали головы. Из следственных же дел XVII столетия видно, что за ворожбу и чародейство большею частию наказывали ссылкою в дальние места и заключением в монастырь; следовательно, кроме сожжения, употреблялись и другие, более легкие наказания. Вероятно, при назначении меры взыскания принимались в расчет как замыслы обвиняемых лиц, так и степень причиненного ими вреда. В грамоте, данной царем Федором Алексеевичем на учреждение в Москве Славяно-греко-латинской академии, сказано: "А от церкви возбраняемых наук, наипаче же магии естественной и иных, таким не учити и учителей таковых не имети. Аще же таковые учители где обрящутся, и оны со учениками, яко чародеи, без всякого милосердия да сожгутся". Блюстителю и учителям академии предписывалось иметь тщательное наблюдение, чтобы никто из духовных и мирских не держал у себя "волшебных, чародейных, гадательных и всяких от церкви возбраняемых книг и писаний, и по оным не действовал, и иных тому не учил". У кого же объявятся такие богопротивные книги, тот вместе с ними "без всякого милосердия да сожжется". Колдовство поставлялось наряду с богохульством, безбожием и ересями и подлежало тому же возмездию, как и эти последние[189]. Сожжение чародеев на кострах согласовалось с общим народным убеждением, которое, обвиняя колдунов и ведьм в засухах, неурожаях и повальных болезнях, почитало такую казнь за единственное средство против постигших бедствий.
По словам песни, девица-чародейка напекла змей, сварила зелье и приготовила снадобье на гибель родного брата; но брат сметил ее злой умысел:
Снимал он с сестры буйну голову... И он брал со костра дрова, Он клал дрова среди двора; Как сжег ее тело белое Что до самого до пепелу, Он развеял прах по чисту полю, Заказал всем тужить, плакати.Тому же наказанию подвергаются колдуны и ведьмы и по свидетельству народных сказок. Христианские пастыри не только крепили своим авторитетом старинное мнение о связи чародейства с нечистою силою, но и придавали этому мнению более решительный характер. Как на сообщников злых демонов, народ восставал на колдунов и ведьм только в чрезвычайных случаях общественных бедствий; в обыкновенное же время он доверчиво и с уважением относился к их вещим дарованиям и охотно пользовался их помощью. Напротив, христианство на все проявления колдовства смотрело безразлично; на его строгий взгляд, равно были греховны и похитители дождей, напускатели града, вихрей, болезней, и составители целебных снадобий, паузники, ворожеи, гадатели. Отсюда возникли многие столкновения, которые живо рисуют перед нами прошлую жизнь с ее внутренней стороны.
Вера в колдовство, составляющая теперь исключительную принадлежность простонародья, в допетровское время была общим достоянием всех классов общества. По незначительной степени доступного тогда образования, высшие сословные разряды в умственном и нравственном отношении почти не разнились от низших: черта, существенно отличающая древнюю нашу историю от новейшей. Старинные обычаи равно соблюдались и во дворце, и в боярских палатах, и в избе крестьянина, на что указывает весь строй домашнего быта и в особенности свадебный обряд; дух суеверия одинаково властвовал над всеми, начиная от поселян и до царя. В 1467 году скончалась супруга Ивана III Мария, тело усопшей "разошлося" (распухло, отекло), и смерть ее приписана была действию отравного зелья. Подозрение пало на жену Алексея Полуектова Наталью, которую обвиняли в том, будто она посылала пояс великой княгини к какой-то бабе (ворожее); тогда, замечает летописец, восполеся князь на Алексея и его жену и шесть лет не допускал его на свои пресветлые очи. От брака с Марией князь имел сына, который умер еще при жизни отца и оставил ему внука Димитрия — от Елены, дочери молдавского господаря. Во время спора, возникшего за наследство престола между внуком Ивана III и сыном его от нового брака с греческою царевною Софией, сторонники Елены оговорили великую княгиню в злых умыслах и в сношениях с бабами-чародейками, "и в то время (1497 г.) опалу положил князь великий на жену свою на великую княгиню Софью о том, что к ней приходиша бабы с зелием; обыскав тех баб лихих, князь великий повелел их казнити — потопити в Москве-реке нощию, а с нею с тех мест нача жити в брежении"[190]. Дмитрий был венчан на царство; но торжество его партии было непродолжительно и — как известно — окончилось заключением в темницу этого несчастного царевича. София победила, но за нею осталось название "чародейки греческой": так обзывает ее Курбский[191] в истории Ивана Грозного...
В 1547 году Москву постигла страшная кара: великий пожар испепелил все здания, ни огороды, ни сады не уцелели, около 2000 народу сделалось добычею пламени; народная молва приписала это бедствие чародейству и обвинила в нем Глинских, родственников молодого царя по матери; были они, говорит летописец, у государя в приближении и жаловании, допускали грабеж и насильство и чрез то возбудили против себя общую ненависть черных людей. Царский духовник благовещенский протопоп Федор Бармин, боярин князь Федор Скопин-Шуйский да Иван Федоров довели о том до сведения государя, и он приказал разыскать боярам. Бояре приехали в Кремль на площадь, к Успенскому собору, собрали черных людей и стали спрашивать: кто зажигал Москву? Толпа закричала: "Княгиня Анна Глинская со своими детьми и с людьми волховала, вынимала сердца человеческия, клала их в воду, да тою водою, ездячи по Москве, кропила — и от того Москва выгорела!" На площадь явился и Юрий Глинский, родной дядя государя; но, слыша такое ужасное обвинение, поспешил укрыться в Успенском соборе. Озлобленная чернь бросилась за ним, убила его в самой церкви и поволокла труп на торговое место, где обыкновенно совершались казни; побили и многих людей его, а имущество разграбили. На третий день после этого толпа приходила к царю в село Воробьеве и требовала выдачи Анны Глинской и Михаила Глинского, и только строгие меры, принятые Иваном IV, заставили ее разбежаться. Как в смерти Марии Тверской подозревали участие волшебства, так к тому же обычному обвинению прибегли и противники Адашева и Сильвестра при кончине царицы Анастасии (1560 г.); по свидетельству Курбского, они говорили, "аки бы счаровали ее оные мужи", и советовали царю не допускать их перед свое лице: "Аще припустишь их к себе на очи, очаруют тебя и детей твоих... обвяжут тя паки и покорят аки в неволю себе"; и до сих пор держали тебя, великого государя, в оковах, "а то творили они своими чаровствы, аки очи твои закрывающе, не дали ни на что зрети, хотяще сами царствовати и над всем владети". Внушения эти должны были производить сильное влияние на восприимчивую и подозрительную душу Ивана Грозного, который относительно веры в колдовство стоял не выше своих современников. Так, знаменитый воевода князь Михаил Воротынский, обвиненный в тайных сношениях с ведьмами, был предан им жесточайшим пыткам. Связанного князя привели и поставили перед царем, который сказал ему: "Се на тя свидетельствует слуга твой, иже мя еси хотел счаровати и добывал еси на меня баб шепчущих". Воротынский отвечал: "Не научихся, о царю! и не навыкох от прародителей своих чаровать и в бесовство верити... А сей клеветник — мой есть раб и утече от меня, окравши мя: не подобает ти сему верити и ни свидетельства от таковаго приимати, яко от злодея и от предателя моего, лжеклевещущаго на мя!" По царскому повелению, Воротынского положили на бревно между двух огней и начали медленно поджаривать, причем сам Грозный жезлом своим подгребал к его обнаженному телу горячие уголья. После пытки еле живого князя повезли в ссылку на Белоозеро, но на дороге туда он скончался. Если верить Горсею[192], Иван IV в последние годы жизни вполне отдался предрассудкам своего века. Зимою 1584 года явилась комета; больной царь вышел на Красное крыльцо, долго смотрел на нее и потом, изменившись в лице, сказал окружающим: "Вот знамение моей смерти!" Встревоженный этой мыслею, он решился прибегнуть к волшебству: по его указу на севере России было собрано до шестидесяти чародеек; привезенные в Москву, они содержались здесь под стражею, и царский любимец Богдан Бельский ежедневно посещал их, выслушивал и передавал царю их предвещания. Колдуньи утверждали, что светила небесные враждебны для государя и что он умрет 18 марта. Царь пришел в бешенство и высказал желание, чтобы в этот самый день лживые колдуньи были преданы сожжению. Утром 18 марта он почувствовал себя лучше и послал Бельского объявить чародейкам, какая ожидает их казнь за ложное предсказание. "Не гневайся, боярин! — отвечали они. — День начался с восходом солнца, а кончится только с его закатом". Между тем царь собирался играть в шахматы, начал было расставлять шашки, но вдруг упал в обморок и вскоре затем испустил последнее дыхание. Под 1570 годом Псковской летописи находим интересное свидетельство, что Иван Грозный, по возвращении из ливонского похода, приблизил к себе "немчина лютаго волхва, нарицаемого Елисея, и бысть ему любим". Это был медик Бомелий, родом голландец. Он навел на царя "страхование" (боязливое недоверие к своим), "на русских людей царю возложи свирепство, а к немцам на любовь преложи". Это влияние иноземца летописец объясняет так: узнали безбожные немцы посредством гаданий, что быть им от русского государя разоренным до конца, и того ради прислали к нему такого злого еретика, "понеже русские люди прелестни и падки на волхование"...
В старину ни одно важное дело не обходилось без обвинений в чародействе, и вот когда началось следствие об убиении царевича Дмитрия, то в числе показаний, отобранных от различных лиц, встречаем и такие: была у Михайла Битяговского юродивая женочка и хаживала к царице Марье "для потехи", и как царевичу приключилась смерть, царица Марья приказала ту женку отыскать и убить — за то, что она царевича портила; а Михайло Нагой велел убить Битяговского, который с ним почасту бранивался и уличал, будто он добывает на государя и государыню ведунов и хочет их портить. Между этими ведунами назван был Андрюшка Мочалов, которого предписано было сыскать и в оковах (по рукам и ногам) привезти в Москву с великим береженьем; что было потом с Мочаловым — неизвестно...
По воцарении Бориса Годунова, он подозрительно смотрел на окружающих его бояр, из которых многие вели свой род от Рюрика, а другие были в свойстве с вымершим царским домом. Опасаясь крамол, он охотно выслушивал доносчиков, награждал их поместьями и деньгами и тем самым поощрял боярских холопей к шпионству и ложным изветам на своих господ. Наиболее легкий способ обнести кого бы то ни было в государственной измене и заставить верить своему доносу было обвинение в чарах против государева здоровья. Таков извет сделан был на Романовых. Летописец рассказывает об этом так: дворовый человек и казначей боярина Александра Никитича Романова, Второй Бартенев, пришел тайно к дворецкому Семену Годунову и объявил ему: "Что ми царь повелит сделать над государи моими, то и сотворю!" Дворецкий обрадовался и возвестил царю Борису; а "Борис велел ему сказать многое свое жалованье. Семен же умысли со Вторым и наклаша всякого коренья в мешки, и повелел ему положити в казну Александра Никитича. Той же Второй, сотворя тако, прииде доводить на государя своего". Последовал обыск, коренье было вынуто, привели Романовых, Федора Никитича с братьями, отдали их под стражу, пытали и потом сослали в отдаленные места. О Василии Шуйском в хронографе Кубасова[193] сказано, что он "к волхвованию прилежаше"; а по свидетельству Петрея[194], он, желая поддержать себя на престоле, собирал отовсюду колдунов и колдуний и для их ведовских дел приказывал вынимать из живых коней сердца и вырезывал плод из беременных женщин: когда колдуны чаровали и творили заклятия — царские войска одерживали верх над неприятелем, а когда чары прекращались — в то время одолевали поляки.
При царе Михаиле Федоровиче в 1632 г. была отправлена во Псков грамота с запрещением, под смертною казнею, покупать у литовцев хмель, потому что посланные за рубеж лазутчики объявили, что есть в Литве баба-ведунья и наговаривает она на хмель, вывозимый в русские города, с целью навести чрез то на Русь моровое поветрие... Процессы о вынутых травах, кореньях, заговорных письмах и других волшебных снадобьях составляли в XVII веке весьма обыкновенное явление. В 1666 году послан был в Кирилло-Белозерский монастырь на исправление посадский человек Аничка Громников за то, что учился "заговорным словам" — с целью отомстить недружбу; велено было везти его скованным и бережно, а в монастыре держать под началом до государева указу...
В 1674 году в Тотьме сожжена в срубе, при многочисленном стечении народа, женка Федосья, оговоренная в порче; перед самою казнию она заявила, что никого не портила, а поклепала себя на допросе, не стерпя пытки. Судебный розыск сопровождался в эту эпоху страшными истязаниями; жестокость пыток была такова, что, с одной стороны, она действительно вынуждала обвиняемых к оговариванию себя в небывалых преступлениях, а с другой, — заставляла их прибегать к помощи чар и заклятий, дабы тело свое сделать нечувствительным к боли. Так, в 1648 г. устюжанин Ивашка, прозвищем Солдат, когда во время розыска вынули у него из-под пяты какой-то камень, повинился, что сидел с ним в тюрьме разбойник Бубен и учил его ведовству — как от пытки оттерпеться; надо-де наговаривать на воск эти слова: "Небо лубяно и земля лубяна, и как в земле мертвые не слышат ничего, так бы имярек не слыхал жесточи и пытки!"
В разрядной книге[195] 1675 года записаны два кратких известия: одно — о Григории Косагове, на которого духовник его подал извет, будто он держит у себя еретические книги, и по тому извету царь приказал Косагова послать к патриарху для исследования и очной ставки с обвинителем; другое — о боярине князе Федоре Куракине, которому велено было не съезжать с своего двора до государева указу — за то, что он держал у себя в доме "ведомую вориху девку Феньку, слепую и ворожею"; самую Феньку, вместе с дворовыми людьми Куракина, велено было пытать жестокою пыткою комнатным боярам да дьяку тайных дел, и которых людей станет она оговаривать — тем давать с нею очные ставки и пытать их накрепко.
В 1677 году приведен был в съезжую избу бобыль Калинка Ортемьев, и вынуты у него из узлов: травы, коренья, табак, кость жженая с воском, змея и летучие мыши; а в расспросе и с пытки показал, что все эти снадобья дал ему коновал Симон-немчин. Велено было пытать его вторично и допрашивать с великим пристрастием, и что он покажет — о том донести государю. Чем кончилось это дело, неизвестно. Другой подобный же процесс, вызванный волшебными "узлами" (наузами), был в 1680 году. Иноземец Зинка Ларионов сделал донос на нескольких крестьян в лихих кореньях и подал в приказную избу поличного "крест медный да корешок невелик, да травки немного — завязано в узлишки у креста". Из числа обвиняемых Игнашка Васильев признал крест своим и на расспросе показывал: корень тот "девесилной, а травка-де ростет в огородах, а как зовут ее — того он не ведает; а держит он тот корешок и травку от лихорадки, и лихих-де трав и коренья он не знает и за дурном не ходит". По осмотру посадского человека Якушки Паутова оказалось, что корень именуется "девятины — от сердечные скорби держат, а травишко держат от гнетенишные скорби (лихорадки), а лихого-де в том ничего нет". Другой подсудимый объявил, что ему положили в зеп[196] травы в то время, как он был на кружечном дворе пьяный, в беспамятстве. Крестьян, оговоренных иноземцем Зинкою, пытали, а потом били батогами, чтоб впредь неповадно было напиваться до беспамятства и носить при себе коренья.
Обвинения в чародействе нередко возникали из чувства личного недоброжелательства, ненависти и мести; при этом хватались за первое неосторожное слово, сказанное в раздражении, запальчивости, спьяну или ради шутки. От времен царя Алексея Михайловича дошло до нас судное дело между Никитою Арцыбашевым и Иваном Колобовым. Сначала Арцыбашев в поданной им челобитной обзывал Колобова кудесником и утверждал, будто видел у него "волшебные заговорные письма", которыми тот испортил его жену и околдовал бояр и воевод; а потом противники помирились и подали заявление, что желают прекратить это дело, что Никита возбудил его затейною, исполняя свою недружбу, так как между ними и допрежь сего были многие тяжбы в поместном приказе и взаимные иски о бесчестии...
В 1606 году поданы были в Перми две любопытные жалобы: оба челобитчика сделали извет — один на крестьянина Тренку Талева, что тот напустил икоту на его жену, а другой — на посадского Семейку Ведерника, который будто бы напустил икоту на его товарища по торговле; обвиняемых пытали и вкинули в тюрьму. Тренку жгли на розыске огнем, и были ему три встряски, а Семейку приводили к пытке два раза. Мнимые преступники жаловались в Москву государю — на поклеп и несправедливое истязание, почему велено было произвести повальный обыск; попы по священству, а посадские люди и волостные крестьяне под присягою должны были показать: пускают ли порчу Тренка Талев и Семейка Ведерник? И буде обыскные люди очистят их, скажут, что они тем не промышляют, то немедленно отпустить их на свободу. Томительная икота и доныне считается нечистым духом, которого чародеи насылают по ветру на своих ворогов и супротивников; бес поселяется в человеке и мучит его. Обвинения в наслании икоты продолжают волновать сельское население и еще недавно вызывали вмешательство местных судов. То же воззрение распространяется и на болезни, сопровождаемые конвульсиями, каковы: падучая и виттова пляска. Страдающие этими недугами известны в народе под общим названием "кликуш". Под влиянием глубоко коренящегося суеверия кликуши выкрикивают проклятия и жалобы на тех, кого подозревают в своей порче. В старину появление кликуш было величайшим несчастьем для всей общины; их болезненный бред принимался с полным доверием и вызывал судебные преследования. По одному оклику беснующейся бабы брали оговоренного ею человека к допросу, подвергали пыткам и вымучивали у него признание в небывалом преступлении. Кликушество сделалось наконец самым обыкновенным и верным способом мстить за обиды и недружбу: стоило только прикинуться кликушею, чтобы подвергнуть своего врага страшным истязаниям и даже смертной казни. Сверх того, кликуши служили орудием корыстолюбивых дьяков и воевод, которые нарочно подущали их оговаривать богатых людей и потом, пользуясь обвинением, обирали чужое добро...
Чтобы противодействовать этой нравственной заразе, Петр Великий указом своим 1715 года повелел хватать кликуш обоего пола и приводить в приказы для розыска, действительно ли они больны или нарочно накидывают на себя порчу? В указе приведен следующий пример притворного кликушества: в 1714 г. в Петербурге плотничья жена Варвара Логинова стала кричать, что она испорчена. Взятая к допросу, она повинилась, что кричала нарочно: случилось ей быть в гостях вместе со своим деверем; там произошла ссора, и деверя ее прибили. Желая отомстить за родича, Варвара умыслила обвинить своих недругов в порче и спустя несколько дней после драки стала выкрикивать дома и в церкви, раза по два и по три в неделю, как бы в совершенном беспамятье.
В 1770 году, в Яренском уезде Вологодской губернии, несколько баб и девок притворились кликушами и по злобе на разных лиц стали оговаривать их в порче. Оговоренные были схвачены, привезены в город и там под плетьми вынуждены были признать себя чародеями и чародейками. Одна из этих мнимых преступниц (по ее собственному сознанию) напускала порчу по ветру посредством червей, полученных ею от дьявола; она доставила судьям и самих червей, а те препроводили их в сенат; оказалось, что это — личинки обыкновенных мух...
В царствование Федора Алексеевича замечательно дело о заточении ближнего боярина Артамона Сергеича Матвеева, любимца покойного государя. Враги не могли придумать лучшего средства для отдаления Матвеева от двора и правительства, как обвинить его в чародействе. Это тем легче было исполнить, что боярин Артамон Сергеич любил сближаться с иноземцами и ценил научные знания; десятилетний сын его, Андрей, учился языкам греческому и латинскому под руководством переводчика посольского приказа Спафари; а в тот век достаточно было иметь при себе какую-нибудь иностранную книгу и медицинские пособия, чтобы возбудить подозрение в волшебстве. По свидетельству Олеария, во время пожара, бывшего в Москве при царе Михаиле Федоровиче, у одного немца-живописца нашли череп и только поэтому хотели сжечь его как волшебника; при стрелецких смутах доктор фон Гаден заплатил жизнью за то, что у него в доме нашлись сушеные змеи. Вследствие подговора, Давыдко Берлов, лекарь, и карло Захарка, проживавший в доме Матвеева, донесли на него, будто бы он вместе с доктором Стефаном и переводчиком Спафари, запершись в палате, читали черную книгу, и в то время явилось к ним множество нечистых духов. По этому доносу Матвеев был сослан в заточение в Пустозерский острог; боярство у него отнято, а имения отобраны в казну. Матвеев несколько раз писал в Москву к государю, патриарху и боярам, стараясь оправдаться в возведенном на него преступлении, но попытки эти не имели успеха....
Князь М. Щербатов[197] заметил, что "наипросвещеннейший муж в России князь Василий Васильевич Голицын (известный наперсник царевны Софии) гадателей призывал и на месяц смотрел о познании судьбы своей. Отзыв этот подтверждается официальными документами. Во время крымского похода Голицын, извещая Шакловитого о безымянном письме, в котором писано было к малорусам, чтоб пребывали с крымцами в миру: "Москва-де вам не верит, и большого вашего хотят убить", — прибавляет: "и то, чаю, ведали они по чарованью некоему". В 1689 году, по его челобитью, пытан был в земском приказе Иван Бунаков за то, что вынимал княжой след. Из деловых бумаг розыскного приказа узнаем, что Голицын совещался с колдунами и, опасаясь, чтобы не остыла к нему любовь Софии, прибегал к чарам: какой-то знахарь давал ему травы, и князь сыпал их для "прилюбления" в ествы, подносимые царевне, а потом того знахаря велел сжечь в бане, дабы не было от него проносу. Такое показание дал Сильвестр Медведев, а ему про то сказывал иконник Васька Владимиров. Ваську взяли к допросу, пытали, и он повторил те же самые речи. Обращалась к колдунам и прорицателям и царевна София; для предварительного испытания она обыкновенно посылала их к Медведеву, который и сам занимался астрологией, гадал по звездам и предсказывал будущее. Между волхвами особенным доверием ее пользовался Дмитрий Силин, вызванный царевною из Польши лечить болезненные очи царю Ивану Алексеевичу; года с три жил он в келье Медведева, уверял, что умеет глядеть в солнце и угадывать, что кому будет, знал заговаривать грыжу, пособлять жене и мужу и вылечивать от болезней живота. Силин врачевал на Москве многих, в том числе и князя Голицына: щупал ему живот и нашел, что князь "любит чужбину, а жены своей не любит". Этому пришельцу Медведев открыл, что царевна хочет выйти замуж за Голицына, Шакловитого намерена сделать первым у себя правителем, а его, Медведева, патриархом, и просил посмотреть в солнце: сбудется ли это? Силин два раза всходил на Ивановскую колокольню и будто бы видел, что "у государей венцы на главах, у Голицына венец мотался на груди и на спине, сам он стоял тёмен и ходил колесом, царевна была печальна и смутна, Медведев был тёмен, а Шакловитый повесил голову". Когда Петр начал торжествовать над своею сестрою, Медведев бежал в монастырское сельцо Микулино с тремя стрельцами; там они виделись с волхвом Ваською Иконником и советовались с тремя колдунами: коновалом Бобылем, дворником Охапкиным и портным Матвеевым. Очные ставки с пыткою вынудили у него признание в справедливости всех сделанных изветов; вместе с ним пытаны Кабанов (дано 17 ударов), Бобыль (35 ударов), Охапкин (10 ударов); прочие ведуны подьманы только для страху. При этом некоторые из них объявили и свои шепты (заговоры), а другие показывали, что никакой ворожбы не знают, а ворожили "издеваючись". Очевидно, все преступление состояло в суеверных попытках помощию чар и заговоров призвать царскую милость на опального боярина. Воя-ре приговорили: Безобразову отсечь голову, жену его сослать в Тихвинский Введенский монастырь, а двор их, поместья и вотчины отобрать бесповоротно; коновалов Дорофея Кабанова и Федора Бобыля сжечь в срубе; остальных колдунов и Щербачова бить нещадно кнутом на козле и сослать в Сибирь вместе с их женами и детьми. Казнь совершилась 8 января 1690 года. Доносчики были награждены: им выдано из описной казны Безобразова по сто рублей на человека, оба они освобождены от крепостной зависимости и взяты в задворные конюхи.
Но дело этим не кончилось; оно тянулось еще около двух лет; розыски производились воеводами в Коломне, Касимове, Переяславле Рязанском и Нижнем Новгороде. Один ведун оговаривал другого, другой — третьего и так далее. Воеводские розыски были ужасны: привлеченных к делу ворожей и колдунов пытали по нескольку раз со встряскою. Некоторые из них винились в ворожбе на бобах, воде и деньгах; другие же, несмотря на истязания, ни в чем не сознавались и умирали под пыткою или в тюрьме до окончания следствия.
Реформа Петра Великого не могла поколебать векового предубеждения против колдунов и ведьм. В ту эпоху, когда она совершалась, во всей Западной Европе, служившей для нас образцом и примером, вера в колдовство составляла общее достояние умов и подчиняла своим темным внушениям не только простолюдинов, но и духовенство, ученых и самые правительства. Между тем как у славян, соответственно простоте их быта, далекого от строгих юридических определений, книжной учености и богословской схоластики, предания о волшебстве удерживались в устных, отрывочных и безыскусственных рассказах — на Западе мы встречаем целый ряд учено-богословских трактатов о духах злобы и их связях с людьми, трактатов, обработанных систематически и доведенных до изумительного анализа всех мелочных подробностей. Эта средневековая литература дополняла и формулировала народное суеверие, скрепляла его своим авторитетом и имела огромное влияние на общественные нравы, судебные процессы и законодательные установления. Уполномоченные от высших правительственных властей инквизиторы ездили по различным областям Италии, Франции, Германии и других земель, где только проносилась молва о чародействе; следственные комиссии приступали к делу со всеми ужасами пыток и вынуждали самые чудовищные признания. Число жертв, погибавших от руки палача, превосходит всякое вероятие. От издания буллы Иннокентия VIII (1484 г.)[198], направленной против колдунов и ведьм, до окончания казней за волшебство — в одной Германии насчитывают более ста тысяч человек, осужденных на смерть, в Англии за все время, пока продолжались там подобные преследования, погибло более 30000 человек. Не подлежит сомнению, что не одни пытки заставляли признаваться в небывалых сношениях с чертями; что бывали и добровольные самообвинения, исходившие из того болезненно суеверного настроения, отдаваясь которому человек всякое непонятное ему действие и всякую тревожившую его мечту готов был приписать сверхъестественным, демоническим силам. С особенною наглядностью раскрывается это в тех процессах, где были замешаны дети. Под обаянием предрассудков, всосанных с молоком матери, впечатлительная фантазия детей принимала сновидения, горячечный бред и мечты напуганного воображения за живую действительность. В знаменитом процессе 1669 года, в шведской деревне Мора, малолетние дети смело и настойчиво утверждали, что они околдованы и были в сношениях с дьяволом. Такое гибельное заблуждение действовало нередко как нравственная зараза и, зародившись в умах некоторых мальчиков или девочек, немедленно сообщалось от них всему детскому населению. Во Франции в одном благотворительном заведении в продолжение полугода почти все воспитанницы объявили себя ведьмами, рассказывали о сообщении своем с чертями, о своих полуночных сборищах, пирах и плясках. Несчастных детей так же безжалостно пытали, как и взрослых. Сожжение и казни ведьм продолжались почти до конца XVIII столетия. В истории Англии известен процесс 1716 года, когда Гикс и его девятилетняя дочь были повешены за то, что предались дьяволу и производили бури; в 1728 году в венгерском городе Сигедине сожгли тринадцать колдуний; в 1749 г. в Вюрцбурге сожжена, как волшебница, Мария Рената; в католическом кантоне Гларусе подобная же казнь совершена над ведьмою в 1786 году.
Ясно, что при Петре Великом влияние Западной Европы не могло подействовать смягчительно на дух нашего законодательства. В артикулах Воинского устава 1716 года предписывается: если кто из воинов будет чернокнижник, ружья заговорщик и богохульный чародей, такого наказывать шпицрутеном и заключением в оковы или сожжением. В толковании к этой статье прибавлено, что сожжение определяется чернокнижникам, входящим в обязательство с дьяволом. Лиц, пойманных с волшебными заговорами и гадательными тетрадками или уличенных в их переписке, продолжали подвергать телесным истязаниям; самые заговоры и тетрадки (на основании указа царя Федора Алексеевича) посылались на просмотр к ректору Славяно-греко-латинской академии... По образцу западных теорий, в курс богословия внесено было объяснение различных видов волшебства. Колдуны, по словам ученого профессора, могут с корнем вырывать крепчайшие деревья, переставлять засеянные поля с одного места на другое, делаться невидимками, превращаться в различные образы и совершать многие другие чары. Судные дела XVIII столетия до сих пор остаются неизданными и малодоступными для исследователя; но даже из тех немногих материалов, на которые можно сослаться в настоящее время, нетрудно убедиться, как сильно живучи народные суеверия и как долго еще после реформы Петра продолжались преследования мнимого чародейства. В 1750 году возникло, например, дело о сержанте Тулубьеве, который обвинялся в совершении любовных чар. Обстоятельства этого дела так изложены в промемории тобольской консистории: ширванского пехотного полка сержант Василий Тулубьев, квартируя в городе Тюмени у жены разночинца Екатерины Тверитиной, вступил в блудную связь с ее дочерью Ириною, а потом ее, Ирину, насильно обвенчал со своим дворовым человеком Родионом Дунаевым, но жить с ним не позволил. Чтобы закрепить любовь и верность Ирины, он на третий день после венца брал ее с собой в баню и творил над нею разные чары: взяв два ломтя печеного хлеба, Тулубьев обтирал ими с себя и с своей любовницы пот; затем хлеб этот смешал с воском, печиною, солью и волосами, сделал два колобка и шептал над ними неведомо какие слова, смотря в волшебную книгу. Он же, Тулубьев, срезывал с хоромных углов стружки, собирал грязь с тележного колеса, клал те стружки и грязь в теплую банную воду и приготовленным настоем поил Ирину; поил ее и вином, смешанным с порохом и росным ладаном; наговаривал еще на воск и серу и те снадобья заставлял ее носить, прилепив к шейному кресту, а сам он постоянно носил при себе ее волосы, над которыми также нашептывал. Подобными чарами Тулубьев так приворожил Ирину, что она без него жить не могла, и когда ему случалось уходить со двора — бегала за ним следом, тосковала и драла на себе платье и волосы. Консистория определила: лишить Тулубьева сержантского звания и сослать его на покаяние в енисейский монастырь, а брак Ирины с Дунаевым расторгнуть; как блудница, Ирина должна бы подлежать монастырскому заключению, "но понеже она навращена к тому по злодеянию того Тулубьева, чародейством его и присушкою, а не по свободной воле, — для таких резонов от посылки в монастырь ее освободить".
Но рано или поздно дух суеверия должен был уступить перед успехами ума и общественного просвещения. Философское движение второй половины XVIII века вызвало более светлые взгляды на природу и человека, потрясло вековые предрассудки, заставило сознаться в бесполезной жестокости пыток и утвердило великую идею веротерпимости; вместе с этим оно погасило костры инквизиции и остановило преследования мнимых колдунов и ведьм во всей Европе...
Народные праздники
Деление года у древних славян определялось теми естественными, для всех наглядными знамениями, какие даются самою природою. Год распадался на две половины: летнюю и зимнюю, — и начинался с первого весеннего месяца — марта, так как именно с этой поры природа пробуждается от мертвенного сна к жизни и светлые боги приступают к созиданию своего благодатного царства. Апокрифы и народные поверья относят сотворение мира и первого человека к марту месяцу. Водворение христианства на Руси не скоро изменило старинный обычай начинать новолетие мартом. Церковь, руководствуясь византийским календарем и святцами, приняла годичный круг индиктовый — сентябрьский; народ же и князья оставались при своем мартовском годе и продолжали обозначать месяцы древне-славянскими именами. И Нестор, и его продолжатели держались мартовского года; к сентябрьскому счислению летописцы перешли уже в позднейшее время: так, в Троицкой летописи сентябрьское счисление начинается с 1407 года, а в Новгородских — не прежде покорения Новгорода Иваном III. В делах житейских и гражданских мартовский счет, вероятно, продолжался до конца XV века. В 1492 г. созванный в Москве собор, установив церковную пасхалию на восьмое тысячелетие[199], перенес начало гражданского года с 1 марта на 1 сентября; январский же год введен уже Петром Великим...
Времена года и месяцы получили свои названия от тех характеристических признаков, какие усваивались за ними периодическими изменениями погоды и ее влиянием на возрождение и увядание природы, плодородие земли и труд человека. Ведя жизнь пастухов, звероловов и пахарей, первобытные племена по своим обиходным занятиям должны были обнаруживать самое усиленное внимание ко всем явлениям природы, и действительно, наблюдения их отличались необыкновенной живостью и закреплялись метким, живописующим словом...
Древнеславянские названия месяцев частью занесены в "церковный съборник", приложенный к Остромирову евангелию (1056 г.), в харатейное евангелие 1144 года и в некоторые другие старинные рукописи; частью и доныне удерживаются между болгарами, поляками и иными славянскими племенами:
1) Январь — древн. просинец, болг. студени-ят и лов'заец. Первое название производят от про-синети (синути — совершенный вид от глагола сияти) и видят в нем указание на возрождающееся солнце. 12 декабря у нас слывет солоноворот: солнце поворачивает на лето, и в январе дни уже начинают заметно увеличиваться (проясняться), а ночи сокращаются. У болгар декабрь называется коложег, т. е. месяц возжжения солнечного колеса. Сечень (от глагола сечь) вполне соответствует польскому стычень (от тыкать, ткнуть, тнутъ и старин. тяти или тети — сечь, бить); с этим именем предки наши могли соединять мысль о "переломе зимы" (в январе половина зимы оканчивается, а половина остается) или еще вероятнее — мысль о трескучих, все поражающих морозах. Декабрь, январь и февраль месяцы издревле назывались волчьим временем, потому что Зима, в образе волка, нападала тогда на мир и мертвила его своими острыми зубами. Для обозначения февраля также употреблялось название сеченъ: сверх того, его называли лютым — эпитет, постоянно прилагавшийся к волку.
2) Февраль — сеченъ (болг. сечен или сечко) и снежен...
3) Март — сухы(и)й, березозол, свистун (пора ветров) и пролетъе.
4) Апрель — брезозор и березозол, цветень, заиграй овражки, т. е. пора весенних потоков, скачущих по скатам гор и оврагов. Название березо-зол — березо-зор есть сложное; вторая половина слова указывает на действие вешнего тепла, которым вызывается в березах сладкий сок, употребляемый поселянами вместо напитка (сравни: "зорить ягоды" — выставлять их на солнце, чтоб доспели; "зорнитъ пряжу" — выставлять ее в весеннее время по утрам, чтоб она побелела; июль — месяц сушения скошенной травы — известен в народе под именем сенозорника).
5) Май — травенъ. У наших поселян май называется мур (мурава — трава), а начало этого месяца — росеник.
6) Июнь — изок, червец. Слово изок означает кузнечика; в одной рукописи XVII века, при исчислении старинных названий месяцев, июнь назван "паутной, сиречь комарной"; в областном словаре паут — слепень, овод. Следовательно, июнь обозначался как время стрекотания кузнечиков, появления комаров, слепней и оводов. Соответственно декабрю — коложегу (зимнему повороту солнца), июнь назывался кресник, от крес — огонь, летний солоноворот — праздник Купалы, когда солнечное колесо, достигнув высшей точки на небе, начинает спускаться вниз. На Руси месяц этот слывет макушкою лета: "Всем лето пригоже, да макушка тяжела" (т. е. утомительна зноем).
7) Июль — червень, липец. Червен, червенец от слова червь, что подтверждается и датскими названиями этого месяца, т. е. время собирания насекомых, известных под именем червца и употребляемых на окраску; червленый — темно-красный, багряный... Сенозо(а)рник, сеностав (время гребли и складывания сена в стога). Другие названия, даваемые русскими поселянами июлю: страдник (от страда — пора жатвы и сенокоса) и грозник.
8) Август — зарев, серпень, зорничник и капустник. Это время созревания нив (зорничник от зорить — зреть), жнитвы, действия серпом и перевозки сжатого хлеба (коловоз).
9) Сентябрь — рюе(и)н, болг. рюен, руян, сибирск. рёв — время половых отношений копытчатых зверей; август месяц — зарев. Чехи дают подобное же название и месяцу октябрю. Таким образом август и два следующие за ним месяца обозначались как период, в который олени и другие копытчатые животные бывают в течке и подымают дикий рев. Другие названия, даваемые сентябрю: вресенъ (от врес, верес); болг. гроздобер - время сбора вереска и виноградных гроздий; осенины.
10) Октябрь — листопад, паздерник, от слова паздер — кострика, ибо в этом месяце начинают мять лен и коноплю; зазимье и грязник.
11) Ноябрь — груден (грудьн), листопад; у литовцев календарным знаком его служил древесный лист.
12) Декабрь — студен (студеный, студьный), зимник, польское грудень. В древней летописи встречаем следующие любопытные указания: "Поидоша на колех (на колесах), а по грудну пути; бе бо тогда месяц груден"; "А зима была гола (бесснежна), и ход конем был нужн, грудоват", т. е. от стужи застыла, смерзлась грязь; груда доныне употребляется поселянами в значении мерзлой, не занесенной снегом грязи, лежащей по улицам и дорогам.
Исчисленные нами славянские названия месяцев преимущественно указывают на быт земледельческий. Круг наблюдений ограничивается произрастанием травы, распусканием цветов и деревьев (березы, дуба, липы), сенокосом, жатвою, молотьбою, уборкою льна, сбором винограда (в южных местностях) и теми резкими изменениями в погоде, которые, уславливаясь различным положением солнца, так могущественно влияют на плодородие земли и благосостояние человека. Зимний и летний повороты солнца, стужа и снег зимою, журчащие ручьи и осушение земли весною, падение росы, появление комаров и оводов, стрекотание кузнечиков, зной в половине лета, падение листьев и грязь в осеннюю пору - все это отразилось в народном календаре славянина. От древнейшего пастушеского быта удержались только три названия, указывающие на те периоды, когда скотина меняет свои рога, когда начинает она спариваться (пора течки или рева) и когда коровы бывают обильны молоком. Обозначая различные времена года по их характеристическим признакам, предки наши не соединяли с приведенными названиями месяцев строго определенных границ; одно и то же имя прилагалось к двум и трем соседним месяцам. С одной стороны, самые признаки, подмеченные народом, могли относиться к более или менее продолжительному времени: так, стужа, морозы и снега продолжаются во всю зиму; имя "просинца" (просветляющего, увеличивающего дни) с равным правом могло прилагаться и к концу декабря, и к двум последующим месяцам; эпитет "травяного" одинаково идет и к апрелю, и к маю и так далее. С другой стороны, периодические изменения в жизни природы совершаются в разных местностях не одновременно, а раньше или позднее; на юге, например, весна устанавливается ранее, а зима позднее, чем на севере; с тем вместе и земледельческие работы там и здесь пригоняются к различным срокам. Этими естественными условиями объясняется и перемещение некоторых названий с одного месяца на другой. Так, имя "листопада", даваемое в южных местностях ноябрю, в средней и северной полосах должно было перейти на октябрь.
Отдельные дни или числа месяцев получили у поселян свои особенные прозвания, сообразно с соответствующими им признаками обновляющейся ими замирающей природы и с приуроченными к ним крестьянскими работами: января 16-го — Петр-полукорм (половина запасов съедена), 18-го — Афанасий -ломонос ("На Афанасия береги нос!" - - намек на сильные морозы), 22-го — Тимофей-полузимник, 24-го — Аксинья-полузимница, или полу хлебница; февраля 11-го — Власий-сшиби рог с зимы! 28-го Василий-капельник; марта 1-го — Евдокия-плюшниха (плющатъ — капать, течь, издавать звук падающих капель, плюшка и плюшина — сосульки под крышами), 4-го — Герасим-грачевник (прилет грачей), 17-го — Алексей с гор вода или с гор потоки, 19-го — Царья-загрязни проруби; апреля 1-го — пустые щи, 8-го — Родион-ледолом, 11-го — Антип-водопол, 12-го — Василий-выверки оглобли (оставляй сани, снаряжай телегу), 23-го — Егорий-скотопас (выгон скота в поле), 26-го — Степан-ранопашец; мая 2-го — соловьиный день, 3-го — зеленые щи, 5-го — Ирина-рассадница (рассадка капусты), 6-го — Лов-горошник (посев гороха), 9-го — Никола вешний, травной, 13-го — Лукеръя-комарница (появление комаров), 23-го — Леонтий-огуречник (посадка огурцов), 29-го - Феодосья-колосяница (рожь начинает колоситься); июня 12-го -Петр-поворот (летний поворот солнца), 13-го — Акулина-гречушница (посев гречи) или задери хвосты, т. е. время, когда скотина, кусаемая комарами, мошками и оводами, бегает по полю, задравши хвосты ("строчится"); июля 23-го - Пуд и Трифон-бессонники (пора усиленных работ, страды), 27-го — Никола качанный; августа 4-го — Евдокия-малинуха (сбор малины), 26-го — Наталья-овсянница, 28-го — Aннa-скирдница; сентября 15-го — Никита-репорез (сбор репы) или гусепролет, 24-го — Фекла-заревница; октября 14-го — Прасковья-льняница; декабря 12-го — Спиридон-солоноворот.
Мы знаем, какое сильное влияние оказывал язык в области народных представлений; в этом отношении дневник русских поселян предлагает много любопытных данных. Рассчитывая дни и распределяя занятия по святцам, принесенным на Русь вместе с христианством, поселянин непонятные для него, по их чужеземному лингвистическому образованию, имена месяцев и святых угодников сближает с разными выражениями отечественного языка, насколько эти последние могут определить характер данного времени, связанных с ним работ и погоды — теплой или холодной. Не справляясь с действительным происхождением и смыслом того или другого имени, русский человек старается объяснить его собственными средствами, приискивает ему свой подходящий по звукам корень и, таким образом, играя словами, стремится все чуждое претворить в свое родное, легко доступное его простому пониманию. На сретенье (2 февраля), по народному поверью, зима с летом встречается; в марте месяце солнце начинает маритъ, т. е. припекать землю, отчего над нею струится пар; но по утрам еще продолжаются морозы (утренники), которых со дня сорока мучеников (9 марта) бывает сорок; думают, что в этот день возвращаются из вирия сорок разных пташек, а сорока начинает строить гнездо и кладет в него сорок палочек. Холода, или сиверы, оканчиваются днем Сидора (14 мая), которого потому называют сивирян. 5 апреля: "Пришел Федул — теплый ветер подул". В апреле земля преет. В мае домашний скот мается от бестравицы; в первый день этого месяца на Еремея-запрягальника, или ярёмника, начинают пахать и потому на рабочих лошадей и быков надевают ярмо (ярём); работа эта оканчивается к 31 мая — ко дню Еремея-распрягальника. 2 мая, посвященное памяти князей Бориса и Глеба, крестьяне называют барышдень — вследствие созвучия имени Борис со словом барыш; торговцы стараются тогда продать что-нибудь с выгодою, дабы во весь год торговать прибыльно. "Борис и Глеб засевают хлеб" 24 июля: поговорка, относящаяся к этому числу, уверяет: "Борис и Глеб — поспел хлеб". В деревнях и селах празднуют оба означенные дня — для того, чтобы круглый год получать барыши и чтобы отвратить от нив губительные грозы. Это случайное совпадение слов: Глеб — хлеб, Борис — барыш (т. е. выгоды от торга хлебом, главным богатством земледельца) и самое время празднования Бориса и Глеба при начале посевов и в жатвенную пору — дали повод перенести на этих святых древнее чествование Перуна, как творца урожаев... Если на Мокия, . прозванного мокрым (11 мая), идет дождь, то все лето будет мокрое; если же дождь случится на Макрину (Макриду - 19 июля), то предстоящая осень будет мокрая, дождливая, и наоборот, отсутствие дождя в эти дни предвещает сухое лето и сухую осень. Подобно тому: если на Сидора (14 мая) будет сиверко, то ожидай лета холодного; а если на Пахомия (15 мая) будет тепло, то и лето пахнёт теплом. На Константина и Елену (Алена-длинные льны, лено-сейка — 21 мая) советуют сеять лен, а на Макавеев (1 августа) собирать мак. 16 июня на Тихона затихают (перестают петь) птицы; 29 июля, посвященное имени Калиника, называется калинники — зарницы, отдаленные молнии, видимые по вечерам на горизонте в конце июля и августа, от калить (раскалять, калена стрела, калина — красная ягода); 23 августа на Луппа утренний мороз овсы и льны лупит. 1 сентября — Семенов праздник, и потому в этот день грешно засевать семена; со дня Федора Студита (11 ноября) начинает студить (холодеет): "Федор Студит землю студит". 4 декабря Варвара дорогу заварит (заморозит): "Варвара заварит, а Савва (5 декабря) засалит" (сало — плавающие по рекам ледяные пленки). С того же времени замечают сокращение ночей: "Варвара ночи урвала, дни приточала".
В последовательных превращениях природы, в характеристических признаках и свойствах различных времен года древние племена усматривали не проявление естественных законов, а действие одушевленных сил — благотворных и враждебных, их вечную борьбу между собою, торжество то одной, то другой стороны. Поэтому времена года представлялись нашим предкам не отвлеченными понятиями, но живыми воплощениями стихийных богов и богинь, которые поочередно нисходят с небесных высот на землю и устраивают на ней свое владычество. По указанию старинных пасхалий, "весна наречется, яко дева украшена красотою и добротою, сияюще чудно и преславне, яко дивитися всем зрящим доброты ея, любима бо и сладка всем... Лето же нарицается муж тих, богат и красен, питая многи чело-веки и смотря о своем дому, и любя дело прилежно, и без лености возстая заутра до вечера и делая без покоя. Осень подобна жене уже старе и богате и многочадне, овогда дряхлующи и сетующи, овогда же радующися и веселящися, рекше иногда (печальна от) скудости плод земных и глада человеком, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодом всем, и тиха и безмятежна. Зима же подобна жене — мачихе злой и нестройной и нежалостливой, яре и немилостиве; егда милует, но и тогда казнит; егда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и гладом морит, и мучит грех ради наших". Согласно с этим, церковная живопись допускала аллегорические изображения весны, лета, осени и зимы. Нет сомнения, что подобные изображения заимствованы нашими художниками из античных источников, чрез посредство Византии; но такое заимствование нимало не противоречило народному пониманию, ибо поэтические олицетворения времен года шли из глубокой древности и принадлежали славянам наравне со всеми другими родственными племенами. В "Эдде" лето и зима представляются одушевленными существами: первое — добрым, дружелюбным, а вторая — злым, жестокосердным. И у немцев, и у славян до сих пор уцелели следы этих образных представлений в народных поговорках и общепринятых оборотах речи: "Весна (лето, осень или зима) на дворе, воротилась, пришла". Лето и май месяц (весна) рядятся в зеленые, густолиственные уборы, а зима надевает на себя белоснежный покров или саван (вследствие сближения ее с богинею Смертью); и лето, и зима являются со своими слугами и помощниками: первое — с грозами, буйными ветрами и дождями, последняя — со снегом, инеем, метелями, вьюгами и морозом, которые в древнепоэтических сказаниях олицетворялись сильномогучими богатырями и великанами. Оба они состоят в нескончаемой вражде ("Зиме и лету союзу нету"), преследуют друг друга и сражаются между собою точно так же, как день сражается с ночью. Сходные, аналогические черты, подмеченные в сменах дня и ночи, лета и зимы, заставили народную фантазию сближать ежедневную борьбу света и мрака с ежегодною борьбою тепла и холода и повели к постоянному смешению мифов, относящихся к этим разнородным физическим явлениям. Лето отличается ясностью, блеском солнечного света, как белый день; зима же потемняется снежными облаками и туманами и уподобляется ночи. День и весна пробуждают спящую, безмолвную природу и радуют весь мир, а ночь и зима погружают ее в сон — подобие смерти и придают ей печальный характер. В нашем областном языке слетье употребляется в значении не только летнего времени и урожая, но и вообще удачи, успеха; напротив, слова неслетъе и безлетъе означают, во-первых, неурожайное лето и, во-вторых, неудачу, несчастье; поэтому говорят: "Пришло на него безлетье!" — что равносильно выражению: "Пришла на него невзгода!" Прилагательное веселый некоторыми лингвистами сближается со словом весна; "Настали для кого светлые, ясные дни" — дни радости, веселья; черный день — день печали, несчастья; смотреть сентябрем, отуманиться — быть унылым, печальным. Закликая в марте и апреле месяцах весну, поселяне обращаются к ней, как к существу живому, благодатному, творческому:
а)Весна, Весна красная! Приди, Весна, с радостью, С великою милостью: Со льном высоким, С корнем глубоким, С хлебами обильными. б) Весна красна! На чем пришла, На чем приехала? На сошечке, На бороночке.О Зиме и Осени рассказывают, что они приезжают на пегих кобылах; с половины ноября Зима, по народному поверью, встает на ноги, кует морозы, стелет по рекам мосты и выпускает на белый свет подвластных ей нечистых духов; с 12 декабря она ходит в медвежьей шубе, стучится по крышам избушек, будит баб и заставляет топить печи; идет ли она по полю — за ней следуют вереницами Метели и Вьюги и настойчиво просят дела, идет ли по лесу — сыплет из рукава иней, идет ли по реке — на три аршина кует под своими ногами воду. Более наглядные олицетворения времен года встречаем у белорусов. Весну они называют Ляля, лето — Цеця, осень — Жыцень, зиму — Зюзя.
Ляля представляется юною, красивою и стройною девою; существует поговорка: "Пригожая, як Ляля!" В честь ее празднуют накануне Юрьева дня, и праздник этот известен под именем Ляльника. На чистом лугу собираются крестьянские девицы; избравши из своей среды самую красивую подругу, они наряжают ее в белые покровы, перевязывают ей руки, шею и стан свежею зеленью, а на голову надевают венок из весенних цветов: это и есть Ляля. Она садится на дерн; возле нее ставят разные припасы (хлеб, молоко, масло, творог, сметану, яйца) и кладут зеленые венки; девицы, схватившись за руки, водят вокруг Ляли хоровод, поют обрядовые песни и обращаются к ней с просьбою об урожае... Ляля раздает им венки и угощает всех приготовленными яствами. Эти венки и зелень, в которую наряжалась Ляля, сберегают до следующей весны.
Цеця — дородная, красивая женщина; в летнюю пору она показывается на полях — убранная зрелыми колосьями — и держит в руках сочные плоды.
Жыцень представляется существом малорослым, худощавым, пожилых лет, с суровым выражением лица, с тремя глазами и всклокоченными, косматыми волосами. Он появляется на нивах и огородах, после снятия хлеба и овощей, и осматривает: все ли убрано как следует в добром хозяйстве. Заприметив много колосьев, не срезанных или оброненных жнецами, он собирает их, связывает в сноп и переносит на участок того хозяина, где хлеб убран начисто, с бережливостью; вследствие этого на будущий год там, где Жыцень подобрал колосья, оказывается неурожай, а там, куда перенес он связанный сноп, бывает обильная жатва. Когда Жыцень странствует в виде нищего и при встрече с людьми грозит им пальцем, это служит предвестием всеобщего неурожая и голода в следующем году. Во время осенних посевов он незримо присутствует на полях и утаптывает в землю разбросанные зерна, чтобы ни одно не пропало даром. Судя по этим данным, Жыцень принадлежит собственно к породе эльфических духов, блуждающих по нивам и помогающих росту и зрению хлебных злаков; белорусы сочетали с ним представление осени, так как к этому времени года относится окончательная уборка и умолот снопов и посев озимого хлеба. Имя Жыцень есть производное от слова жито (рожь), что подкрепляется и народными поговорками: "Жыцень хлеба дав", "Барджей на Жытня, кали в засеке хлеба не прытне"[200].
Зюзя — старик небольшого роста, с белыми что снег волосами и длинною седою бородою, ходит босой, с непокрытою головою, в теплой белой одежде, и носит в руках железную булаву. Большую часть зимы проводит он в лесу, но иногда заходит и в деревню, предвещая своим появлением жестокую стужу... Происхождение имен Ляля, Цеця и Зюзя остается необъясненным; каждое из них образовалось чрез удвоение коренного слога и все равно уцелели в детском языке: ляля и цаца употребляются как ласкательные названия ребенка (в смысле: милый, пригожий, умница), а также для означения игрушки; зюзя употребляется в замену слова "холодно": "Не ходи на двор, там зюзя!" Белорусское зюзець — мерзнуть, цепенеть от холода. Вместо олицетворенных времен года в славянских сказках нередко выводятся действующими лицами Месяцы, как двенадцать братьев, восседающих на стеклянной горе, т. е. на небе, вокруг пылающего костра-солнца. Костер этот горит то сильнее (в летнюю пору), то слабее (зимою), смотря по тому, какой из Месяцев берет в свои руки правительственный жезл. Весенние Месяцы изображаются цветущими юношами, летние — достигшими полного развития сил мужами, осенние — пожилыми, стареющими братьями, а зимние — седовласыми старцами...
Главная мысль, лежащая в основе простонародных праздничных обрядов, может быть выражена в этих немногих словах: смерть природы зимою и обновление или воскресение ее весною. С первыми признаками весны поселяне уже начинают зазывать (закликать) ее. Такими признаками служат: пробуждение животных, подверженных зимней спячке, прилет птиц, появление насекомых и цветение подснежников. 1 марта, по русской примете, бабак[201] просыпается, выходит из норы и начинает свистать; 4-го прилетают грачи, 9-го — жаворонки; к 17-му числу лед на реках становится настолько непрочным, что, по народному выражению, щука его хвостом пробивает; 25 марта ласточка вылетает из вирия и, поспешая в здешний мир, несет с собою тепло; 5 апреля пробуждаются сверчки, а 12-го медведь выходит из берлоги, в которой проспал целую зиму; в мае месяце земля уже "принимается за свой род". Приведенные приметы не везде и не всегда оказываются верными: во-первых, разные местности пользуются и разными климатическими условиями, и, во-вторых — независимо от этих условий, год на год не приходится: зимние холода заканчиваются иногда ранее, иногда позднее. Поэтому начало весны (ее приход) издревле определялось не наступлением известного в году дня, а действительным появлением ее знамений...
Ранний прилет ласточки предвещает счастливый, урожайный год. В Малороссии дети ходят в начале марта по домам, славят ярь и зсленачку и носят с собою деревянную ласточку или испеченных из хлеба жаворонков; тот же обычай носить деревянную ласточку соблюдается и болгарами. Не менее важная роль принадлежит в народных преданиях и поверьях кукушке. У древних индусов она была посвящена Индре, у германцев — Тору; у греков в образе этой птицы являлся Зевс; у славян, по свидетельству старинной польской хроники, чествование кукушки связывалось с культом богини Живы: "Божеству Живе было устроено капище на горе, названной по ее имени Живец, где в первые дни мая благоговейно сходился многочисленный народ испрашивать от той, которую почитал источником жизни, долговременного и благополучного здравия. Особенно же приносились ей жертвы теми, которые слышали первое пение кукушки, предвозвестившее им столько лет жизни, сколько раз повторился ее голос. Думали, то высочайший владыка вселенной превращался в кукушку и сам предвещал продолжение жизни; поэтому убиение кукушки вменялось в преступление и преследовалось от правителей уголовным наказанием..." Жива — богиня весны, названная так потому, что приходом своим животворит — воскрешает умирающую на зиму природу, дает земле плодородие, растит нивы и пажити... Жива есть сокращенная форма имени Живана или Живена и значит "дающая жизнь". О весеннем половодье, разлитии рек поселяне доныне выражаются: "Вода заживает". Все, что служит условием жизни: пища (жито, житница, житник и житор — ячмень, живность — съестные припасы); домашний кров (жилье, жилой покой, т. е. теплый, с печкою); материальное довольство (жира, жирова, житуха — хорошее, привольное житье, жировать — жить в изобилии, есть вдоволь, жировой — счастливый, богатый — зажиточный, житии люди — лучшие, достаточные, жировик — домовой, как блюститель домашнего счастья и хозяйства; в старинных памятниках существительное жир употребляется в смысле "пажити", "пастбища", а глагол жить в смысле "пастися"), здравие (заживлять раны, зажило, подобно тому, как от слова быть образовалось бытетъ — здороветь, толстеть), — славянин обозначает речениями, происходящими от того же плодовитого корня. Названия: "жизнь моя!", "жизненок!" — употребляются в народе, как самая нежная, задушевная ласка. Наоборот, слова, производные от глагола жить, с отрицанием не, получили значение недоброе: нежительный — неприязненный, нежит или нежить — олицетворение мучительной болезни, дух смерти. Посвященная богине Живе, кукушка признавалась вещею, небесною посланницею; она поведает наступление лета ("Зозуля ковала — летечко казала"), начало гроз и дождей, определяет долготу человеческой жизни и сроки брачных союзов. По ее голосу земледелец заключает о будущем урожае: если она закукует при восходе солнца и на зеленом дереве (т. е. в то время, когда леса оденутся листьями), то год будет урожайный, а если закукует на ночь и на голом дереве — будет голод и мор. Кто впервые услышит кукушку на тощий (пустой) желудок, тому настоящий год сулит несчастья; такому человеку не следует закармливать скотину: не то голодать ей всю зиму!..
И вообще все птицы, прилетающие к нам с юга, встречаются как вестницы благодатной весны. По народному поверью, они являются из райских стран (вирия), отпирают замкнутые зимнею стужею облака, проливают на землю живительный дождь и даруют ей силу плодородия. В пении овсянки малороссам слышатся слова: "Покинь сани, возьми воз!"
Призыв весны начинается с 1 марта; дети и девицы влезают на кровли амбаров, всходят на ближайшие холмы и пригорки и оттуда причитывают: "Весна, Весна красная! Приди, Весна, с радостью, с великою милостью..." На 9 марта, когда (по народной примете) прилетают жаворонки, поселянки пекут из теста изображения этих птичек, обмазывают их медом, золотят им крылья и головы сусальским золотом и с такими самодельными жаворонками ходят закликать Весну.
Благослови, мати, Весну закликати, Зиму провожати! Зимочка — в возочку, Летечко — в човночку.То есть Зима отъезжает по сухому пути — на возу, а Лето приплывает на челноке, пользуясь весенним разливом вод. В старину закликание Весны должно было сопровождаться жертвенными приношениями. И доныне 1 марта, на утреннем рассвете, болгары выходят встречать Весну с нарочно приготовленным круглым хлебом; наши поселянки расстилают на поле новый холст, кладут на него пирог и, обращаясь на восток, говорят: "Вот тебе, матушка Весна!" Затем, оставляя свои дары под открытым небом, они возвращаются домой, с надеждою, что матушка Весна оденется в новину и за принесенную ей хлеб-соль уродит в изобилии лен и конопли.
При встрече Весны поются обрядовые песни (веснянки: содержанием их служит любовь, возжигаемая Ладою в сердцах девиц и юношей) и совершаются праздничные игрища, идущие из глубокой древности...
У славян существует старинный обычай: встречая весну в марте месяце, совершать изгнание Смерти или Зимы. Они выносят из деревни соломенное чучело, изображающее Смерть, топят его в реке или предают сожжению, а пепел бросают в воду; ибо Зима гибнет под жгучими лучами весеннего солнца, в быстрых потоках растопленных ими снегов...
В Малороссии при встрече Весны носят по улицам и полям чучело Мары (Марены), одетое в женское платье, и поют весенние песни; потом ставят это чучело на возвышенном месте и зажигают его — пока оно горит, поселяне пляшут и закликают обычными причитаниями Весну. В великорусских губерниях торжество Живы и гибель Мораны чествуются возжжением праздничных огней на масленицу. Так как неделя эта сходится с началом весны и так как следующий за нею пост должен был вызывать особенно строгие церковные запрещения, направленные против языческого культа, то неудивительно, что во всей Европе масленица (карнавал) получила значение самого разгульного празднества, посвященного проводам Зимы и встрече Лета. Вспоминая древнее предание о поезде богини лета (Изиды, Фреи, Гольды, т. е. Лады), рассыпающей по земле щедрые дары плодородия, у нас возили во время масленицы дерево, украшенное бубенчиками и разноцветными лоскутьями, или деревянную куклу... В Сибири устраивают на нескольких санях корабль, на котором сажают ряженых, медведя и масленицу и возят по улицам в сопровождении песенников. Дерево, корабль и медведь — все это эмблемы весенней природы и ее творческих плодоносных сил; звуки колокольчиков и бубенчиков — знамения грозовой музыки; метла, веник и кнут — вихрей и молний; пиво и вино — всеоживляющего дождя. В таком обрядовом поезде празднуется пришествие (возврат) благодатной Весны. Наряду с этим совершаются и другие обряды, указывающие на борьбу Весны с Зимою и поражение последней. В разных губерниях в субботу сырной недели строят на реках, прудах и в полях снежный город с башнями и воротами — царство Зимы (демона Вритры), долженствующее пасть под ударами Перуна; участвующие в игре вооружаются палками и метлами и разделяются на две стороны: одна защищает город, а другая нападает на него и после упорной, более или менее продолжительной схватки врывается в ворота и разрушает укрепления; воеводу взятого с боя и разрушенного города в старину купали в проруби. Вечером в воскресенье (последний день масленицы, называемый ее проводами) поселяне выносят из своих дворов по снопу соломы и, сложивши их на окраине деревни, сожигают при радостных кликах и песнях собравшегося народа, — каковой обряд называется сожжением масленицы. Иногда пуки соломы навязывают на шесты, расетавляют по дороге и палят после солнечного заката, а иногда заменяют их дегтярными бочками. Существует еще обычай сжигать ледяную гору, для чего собирают по дворам хворост, щепки, худые кадки, складывают все это на ледяной горе и затем разводят костер, служащий символическим знамением весеннего солнца, яркие лучи которого растапливают снежные покровы зимы. Таким образом, олицетворяя самое празднество и ставя это олицетворение на место древних богинь, заправлявших сменою годовых времен, народ русский встречу Весны назвал встречею масленицы, а изгнание Зимы — сожжением масленицы или ее проводами. Одновременно с пробуждением природы от зимнего сна (омертвения) пробуждаются к жизни и души усопших, осужденные пребывать в воздушных и заоблачных сферах; поэтому праздник весны был вместе и праздником в честь усопших предков, обычною порою сношений с ними, посещения кладбищ и поминок. До сих пор на масленицу бегают по улицам ряженые, что знаменует появление освободившихся из загробного царства стихийных духов — оборотней, и во всех домах приготавливаются блины, исстари составлявшие необходимую принадлежность всякого поминального пиршества...
Как скоро богиня весны победит демонов зимы, она тотчас же одевает поля, сады и рощи свежею зеленью и цветами. Прекрасные, благословенные дни мая и начала июня издревле признавались посвященными этой богине и чествовались общенародными игрищами. В христианскую эпоху такие игрища, совершаемые в честь Весны, были приурочены к вознесению и троице, так как праздники эти большею частью приходятся в мае месяце. Четверг, в который празднуется вознесение, и четверг, предшествующий троице (так называемый семик, потому что бывает на седьмой неделе после пасхи), получили в глазах народа особенно важное значение по связи четверга с культом громовника. Перед наступлением означенных праздников поселяне отправляются толпами в поля и рощи, собирают разные травы, преимущественно благовонные: чабер, мяту, зорю и калуфер, и рубят молодые березы и другие лиственные деревья; и по городам и по селам стены внутри домов убираются древесными ветвями, полы устилаются скошенною травою, а окна пахучими зельями и цветами; на дворах и по улицам устанавливаются в землю целые ряды березок, липок и кленов, так что каждый город и каждая деревня превращаются на несколько дней в зеленые сады... В великорусских губерниях собираются на семик в леса и рощи, поют песни, завивают венки, срубают молодое березовое дерево и наряжают его в женское платье или обвешивают разноцветными лентами и лоскутьями. Затем следует общий пир, изготовляемый в складчину или ссыпчину, т. е. из мирского сбора муки, молока, крашеных яиц и других припасов; на покупку вина и пива назначаются денежные взносы. По окончании пиршества подымают наряженную березку, с радостными песнями и плясками несут ее в деревню и становят в избранном с общего согласия доме, где она и остается гостейкою до троицына дня. В пятницу и субботу приходят навещать "гостейку", а в воскресенье выносят ее к реке и бросают в воду. Тогда же пускаются по воде и семицкие венки. В Пинском уезде крестьянские девушки избирают из своей среды самую красивую подругу, обвязывают ее березовыми и кленовыми ветвями и под именем куста водят по улицам и дворам, что живо напоминает нам сербскую додолу, с головы до ног убранную в цветы и зелень. В Полтавской губ. водят тополю, которую представляет девушка, в разноцветной плахте, с яркими лентами в косах и монистами на груди. В старые годы, около Воронежа, строили посреди дубовой рощи небольшой шалаш, убирали его венками, цветами и душистыми травами, а внутри ставили на возвышении соломенную или деревянную куклу, одетую в праздничное мужское или женское платье; к этому месту стекались со всех сторон окрестные жители, приносили с собой различные напитки и яства, водили вокруг шалаша хороводы и предавались беззаботному веселью и играм. В семицкой березке, "тополе", "кусте", и в троицкой кукле народ чествовал лесную деву, оживающую в зелени дубрав, или самую богиню Весну, одевающую деревья листьями и цветами. На троицын день молодежь отправляется в леса и рощи завивать венки... Приготовив венки, девицы и парни обмениваются ими друг с дружкою; девицы надевают их на головы, парни украшают ими свои шляпы и затем приступают к хороводным играм. Вечером, как только сядет солнце, или на следующий день ходят они на реку и кидают венки в воду. Местом завивания венков преимущественно выбирают ту рощу, которая прилегает к засеянному полю, — для того, чтобы рожь уродилась гуще и прибыльнее. В литовских и белорусских губерниях даже коровам надевают на рога и шеи венки, сплетенные из зелени и долевых цветов. Венок издревле служил эмблемою любви и супружеской связи. Так как в весеннюю пору Земля вступает в брачный союз с Небом и так как богиня весны (Жива) была не только представительницею земных урожаев, но и вообще покровительницею брака и любовных наслаждений, то и посвященный ей праздник необходимо должен был считаться лучшим в году временем для заявлений любви и для гаданий о будущем семейном счастье. Бросая венки в воду, юноши и девицы допрашивают эту пророческую стихию о своей грядущей судьбе: если брошенный венок уплывет, не коснувшись берега, — это предвещает исполнение желаний, счастливый брак и долгую жизнь; если венок закружится на одном месте — это знак неудачи (свадьба расстроится, любовь останется без ответа), а если потонет — знак смерти, вдовства или бессемейной жизни (молодцу не быть женатому, девице оставаться незамужнею). Замечают еще: уцелел ли свежим или завял венок, сбереженный от семика до троицына дня? В первом случае рассчитывают на долголетнее и счастливое супружество, а в последнем — ожидают скорой смерти. Не так давно в Калужской губ. существовало обыкновение, по которому парень, задумавший жениться, обязан был вытащить из воды венок полюбившейся ему девицы. Таким образом зелень и цветы играют главную роль на веселом празднике Весны; ее благотворное влияние именно в том и выражается, что мать-сыра земля, словно юная и прекрасная невеста, рядится в роскошные уборы растительного царства...
Но лето гостит на земле короткое время. Солнце, достигнув полнейшего проявления своих творческих сил, поворачивает на зиму и с каждым днем более и более утрачивает свой живоносный свет; дни начинают умаляться, а ночи удлиняются. Этот поворот солнца — выезд его в далекий зимний путь — сопровождается народным празднеством (24 июня). Пламя костров, разводимых в навечерии этого дня, служит символическим знамением знойного июньского солнца. "Ивановы огни" зажигаются под открытым небом на площадях, полях и горных возвышениях...
На Руси Иванов праздник известен под именем Купалы...
Наравне с прочими родственными племенами славяне при летнем повороте солнца возжигают костры, совершают омовения в реках и источниках и собирают целебные травы. Костры раскладываются на открытых полях, по берегам рек и преимущественно на холмах и горных возвышениях; в ночь на 24 июня, как скоро загорятся ивановские огни, Карпаты, Судеты и Исполиновы горы представляют истинно великолепное зрелище. На Руси для возжжения купальского костра употребляется живой, огонь; почетные старики добывают его трением из дерева, и пока продолжается эта работа — собравшийся вокруг народ стоит в благоговейном молчании, но как только огонь вспыхнет — тотчас же вся толпа оживляется и запевает радостные песни. Девицы в праздничных нарядах, опоясанные чернобыльником и душистыми травами, с цветочными венками на головах, и холостые юноши схватываются попарно за руки и прыгают через разведенное пламя; судя по удачному или неловкому прыжку, им предсказывают счастье или беды, раннее или позднее супружество...
В белорусских деревнях в ночь на Ивана Купала вбивают в землю большой кол, обкладывают его соломой и кострикой и зажигают; когда пламя разгорится, крестьянки бросают в него березовые ветки и приговаривают: "Кабы мой лен был так же велик, как эта березка!" Обычай творить омовение на рассвете Иванова дня засвидетельствован "Стоглавом": "Егда нощь мимо ходит (читаем в этом памятнике), тогда отходят к реце (к роще) с великим кричанием, аки беснии, (и) омываются водою (росою)". Поселяне наши не только сами купаются на этот праздник — ради здравия тела, но с тою же целью купают и больных лошадей. Роса, выпадающая в купальскую ночь, в высшей степени обладает живительными и целебными свойствами и сообщает их полевым цветам и травам. Русины умываются этой росой, дабы отогнать от себя злые немощи и недуги; в Литве канун 24 июня даже называется праздником росы. По народному поверью, лекарственные травы только тогда и оказывают действительную помощь, когда будут сорваны на Иванову ночь или на утренней заре Иванова дня — прежде, чем обсохнет на них роса. Исстари и доныне ночь на Ивана Купала почитается лучшим в году временем для сбора целебных трав, цветов и корений...
В половине июня полуденное солнце достигает высочайшей точки на небе, дни становятся наиболее продолжительными, и наступает пора томительного зноя; на этой вершине оно остается в течение нескольких дней, называемых днями летнего солнцестояния, а затем, поворачивая на зимний путь, начинает все ниже и ниже спускаться по небесной горе. У наших поселян июнь месяц слывет макушкою лета. Болгары уверяют, что на Иванов праздник солнце пляшет, кружится и вертит саблями, т. е. разбрасывает яркие, пламенные лучи; по выражению русского народа, оно играет тогда, пляшет и мечется во все стороны...
По болгарскому поверью, солнце на Иванов день не знает предстоящей ему дороги, а потому является дева и ведет его по небу. Эта дева — богиня Заря, которая каждое утро умывает солнце росою и открывает путь его светозарной колеснице и которая (как мы знаем) постоянно отождествлялась с богинею летних гроз. То деятельное участие, какое приписывали богу-громовнику в повороте солнца, ярко отразилось во всех поверьях и обрядах, относящихся к этому времени. Иванова ночь исполнена чудесного и таинственного значения: в эту ночь источники и реки мгновенно превращаются в чистое серебро и золото, папоротник расцветает огненным цветом, подземные сокровища выходят наружу и загораются пламенем, деревья движутся и ведут между собой шумную беседу, ведьмы и нечистые духи собираются на Лысой горе и предаются там неистовому гульбищу. Все эти поверья возникли из древнепоэтических выражений, какими народная фантазия живописала летние грозы. Призванный повернуть солнцево колесо и освежить удушливый воздух, Перун совершает этот подвиг во мраке ночи, т. е. облагает небо тучами и превращает ясный день в непроглядную ночь; поэтому и самое празднование поворота солнца происходит в ночное время. На потемненном небе загораются молнии, или, выражаясь метафорически: расцветают огненные цветы; облака и тучи, эти дожденосные источники и реки, озаряются блеском грозового пламени; бурные вихри потрясают дубравы, в шуме и треске которых слышатся человеку неведомые голоса; удары грома разбивают облачные горы и открывают затаенное в их подземельях золото солнечных лучей; стихийные духи затягивают дикие песни и увлекаются в быструю, бешеную пляску. Костры, разводимые на Иванову ночь, могли служить эмблема-ми не только знойного июньского солнца, но и возжигаемого Перуном грозового пламени; это доказывается; во-первых, тем, что угольям и головням, взятым от купальского костра, приписывается сила и свойства громовой стрелки и, во-вторых, тем, что в некоторых местах Малороссии купальский костер заменяется кучею крапивы, каковая замена стоит в несомненной связи с представлением молнии жгучею травою. Словенцы во время засухи втыкают в забор Ивановскую головешку, с уверенностью, что она вызовет дождь. Рядом со скатыванием огненного колеса в реку топили в ней и самого Купала. В Малороссии уцелел следующий обряд: накануне Иванова дня делают из соломы идола Купала — иногда величиной с ребенка, а иногда — в настоящий рост человека, надевают на него женскую сорочку, плахту, монисты и венок из цветов. Тогда же срубают дерево (преимущественно: черноклен, вербу или тополь), обвешивают его лентами и венками и устанавливают на избранном для игрища месте. Дерево это называют Мареною; под ним ставят наряженную куклу, а подле нес стол с разными закусками и горилкою. Затем зажигают костер и начинают прыгать через него попарно (молодец с девицею), держа в руках купальскую куклу; игры и песни продолжаются до рассвета. На другой день куклу и Марену приносят к реке, срывают с них украшения и бросают ту и другую в воду...
В летнюю жару народ призывал громовника погасить пламя солнечных лучей в разливе дождевых потоков; но самое это погашение должно было напоминать древнему человеку аналогические представления Ночи, с приходом которой дневное светило тонет в волнах всемирного океана, Зимы, которая погружает его в море облаков и туманов и, наконец, Смерти, которая гасит огонь жизни. Прибавим к этому, что на пути в загробный мир усопшие, по мнению наших предков, должны были переплывать глубокие воды. Мысль о замирающих силах природы особенно наглядно выражается в тех знаменательных обрядах, которые еще недавно совершались и были известны в нашем народе под названием похорон Костромы, Лады и Ярила. По всему вероятию, обряды эти принадлежали в старину к купальским игрищам... Похороны Костромы в Пензенской и Симбирской губ. совершались таким образом: прежде всего девицы избирали из среды себя одну, которая обязана была представлять Кострому; затем подходили к ней с поклонами, клали ее на доску и с песнями несли к реке; там начинали ее купать, причем старшая из участвующих в обряде сгибала из лубка лукошко и била в него, как в барабан; напоследок возвращались в деревню и заканчивали день в хороводах и играх. В Муромском уезде соблюдалась иная обрядовая обстановка: Кострому представляла кукла, которую делали из соломы, наряжали в женское платье и цветы, клали в корыто и с песнями относили на берег реки или озера; собравшаяся на берегу толпа разделялась на две половины: одна защищала куклу, а другая нападала и старалась овладеть ею. Борьба оканчивалась торжеством нападающих, которые схватывали куклу, срывали с нее платья и перевязи, а солому топтали ногами и бросали в воду, между тем как побежденные защитники предавались неутешному горю, закрывая лица свои руками и как бы оплакивая смерть Костромы. Должно думать, что кукла эта приготавливалась не только из соломы, но также из сорных трав и прутьев и что именно поэтому она получила название Костромы. В областных говорах слово Кострома означает: прут, розгу и растущие во ржи сорные травы; костра, кострец, костёр, костера — трава метлица, костерь, костеря — жесткая кора растений, годных для пряжи, кострыка — крапива, кострубый (кострубатый) — шероховатый, в переносном смысле: придирчивый, задорный. Напомним, что прут, крапива, колючие и цепкие травы принимались за символы Перуновых молний. В Малороссии соломенная кукла, которую хоронили в первый понедельник петровки, называлась Кострубом, и обряд ее похорон сопровождался печальною песнею:
Помер, помер Кострубонько, Сивый, милый голубонько!..Подобный же обряд в Саратовской губ. называется проводами Весны: 30 июня делают соломенную куклу, наряжают ее в кумачный сарафан, ожерелье и кокошник, носят по деревне с песнями, а потом раздевают и бросают в воду. Ярилово празднество отличалось теми же характеристическими чертами. В Воронеже толпы народа с раннего утра сходились на городской площади и с общего согласия определяли: кому из присутствующих быть представителем Ярила; по разрешении этого важного вопроса избранного облекали в пестрое, разноцветное платье, убирали цветами и лентами, навешивали на него колокольчики и бубенчики, на голову надевали ему раскрашенный бумажный колпак с петушьими перьями, а в руки давали колотушку, которая исстари принималась за эмблему громовой палицы. Шествие Ярила возвещалось барабанным боем: обходя площадь, он пел, плясал и кривлялся, а следом за ним двигалась шумная толпа. Народ предавался полному разгулу и после разных игр, сопровождаемых песнями, музыкой и плясками, разделялся на две стороны и начинал кулачный бой — стена на стену. В Костроме горожане сходились на площадь, избирали старика, одевали его в рубище и вручали ему небольшой гроб с куклою, которая изображала Ярила и нарочито делалась с огромным детородным удом. Затем отправлялись за город; старик нес гроб, а вокруг него шли женщины, причитывали нараспев похоронные жалобницы и жестами своими старались выразить скорбь и отчаянье. В поле вырывали могилу, хоронили в ней куклу с плачем и воем и тотчас же начинали игры и пляски, напоминавшие языческую тризну...
Некоторые из наших ученых видят в именах Купала, Ярила, Костромы только названия летних праздников, и ничего более. Но если принять в соображение, что фантазия младенческих народов любила свои представления облекать в живые, пластические образы, что это было существенное свойство их мышления и миросозерцания, что самые времена года казались уму древнего человека не отвлеченными понятиями, а действительными божествами, посещающими в известную пору дольний мир и творящими в нем те перемены, какие замечаются в жизни, цветении и замирании природы, — то несостоятельность вышеуказанного мнения обнаружится сама собою. Из приведенного нами описания праздничных обрядов очевидно, что народ еще недавно представлял Купала и Ярила как существа живые, человекоподобные, и в этом нельзя не признать отголоска глубочайшей древности, когда поэтическое чувство господствовало над мыслью человека.
После Иванова дня поселянин начинает следить за теми знамениями, которые пророчат ему о грядущей смене лета зимою. К концу июня замолкают кукушка, соловей и другие певчие птицы; так как это случается около того времени, когда в полях колосится хлеб, то о замолкшей кукушке крестьяне выражаются, что она подавилась житным колосом; малорусы говорят: "Соловейко вдавився ячмиммим колоском". С сентября начинается отлет птиц в теплые страны, или вирий; о ласточках рассказывают, что в первый день этого месяца они прячутся в колодцы, т. е. улетают в рай (царство вечного лета), лежащий по ту сторону облачных источников. В тот же день крестьянки хоронят мух и тараканов в гробах, сделанных из свекловицы, репы или моркови, чем символически обозначается оцепенение этих насекомых на все время зимы. 14 сентября змеи уползают в вирий или же собираются в ямах, свертываются в клубки и засыпают зимним сном. Мало-помалу увеличиваются холода, трава увядает, с деревьев опадают листья, и наконец является суровая Зима, налагает на весь мир свои оковы, стелет по водам ледяные мосты, землю одевает в белоснежный саван и выпускает из адских подземелий вереницы вьюг, метелей и морозов.
Если с поворотом солнца на зиму соединялась мысль о замирании творческих, плодотворящих сил природы, то с поворотом этого светила на лето необходимо должна была соединяться мысль о их возрождении, на что и указывают обряды, доныне совершаемые на так называемом празднике Коляды. Коля(е)-да — собственно: первое в каждом месяце число, по которому велся счет и предшествующим ему дням с половины или точнее — после ид[202] предыдущего месяца; впоследствии слово это стало по преимуществу употребляться для обозначения январских календ (с 14 декабря по 1 января включительно), как исходного пункта, с которого начинается год, и затем уже в средние века перешло в название святочных игрищ. К нам оно проникло из Византии, вместе с отреченными книгами, и согласно со звуковыми законами славянского языка изменилось в коляду. Никифор Омологета, живший в IX веке, в опровержении своем ложных писаний говорит, что не должно держать у себя громовников и колядников...
Когда наступали самые короткие дни и самые длинные ночи в году, древний человек думал, что Зима победила Солнце, что оно одряхлело, утратило свою лучезарность и готовится умереть, т. е. погаснуть. Но торжество злых сил продолжается не далее 12 декабря — день, в который солнце поворачивает на лето и который поэтому слывет в народе поворотом, поворотником и солоноворотом. Как на Ивана Купала Солнце, по русскому поверью, выезжает в колеснице на серебряном, золотом и алмазном конях, так и теперь наряженное в праздничный сарафан и кокошник — оно садится в телегу и направляет своих коней на летнюю дорогу. Народ сочетал с этой древней богинею имя Коляды и, прославляя в обрядовой песне выезд Солнца на лето, употребляет следующее выражение: "Ехала Коляда в малеваном возочку, на вороненьком конечку". В прежние годы существовал даже обычай возить Коляду, которую представляла нарочно избранная девушка, одетая в белую сорочку. Отсюда становится понятным, почему составители старинных хроник причисляли Коляду к сонму языческих богов и в обрядах колядского праздника усматривали следы идолослужения. После зимнего поворота солнце мало-помалу начинает брать верх над демонами мрака: по народному выражению, день к Новому году прибавляется на куриный шаг или на гусиную лапку, а в начале февраля лучи солнечные уже "нагревают у коровы один бок", почему крестьяне и называют февраль месяц бокогреем. В этом переходе от постепенной утраты к постепенному возрастанию светоносной силы солнца предки наши видели его возрождение или воскресение (возжжение солнцева светильника) и в честь столь радостного события, совершавшегося на небе, зажигали по городам и селам костры...
В великорусских преданиях уцелело темное воспоминание о мифическом лице Овсеня; обрядовая песня славит его приезд, совпадающий по времени с наступлением Нового года:
Мосточек мостили, Сукном устилали, Гвоздъми убивали. Ой Овсень, ой Овсень! Кому ж, кому ехать По тому мосточку? Ехать там Овсеню Да Новому году. Ой Овсень, ой Овсень!Овсень должен означать бога, возжигающего солнечное колесо и дарующего свет миру (т. е. приводящего с собой утро дня или утро года — весну). Весеннее просветление неба постоянно отождествляется и в языке и в народных поверьях с утренним рассветом... Одна из обрядовых песен заставляет доброго молодна Овсеня выезжать на свинье: На чем ему ехати? На сивинькой свинке. Чем погоняти? Живым поросенком.
Черта — в высшей степени знаменательная, ибо она указывает на тождество нашего Овсеня со светоносным богом германцев — Фрейром, который в период зимнего солнцеповорота выезжал на небо на златощетинистом борове и которому в это время совершались обильные жертвоприношения. Являясь в сей мир, Овсень открывает путь новому лету (новому году), несет из райских стран щедрые дары плодородия, и как определено божественным судом — так и распределяет их между смертными: одним дает много, с избытком, а других лишает и самого необходимого. Белорусы выражают эту мысль в следующем символическом обряде: накануне Нового года они водят по домам двух юношей, из которых один, называемый богатою Коледою, бывает одет в новое, праздничное платье и имеет на голове венок из ржаных колосьев; на другого же (бедную Коледу) надевают разорванную свитку и венок из обмолоченной соломы. При входе в избу обоих юношей завешивают длинными покрывалами и заставляют хозяина выбирать из них любого; если он выберет "богатую Коледу", то хор поет ему песню, предвещающую урожай и богатство; наоборот, если выбор падет на "бедную Коледу" — это служит предзнаменованием неурожая и бедности... Земные урожаи зависят от деятельности стихийных духов. Носясь по воздушным пространствам в буйном полете грозовых туч и ветров, духи эти нисходят на землю оплодотворяющим семенем дождя, преобразуются в ее материнских недрах в бесчисленные зародыши и затем нарождаются разновидными и роскошными злаками. Вообще все растительное царство представлялось древнему человеку воплощением стихийых духов, которые, соединяя свое бытие с деревьями, кустарниками и травами (облекаясь в их зеленые одежды), чрез то самое получали характер лесных, полевых или житных гениев. По немецким, славянским и литовским преданиям, житные духи в летнюю половину года обитают на нивах. Когда хлеб поспеет и поселяне начинают жать или косить его, полевик бежит от взмахов серпа и косы и прячется в тех колосьях, которые еще остаются на корню; вместе с последне срезанными колосьями он попадается в руки жнеца и в их последнем — дожиночном — снопу приносится на гумно или в дом земледельца. Вот почему дожиночный сноп наряжают куклою и ставят его на почетном месте... Растя хлебные злаки и творя урожаи, житные духи приготавливают запасы для своего собственного пропитания, подобно тому как пчелы запасают для себя пищу в медовых сотах. Человек питается плодами их творческой деятельности, но но должен забирать всего; часть хлеба он обязан оставлять для житных духов, дабы они могли прозимовать без нужды и заботы. Следуя стародавнему обычаю, крестьяне оставляют на полях несколько несрезанных колосьев, в саду несколько несорванных яблок, а на току несколько пригоршней обмолоченного зерна и за все это ожидают на будущий год богатого урожая. Кто не исполняет этой обязанности, у того житные духи похищают хлеб из закромов. Западные славяне рассказывают, что дедко всю зиму сидит заключенный в житнице и поедает сделанные запасы. Как существа стихийные, являющиеся в бурных грозах и дождевых ливнях, житные духи смешиваются с духами дикой охоты и неистового воинства...
Иногда кукла, приготовляемая из последнего снопа, представляется ребенком. В зрелом колосистом хлебе древний человек видел прекрасное дитя, порожденное плодовитою Землею, дитя, которое в жатвенную пору отделяется от ее материнского лона. Это воззрение очевидно из польского обыкновения кричать тому, кто срезает последние колосья: "Ты отрезал пуповину!" По народной примете, та жница, которая связывала последний сноп, должна непременно родить в продолжение года.
После представленных нами исследований мы вправе сказать, что духовная сторона человека, мир его убеждений и верований в глубокой древности не были вполне свободным делом, а неизбежно подчинялись материальным условиям, лежавшим столько же в природе окружающих его предметов и явлений, сколько и в звуках родного языка. Слово человеческое, по мнению наших предков, наделено было властительною, чародейною и творческою силою; и предки были правы, признавая за ним такое могущество, хотя и не понимали, в чем именно проявляется эта сила. Слово, конечно, не может заставить светить солнце или падать дождь, как верили язычники; но если не внешнею природою, зато оно овладело внутренним миром человека и там заявило свое чарующее влияние, создавая небывалые отношения и образы и заставляя младенческие племена на них основывать свои нравственные и религиозные убеждения. Часто из одного метафорического выражения, как из зерна, возникает целый ряд примет, верований и обрядов, опутывающих жизнь человеческую тяжелыми цепями, и много-много нужно было усилий, смелости, энергии, чтобы разорвать эту невидимую сеть предрассудков и взглянуть на мир светлыми очами!
Примечания
1
Воспоминания А. Н. Афанасьев написал в 1855 году. Они были опубликованы после смерти ученого в журналах "Русский архив" (1872) и "Русская старина" (1886). В 1914 году эти воспоминания полностью были напечатаны в кн.: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. Казань, 1914. Здесь и далее цит. по этому изданию
(обратно)2
Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 9. М., 1956, с. 127
(обратно)3
Там же, с. 126
(обратно)4
Там же, с. 132
(обратно)5
Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 9, с. 131
(обратно)6
Список трудов А. Н. Афанасьева (147 работ), составленный им самим, был опубликован в 1871 году в "Русском архиве"; некоторые дополнения к нему сделаны в книге: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды, с. XIV-CI. Но и этот последний список неполон. Так, например, в него не вошли "Русские заветные сказки".
(обратно)7
О мифологической школе и ее представителях в последние годы появилось несколько работ. Наиболее обстоятельно они охарактеризованы в исследовании А. И. Баландина "Мифологическая школа" (в кн.: Академические школы в русском литературоведении. М., Наука, 1975, с. 15-99).
(обратно)8
Азадовский М. К. История русской фольклористики, т. 2. М., 1963, с. 48
(обратно)9
Баландин А. И. Мифологическая школа, с. 30
(обратно)10
Буслаев Ф. И. Народная поэзия. Исторические очерки. Спб., 1887, с. 8
(обратно)11
Кавелин К. О ведуне и ведьме (рец.) - "Отечественные записки", 1851, № 6. Критика, с. 53, 57
(обратно)12
Котляревский А. А. Соч., т. 2, с. 310
(обратно)13
"Вестник Европы", 1868, кн. 2, с. 899-900
(обратно)14
Кавелин К. О ведуне и ведьме, с. 58-59
(обратно)15
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 2, М., 1949, с. 380
(обратно)16
Пыпин А. Н. О русских народных сказках. - "Отечественные записки". Спб., 1856, № 4, с. 47-48
(обратно)17
Афанасьев А. Ответ г-ну Кавелину. - "Отечественные записки", 1851, № 8. Смесь, с. 186
(обратно)18
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 2, с. 380
(обратно)19
А. Н. Афанасьев говорит здесь об упоминавшейся уже нами большой рецензии А. Н. Пыпина "О русских народных сказках", опубликованной в виде двух статей в журнале "Отечественные записки", 1856, Ms б.
(обратно)20
Цит. по кн.: Из истории русской фольклористики. Л., 1978, с. 87
(обратно)21
Цит. по "Предисловию" В. Я. Проппа к кн.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, т, 1. М., 1957, с. IX
(обратно)22
"Русский вестник". М., 1856, кн. 2, с. 92
(обратно)23
Цит по кн.: Из истории русской фольклористики, с. 75. Подробнее об этом см. в статье: Чернышев В. Цензурные изъятия из "Народных русских сказок" А. Н. Афанасьева. - "Советский фольклор", 1935, № 2-3, е. 307-315
(обратно)24
Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. 1. М., 1934, с. 429-433
(обратно)25
Цит. по кн.: Из истории русской фольклористики, с. 80
(обратно)26
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865, т. 1, с. 690
(обратно)27
См.: Там же, т. 2. М., 1869, с. 509
(обратно)28
Токарев С. А. Вклад русских ученых в мировую этнографическую науку. - "Советская этнография", 1948, № 2, с. 204
(обратно)29
См.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу, т. 1, с. 54
(обратно)30
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения..., т. 2, с. 621
(обратно)31
Там же, т. 3, с. 775
(обратно)32
Там же
(обратно)33
Котляревский А. А. Соч., т. 2, с. 310
(обратно)34
Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 29. М., 1955, с. 113
(обратно)35
Там же, с. 175
(обратно)36
Аникин В. П. Александр Николаевич Афанасьев и его фольклорные сборники. - В кн.: Народные русские сказки. М., 1982, с. 8
(обратно)37
Аргус, или Паноптес (дословно: всевидящий) — по древнегреческому мифу, многоглазый, вечно бодрствующий великан. Первоначально «Аргус» означал звездное небо
(обратно)38
...у греков рядом с Фебом находим Гелиоса.— Феб (Блистающий) — божество солнечного света; Гелиос — всевидящий бог Солнца, исцелитель слепых и карающий слепотою
(обратно)39
Бэкон Фрэнсис (1561 —1621) — выдающийся английский философ и естествоиспытатель, автор «Нового Органона» и других сочинений
(обратно)40
«Эдда» — древнескандинавский эпос. Подразделяется на «Старшую Эдду» (сборник сказаний о богатырях и героях) и «Младшую Эдду» — учебник мифологии и риторики
(обратно)41
Лужичане — потомки некогда могущественного племени полабских сербов, ныне живущие на территории ГДР. Существуют издания на лужицком наречии, академия лужицкой культуры и т. д
(обратно)42
Как в «Ведах» Индра, а в «Эдде» Тор... — «Веды» — четыре древнейшие священные книги индусов, величайший памятник мировой литературы; Индра — бог грома и молнии, глава богов; Тор — бог грома
(обратно)43
Стих о Голубиной книге — одно из замечательных произведений дрезнерусской литературы, в котором рассматриваются важные вопросы космогонии, происхождения жизни и т. д. В сборнике «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», значится «Голубина книга сорока пядень». Голубиная (или Глубинная) книга известна более чем в 20 вариантах
(обратно)44
подобно Геркулесу, еще в колыбели одерживает победу над чудовищами ночи... — По преданию, герой греческого эпоса, будучи младенцем, задушил двух огромных змей
(обратно)45
Нестор (1056—1114) — монах Киево-Печерского монастыря, один из первых русских летописцев, составитель "Повести временных лет"
(обратно)46
Якоб Гримм (1785—1863) — знаменитый немецкий филолог, автор «Истории немецкого языка», «Немецких саг», «Немецкой грамматики»; брат его Вильгельм Гримм (1786—1859) известен своими трудами о средневековой немецкой поэзии. В 1812 году братья совместно издали обширное собрание сказок, с тех пор переведенных во всем мире
(обратно)47
Мюллер Макс (1823—1900) — филолог-востоковед, редактор первого в Европе издания «Ригведы», автор многих работ по мифологии
(обратно)48
Аполлон — в греческой мифологии олимпийский бог, символ неразрывного единства земли, неба и преисподней. Выл также покровителем искусств. В числе прочих наделялся эпитетом «стреловержец»
(обратно)49
Диана — у древних римлян богиня луны, охоты и лесов, родовспомогательница
(обратно)50
Дафна — персонаж греческой мифологии. Нимфа Дафна спаслась от Аполлона, превратившись в лавр (по-гречески дафна — лавр)
(обратно)51
Студенец — колодец, родник
(обратно)52
Краледворская рукопись — собрание древних чешских эпических и лирических песен, найденное в 1817 году чешским ученым Вацлавом Ганкою. Впоследствии было доказано, что эта рукопись — подделка
(обратно)53
Гельмольд (около 1125 — после 1177) — известный немецкий историк и миссионер, автор «Славянской хроники», где приведены важные сведения о западных славянах
(обратно)54
"Ригведа" — самая древняя и самая важная книга "Вед" — собрание 1028 гимнов в 10 частях
(обратно)55
"Беовульф" — англосаксонский эпос, относящийся к VII—VIII векам. Единственная существующая рукопись датируется приблизительно 1000 годом. В центре повествования — невероятные подвиги витязя Беовульфа (дословно "пчелиного волка", т. е. медведя)
(обратно)56
Брама (Брахма) — созидающий мир — высшее существо в индуистской мифологии
(обратно)57
Имир — в скандинавском эпосе великан, из тела которого создан мир
(обратно)58
Атлас (Атлант) — в греческой мифологии доолимпийское божество, титан, осужденный поддерживать на своих плечах небо
(обратно)59
Саксон Грамматик (около 1140 — около 1208) — датский летописец, автор "Деяний датчан" в 16 книгах, заслуживший имя "отца датской историографии". Сюжет одного из Деяний — сказания о Гамлете — использовал Шекспир в своей трагедии
(обратно)60
Озирис (Осирис) — вместе с Изидой одно из наиболее почитаемых божеств Древнего Египта, бог зерна и виноделия, ниспослатель жизни и влаги, покровитель мертвых. Изображался в виде мумии с бичом и жезлом в руках
(обратно)61
Изида (Исида) — богиня материнства и супружеской верности, волшебства, ветра и воды и т. д. Как богиня женского плодородия, изображалась с головой или рогами коровы, увенчанной диском солнца
(обратно)62
Зевс — верховный бог в древнегреческой мифологии, "отец богов и людей". Владычествовал над миром и всеми небесными явлениями (отсюда его эпитеты — "Громовержец", "Тучегонитель"). Почитался охранителем общественного спокойствия и семейных благ. У древних римлян именовался Юпитером
(обратно)63
Гера — сестра и супруга Зевса, с которой он, по преданию, 300 лет жил в тайном браке, пока не объявил ее царицею богов. Была покровительницей браков и родов
(обратно)64
Титмар Мерзебургский (975—1018) — немецкий историк; в его обширных хрониках содержатся важные сведения из истории славянских заэльбских племен
(обратно)65
Ормузд — верховное божество в мифологии древних иранцев, творец вселенной, друг и охранитель добра, враг темных и злых сил
(обратно)66
Демиург — в дословном переводе с греческого "творец", "создатель", "зодчий". У Гомера так назывался класс свободных ремесленников, а также лекари, прорицатели, певцы. Впервые как бог-творец чувственного мира Демиург выступает в сочинениях Платона (например, в диалоге "Тимей")
(обратно)67
Законы XII таблиц — древнейший законодательный памятник Римского государства. По преданию, законы были начертаны на 12 досках в середине V века до н. э
(обратно)68
Тацит Публий Корнелий (около 58 — после 117) — замечательный римский историк и писатель. Автор обширных исторических сочинений: "История", "Анналы", "Германия", — принесших ему мировую славу
(обратно)69
Остромирово евангелие — древнейший памятник старославянской письменности (1056—1057), ценный источник по истории русского искусства, в том числе искусства книги Киевской Руси
(обратно)70
"Кормчая", или "Кормчая книга" — сборник церковных законов и правил, появившийся на Руси вместе с принятием христианства. Известно множество редакций этого памятника литературы. Последнее издание "Кормчей" — 1816 год
(обратно)71
"Домострой" — памятник древнерусской литературы начала XVI века. Автор его неизвестен. Впоследствии книга была обработана протопопом Сильвестром Медведевым, давшим ей заглавие "Книга, глаголемая Домострой...". "Домострой" — своеобразное руководство по всем вопросам жизни: от взаимоотношений со светскими властями и церковью до наставлений по свадебным обрядам, хранению запасов в доме, приготовлению пищи, исцелению больных и т. д. Книга написана ярким, образным языком с испольвованием множества пословиц, поговорок и т. д.
(обратно)72
...сразятся на аер... — на воздухе, в атмосфере (лат.)
(обратно)73
Глоссы — сборники толкований отдельных слов и выражений из юридических источников (главным образом, римского права). Термин "глосса" употребляется в юридической литературе начиная с XII века
(обратно)74
"Слово о великом князе Дмитрии, Ивановиче" ("Задонщина" — древнерусское произведение о битве на Куликовом поле. "Задонщина" (так названа в одном из многочисленных списков) создана в 80—90-е годы XIV века
(обратно)75
Лезо — лезвие
(обратно)76
"Сказание о Мамаевом побоище" — подобно "Задонщине", повествует о Куликовской битве.. Время создания — предположительно первая половина XV века. Это произведение легло в основу сказки "Про Мамая безбожного" из собрания сказок А. Н. Афанасьева
(обратно)77
Так, стук мельничных колес и жерновов уподобляется лаю собак, реву медведя, топоту и ржанью коней, мычанью быка: "Залаяла собачка на Мурманском, заревел медведь на Романовском, затопали кони на Кириловом поле"; "Бык (или корова) ревет, кверху хвост дерет"; "Бык бурчит, старик стучит; бык побежит - пена повалит"; "В темной избе медведь ревет"; "Стоит на берегу кобыла, глядит на реку, ржет и жеребенка к себе зовет"
(обратно)78
Мирошники — мельники
(обратно)79
Афина — в греческой мифологии богиня мудрости и справедливой войны, исполнительница замыслов и воли Зевса, покровительница героев, защитница целомудрия, общественного порядка и т. д.
(обратно)80
Мягкая рухлядь — шкуры пушных зверей
(обратно)81
Сказки выражаются о могучих богатырях эпически: "Засвистал молодецким посвистом "
(обратно)82
Орфей — в древнегреческой литературе мифический поэт фракийского происхождения. На магические звуки его лиры собирались дикие звери, скалы и деревья
(обратно)83
..Вейнемейнен звуками своей кантелы усыпил обитателей враждебной Похийолы. — Эпизод из героического финского эпоса "Калевала", где три богатыря — Вейнемейнен, Ильмаринен, Лемминкейнен — добывают в Похийоле (стране Севера) таинственное сокровище Сампо, дающее богатство и счастье. Вейнемейнен изготавливает кантеле (гусли) и очаровывает своей игрою природу и жителей всей страны
(обратно)84
Письмо Мономаха к Олегу — отрывок из "Поучения" Владимира Мономаха (1053—1125), талантливого и образованного русского князя домонгольской поры. "Поучение" — выдающееся произведение отечественной литературы. В письме к Олегу Святославичу, известному участнику княжеских усобиц, Мономах, в частности, просит вернуть молодую жену своего сына Изяслава, убитого Олегом
(обратно)85
Феофилакт, по прозванию Симокат — византийский историк. Известен своим сочинением о царствовании императора Маврикия (582—602), где, в частности, рассказывает о взаимоотношениях Византии с аварами и славянами
(обратно)86
"Стоглав" — сборник постановлений и деяний собора 1551 года, одного из важнейших соборов Московского государства. В XVII веке назывался "Стоглавником", поскольку разделен на 100 глав. Отсюда название и самого собора
(обратно)87
Тиун — судья; приказчик, управитель
(обратно)88
Олеарий Адам (1599—1671) — ученый, писатель, путешественник. Известен своим обширным описанием устройства, быта и нравов России первой половины XVII века
(обратно)89
Братчина — складчина, праздник на общий счет
(обратно)90
Словарь Берынды — "Лексикон славяно-русский" Памвы Берынды (Киев, 1653)
(обратно)91
Зизаний Лаврентий — западнорусский ученый XVI века. Известен как составитель первой славянской грамматики и приложенного к ней словаря, озаглавленного: "Лексис сиречь речения вкратце собранные и из славянского языка на простой русский диалект истолкованы"
(обратно)92
Мантра — священная песнь, гимн
(обратно)93
Хоть — сильное, страстное желание
(обратно)94
Ежа — еда, корм (устар.)
(обратно)95
Геродот (между 490 и 480 — 425 до н. э.) — греческий историк, автор обширного сочинения в девяти книгах, или музах, посвященного греко-персидским войнам. "История" Геродота представляет широкую историческую панораму Египта, Скифии, Ассирии, Вавилона, Персидского царства и т. д
(обратно)96
Борей — в древнегреческой мифологии бог северного ветра. Изображался могучим длинноволосым крылатым мужем
(обратно)97
Зефир — бог западного ветра, брат Борея
(обратно)98
Бестиарии (зверинцы) — средневековые сборники, повествующие о повадках различных животных. Верные наблюдения перемешивались в бестиариях с фантастическими толкованиями и чудовищными измышлениями. На Руси были известны "Сказания по букве о птицах и зверях", "Дамаскина и Федора Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных" и др
(обратно)99
Птица-баба — пеликан, или кликуша
(обратно)100
Гаруда — в мифологии древних индусов царь птиц. Изображается человеческим существом с головой орла, крыльями, когтями и клювом
(обратно)101
Феникс — сказочная птица, которая каждые 500 лет прилетала из Аравии в Египет для погребения в Гелиополе своего отца. В некоторых мифах Феникс, достигнув возраста 500, 1461 или 7006 лет, сжигал себя и возрождался из пепла молодым. Обычно Феникса представляли орлом с золотым и огненно-красным опереньем
(обратно)102
Гермес — один из олимпийских богов, покровитель пастухов, торговли, прибыли и т. д. Как вестник Зевса, покровительствовал глашатаям, послам, путникам в Геба — в греческой мифологии богиня юности, небесная супруга Геракла. Изображалась с кувшином и чашей или кормящей Зевсова орла
(обратно)103
Ибн-Фодлан — арабский писатель и путешественник X века. После пребывания в качестве секретаря посольства в столице хазарского каганата Итиле, составил официальную докладную записку халифу, где подробно описал быт и нравы хазар, башкир, славян
(обратно)104
"Степенная книга" — свод русских летописей, составленный в XVI веке при Иване Грозном. Заглавие заимствовано из начальных строк: "Книга степенная царского родословия, иже в рустей земли в благочестии просиявших, богоутвержденных скипетродержателей..." Названа Степенной потому, что события в ней изложены по родословным великих князей
(обратно)105
Андрей Юрьевич Боголюбский (1111—1174) — великий князь Владимиро-Суздальский. Был предательски убит заговорщиками из своего окружения
(обратно)106
Тифон — в греческой мифологии чудовище со множеством змеиных голов, извергающих пламя. По преданию, после нападения Тифона на Олимп, боги бежали в Египет, где обратились в различных животных. Убийство Озириса египтяне приписывали его брату — божеству смерти и бедствий Сету, столь же злобному, как Тифон
(обратно)107
Библейский судья и герой Самсон, по преданию, был наделен необычайной мощью, исходившей из его длинных волос
(обратно)108
Хвалынское (Хвалисское) море — древнерусское название Каспия. В иностранных источниках встречаются такие названия: Гирканское, Сиким, Джурджан, Бакинское, Ак-денгиз (Белое), Гурзем
(обратно)109
Движение месяца уподоблялось и полету: "Без крыльев летит, без кореньев растет".
(обратно)110
...на Юрьеву росу выгоняют скот... — Юрий Теплый, Юрий-с водой, Юрий-с кормом — 23 апреля, в старину крестьянский праздник пастухов, начало выгона скота. Сохранились выражения: "На Юрья роса — не надо коням овса", т. е. лето будет богато травами; "Юрий росу спускает", "Животину на Юрьеву росу", "Юрьева роса от сглазу", "Будь здоров, как Юрьева роса!"
(обратно)111
"Судебники" — древнерусские сборники общегосударственных судебных правил и норм. "Судебник" 1497 года состоит из 68 глав и имеет заголовок: "Лета 7006 месяца септемврия уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с детми своими и бояры о суде, како судити боярам и окольничим". "Судебник" 1550 года расширен до 100 глав
(обратно)112
Что есть у него добрый конь, Солнце ясное он обгонит. - Ред
(обратно)113
Эпизод из "Илиады" Гомера
(обратно)114
Русская загадка называет соху коровою: "Черная корова все поле перепорола".
(обратно)115
"Синопсис" ("Киевский Синопсис") — первый на Руси учебник по истории славян (1647). Авторство его приписывается Иннокентию Гизелю, украинскому писателю, историку и политическому деятелю, стороннику воссоединения Украины с Россией. Несмотря на множество неточностей и произвольных толкований, "Синопсис" был необычайно популярен — за два столетия переиздавался около 30 раз
(обратно)116
В честь выезда солнцевой колесницы в летний путь пекут из теста коней, а в честь возврата весны - жаворонков
(обратно)117
Номоканоны — сборники церковного канонического права с присоединением гражданских законов, относящихся к церкви
(обратно)118
...лани, которую изловил Геркулес. — Одним из 12 мифических подвигов Геркулеса была поимка кернейской лани с золотыми рогами и медными копытами
(обратно)119
Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — знаменитый филолог и археолог, автор "Древних памятников русского письма и языка", "Мыслей об истории русского языка", "Запорожской старины", "Богослужения у древних славян" и многих других сочинений.
(обратно)120
Адам Бременский — северогерманский историк XI века, автор "Деяний епископов Гамбурской церкви" в 4-х томах, важного источника истории, культуры и быта скандинавских и балтийских земель, в том числе и населенных славянскими племенами.
(обратно)121
Этруски — в древности обитатели Этрурии, северо-западной провинции Италии у Тирренского моря.
(обратно)122
"Слово" Даниила Заточника — замечательное литературное произведение домонгольской Руси, называемое также "Молением" Даниила Заточника. Личность автора до сих пор наукой не установлена.
(обратно)123
Начальный летописец — монах Киево-Печерского монастыря Нестор составил в начале второго десятилетия XII века на основе Начального свода "Повесть временных лет" — одно из самых значительных произведений Киевской Руси.
(обратно)124
"Правило" митрополита Кирилла — 12 правил о церковных делах и исправлении духовенства, составленных митрополитом Кириллом III и утвержденных в 1274 году во Владимире Суздальском. "Правило" было найдено автором "Истории государства Российского" Н. М. Карамзиным в одной древней "Кормчей книге".
(обратно)125
Хронограф — историческое произведение с описанием событий "от сотворения мира", в основном связанных с Византией. Впервые хронографы появились на Руси в XV веке и в дальнейшем получили широкое распространение.
(обратно)126
Гальета — небольшое судно.
(обратно)127
мифическая история исхода израильтян из Египта по дну Красного (Чермного) моря, описанная в Библии.
(обратно)128
Апокрифы — сочинения по всеобщей истории, не признанные церковью.
(обратно)129
Фрязин — старинное русское название генуэзцев.
(обратно)130
Константин Порфирородный, или Багрянородный (905—959) — византийский император, автор нескольких сочинений, важных для изучения истории Византии.
(обратно)131
Есть целый ряд народных сказок, повествующих о том, как красавицу невесту, слезы которой падали жемчугом, а улыбка рождала розы (т. е. богиню весны), подменяет некрасивая и злобная дочь мачехи или колдуньи (олицетворение зимы) и выкалывает у своей соперницы очи; но приходит пора-время - красавица снова обретает зрение и вступает в свои законные права (зима проходит, и начинается царство весны).
(обратно)132
Мафусаил — по библейскому сказанию, патриарх Мафусаил жил 969 лет. Отсюда его имя стало символом долголетия.
(обратно)133
Козьма Пражский (1045—1125) — летописец и путешественник, родоначальник чешской историографии. Его "Хроника" — основной и во многом единственный источник по истории раннефеодальной Чехии.
(обратно)134
Фризы — древние германцы, обитавшие до XIII века на северо-востоке Германии, от Фландрии до Ютландии.
(обратно)135
Зеландцы — обитатели самого большого острова Дании — Зеландии.
(обратно)136
Не отсюда ли возникли сказания, что богатырь должен побивать великанов, бабу-ягу и нечистую силу одним ударом; от второго удара они оживают.
(обратно)137
Хорутане — словенцы.
(обратно)138
Гефест — в греческой мифологии бог огня и кузнечного ремесла. Изображался обычно в одежде ремесленника (с открытыми правой рукой и плечом), в конической шапке, с молотом и клещами.
(обратно)139
Югорская земля — древнее название страны, занимавшей северную часть европейской территории России и Западной Сибири вдоль побережья Северного Ледовитого океана.
(обратно)140
Гог и Магог — в мифологии различных народов чудовищные племена, которые придут в "последние времена" с севера или с других окраин населенного мира (ойкумены).
(обратно)141
Отписка — в старину донесение или письменный ответ.
(обратно)142
В "Нибелунгах"... — "Песнь о Нибелунгах" — немецкий исторический эпос в 38 песнях. Время создания эпопеи — начало XIII века. Главный герой — богатырь Зигфрид.
(обратно)143
По греческим мифам, нимфы Геспериды были хранительницами сада на крайнем западе земного круга, у берегов реки Океан, где росли волшебные золотые плоды, дарующие вечную молодость. Геракл одолел дракона Ладона, стерегшего сад, и унес яблоки (одиннадцатый подвиг Геракла).
(обратно)144
Золотое руно — в греческой мифологии шкура золотого барана (символ богатства и счастья), на поиски которого отправляются аргонавты — участники плавания на корабле "Арго".
(обратно)145
Медуза Горгона — в греческой мифологии женское чудовище, обращавшее всех смотревших на него в камень. Голова медузы изображалась обычно с оскаленными зубами, высунутым языком и волосами-змеями.
(обратно)146
Чумак — в старину извозчик на волах. Наймит — наемный работник, батрак.
(обратно)147
Ливий Тит (59 до н. э. — 11 н. э.) — знаменитый римский историк, автор сочинения "Римские истории до основания годода" в 142 книгах, из которых целиком сохранились лишь 35.
(обратно)148
Светоний Гай-Транквилл (70—140) — римский историк, прославленный автор "Жизни 12 цезарей" и других сочинений. Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63—14 до в. э.) — первый римский император, один из персонажей "Жизни 12 цезарей".
(обратно)149
Иллирия — восточная часть побережья Адриатического моря, ныне территория Югославии.
(обратно)150
Номады — со времен глубокой древности так называли кочевников и скотоводов.
(обратно)151
Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — историк, филолог, профессор Московского университета, автор многочисленных трудов по истории литературы и фольклору. "Исторические очерки русской народной словесности", "Русский народный эпос" и другие.
(обратно)152
Вакх (Бахус, Дионис) — в греческой мифологии бог плодородия, растительности, виноградарства и виноделия. В честь его устраивались шумные празднества — вакханалии.
(обратно)153
Просвиры (просфоры) — пресные хлебцы для церковных ритуалов.
(обратно)154
По греческим мифам, чудовищный Тифон победил Зевса, вырезал у него жилы на руках и ногах и заточил его в пещере, но Гермес и его сын Пан похитили вырезанные жилы и вставили их Зевсу.
(обратно)155
Кришна — в индуистской мифологии одно из воплощений высшего божества Вишну.
(обратно)156
"Прение Живота со Смертию" — одно из популярнейших на Руси произведений XVI века.
(обратно)157
...ей даются... сечиво... рожны, оскорды. — Сечиво — секира; рожны — вилы; оскорд — большой топор.
(обратно)158
Симеон Гордый (1317—1358) — великий князь Московский, сын Ивана Калиты. Умер от свирепствовавшей в Москве эпидемии чумы.
(обратно)159
Русины — славянское племя, издревле населявшее Карпаты.
(обратно)160
Хустка — головной платок.
(обратно)161
Byк Караджич (1787—1864) — сербский собиратель фольклора, историк, деятель национального Возрождения.
(обратно)162
Прокопий — византийский историк VI века, автор сочинений "История войн" в восьми книгах, "Тайная история", "О постройках Юстиниана".
(обратно)163
"Абевега русских суеверий" (1786) — второе издание "Словаря русских суеверий" (1782) М. Чулкова.
(обратно)164
Плиний Старший (23—79 н. э.) — римский писатель ж историк, автор Многотомной "Естественной истории" и многих других сочинений.
(обратно)165
Эпизод и" "Илиады" Гомера. Патрокл — участник Троянской войны, друг Ахилла, героически погибший в схватке с врагами.
(обратно)166
Эпизод из "Одиссеи" Гомера. Аид — в греческой мифологии подземное царство мертвых, а также сам его владыка..
(обратно)167
"Повесть о Петре и Февронии Муромских" — литературное произведение XV века, рассказывающее о любви крестьянской девушки из рязанских земель и муромского князя.
(обратно)168
Киево-Печерский патерик — сборник рассказов ХIII века о деяниях монахов Киево-Печерской лавры — одного из древнейших на Руси монастырей (основан в 1051 г.).
(обратно)169
Азбуковники — энциклопедические словари XVII века, широко распространенные на Руси.
(обратно)170
Хроника Григория Амартола — широко распространенное в древности, в том числе и на Руси, произведение греческого монаха, жившего во второй половине IX века. Настоящее имя автора было Георгий.
(обратно)171
Повой — пеленанье.
(обратно)172
Готландцы — жители Готланда — самого большого острова в Балтийском море.
(обратно)173
Ганзейские гости — купцы из Ганзы, или Ганзейского союза — объединения германских, датских и шведских городов, основанного в 1367 году и процветавшего в XIV—XVI веках.
(обратно)174
Уставная грамота — так назывались в Московском государстве акты, определявшие структуру и порядок управления той или другой областью.
(обратно)175
Уложение (Уложение царя Алексея Михайловича) — обширный законодательный памятник, утвержденный земским собором 1649 г. "по челобитью стольников, и стряпчих, и дворян московских, и жильцов, дворян и детей боярских всех городов, и иноземцев, и гостей, и гостиныя и суконныя сотни и всяких чинов торговых людей". В Уложении 967 статей.
(обратно)176
Постолы — самодельная обувь из сыромятной кожи.
(обратно)177
Грамота игумена Памфила — послание настоятеля Спасово-Елизарова монастыря псковскому наместнику, ценный литературный памятник XVI века.
(обратно)178
Митрополит Даниил (1492—1547) — автор многочисленных сочинений ("Соборник", "Поучение митрополита Даниила всея Руси" и др.), в которых обличал пороки вельмож, духовенства и других общественных сословий. В его произведениях дана красочная картина быта и нравов того времени.
(обратно)179
Радзивиллы — старинный литовский княжеский род. Радзивилл Альберт Станислав (1595—1666) — польский историк.
(обратно)180
мягкую рухлядь, звериные меха.
(обратно)181
Литовский Статут — сборник законов, составленный в литовско-русском государстве в XVI веке.
(обратно)182
Длака — шкура.
(обратно)183
Имеется в виду так называемая Финляндская война 1808—1809 года, закончившаяся Фридрихсгамским мирным договором.
(обратно)184
Эпизод из "Одиссеи" Гомера. Цирцея (Кирка) — в греческой мифологии — волшебница с острова Эя.
(обратно)185
По римской мифологии, бог лесов и полей Пик, предсказатель будущего, отверг любовь Цирцеи, за что и был ею наказан.
(обратно)186
Церковный индекс — список книг, запрещенных церковью. В древнерусской письменности существовал индекс "книг истинных и ложных".
(обратно)187
Максим Грек (1475—1556) — писатель, публицист, деятель русского просвещения, обличитель пороков тогдашнего общества — лихоимства властей, любостяжания духовенства, веры в астрологию, ростовщичества и т. д.
(обратно)188
Котошихин Григорий Карпович (1630—1667) — автор сочинения "О России в царствование Алексея Михайловича", найденного в XIX веке. Книга Г. Котошихина — важный источник изучения государственной и общественной жизни допетровской Руси.
(обратно)189
Так, были преданы сожжению жидовствующие, обвиняемые, между прочим, и в занятиях астрологиею; так, в 1689 году сожжен за ересь иноземец Кульман.
(обратно)190
В брежении — оберегаясь, остерегаясь.
(обратно)191
Курбский Андрей Михайлович (1528—1583) — политический и военный деятель, писатель. Опасаясь опалы Ивана Грозного, в 1564 году бежал в Литву. Автор "Истории о великом князе Московском" и многих других сочинений.
(обратно)192
Горсей Джером — английский дипломат и путешественник, автор нескольких сочинений о России XVI—XVII вв. ("Второе и третье посольства к русскому царю", "Путешествие Горсея", "Описание коронации Федора Иоанновича" и др.)
(обратно)193
Хронограф Кубасова — один из хронографов XVII века, в котором, в частности, описаны важнейшие события царствования Ивана Грозного и Смутного времени.
(обратно)194
Петрей де Эрлезунда — шведский писатель и путешественник XVII века, неоднократно бывавший в России. Автор "Хроник Московии".
(обратно)195
Разрядные книги (разряды) — официальный журнал, куда заносились сведения о служилых людях государства (назначения, перемещения, награды и др.), финансовые ведомости и пр. Разрядные книги существовали на Руси с 1471 по 1682 год.
(обратно)196
карман
(обратно)197
Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790) — известный историк, общественный и государственный деятель, автор сочинений "История Российская от древнейших времен", "Путешествие в землю Офирскую", "О повреждении нравов в России".
(обратно)198
Булла Иннокентия VIII — папская булла, направленная против колдовства; известна под названием "Молот ведьм".
(обратно)199
...установив церковную пасхалию на восьмое тысячелетие. — В Древней Руси счет годов велся от "сотворения мира", происшедшего якобы за 5508 лет до н. э.
(обратно)200
Перевод: "Сразу (жалуются) на Жытня, коли хлеба мало в закромах".
(обратно)201
Вабак — сурок.
(обратно)202
Иды — в Древнем Риме ежемесячные однодневные празднества в честь Юпитера.
(обратно)
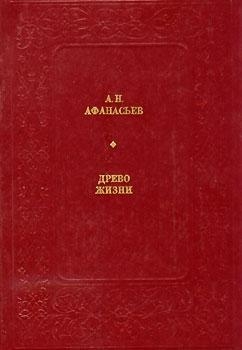



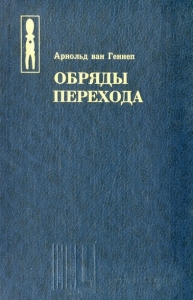



Комментарии к книге «Древо жизни», Александр Николаевич Афанасьев
Всего 0 комментариев