Ирина Паперно «Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах
Научная библиотека -
««Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах»: Новое литературное обозрение; М.; 2018 ISBN 978-5-4448-1027-9
Аннотация
В книге исследуются нехудожественные произведения Льва Толстого: дневники, переписка, «Исповедь», автобиографические фрагменты и трактат «Так что же нам делать?». Это анализ того, как в течение всей жизни Толстой пытался описать и определить свое «я», создав повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия, - не литературу, а своего рода книгу жизни. Для Толстого это был проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла. Ирина Паперно - филолог, литературовед, историк идей, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.
First published as Irina Paperno, „Who, What Am I?" Tolstoy Struggles to Narrate the Self by Cornell University Press, 2014. Copyright by Cornell University. Перевод с английского автора. © И. Паперно, русский перевод, 2018
Ирина Паперно «Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах
© И. Паперно, русский перевод, 2018
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018
Предисловие
Предлагаемая вниманию русскоязычного читателя книга была напечатана по-английски: «Who, What am I?»: Tolstoy Struggles to Narrate the Self. Ithaca: Cornell University Press, 2014. В этом издании были использованы следующие, ранее опубликованные статьи: «Who, What is I?»: Tolstoy in his Diaries. Tolstoy Studies Journal. 1999. № 11, а также Tolstoy's Diaries: The Inaccessible Self // Self and Story in Russian History / Laura Engelstein and Stephanie Sandler, eds. Ithaca: Cornell University Press, 2000; русский перевод: «Если бы можно было рассказать себя...»: дневники Л. Н. Толстого // Новое литературное обозрение. 2003. № 61; Leo Tolstoy's Correspondence with Nikolai Strakhov: The Dialogue on Faith // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010; What, Then, Shall We Do: Tolstoy's Way // Slavic and East European Journal. Fall 2012. Vol. 56. № 3.
В русском переводе книги, выполненном автором, сделаны некоторые исправления, улучшения и сокращения.
В процессе работы автор пользовался помощью работников Государственного музея Л. Н. Толстого на Пречистенке и Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», которым она глубоко признательна. Среди них Г. В. Алексеева, В. С. Бастрыкина, Т. Т. Бурлакова, Н. А. Калинина, Т. Г. Никифорова, С. Д. Новикова, А. Н. Полосина. Автор признателен коллегам в Калифорнийском университете в Беркли, особенно покойному Хью Мак-Лейну, а также Ренате Доринг, Инессе Меджибовской, Карлосу Монтемайору, Донне Орвин, Кэрол Эмерсон и Лоре Энгельштейн за советы и критические замечания.
Введение
«Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления <...> проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам,
вышла бы очень поучительная и занимательная книга» (1: 279) [1] . Так думал молодой Толстой. Подобно Руссо, он стремился превратить себя в открытую книгу[2]. Хотя он и подозревал, что «не достало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать» (1: 279), это не помешало ему взяться за дело. Задуманный им в 1851 году полный отчет об одном прожитом дне - «История вчерашнего дня» - остался неоконченным, но на протяжении почти всей жизни, изо дня в день, Толстой писал историю себя.
В течение многих лет, в 1847-1858 и 1884-1910 годах, он вел дневник. Гигантский текст дневника отражает стремление Толстого определить на письме, «Кто, что я?» (эту фразу он многократно повторял). На протяжении всей жизни Толстой то и дело испытывал отчаянье, которое охватило его в юности, когда он впервые попытался, «чертя по бумаге буквы» (46: 65), описать себя в дневнике. Это отчаянье было особенно острым в старости, в дневниках последних лет. Открытия Толстого-писателя не принесли облегчения.
Задача описать «Кто, что я?» занимала Толстого и в других его текстах, написанных от
первого лица (я, Лев Толстой), а их было много[3].
Принято считать, что Толстому удалось передать в своих романах формы человеческого опыта, трудно поддающиеся описанию, - внутреннюю речь, подсознательные процессы, сны. В этой книге я хочу показать, как Толстой пытался описать и определить свое «я» в нехудожественных текстах, написанных от первого лица, - дневниках, письмах, воспоминаниях, исповедях, трактатах и проч.
Это не было чисто литературной задачей. В структуре повествовательного текста (особенно текста девятнадцатого века) заложена философская концепция, отводящая поступательному движению времени главную роль в формировании человеческой жизни, а это предполагает идею конечности. Для Толстого эта концепция была неприемлемой, и он не хотел смириться с тем, что личность человека ограничена пределами того, что может быть высказано. В этом смысле дневники и другие человеческие документы и трактаты Толстого представляют собой проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла.
В ранних дневниках Толстой работал над такими задачами изо дня в день, на материале повседневности. Его занимала проблема времени. Он старался выработать метод, который позволил бы фиксировать на письме прошлое, настоящее и будущее.
Каждая дневниковая запись отсылала к записи, сделанной накануне, и завершалась подробным расписанием на следующий день (под завтрашней датой). Следующим вечером Толстой обозревал совершённое в течение дня и соотносил потраченное время с составленным накануне планом. Он обозревал свои поступки, оценивая их по шкале нравственных ценностей. Запись каждого дня заканчивалась планом на следующий день. Он фиксировал, в чем сегодняшний день разошелся с «вчерашним завтра». В стремлении достичь того, чтобы действительность отвечала его моральному идеалу, он пытался свести воедино прошлое и будущее. Главная трудность - это отражение настоящего. Стремясь запечатлеть самый процесс чувствования и мышления, Толстой предпринял эксперимент: записать все впечатления, чувства, мысли одного дня. (Повествование, ведущееся от первого лица, следует за рассказчиком даже в область сна.) Моя цель - представить знаменитую «Историю вчерашнего дня» (1851) как экспериментальную попытку создать повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия - своего рода книгу жизни (Толстой часто пользовался этой метафорой).
В течение 1850-х годов Толстой перешел от писания дневника к профессиональному авторству и к литературе, и дневник постепенно сошел на нет. В годы, когда он писал свои главные романы, Толстой не вел дневника.
В его дальнейшей жизни были моменты (1859, 1869-1870 и 1874-1875), когда Толстой хотел покинуть «литературу». В такие моменты - время острого кризиса - он обращался к другим типам писания, таким как письма и педагогические сочинения. Дожив до пятидесяти лет, во время работы над «Анной Карениной» Толстой объявил, что окончательно порвал с литературой, чтобы обратиться к религии. В этой книге я постараюсь показать, как его религиозное обращение было подготовлено в течение 1875-1879 годов в дружеской переписке с Н. Н. Страховым. Для обоих это была сознательная попытка определить в процессе переписки свои религиозные убеждения - философский диалог о вере, и частью этой душевной работы была попытка ответить на вопрос: «что такое моя жизнь, что я такое?»
Итогом этой работы стала «Исповедь» Толстого (раннее название «Что я такое?»), текст, писавшийся не для печати, но позже (в 1882 году) опубликованный. Моя задача показать, что «Исповедь» - это не художественное произведение и не автобиография, а повествование о религиозном обращении (жанр, восходящий к «Исповеди» Августина). В структуру этого жанра входит сдвиг в понимании авторского «я»: в конце повествования «я» - это уже не тот человек, жизнь которого в нем описана. Более того, после обращения «я», осознав себя как часть бесконечного («Что я такое? часть бесконечного» 23: 36), ищет освобождения от индивидуального.
Но и после «Исповеди», в которой Толстой объявил о разрыве и со своей прежней жизнью, и с литературой, он продолжал писать. В конце «Исповеди» он приходит к заключению, что истина заключается не в собственном «я», а в христианской религии, но прежде чем принять веру, он чувствует необходимость переписать ее положения. (Как заметил Толстой, «после 1800 лет исповедания Христова закона <...> мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа» 23: 335.) Его ревизионистские богословские сочинения, такие как «В чем моя вера?» (1883-1884) и «Соединение и перевод четырех Евангелий» (во вступлении), написаны от первого лица.
Во всех текстах, написанных с точки зрения «я, Лев Толстой», проблема своего «я» включает моральное и социальное измерение. Чтобы понять, «что я такое?», необходимо решить, «что мне делать?» (Толстой заимствовал эту фразу у Канта). К этой проблеме Толстой обращался большую часть жизни, от ранних педагогических статей (некоторые из них выполнены в форме дневника), в которых описывал свои попытки научить крестьянских детей читать и писать, до позднего морально-экономического трактата «Так что же нам делать?» (1882-1886), посвященного его (безуспешным) попыткам помочь городским бедным. В этом трактате Толстой поставил вопрос о своем «я» в зависимость от другого: «Кто такой я, тот, который хочет помогать людям?» (25: 245). Как я хочу показать, чтобы ответить на этот вопрос, Толстой переписал в религиозном ключе гегелевскую диалектику раба и господина.
Дважды в жизни Толстой предпринял попытку написать автобиографию или мемуары и оба раза потерпел неудачу («Моя жизнь» в 1878 году и «Воспоминания» в 1903-1906 остались незаконченными). В 1878 году он решил описать свою жизнь исключительно на основе собственных воспоминаний. Возможно ли это? Я покажу, как в процессе первого эксперимента Толстой сконструировал то, что Фрейд впоследствии назвал экраном воспоминания. Вторая попытка преследовала моральные цели: написать историю своей жизни, которая будет полезнее людям, «чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений» (34: 348). Он хотел «написать всю свою гадость, глупость, порочность, подлость - совсем правдиво - правдивее даже, чем Руссо» (73: 279), но, в отличие от Руссо в его «Исповеди», с целью возбудить в читателе отвращение к себе (34: 248). В обоих случаях воспоминания имели и метафизический смысл. Толстой знал, что мемуарист обычно придерживается границ биологической жизни, но тем не менее спрашивал себя (подобно Августину в его «Исповеди»): «Когда же я начался? Когда начал жить?», стараясь проникнуть в состояние до рождения, от которого, как и после смерти, «не будет воспоминаний, выразимых словами» (23: 470). Немудрено, что при такой установке даже автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» не смог справиться с задачей написать свою жизнь.
Вскоре после выхода «Исповеди» Толстой после многолетнего перерыва стал снова вести регулярный дневник. Дневники позднего Толстого писались в ежедневном предвосхищении смерти. Это экзистенциальное состояние требовало особого распорядка: в поздних дневниках рассказ о дне заканчивается не расписанием на следующий день, а фразой «если буду жив» (в сокращении «е. б. ж.»), следующей за завтрашней датой. Отчет о следующем дне начинается с подтверждения: «жив». В течение более чем двадцати лет в дневнике история каждого дня писалась так, как если бы это был последний день жизни. Задача последнего дня была ясна: «освобождать свою душу» (56: 88). Описывая свою повседневную жизнь, Толстой излагал ход борьбы со своим земным «я» - плотскими желаниями, привычками и, наконец, самим сознанием. В дневнике он радостно фиксировал признаки разрушения тела и провалы памяти - знаки «освобождения от личности» (56: 98).
И тем не менее Толстой продолжал писать (и не только дневник): его мучило парадоксальное желание определить то не-я, которое лежит вне сознания, вне памяти, вне времени и вне речи. Но он напряженно думал и о необходимости молчания. В 1909 году Толстой описал это состояние в письме: «если не было противоречием бы написать о необходимости молчания, но написать бы теперь: Могу молчать. Не могу молчать. Только бы жить перед Богом» (57: 6, курсив Толстого).
В старости Толстой посвятил себя составлению альманахов для ежедневного чтения, включавших как его собственные мысли, так и афоризмы, заимствованные у его любимых авторов: «Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения» и другие. Альманахи представляли собой вид дневника, не зависящего от условия «если буду жив», поскольку каждый из них проделывал полный годовой круг. Толстой был не только автором, но и читателем этих альманахов: он ежедневно читал «Круг чтения». Как сказал Андрей Белый,
«„Круг чтения" есть молчание самого Толстого»[4].
Его последней надеждой была смерть - именно в смерти, или на границе между жизнью и смертью, он надеялся приобщиться к внеличностному бытию, а следовательно, и к бессмертию: «бессмертно только то, что не я» (49: 129).
Прообразом такого бытия был для Толстого сон: засыпая, «я теряю сознание, а все-таки живу»; не так ли в смерти - умирая, человек «теряет личность, индивидуальное» (48: 75). В поздних дневниках Толстой экспериментировал с записями своих снов. Как кажется, он, вопреки здравому смыслу, надеялся оставить запись о том, что «я при смерти узнаю» (56: 115).
В иные минуты он понимал: «Сказать же, что было до жизни, и будет после смерти, значило бы прием мысли, свойственный только в этой жизни, употреблять для объяснения других, неизвестных мне форм жизни» (57: 142). Как и в юности, Толстой прибегал к метафоре «книга жизни». И все же он верил, что хотя книга его жизни, написанная «посредством строк и букв» и «написаная на времени» (57: 19), подошла к концу, «это только первый том неизвестно сколь многотомного сочинения и достать продолжения здесь нельзя. Только за границей на иностранном языке можно будет прочесть его. А наверно
прочтешь» (50: 4).
В конце концов, хотя «история моей жизни» осталась ненаписанной, попытки Толстого определить сущность своего «я», отраженные не в томах его художественных произведений, а в том, что написано от первого лица, дошли до читателя. Не только философские, религиозные и моралистические трактаты Толстого, но и его дневники, письма, неоконченные воспоминания, записные книжки и клочки записей (в том числе и записи снов) были в конце концов опубликованы (в основном после его смерти)[5]. Философский смысл таких записей не остался незамеченным исследователями[6]. Для многих читателей в России и за ее пределами борьба Толстого с ограничениями, которые накладывают на человека формы и категории мышления (включая и идею своего «я», то есть индивидуальности) и повествовательные формы, оказалась плодотворной в дальнейших поисках. (Среди таких читателей был Людвиг Витгенштейн, следовавший за Толстым и в своей личной жизни, и в своей философской критике языка[7].) В свою очередь, Толстой следовал за длинным рядом мыслителей, которые задавались вопросом «Кто, что я?» (в частности и в этой формулировке).
В течение всей книги я стараюсь поставить Толстого и его эксперименты с сознанием и повествованием в широкий культурный контекст, соотнести его с теми авторами, с которыми он сознательно вступал в диалог (среди них Платон, Августин, Декарт, Локк, Стерн, Руссо, Кант, Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Маркс), и с теми, которых он отвергал (Гегель, Ницше) или не знал (Фрейд).
Следует заметить, что Толстой не ограничивался западными философскими и литературными источниками. Известно, что в поисках альтернативы понятию об индивидуальном «я» он обращался к индуизму и буддизму (следуя в этом за Шопенгауэром) и читал Конфуция и Лао Цзы[8]. Имеются у Толстого и упоминания православной традиции
исихазма[9].
Толстому было важно, что эти вопросы занимали и крестьян. Он любил пересказывать слова своей старой няни: лежишь в своем чуланчике день и ночь одна-одинешенька и слушаешь, как часы за перегородкой домогаются: «Кто ты - что ты? кто ты - что ты?» В
этом - вторил Толстой - и вся штука: «кто ты, что ты?»[10].
В этой книге история поисков Толстого рассказана несколько раз. Первая глава посвящена его ранним дневникам. «Интерлюдия» кратко описывает переход Толстого от дневников к художественной прозе в начале 1850-х годов и отмечает те моменты в его дальнейшей жизни (1859, 1869-1870, 1874-1875), когда он решил отказаться от литературы, обращаясь к другим жанрам и формам. Вторая глава посвящена переписке Толстого с Н. Н. Страховым в 1875-1879 годах: его попыткам, отойдя от художественного творчества, определить сущность веры в частных письмах. Третья глава в основном посвящена «Исповеди» (1882) - как тексту, говорящему о религиозном обращении (вкратце в этой главе говорится о религиозных трактатах Толстого). Четвертая глава описывает незаконченные попытки Толстого написать автобиографию или мемуары («Моя жизнь» в 1878 году и «Воспоминания» в 1903-1906) и старается объяснить, почему он потерпел поражение. Пятая глава, посвященная трактату «Так что же нам делать?» (1882-1886), имеет дело с проблемой «я и другой» и вопросами социальной морали. Шестая глава, посвященная поздним дневникам Толстого (а также его альманахам для чтения), показывает попытки окончательного освобождения от личности и от авторства (1884-1910). Во всех главах речь идет о снах Толстого - большую часть жизни он записывал сны, надеясь найти в них другой
тип сознания и другую форму повествования.
* * *
Прежде чем перейти к анализу текстов, позволю себе некоторые обобщения о том, каково место Толстого в истории идей.
Толстой не хотел принять идеи прогресса, и особенно трудно ему было примириться с секуляризацией. Когда он начал писать, в 1850-е годы, Толстой вступил в интеллектуальный контекст, в котором все большее место занимали внерелигиозные формы представлений о природе человека. Во многих отношениях точкой отсчета для него был Руссо. У историков идей принято говорить о Руссо как о поворотном пункте в истории форм самоповествования, соотнося его с Августином: Руссо (в «Исповеди» и в «Исповедании веры Савойского викария») создал секулярную модель письма о себе и своем «я», но такой тип автоописания получает смысл только на фоне более ранних религиозных форм самоповествования, таких как «Исповедь» Августина. В этой книге я стараюсь вписать Толстого в эту траекторию. Как я стараюсь показать, Толстой в своей «Исповеди», религиозных трактатах и поздних дневниках предпринял последовательную и сознательную попытку повернуть вспять ход развития западной мысли - прогрессивный курс на секуляризацию и на индивидуальность. На пороге двадцатого века Толстой пытался ресакрализовать повествование о себе. В этом смысле его усилия были регрессивными, но, разумеется, с учетом того, что видишь только задним умом: он старался служить интересам своих современников - интересам секуляризованного человека, который был снабжен сложными литературными формами (к чему Толстой-писатель приложил руку), но оказался беззащитен перед лицом смерти.
* * *
Нет сомнения, что нехудожественные писания Толстого, как частные (дневники и письма), так и публичные (трактаты и автобиографические фрагменты), воспринимаются читателем как значительные именно благодаря репутации Толстого-художника, прославленного автора «Войны и мира» и «Анны Карениной».
Принято говорить о двух Толстых - Толстом-художнике и Толстом-моралисте. Делались и попытки примирить двух Толстых. Так, исследователи утверждали, что все творчество Толстого, раннее и позднее, художественное и нехудожественное, объединено серией мотивов и эмблематических образов, утверждающих его философскую и религиозную позицию[11]. Владимир Набоков (выступая как профессор русской литературы) сказал о Толстом-мыслителе, что ему хотелось бы «запереть его в каменном доме на необитаемом острове с бутылью чернил и стопками бумаги, подальше от всяких этических и педагогических „вопросов", на которые он отвлекался, вместо того чтобы любоваться завитками темных волос на шее Анны Карениной»[12]. Мне же представляется, что, запертый на необитаемом острове с бутылью чернил и стопками бумаги, Толстой, не отвлекаясь на романы, писал бы дневник.
Но вся штука в том, что Толстой писал то одно, то другое. И мне кажется, что писать о себе от первого лица - это акт, который принципиальным образом отличается от художественной репрезентации образа или концепции «я» в романе или рассказе. Именно таким актам самоповествования - писанию того, «Кто я, что я?» - посвящена эта книга.
Глава 1
«Чтобы сам бы легко читал себя...»: ранние дневники Толстого
Толстой начал вести дневник (1847) - Нравственный порядок и временная последовательность - Что же такое время? Культурные прецеденты - «История вчерашнего дня» (1851) - Время и повествование - Сон - «Что я такое? <...> Посмотрим, что такое моя личность» - Что я такое? Культурные прецеденты
Толстой начал вести дневник
Толстой начал вести дневник в марте 1847 года в возрасте восемнадцати лет. Это было клиническое исследование, проводившееся в лабораторных условиях - в больничной палате, где он лечился от венерического заболевания. Огражденный от внешних влияний, он намеревался, подобно Руссо, «взойти сам в себя» (46: 3). В самонаблюдении он руководствовался и практической целью: с помощью дневника взять под контроль свою рассеянную жизнь. (Толстому грозило исключение из Казанского университета за неуспеваемость.) Им руководил также исследовательский интерес - проследить взаимодействие внешних обстоятельств и внутреннего состояния, соотнести телесное и духовное в ежедневной жизни человека. Цели были ясны - но не способ их достижения.
Первая трудность - о чем писать? Толстой заполняет страницы своего первого дневника пересказом прочитанного, а именно «Наказа» Екатерины (это тема его курсовой работы по русской истории). Молодого Толстого привлекала заключавшаяся в «Наказе» утопическая концепция социального порядка для общества будущего, а также ее философское обоснование: счастлив человек, в котором воля управляет страстями, и государство, законы которого служат орудием подобного контроля. Однако с изложением «Наказа», сделанным во второй день, его первая попытка вести дневник закончилась.
Опять (и опять) принимаясь за дневник, Толстой определил его назначение: по дневнику он будет «судить о ходе своего развития» и «усовершенствования самого себя»; «в дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны тоже быть определены мои будущие деяния» (46: 29). «По дневнику весьма удобно судить о самом себе» (46: 34). Его не покидала и другая мысль: как писать? Он посмотрел в зеркало, вышел на улицу и посмотрел на звездное небо: «Пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за запачканный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила, пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова - фразы, но разве можно передать чувство» (46: 65).
Наряду с дневником в 1847 году Толстой вел «Журнал ежедневных занятий». Основной его функцией было планирование и учет проведенного времени. Каждая страница журнала была разделена вертикальной чертой на две графы. В одной из них, озаглавленной «Будущее», Толстой перечислял все то, что он намеревался сделать завтра; параллельная графа, озаглавленная «Прошлое», содержала отметки о выполнении плана, сделанные на следующий день (самой частой из таких отметок было «не совсем»). «Настоящего» не было.
Кроме того, Толстой заполнял тетради сводами правил - «Правила для развития воли», «Правила в жизни», «Правила», «Правила вообще» (46: 262-276). Можно сказать, что в этих текстах Толстой создавал не историю, а утопию личности - свой собственный «Наказ».
Другая тетрадь, «Журнал для слабостей» (или «Франклиновский журнал»), содержала список слабостей («лень», «лживость», «нерешительность», «тщеславие» и т. п.), и Толстой, следуя методу Бенджамина Франклина, каждый день отмечал крестиком выказанную слабость. Он вел также бухгалтерскую книгу - отчет о финансовых тратах. Как можно судить по этим документам, состояние нравственного и денежного хозяйства молодого Толстого оставляло желать лучшего. Но больше всего Толстого беспокоила растрата иного капитала - времени[13].
Нравственный порядок и временная последовательность
Начиная с 1850 года временная схема «Журнала ежедневных занятий» и моральная отчетность «Франклиновского журнала» совместились в рамках одного повествования. Каждая дневниковая запись завершалась подробным расписанием на завтра. На следующий день вечером Толстой обозревал совершенное в течение дня и соотносил потраченное время с составленным накануне планом. Он также рассматривал свои поступки, оценивая их по шкале нравственных ценностей. Запись заканчивалась расписанием на следующий день - под завтрашней датой. Приведенная ниже запись типична для 1850-х годов:
24 [марта 1851]. Встал немного поздно и читал, но писать не успел. Приехал Пуаре, стал фехтовать, его не отправил (лень и трусость). Пришел Иванов, с ним слишком долго разговаривал (трусость). Колошин (Сергей) пришел пить водку, его не спровадил (трусость). У Озерова спорил о глупости (привычка спорить) и не говорил о том, что нужно, трусость. У Беклемишева не был (слабость энергии). На гимнастике не прошел по переплету (трусость), и не сделал одной штуки от того, что больно (нежничество). - У Горчакова солгал (ложь). В Новотроицком трактире (мало fiert^). Дома не занимался Английским языком (недостаток твердости). У Волконских был неестественен и рассеян, и засиделся до часу (рассеянность, желание выказать и слабость характера).
25. С 10 до 11 дневник вчерашнего дня и читать. С 11 до 12 гимнастика. С 12 до 1 Английский язык. Беклемишев и Беер с 1 до 2. С 2 до 4 верхом. С 4 до 6 обед. С 6 до 8 читать. С 8 до 10 писать. - Переводить что-нибудь с иностранного языка на Русский для развития памяти и слога. - Написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит. -
25. Встал поздно от лени. Дневник писал и делал гимнастику, торопясь. Английским языком не занимался от лени. С Бегичевым и с Иславиным был тщеславен. У Беклемишева струсил и мало fierttе. На Тверском бульваре хотел выказать. До калымажского двора не дошел пешком, нежничество. Ездил с желанием выказать. Для того же заезжал к Озерову. - Не воротился на калымажный, необдуманность. У Горчаковых скрывал и не называл вещи по имени, обман себя. К Львову пошел от недостатка энергии и привычки ничего не делать. Дома засиделся от рассеянности и без внимания читал Вертера, торопливость (46: 54-55).
Такая дневниковая запись представляет собой разом и план на будущее, и рассказ о прошедшем дне и носит как описательный, так и предписательный характер. Вечером каждого дня Толстой прочитывал настоящее с точки зрения ожиданий прошлого (обычно неоправдавшихся) и предвосхищал такое будущее, которое должно было воплотить его ожидания. На следующий день он вновь отмечал, в чем сегодняшний день разошелся
с «вчерашним завтра»[14]. В стремлении достичь того, чтобы действительность отвечала его моральному идеалу, он пытался свести воедино прошлое и будущее.
Главная трудность, с которой сталкивается Толстой в попытке создать упорядоченный рассказ о прожитом времени, а таким образом и нравственный порядок, - это отражение настоящего. Сегодняшний день сначала задается в дневнике как день завтрашний, помещенный в контекст дня вчерашнего (в плане на следующий день используются неопределенные глагольные формы: читать, писать, переводить, написать). Вечером, когда Толстой садится за дневник, сегодня - это уже прошлое (используется прошедшее время: встал, писал, не занимался). Запись завершается картиной завтрашнего дня, причем план на завтра датируется завтрашним числом, а неопределенные глагольные формы сообщают этому повествованию вневременность. В отличие от «Журнала ежедневных занятий», дневники 1850-х годов выделяют для настоящего некоторое место, но это настоящее лишено автономности: настоящее - это лишь область пересечения прошлого и будущего.
В одной из принадлежавших юному Толстому тетрадей находим следующую запись, которую редакторы Полного собрания сочинений сочли упражнением по французскому языку:
Le passе est ce qui fut, le futur est ce qui sera et le present est ce qui n'est pas. - C'est pour cela que la vie de l'homme ne consiste que dans le futur et le passе et c'est pour la mкme raison que le bonheur que nous voulons possеder n'est qu'une
chimиre de mкme que le prй sent (1: 217)[15].
Этот вопрос беспокоил, конечно, не одного Толстого: у него была долгая предыстория.
Что же такое время? Культурные прецеденты
Недоумение «Что же такое время?» выразил Августин в одиннадцатой книге «Исповеди»: будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящее преходяще. Обладает ли в таком случае время реальным существованием? Что есть настоящее? День? Даже единый день не целиком находится в настоящем, рассуждал Августин, некоторые часы дня находятся в будущем, другие в прошлом. Час? Но и час составлен из «убегающих частиц». Настоящее не имеет длительности, не занимает места (11.14.17-11.17.22)[16]. Его решением было, что прошлое и будущее есть «представления», живущие в душе, или уме, человека: это воспоминание и ожидание. Время приобретает ощутимое бытие в процессе повествования: «правдиво рассказывая о прошлом, люди извлекают из памяти не сами события - они прошли, - а слова, подсказанные образами их» (11.18.23). Таким образом Августин связывает понятие о времени и понятие о душе. В конечном итоге вопрос «Что же такое время?» является частью главного вопроса всей «Исповеди»: «Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя?» (10.17.26)[17].
На протяжении столетий философы повторяли и видоизменяли эти доводы. Руссо подходил к вопросу о времени в светском ключе, рассуждая о преходящем характере человеческих чувств. Наши привязанности не имеют длительности, но неизбежно меняются, они напоминают о прошлом, которого уже нет, или предвосхищают будущее, которому часто не суждено наступить. Счастье, о котором сожалеет мое сердце, не состоит из «беглых мгновений» («le bonheur que mon creur regrette n'est point compost d'instants fugitifs»), это состояние души цельное и постоянное. Так рассуждал Руссо в своих «Прогулках одинокого мечтателя» («Rкveries du promeneur solitaire», «Пятая прогулка»). Как и в «Исповеди», Руссо посвятил эти записки тому, чтобы «изучить и описать самого себя», дать себе отчет в
изменениях своей души («Первая прогулка»)[18].
С конца восемнадцатого века время как объект познания индивидуума стало предметом экспериментов в области повествования, предпринимаемых писателями, такими как Руссо и Стерн. В середине девятнадцатого века, после Канта и Шопенгауэра, вопрос о существовании и несуществовании времени в его отношении к человеческому сознанию был уже темой ученических сочинений.
Толстому-писателю предстояло сыграть немаловажную роль в продолжавшихся попытках писателей ловить время. Но в юные годы он разрабатывал первые, домашние методы по управлению течением времени при помощи повествования в своем дневнике.
Молодой Толстой едва ли знал Августина. (Много позже, читая Августина, Толстой обратит внимание именно на проблему времени и повествования и хорошо поймет ее
богословский потенциал[19].) Но молодой Толстой хорошо знал Руссо, и присутствие Руссо в дневнике вполне ощутимо[20]. Он хорошо знал и Стерна.
Однако можно думать, что главным образом Толстой постигал проблему времени в процессе писания дневника. Зафиксированное в дневниковой записи, прошлое останется с ним, а будущее, запланированное в письменном виде, уже существует. Создавая будущее прошедшее и настоящее будущее, Толстой отчасти успокаивал страх перед бесследно проходящей жизнью. Но в одном пункте его усилия не привели к желаемому результату: ему не удавалось ухватить настоящее.
«История вчерашнего дня» (1851)
В марте 1851 года Толстой взялся за дело, которое он давно уже обдумывал: написать полный отчет об одном прожитом дне - историю вчерашнего дня. Его выбор пришелся на 25 марта: «не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен <...>, а потому, что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. - Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления <.> проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что недостало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать» (1: 279). Это был эксперимент: Толстой знал, что написать
такую историю невозможно, и тем не менее он принялся за дело[21].
Здесь впервые появляется метафора книги жизни, к которой Толстой будет возвращаться вплоть до самой смерти, особенно в дневниках[22].
Как оказалось, за двадцать четыре часа работы, растянувшейся на три недели, Толстой продвинулся не дальше утра. Объем текста достиг печатного листа («История.», опубликованная только после смерти Толстого, занимает около двадцати шести страниц типографского текста). На этом Толстой остановился. К этому моменту он, по-видимому, понимал, что предпринятое им дело обречено на провал не только по причине исчерпаемости материальных ресурсов («не достало бы чернил на свете <. > и типографщиков»), но также из-за ограничений, заложенных в самом процессе повествования.
«История.» начинается в самом начале дня: «Встал я вчера поздно, в 10 часов без четверти». За этим следует объяснение причины, соотносящее это событие с событием, произошедшим накануне: «.а все от того, что лег позже 12». Здесь рассказ прерывается замечанием (в скобках), включающим это второе событие в общую систему правил: «(Я дал себе давно правило не ложиться позже 12 и все-таки в неделю раза 3 это со мною случается)». Затем следует уточнение обстоятельств, приведших к этому поступку: «Я играл в карты» (1: 279). Этот отчет о событиях вчерашнего дня прерывается очередным отступлением - размышлениями повествователя о том, почему люди играют в карты. Через полторы страницы Толстой возвращается к описанию карточной игры.
Повествование продвигается с трудом, толчками - не столько как рассказ о событиях и поступках, сколько как исследование умственной деятельности героя-повествователя, а именно тех размышлений, которые сопровождали как его действия, так и акт повествования о них. На последней странице неоконченной «Истории...» мы находим героя в постели - он так и остался на пороге вчерашнего дня.
Так что же такое время? В «Истории...» день начинается утром, стремительно движется к вечеру накануне и затем не спеша возвращается к начальной точке, к утру. Время течет назад, совершая круг. Толстой написал не историю вчерашнего дня, а историю позавчерашнего дня.
Эта же схема окажется в действии в 1856 году, когда Толстой начнет работу над историческим романом. По словам Толстого (в одном из предисловий к «Войне и миру»), его первоначальным замыслом было написать роман о декабристах, время действия которого происходило бы в настоящем (то есть в 1856 году), когда постаревший декабрист возвращается в Москву из сибирской ссылки. Но прежде чем приступить к делу, Толстой почувствовал необходимость прервать ход повествования: «невольно от настоящего перешел к 1825 году» (то есть к восстанию декабристов). Затем, чтобы понять своего героя в 1825 году, он обратился к сформировавшим его событиям Отечественной войны 1812 года: «я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года» (13: 54). «Но и в третий раз я оставил начатое» - с тем, чтобы наконец остановиться на 1805 годе (начало
наполеоновской эпохи в России)[23].
В этом случае повествование снова двигалось не вперед, а назад. И в «Истории вчерашнего дня», этом фрагменте истории личности, и в историческом романе Толстой обратил начальный момент повествования в конечный пункт развития предшествующих событий, обусловленных причинно-следственными связями. Как казалось Толстому, когда он писал предисловие к «Войне и миру», такова неизбежная логика исторического повествования.
В «Истории вчерашнего дня» эффект преломления времени проявляется не только в сдвиге описываемого дня в сторону предшествующего. В самом описании время отнюдь не идет вперед, а расщепляется, чтобы вместить совокупность одновременных действий. Вот закончилась игра в карты. Повествователь, стоя возле стола, за которым велась игра, продолжает беседу с хозяйкой (по большей части безмолвную). Пора прощаться, но прощание дается молодому человеку тяжело - как и рассказ о прощании:
Я посмотрел на часы и встал. <...> Хотелось ли ей кончить этот милый для меня разговор, или посмотреть, как я откажусь, и знать, откажусь ли я, или просто еще играть, но она посмотрела на цифры, написанные на столе, провела мелком по столу, нарисовала какую-то, не определенную ни математикой, ни живописью фигуру, посмотрела на мужа, потом между им и мной. «Давайте еще играть 3 роберта». Я так был погружен в рассматривание не этих движений, но всего, что называется charme, который описать нельзя, что мое воображение было очень далеко и [неразборчиво] не поспело, чтобы облечь слова мои в форму удачную; я просто сказал «нет, не могу». Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться, - т. е . не весь я, а одна какая-то частица меня. - Нет ни одного поступка, который не осудила бы какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу: что за беда, что ты ляжешь после 12, а знаешь ли ты, что будет у тебя другой такой удачный вечер? - Должно быть, эта частица говорила очень красноречиво и убедительно (хотя я не умею передать), потому что я испугался и стал искать доводов. - Во-первых, удовольствия большого нет, сказал я себе: тебе она вовсе не нравится и ты в неловком положении; потом, ты уже сказал, что не можешь, и ты потерял во мнении...
- Comme il est aimable, ce jeune homme.
Эта фраза, которая последовала сейчас за моей, прервала мои размышления. - Я стал извиняться, что не могу, но так как для этого не нужно думать, я продолжал рассуждать сам с собой: Как я люблю, что она называет меня в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я любил бы и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко меня звать по имени,
по фамилии, и по титулу. Неужели это от того, что я - «Останься ужинать»,
сказал муж. - Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости (1: 282-283).
Этот рассказ, хотя и переданный в прошедшем времени, по памяти, близок к непосредственной записи переживаемого - он стремится быть чем-то вроде стенографического отчета о сознании человека, наблюдающего себя самого.
Можно сказать, что это поток сознания в присутствии наблюдателя.
Как внешний наблюдатель автор может только догадываться о том, что происходит в сознании его героя. Однако как историк самого себя, описывающий «задушевную сторону жизни одного дня», автор сталкивается с другой трудностью - передачей множественности внутреннего мира: расхождением между речью, мыслью и движениями тела, амбивалентностью желаний и той диалектической драмой, которая стоит за мотивами поступков. Еще одно осложнение - это расслоение «я» на героя и повествователя, действующих в разное время. К тому же повествователь занят не только рассказом о событиях своей жизни, но и рассуждениями о самом процессе повествования, а также об общих проблемах историографии собственной личности. (А повествователь «Истории вчерашнего дня» занят этим даже тогда, когда спит.) И он то и дело сетует на то, что не все можно выразить словами. Можно ли передать такую множественность в повествовании?
Время и повествование
Кант (которого Толстой в это время еще не читал) сожалел в «Критике чистого разума», что восприятие многообразия явлений всегда последовательно - репрезентации (представления) отдельных частей воспринимаемого следуют друг за другом. Из этого не следует, однако, что само представляемое явление также последовательно: это означает лишь то, что воспроизвести восприятие возможно не иначе как в определенной последовательности. По словам Канта, именно таким образом у нас впервые является повод составить себе понятие о причине: последовательность создает впечатление о причинности[24].
Молодой Толстой предпринял попытку охватить в повествовании те явления, которые происходят как бы одновременно. Как заметил Виктор Шкловский, в «Истории вчерашнего дня» «время раздвинуто, расширено, как бы удлинено»[25]. В результате повествовательная ткань не выдержала, рассказ оборвался. Оказалось, что повествователь, описывающий себя самого изнутри, знает больше, чем он может рассказать. Можно ли вообще рассказать «задушевную сторону жизни одного дня»?
У Толстого, конечно, были предшественники - его повествовательная стратегия была частично заимствована у Лоренса Стерна, который наряду с Руссо был в числе его первых учителей[26]. В 1851 году в дневнике Толстой назвал Стерна своим «любимым писателем» (49: 82); в 1851-1852 годах в качестве упражнения в английском языке он переводил «Сентиментальное путешествие».
Стерн - исходя из философии Локка - сделал объектом повествования сознание героя-повествователя. Локк (в отличие от Августина) надеялся, что само время может быть схвачено. В своем «Опыте о человеческом разуме» Локк вывел понятие о времени (длительности) и личности (длительности своего «я») из восприятия последовательности
идей, постоянно сменяющих друг друга в сознании (включая и память о прошлом)[27]. Стерн, как бы следуя за этой концепцией, зафиксировал в тексте поток ассоциаций, возникающих в повествующем сознании[28].
Обратив повествование внутрь, Стерн показал, что существует психологическое время, которое отличается от хронологического времени. В соответствии со своим душевным состоянием, рассказчик Стерна отвлекается. Прибегая к ретроспекции и проспекции, комментируя самый процесс повествования, иронизируя над собой, он отступает от линейного порядка, или поступательного движения рассказа. Такая «реалистическая» передача сознания повествователя выявила изъян в аргументации Локка, а повествование потеряло традиционные очертания, приобретая экспериментальный
характер[29].
Повторяя повествовательные опыты Стерна, молодой Толстой получил первые уроки эпистемологии: он овладел такими понятиями, как картезианский переход к точке зрения ощущающего индивидуума, дуализм внешнего и внутреннего, а также зависимость чувства собственного «я» (самоидентичности) от способности человека охватить сознанием свое прошлое (принцип, сформулированный Локком). Более того, в процессе эксперимента, предпринятого в «Истории вчерашнего дня», Толстой столкнулся с ограничениями, наложенными на наше представление о времени самим человеческим восприятием (о чем писал Кант). На протяжении всей жизни - даже после того, как в 1869 году (после «Войны и мира») он прочтет «Критику чистого разума» Канта, - Толстой будет бороться с этими ограничениями[30].
В своих ранних дневниках и «Истории вчерашнего дня» Толстой обнаружил для себя, что истории сегодняшнего дня не существует. Настоящее отсутствует даже в такой записи, которая почти одновременна ощущению. История всегда говорит о вчерашнем дне. Более того, в своих занятиях историей личности - историей самого себя - он столкнулся с необходимостью вести учет не только последовательности событий, но и иной области - внутренней жизни. Внимание к внутренней жизни увеличило коэффициент преломления времени: за каждым событием и действием, увиденным с внутренней точки зрения, скрывается совокупность одновременно проистекающих процессов. Это привело молодого Толстого к другому открытию.
Сон
Вернемся к сцене у карточного стола. Толстой указывает, что замечание хозяйки, «Comme il est aimable, ce jeune homme», последовало, прерывая ход его мысли, непосредственно за словами «нет, не могу». Возникает вопрос: когда (или, в пространственных терминах, где) имели место эти размышления? Возникает впечатление, что настоящий момент имеет продолжение за сценой. Со времени Августина бытовало мнение, что настоящее время не имеет продолжительности, или длины. Однако молодой Толстой обнаружил, что оно имеет глубину: жизнь обладает потаенными недрами. Одним из таких пространств был сон.
«История вчерашнего дня» заканчивается пересказом, вернее, репрезентацией сна - пограничного пространства между днями. Мы находим героя-повествователя в постели: он наблюдает за угасанием своего сознания: «я» укладывает себя спать и продолжает писать как бы под диктовку, занимаясь как самонаблюдением, так и наблюдением за процессом описания. Такого рода повествование кажется невозможным, и все же Толстой берется за него. (Если же оно осуществимо, то представляется возможным оставить рассказ о собственной смерти - и в старости, в своих поздних дневниках, Толстой не исключает такой возможности.) В «Истории вчерашнего дня» описание сна продолжает экспериментальное исследование течения времени и психического процесса, обращая особое внимание на связь между внешним и внутренним, телом и сознанием (а также подсознанием):
«Морфей, прими меня в свои объятия». Это Божество, которого я охотно бы сделался жрецом. А помнишь, как обиделась барыня, когда ей сказали: «Quand je suis passе chez vous, vous еtiez encore dans les bras de Morphеe». Она думала, что
Морфей - Андрей, Малафей. Какое смешное имя! А славное выражение: dans
les bras; я себе так ясно и изящно представляю положение dans les bras, - особенно же ясно самые bras - до плеч голые руки с ямочками, складочками и белую, открытую нескромную рубашку. - Как хороши руки вообще, особенно ямочка одна есть! Я потянулся. Помнишь, Saint Thomas не велел вытягиваться. Он похож на Дидрихса. Верхом с ним ездили. Славная была травля, как подле станового Гельке атукнул и Налет ловил из-за всех, да еще по колоти. Как Сережа злился. - Он у сестры. - Что за прелесть Маша - вот бы такую жену! Морфей на охоте хорош [?] бы был, только нужно голому ездить, а то можно найти и жену. - Пфу, как катит Saint Thomas - и за всех на угонках уже барыня пошла; напрасно только вытягивается, а впрочем это хорошо dans les bras. Тут должно быть я совсем заснул. - Видел я, как хотел я догонять барыню, вдруг - гора, я ее руками толкал, толкал, - свалилась; (подушку сбросил) и приехал домой обедать. Не готово; отчего? - Василий куражится (это за перегородкой хозяйка спрашивает, что за шум, и ей отвечает горничная девка, я это слушал, потому и это приснилось). Василий пришел, только что хотели все у него спросить, отчего не готово? видят - Василий в камзоле и лента через плечо; я испугался, стал на колени, плакал и целовал у него руки; мне было так же приятно, ежели бы я целовал руки у нее, - еще больше. Василий не обращал на меня внимания и спросил: Заряжено? Кондитер Тульский Дидрихс говорит: готово! - Ну, стреляй! - Дали залп. (Ставня стукнула) - и пошли Польской, я с Василием, который уже не Василий, а она.
Вдруг о ужас! я замечаю, что у меня панталоны так коротки, что видны голые колени. Нельзя описать, как я страдал (раскрылись голые [колени?]; я их во сне долго не мог закрыть, наконец закрыл). Но тем не кончилось; идем мы Польской и - Королева Виртембергская тут; вдруг я пляшу казачка. Зачем? Не могу удержаться. Наконец принесли мне шинель, сапоги; еще хуже: панталон вовсе нет. Не может быть, чтобы это было наяву; верно я сплю. Проснулся. - Я засыпал - думал, потом не мог более, стал воображать, но воображал связно, картинно, потом воображение заснуло, остались темные представления; потом и тело заснуло. Сон составляется из первого и последнего впечатления (1: 291-292).
Пересказ сна дает Толстому возможность освободить повествование от последовательности и подразумеваемой причинности: текстом управляет принцип ассоциативной связи между словами, воспоминаниями и телесными ощущениями. Исходной точкой служит фраза, вводящая тему сновидения: «Морфей, прими меня в свои объятия». Повествование развивается далее как ассоциативный ряд, начатый идиоматическим выражением dans les bras. Затем инициатива переходит от вербального сознания к телу: следующий ход - это непроизвольное движение («я потянулся»), которое вызывает детское воспоминание об указаниях гувернера («Saint Thomas не велел вытягиваться»). Здесь вступает и тема катания верхом с ее эротическими ассоциациями, которая переходит в тему охоты (в этом эротически окрашенном контексте появляется образ сестры Маши и образ Saint Thomas).
Помимо очевидных ассоциативных связей в описании сна присутствует и подпольный - бессознательный - слой: образ Saint Thomas имеет биографическую, эмоционально насыщенную подоплеку: он был французским гувернером Толстого, мечтой которого было жениться на русской барыне с состоянием; он жестоко оскорбил мальчика угрозами телесного наказания. В течение всей жизни Толстой не раз возвращался к воспоминанию об этом эпизоде[31]. (Эта биографическая подоплека выявлена исследователями Толстого[32].)
Эпизод с Василием (это любимый слуга, о котором Толстой не раз вспоминал в рассказах о своем детстве) также имеет литературный подтекст. Русскому читателю памятен образ из «Капитанской дочки» Пушкина, когда юный герой, Гринев, отказывается поцеловать руку царя-самозванца Пугачева. Герой сна, напротив, со страстью подчиняется власти крестьянина в камзоле с лентой через плечо[33].
Замечу, что эти эпизоды сна представляют собой богатый материал для психоаналитической интерпретации: поток ассоциаций связывает здесь серию телесных ощущений, детских воспоминаний, бисексуальных эротических импульсов и амбивалентных эмоций с темой насилия и власти, как бы показывая работу бессознательного. В этом нет ничего удивительного: ключевые понятия психоанализа были предвосхищены в
романтической философии и в литературе[34]. Но для Толстого бессознательное не является главным предметом интереса.
Вернемся к анализу повествования. В тот момент, когда сон, проделав круг, возвращается к начальной формуле, dans les bras, сознание наконец отключается: «Тут должно быть я совсем заснул». Однако повествование продолжается.
Логика сновидения, сходная с тем ассоциативным повествовательным строем, который описал Локк и воплотил в своей экспериментальной прозе Стерн, существенно отличается от кантовского порядка, используемого в традиционном нарративе, - порядка, в котором гарантом выступает разум.
Во второй части описания сна Толстой идет дальше Локка и Стерна. Соотнося образы сна со внешними стимулами (гора свалилась - подушку сбросил; дали залп - ставня стукнула), он ставит под сомнение повествовательную логику, построенную на причинно-следственных связях и линейной временной последовательности. Во сне человеческое сознание, освобожденное от принуждений здравого смысла, смешивает внешние впечатления с порождениями воображения, выстраивая сюжеты, двигателем которых является не разум.
В нескольких случаях сознание во сне перестраивает временной и причинно-следственный порядок. Далее в «Истории вчерашнего дня» Толстой описывает такой тип сновидений:
вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило: вы видите, что идете на охоту, заряжаете ружье, подымаете дичь, прицеливаетесь, стреляете и шум, который вы приняли за выстрел, это графин, который вы уронили на пол во сне (1: 293).
В реальном времени выстрел (внешнее событие) служит тем толчком, который запускает повествовательное сознание; во времени сновидения, напротив, выстрел завершает целый ряд событий, описанных задним числом. Повествование построено ретроспективно. Как и в общей временной схеме «Истории вчерашнего дня», время сновидения движется из настоящего (исходное внешнее событие) в прошлое, чтобы затем возвратиться к начальному событию и совпасть с настоящим в момент пробуждения. Следствие оказывается предпослано причине. Более того, поскольку момент пробуждения совпадает с исходным толчком, действие (как и в случае разговора возле карточного стола) происходит как бы за пределами наблюдаемого, в потаенных недрах времени. Недоступные традиционным повествовательным структурам, такие недра - «задушевная сторона» жизни каждого дня - оказались доступными другому типу сознания и другому типу повествования: сну.
AAA
Существовали культурные прецеденты и параллели для такого подхода. Так, Карл Густав Карус в известном романтикам (и Достоевскому) трактате «Психея» (1846) утверждал, что ключ к «сознательной жизни души» лежит «в области бессознательного», проявляющегося во снах и в состоянии между сном и бодрствованием[35].
Во второй половине девятнадцатого века появился целый ряд естествоиспытателей, исследовавших сны: стремясь прояснить связи между внешними стимулами и образами снов, они производили наблюдения над своими собственными снами (стараясь наблюдать за собой даже и в самом процессе сна).
Сновидения типа описанного Толстым были зафиксированы этими естествоиспытателями под названием «ретроспективные сновидения». Таков сон о Французской революции, который Альфред Мори описал в популярной книге «Сон и сны» («Le sommeil et les rкves», 1861). Во сне Мори присутствовал при революционных событиях, встретился с Робеспьером и Маратом и сам пал жертвой террора: будучи приговорен к смертной казни, он взошел на эшафот, положил голову под нож гильотины и почувствовал, как голова его отделяется от туловища. В этот момент он проснулся - чтобы обнаружить, что упавшая спинка кровати ударила его по задней части шеи. Широко известен был сон Наполеона, пересказанный А. Гарнье в его «Трактате о свойствах души.» («Traitе des faculta s de l'вme, contenant l'histoire des principales th^ ories psychologiques», 1852). Однажды в коляске по пути в оперу Наполеону снилось, что он вновь пересекает реку Тальяменто; в тот момент, когда в соответствии с сюжетом сна (и реальным эпизодом итальянской кампании) австрийцы начали обстрел, его разбудил взрыв бомбы на улице. Интересно, что именно история - Французская революция и наполеоновские войны - составила материал этих широко известных ретроспективных сновидений[36].
Едва ли возможно, что Толстой в 1851 году знал об этих исследованиях сновидений; скорее всего, он вывел принцип обратной временной перспективы и вывернутую повествовательную логику сновидения из личного опыта. Это открытие заключало в себе огромный потенциал, и в поздних дневниках Толстой будет еще обращаться к этой теме, по-разному осмысляя свои наблюдения.
В 1851 году в «Истории вчерашнего дня» молодой Толстой истолковал обнаруженное им явление как психологический феномен, который имеет прямые последствия для задачи описания форм человеческого сознания. Логика сновидения и традиционное повествование опирались на различные представления о времени. Как заметил Толстой в «Истории вчерашнего дня», многие люди (включая его самого) склонны представлять подобные сновидения в пересказе как логически связную структуру с линейным временным развитием. Причина этого заключается, по словам Толстого, в привычке «к последовательности и к той форме времени, в которой проявляется жизнь» (1: 293). (Здесь молодой Толстой рассуждает в терминах, близких к Канту.) В то время как в самом сновидении сознание - как будто в одно мгновение - задним числом порождает целый ряд событий, с тем чтобы объяснить себе исходное впечатление, в воспоминании и изложении сна сознание выстраивает этот
причудливый ряд происшествий в линейную последовательность.
* * *
Через десять лет, работая над «Войной и миром», Толстой переосмыслил открытия «Истории вчерашнего дня», подходя к ним с точки зрения историографии. Размышляя о том, как изображаются исторические события, он утверждал (в заметке «Несколько слов по поводу книги „Война и мир"»), что ложь наличествует в любом словесном изложении. Так, он писал о «необходимости лжи, вытекающей из потребности в нескольких словах описывать действия тысячей людей, раскинутых на нескольких верстах» (16: 10). Тот, кто хочет узнать, «как было дело», обменивает свое собственноe «бесконечно разнообразноe» и «неясное впечатление» на «лживое, но ясное <...> представление» (16: 10-11). Одни превращают «бесконечно разнообразные» впечатления в стройное линейное изложение; другие же задним числом подыскивают объяснения событиям. Толстой руководствовался здесь своими «психологическими наблюдениями». То, что затрудняет доступ к действительности (к тому, «как было дело»), - это «способность человека ретроспективно подделывать мгновенно под совершившийся факт целый ряд мнимо свободных
умозаключений» (16: 15)[37]. Как писал Шкловский, в «Войне и мире» Толстой возвратился
к «психологии сна, подделывающего причины»[38]. (В самом романе Толстой дает примеры
разного рода ложных повествований, искажающих имевшие место события[39].)
Итак, в «Войне и мире» Толстой, с одной стороны, не доверяет способу чистого разума, описанному Кантом, - правилу последовательности, которое ведет к представлению о причинности. С другой - он относится с подозрением к способности людей ретроспективно «подделывать» причину. (Он как будто подозревает, что история, подобно ретроспективным сновидениям, представляет собой реконструкции прошлого, имеющие целью объяснить настоящее.)
Так, в своих размышлениях по поводу «Войны и мира» в 1860-е годы Толстой обратил осуществленный им в «Истории вчерашнего дня» опыт самонаблюдения (истории себя самого) в философию исторического повествования, применимую к истории нации.
Заметим, что в старости, в поздних дневниках, Толстой вернется к теме ретроспективных сновидений и воспользуется своими наблюдениями в борьбе с метафизикой конечности.
«Что я такое? <...> Посмотрим, что такое моя личность»
Молодой Толстой использовал свой дневник для того, чтобы «судить о ходе своего развития», и для «усовершенствования самого себя» (46: 29).
В июле 1854 года он решил подвести итог своему положению. Он спросил себя: «Что я такое?» Это был вопрос о его «личности» - о развитии характера в связи с семейными и биографическими обстоятельствами и социальным положением.
7-го июля [1854]. <...>
Что я такое? Один из четырех сыновей отставного Подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет; без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни; наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, а главное - привычек, а оттуда, придравшийся к каким-то связям, существовавшим между его отцом и Командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26-ти лет прапорщиком почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употреблять на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но - с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение.
Посмотрим, что такое моя личность. -
Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. - Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolеrant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. - Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. - Я умен, но ум мой еще ни на чем никогда не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. - Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра - славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью - первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них. -
Да, я нескромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете. - (47: 8-9).
В этом отчете (как и в каждодневных записях, нацеленных на фиксацию того, в чем настоящее расходилось с желаемым) молодой Толстой в основном оценивал себя негативно. Своей главной проблемой он считал тщеславие и честолюбие. В одной записи он определил тщеславие как «моральную болезнь»: «вроде проказы <. > она понемногу и незаметно вкрадывается и потом развивается во всем организме <. > - она как венерическая; ежели изгоняется из одной части, с большей силой проявляется в другой» (46: 94-95). В течение всей дальнейшей жизни Толстой тяготился сознанием своего тщеславия; в течение всей жизни он испытывал отвращение перед своими (сильными) сексуальными желаниями.
В то время, когда он сделал это самоотчет, Толстой служил в армии на юге России (через несколько месяцев, в ходе Крымской войны, он будет переведен в Севастополь и примет участие в боевых действиях). Он снова лечился от венерического заболевания; он все еще играл в карты (и проигрывал) и все еще пытался исправить свое поведение с помощью системы правил, отмечая в дневнике, согласно франклиновскому методу, свои нравственные слабости и проступки. Он записал в дневнике свою «молитву», или символ веры: «Верую в единого всемогущего и доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие по делам нашим; желаю верить в религию отцов моих и уважать ее». Он просил Бога: «Помоги мне исправляться от пороков моих» (47: 12). (Подобно Руссо, молодой Толстой составил свою собственную молитву.) Годом позже Толстой (как и Руссо) проникся идеей основания новой религии - «соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» (47: 37, 4 марта 1855). (И к этому желанию Толстой возвращался в течение дальнейшей жизни.)
В своем стремлении к самоусовершенствованию Толстой следовал за длинной традицией. Вопрос «Что я такое?» (как и вопрос «Что же такое время?») имел историю.
Что я такое? Культурные прецеденты
В своей склонности к самонаблюдению и самоанализу Толстой во многом следовал за Руссо[40]. (В течение всей жизни он также следовал за Руссо в активной нелюбви к прогрессу.) Он охотно признавал, что отождествлял себя с Руссо, которого впервые прочел в пятнадцать лет и много раз перечитывал. Толстой однажды сказал: «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая „Словарь музыки". <...> Многие страницы его так близки мне,
что мне кажется, я их написал сам» (46: 317-318)[41].
Что касается Лоренса Стерна, у которого Толстой заимствовал технику ассоциативного повествования, воспроизводящего работу воспринимающего сознания, то он сам написал многие страницы Стерна - в 1851 году он переводил «Сентиментальное
путешествие» на русский язык[42].
У Бенджамина Франклина Толстой заимствовал его знаменитый метод
самосовершенствования на основе ведения журнала[43].
Непосредственные источники молодого Толстого были светскими (как он позже с сожалением отметит в одном из черновых вариантов «Исповеди») (23: 490). За этими источниками стояла, однако, религиозная подоплека. Так, методику Франклина считают секуляризованным вариантом пуританского идеала самопреобразования в контакте с Богом, которая породила целую культуру дневников в Англии и Америке XVII и XVIII века. За идеалами самонаблюдения Руссо стояла августинская традиция самопогружения, секуляризованная в духе идеалов Просвещения[44].
В распоряжении молодого Толстого имелись и другие источники. Одним из них был дидактический трактат Иоанна Масона «Познание самого себя» («Self-Knowledge», 1745), который широко использовался по всей Европе, включая и Россию, в качестве практического руководства к самовоспитанию. В библиотеке Толстого имеется англоязычный экземпляр этой книги издания 1818 года[45]. В России в конце XVIII и начале XIX века этот трактат имел широкое хождение в масонских кругах; он оказал ощутимое влияние на бытовую культуру самоанализа, развившуюся в контексте русского сентиментализма. Написанные под непосредственным влиянием этого трактата дневники молодого Василия Жуковского (1804-1806) в некоторых своих чертах обнаруживают поразительное сходство с дневниками
молодого Толстого, написанными на полстолетия позже[46]. (Это вовсе не удивительно: молодому Толстому, как отмечали исследователи, было свойственно обращаться за образцами не к своим современникам, а к позднему XVIII веку[47].)
Масон заимствовал конкретные принципы, методы и формулировки из различных источников, от Сократа и стоиков (Марка Антония, Плутарха, Эпиктета, Сенеки) до Нового Завета и Августина, а в Новое время Локка (его рассуждения о памяти и ассоциативной связи идей), Ричарда Бактера и Эдуарда Юнга (его «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии»). Для Масона самопознание является частью непрерывной традиции, которая простирается от «древних» до «новых» авторов. Более того, он видел своей задачей «перевести» принцип «Познай самого себя», предложенный древними, на язык Нового Завета и соотнести его с современной ему поэтической идиомой. При этом Масон предлагает своему читателю конкретные методы: «Читатель! Проделай следующий опыт: войди в себя <.> и испытай: Что я такое? Для чего я создан? <.> Что я сделал во всю жизнь мою? <.> В таком ли я состоянии, в каком бы желал умереть?» Такие упражнения в самопознании (их рекомендовалось производить в течение каждого дня утром и вечером) служат постоянным приготовлением к смерти и к Богу[48].
Как мы видели, когда Толстой спрашивал себя в 1854 году: «что я такое?», он искал ответы в основном психологического, а не религиозного характера. В двадцать пять лет он еще не был занят ежедневным приготовлением к смерти (это придет после пятидесяти). И все же, читая Руссо, Франклина или Масона (если он пользовался этой книгой), молодой Толстой приобщался к той светской культуре самопознания, которая имела ощутимую религиозную подоплеку.
* * *
Что же такое дневники Толстого и его «История вчерашнего дня»? Борис Эйхенбаум и Виктор Шкловский, влияние которых на наши представления о Толстом ощутимо по сей день, писали о дневниках молодого Толстого и его «Истории вчерашнего дня» как о лабораториях, где вырабатывались метод и приемы его будущих литературных произведений. По словам Эйхенбаума, дневник молодого Толстого - это «сборник литературных упражнений и литературного сырья»[49]. В первую очередь он имеет в виду метод изображения душевной жизни. (Вслед за Николаем Чернышевским Эйхенбаум описал толстовский метод как «диалектику души»[50].) Существуют и другие исследования ранних дневников Толстого как литературного текста[51].
Во многом воспользовавшись замечательными наблюдениями Эйхенбаума и Шкловского, в этой книге я тем не менее предлагаю другой подход: рассмотреть дневники и «Историю» как отдельный и самоценный проект - попытку писать не литературу, а книгу жизни, создать такую словесную репрезентацию своей внешней (событийной) и внутренней жизни, которая была бы адекватной процессу протекания времени и психическому процессу. Для молодого Толстого эта задача имела явную нравственную и метафизическую ценность. В рамках такого подхода дневники поздних лет Толстого, написанные после того, как он сознательно отказался от литературы и литературности, оказываются частью того же проекта. Как попытка сплошной текстуализации жизни этот проект был обречен на неудачу, но сама попытка оказалась плодотворной даже на ранних стадиях.
В ранних дневниках Толстой следовал двум разным стратегиям, которые перемежались и соперничали друг с другом. В дневниках и журналах молодой Толстой стремился подчинить свою жизнь повествовательному (темпоральному) и нравственному порядку. Его цель - и упорядочить свою рассеянную жизнь, и закрепить на письме ускользающую сущность ежедневного опыта.
В «Истории вчерашнего дня» он ставит себе целью передать свою жизнь таким образом, чтобы преодолеть заложенные в повествовательной форме ограничения - принцип временной последовательности, логику причины и следствия, необходимость связности и концовки, а также разделение между субъектом и объектом описания. Но в конечном счете все расширяющийся поток сознания (и подсознания) размывает повествование. Границ же сознания Толстой перейти не сумел: оно преследует писателя даже во сне (засыпая, он не прекращает выстраивать текст).
И все же текст его ранних дневников и «Истории вчерашнего дня» кажется более адекватным жизни в той форме, в которой человек познает ее в опыте, - как нечто
отрывочное, непоследовательное и всегда неполное[52].
Такой текст открывает возможность для альтернативной метафизики повседневности и альтернативной философии истории.
Интерлюдия: Документальное письмо или художественная
литература?
Толстой переходит от дневника к литературе (1852) - «И, кажется, больше никогда писать не буду»: Толстой отрекается от литературы (1859) - «О проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» (1870): Толстой снова и снова (1875) отказывается от литературы
Толстой переходит от дневника к литературе (1852)
В 1851-1852 годах Толстой перешел от интенсивного писания дневника к художественной прозе и к авторству[53] . В ноябре 1851 года Толстой (он жил тогда на Кавказе, пытаясь поступить на военную службу) писал Т. А. Ергольской (по-французски): «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы [faire des romans]; так вот я и послушался вашего совета - мои занятия, о которых я вам говорю - литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу» (59: 117). Результатом этой работы стали написание и издание повести «Детство», и ее успех заложил основу карьеры Толстого-беллетриста.
Если рассмотреть «Детство» (написанное летом 1851 года) бок о бок с «Историей вчерашнего дня» (март 1851 года), то «Детство» - это частичное подчинение конвенциям и ограничениям художественной прозы. «История вчерашнего дня» выросла из дневника молодого Толстого и была экспериментальной попыткой описать все «впечатления и мысли, которые проходят в один день» - попыткой, предпринятой без интенции писать литературу. «Детство» было результатом сознательной литературной работы, с мыслью о возможной публикации.
Более того, несмотря на автобиографическую форму повести (повествование от первого лица и биографический сюжет), Толстой не думал о «Детстве» как об истории собственной жизни. Он горько жаловался на то, что редакция «Современника» заменила заглавие «Детство» на «История моего детства»: «Кому какое дело до Истории моего детства»? (59: 214). Согласно первоначальному плану, «Детство» было первой частью большого романа, «Четыре эпохи развития», и он планировал написать также «Отрочество», «Юность» и «Молодость». Но и условный автобиографизм так стеснял Толстого, что он не мог продолжать. Он писал своему редактору Н. А. Некрасову: «принятая мной форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущей <...> стесняют меня» (59: 202, 15 сентября 1852). Толстой попытался создать дистанцию между собой и своим героем. Через несколько месяцев он записал в дневнике: «Я могу писать про него, потому что он далек от меня» (46: 150-151). В конце концов Толстой написал «Отрочество» и «Юность», но оставил неосуществленным план четвертой части, которая закончилась бы сегодняшним днем героя-повествователя.
Как считают исследователи, первое художественное произведение Толстого носит следы автобиографического и, более того, дневникового письма. Написанное от первого лица, «Детство» охватывает два дня в жизни героя-повествователя шаг за шагом, начиная с вставания с постели. И образ героя, и сюжет остаются неразвитыми. Более того, повесть заключает в себе подлинный материал из жизни Толстого. Однако это не автобиография, а псевдоавтобиография: повествователь и автор - это не одно и то же лицо[54]. Только наивный читатель (включая и тетушек Толстого) отождествлял повествовательное «я» с автором. Сам Толстой считал «Детство» не автобиографией, а художественной автобиографией, то есть литературным произведением в автобиографической форме. Один из исследователей Толстого так описал ситуацию: «Конвенции романа по крайней мере предоставляют автору запасной выход: лестницу, по которой автор может по собственной воле войти и выйти из
своего произведения»[55]. В своей первой повести Толстой начинает строить такие подмостки - повествовательную структуру, с помощью которой он может выйти из своего произведения. Несмотря на явные следы автобиографического (и даже дневникового) письма, повествовательное «я» - это не «я, Лев Толстой».
Опубликованная в сентябрьском выпуске «Современника» за 1852 год, повесть «Детство», подписанная инициалами, привлекла внимание к неизвестному автору. Тем временем молодому Толстому удалось вступить в армию, а после начала Крымской войны он оказался в центре боевых действий. Тем не менее он работал над продолжением, и «Отрочество» вышло в 1854 году. В 1855 году в «Современнике» начинает печататься серия его художественных очерков - «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года», привлекая все большее внимание. По жанровой принадлежности «Севастопольские рассказы» (или, как их называет Эйхенбаум, «Севастопольские очерки») «находятся на границе между репортажем и художественной прозой»: герои явно вымышленные, но читатель знает, что за ними стоит автор, который мог бы сказать: «я там был». (Причем Толстой экспериментирует с позицией от первого, третьего и даже второго лица.) Более того, рассказы оформлены как хроники, правда не дня, но месяца[56]. «Севастопольские рассказы» несут следы дневникового повествования.
Когда в 1855 году, после окончания войны, Толстой прибыл в Петербург, в тесном кругу русских авторов он был принят как состоявшийся писатель. В 1856 году в журнале «Современник» была напечатана статья ведущего критика Николая Чернышевского о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах», которая много способствовала репутации молодого автора. В 1857 году вышла повесть «Юность». В том же году Толстой предпринял путешествие по Франции, Швейцарии и Германии (включая и пешеходную экскурсию по стопам Руссо). Все это время он продолжал литературную работу. При этом после 1857 года Толстой все реже и реже писал в своем дневнике.
«И, кажется, больше никогда писать не буду» (1859): Толстой отрекается
от литературы
Весной 1859 года Толстой принял внезапное решение отказаться от литературы; он покинул Петербург и поселился в своем имении Ясная Поляна. Толстой переживал кризис. (Такие кризисы будут происходить на протяжении всей его жизни[57].) Толстой описал свое состояние - острое чувство религиозного и морального тупика - в письме к двоюродной тетушке Александре Андреевне Толстой. Он начал с попытки исповедания веры:
Убеждения человека, - не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, - трудно понять другому, и вы не знаете моих. <.. .> Попробую, однако, сделать мою profession de foi. (60: 293).
Он пишет об отпадении от веры (в возрасте четырнадцати лет) и об открытии (на Кавказе, где он жил в 1851-1854 годах), «что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого» (60: 293, апрель - май 1859). (В это время, как мы знаем из его дневника,
Толстой читал «Исповедание веры савойского викария» даже за обедом[58].) Он пишет о своем отчаянье: «Жить незачем. Вчера пришли эти мысли с такой силой. <.> Кому я делаю добро? кого люблю? Никого!» И тут же добавляет: «Я пишу вам это не для того, чтобы вы мне сказали, что это? что делать, утешили бы» (60: 294). От экзистенциального отчаянья он переходит к теме литературы: «Еще горе у меня. Моя Анна, как я приехал в деревню и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она уж напечатана <...>» (60: 295). Толстой имеет в виду повесть «Семейное счастие». В тот же день в письме к критику Василию Боткину он пишет о своей повести с тем же чувством отвращения и отчаянного стыда (используя идиоматику, уместную только при обращении к мужчине): «Василий Петрович! Василий Петрович! Что я наделал с своим „Семейным счастьем". Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры <. > я увидал, какое постыдное гавно, пятно, не только авторское, но человеческое - это мерзкое сочинение» (60: 296). Остается неясным, почему Толстой называет книгу «моя Анна» - героиню «Семейного счастия» зовут Мария[59].
По жанровой принадлежности «Семейное счастие» (1859) можно считать традиционным романом (хотя и коротким): в отличие от «Детства», «Отрочества» и «Юности», здесь имеются и герои, и традиционный сюжет семейного романа, и динамика утраченных иллюзий и примирения с жизнью. «Семейное счастие» - как и «Детство», «Отрочество» и «Юность» - написано от первого лица, но в этом случае Толстой не оставляет читателю никаких сомнений в том, что повествователь - это не автор («я» - это не Лев Толстой): роман написан от лица женщины. (В 1863 году Толстой написал повесть от лица лошади, «Холстомер», опубликованную только в 1885 году.) Воспользовавшись этим искусственным приемом, Толстой решительно отделил собственное «я» от условного «я», показав таким образом, что пишет литературу, но когда прочел корректуры, то со стыдом почувствовал искусственность формы и неловкость языка. (В более поздние годы Толстой описал «чувство эстетического стыда», которое он в сильнейшей степени испытывал «при художественной лжи»[60].)
Вскоре Толстой не только сообщил друзьям, что он, «кажется», больше никогда не будет писать, но и объявил о своем «отречении от литературы». Он писал Афанасию Фету: «Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать „как она его полюбила". Глупо стыдно» (60: 307, октябрь 1859). Он писал Борису Чичерину: «Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил. <...> Я признаюсь, что мое отречение от литературной (лучшей в мире) деятельности было и теперь очень иногда тяжело мне» (60: 315, октябрь - ноябрь 1859). (В том же письме он упомянул: «Хотел я было пофилософствовать с тобой о бессмертии души и о прочих, но на этом месте 3-го дня помешали мне <...>» [60: 316].) Через несколько месяцев он вновь объяснял Чичерину: «Самообольщения же так называемых художников <...> есть мерзейшая подлость и ложь. Всю жизнь ничего не делать и эскплуатироать труд и лучшие блага чужие за то, чтобы потом воспроизвести их - скверно, ничтожно, может быть, есть уродство и пакость.» (60: 327, 1 марта 1860). Он также отказался от участия в только что созданной организации для помощи писателям, Литературном фонде.
Что же делать? Ответ казался ясным: пахать землю и учить детей. Толстой решил жить в деревне и заниматься хозяйством и школой для крестьянских детей. Он писал Василию Боткину: «Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики» (60:
247, 4 января 1857)[61]. (Теперь - то есть в период подготовки реформ.) Тем не менее в это письмо была вложена небольшая художественная вещь, написанная в форме сна, однако она так и осталась ненапечатанной[62].
В письме к приятелю, Егору Ковалевскому, брату министра просвещения, Толстой поставил свое отрицание литературы с ее институциями в широкий социальный контекст:
Дело вот в чем. Мудрость во всех житейских делах <...> состоит не в том, чтобы знать, что нужно делать, а в том, - чтобы знать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России, мне кажется, что, как ни полезны телеграфы, дороги, пароходы <. > литература (со всем своим фондом), театры, Академия художеств и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока в России <...> учится 1/100 доля всего народонаселения (60: 328-329, 12 марта 1860).
С этими мыслями он решил посвятить себя делу народного образования.
После смерти брата Николая от чахотки, во время второго путешествия в Европу (в 1860-1861), кризис Толстого приобрел новый характер. Как он писал Фету, со смертью брата он узнал «жизнь, какова она есть» - «как самое отвратительное, пошлое и ложное состояние». Но что же делать?
Ну, разумеется, есть желание есть, ешь, есть бессознательное, глупое
желание знать и говорить правду, стараешься узнать и говорить. Это одно из мира морального, что у меня осталось, выше чего я не мог стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь (60: 358, 17 октября 1860).
В течение своей жизни Толстой пережил несколько кризисов, во время которых мысли о смерти и вере соседствовали с острым чувством социальной несправедливости, и всякий раз он писал о своем разочаровании в искусстве и высказывал намерение окончательно бросить изящную литературу.
В качестве альтернативы в 1859-1860 годах Толстой принялся учить крестьянских детей читать и писать в школе, которую он завел в своем имении. Кроме того, он издавал журнал «Ясная Поляна», публикуя дневниковые хроники («Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», 1861) и педагогические статьи («О народном образовании», 1862; «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?», 1862).
В статье «Кому у кого учиться писать» Толстой предлагает принцип взаимного обучения. (В этой связи он утверждает как «великое слово, сказанное Руссо»: «Человек родится совершенным», 8: 322.) Он описывает шаг за шагом, как двое крестьянских детей из его школы, Семка и Федька, пишут художественное произведение. (Их повесть напоминает по жанру «народные рассказы», которые сам Толстой будет в 1880-е годы писать для крестьянского чтения.)
Наблюдая за творческим процессом, Толстой испытывает смешанные чувства. С одной стороны, ему кажется странным и оскорбительным, что он, «автор „Детства", заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики», не только не мог помочь 11-летним полуграмотным мальчикам, но и «едва-едва мог следить за ними и понимать их» (8: 308). С другой - ему казалось, что, побудив крестьянских детей к литературному творчеству, он совершил преступление, сопоставимое с растлением малолетних:
...мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения (8: 307).
Что касается Семки и Федьки, то, увлекшись, они ненароком сожгли свое художественное произведение в камине.
Деятельность Толстого в народном образовании, как он ее описывает, полна противоречий: он приступил к делу, хорошо понимая и вредность, и даже преступность приобщения «чистой, первобытной души» к чтению, письму и, более того, к литературе.
В 1862 году (вскоре после того, как он опубликовал свои педагогические статьи) Толстой женился и оставил яснополянскую школу. Через некоторое время он вернулся к литературе и в 1863-1869 годах работал над «Войной и миром».
«О проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» (1870): Толстой снова и снова (1875) отказывается от литературы
В 1869-1870 годах, вскоре после окончания «Войны и мира», Толстой вновь решил уйти из литературы[63]. Он писал Фету: «Я, благодаря Бога, нынешнее лето глуп, как лошадь.
Работаю, рублю, копаю, кошу, о проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» (61: 236-237, 14 июня 1870). Писать он больше не будет, по крайней мере не будет писать так, как писал раньше: «я не пишу и писать дребедени многословной вроде Войны я больше никогда не стану» (61: 247, январь 1871).
Толстой вновь обратился к народному образованию - возобновил работу в яснополянской школе, снова вступил в педагогическую полемику и опубликовал составленную им «Азбуку» для крестьянского чтения (1872).
Однако в 1873 году он приступил к новому роману, «Анна Каренина». Следующий, решительный кризис в его жизни наступил в процессе работы над «Анной Карениной».
Весной и летом 1874 года Толстой писал своему новому другу, критику Николаю Страхову, что роман его стои'т и вовсе ему не нравится. Между тем он отвлекся на другую,
педагогическую работу, «в виде своей педагогической profession de foi»[64]. Это была вторая статья под названием «О народном образовании», опубликованная в 1874 году. Неоконченный роман долго еще мучил Толстого, но другие интересы все сильнее требовали его внимания:
Берусь теперь за скучную, пошлую Анну Каренину и молю Бога только о том, чтобы Он мне дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы опростать место - досуг мне очень нужный - не для педагогических, а для других, более забирающих меня занятий (1: 215, 25 августа 1875).
Напомню, что по странному совпадению во время кризиса 1859-1860 годов, описывая свою тогдашнюю повесть «Семейное счастие» как «постыдную гадость», он называл ее «моя Анна».
Сейчас, в середине 1870-х годов, он был разочарован и в роли писателя, подверженного авторскому тщеславию: «Мерзкая наша писательская должность - развращающая» (1: 259, 8-9 апреля 1876).
Осенью 1875 года Толстой перешел от педагогических занятий и (как он выразился) «педагогической profession de foi» к философским размышлениям о смысле своей жизни и смерти, к тому, чтобы определить свою религиозную веру, то есть к profession de foi в собственном смысле. Эта работа началась в переписке со Страховым, а затем последовала «Исповедь».
Вскоре после окончания «Исповеди» Толстой стал работать над статьей, которая (как он надеялся) окончательно определит его взгляд на искусство. Эта задача будет выполнена только через пятнадцать лет - в трактате «Что такое искусство?» (1897). В этом итоговом произведении по эстетическому вопросу Толстой объявит всю свою художественную продукцию «плохим искусством»[65].
Глава 2
«Сказать свою веру нельзя... Как сказать то, чем я живу <...> Я все-таки скажу»: Толстой в переписке с Н.Н. Страховым
(1875-1879)
«Что есть моя жизнь, что я такое»: философский диалог между Толстым и Страховым - «Чтобы вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее...» - В катехизической форме, в форме беседы - Расскажите, чем вы жили и живете - Экскурс: Руссо и его Profession de foi - Толстой пишет «Исповедь», Страхов продолжает исповедоваться Толстому
В огромном корпусе писем Толстого его переписка с Николаем Страховым в 1875-1879 годах занимает особое место[66]. Литературный критик и автор популярных трудов по философии Николай Николаевич Страхов (1828-1896) принимал заметное участие в интеллектуальных дебатах своего времени. В частной жизни ему не раз пришлось выступать в качестве собеседника, редактора и конфидента - проводника идей и посредника между различными мнениями и различными людьми. (Так, он был связующим звеном между
Толстым и Достоевским, которые никогда не встречались[67].)
Страхов рад был содействовать Толстому своей обширной эрудицией в вопросах философии и богословия. (Используя свое служебное положение библиотекаря в санкт-петербургской Публичной библиотеке, он также снабжал Толстого книгами.) Более того, он рекомендовал себя как человека, обладающего особой способностью и потребностью искренне входить в интересы и мысли другого человека (П 1: 207)[68]. Страхов признался Толстому, что давно уже мучительно искал «дела» в жизни (П 1: 207, 22 апреля 1875). Толстой откликнулся: «Немножко мне открылось Ваше душевное состояние, но тем более мне хочется в него проникнуть дальше» (П 1: 211, 5 мая 1875). Он подозревал, что оба они искали веры. (Оба давно хотели посетить Оптину пустынь и говорить со старцами.) В сентябре они встретились в Ясной Поляне, и Толстой почувствовал душевное родство между ними. Оба они не могли слиться ни с «верующими христианами», ни с «отрицающими материалистами». В письме от 26 октября 1875 года Толстой советовал Страхову «уяснить и изложить» его «религиозное мировоззрение», чтобы «помочь тем, которые в том же бедственном одиночном состоянии». Со своей стороны, Толстой чувствовал, что в этом состоял и его «долг», и его «влечение сердца» (П 1: 221-222). Страхов ответил, что последует совету и сделает, что сможет (П 1: 224, 4 ноября 1875). В ответном письме Толстой бросил своему собеседнику вызов: «вызываю на переписку». Он добавил: «Боже мой, если бы кто-нибудь за меня кончил А. Каренину!» (П 1: 226, 8-9 ноября 1875). (Работа над романом шла туго, с большими перерывами.)
«Что есть моя жизнь, что я такое»: философский диалог между
Толстым и Страховым
По просьбе Толстого Страхов начал диалог. Опираясь на свое философское образование (что явно привлекало Толстого), он использовал три вопроса Канта, сформулированные в «Критике чистого разума»: что я могу узнать? что я должен делать? на что я могу надеяться? (A 805/B 833). Для Страхова главным вопросом был второй: «что делать», или, «в переводе на христианский язык: как спасти свою душу» (П 1: 228, 16 ноября 1875). Однако для него это был вопрос не о религиозном спасении, а о возможности активной деятельности.
Толстой ответил, что его всегда занимал один последний вопрос: «На что я могу надеяться?» Для него это был в первую очередь вопрос о будущей жизни, о бессмертии души. Он также полагал, что все три вопроса нераздельно связаны в один: «что такое моя жизнь, что я такое?» (П 1: 210, 30 ноября 1875).
За двадцать лет до этого в своем дневнике молодой Толстой спрашивал себя: «Что я такое? <. > Что такое моя личность». Тогда он отвечал на этот вопрос в биографических и психологических терминах («Один из четырех сыновей отставного Подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей. <.> Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован», 47: 9). Сейчас же это был вопрос не о его личности, то есть свойствах характера и положении в жизни, а о природе человека и его отношении к Богу, и он требовал не биографического, а философского или богословского ответа. Добавив, что может показаться странным и легкомысленным отвечать на этот вопрос «на двух почтовых листиках бумаги», Толстой заявил, что тем не менее может и должен это сделать и сделал бы, если бы писал не письмо «близкому человеку», но «свою profession de foi, зная, что меня слушает все человечество» (П 1: 230).
Затем он сделал длинное отступление о методе. Есть научный метод, убеждающий путем логического изложения результатов знания, но только одна философия - настоящая философия, имеющая задачей ответить на вопросы Канта, - действует не логическими выводами, а чем-то иным, и только гармоничность соединения в одно целое таких нелогических понятий может убедить, и при этом «убедительность достигается мгновенно, без выводов и доказательств». Толстой писал длинно, сумбурно, надеясь, что его собеседник поможет разобраться «в этом сумбуре» (П 1: 234-235, 30 ноября 1875). Как кажется, перед Толстым стояла задача не столько поисков веры, сколько поисков методов определения своей веры.
К этому письму был приложено (написанное рукой переписчика) предисловие к философскому сочинению, озаглавленное «Для чего я пишу?». Толстой начал от первого лица и в биографическом ключе: «Мне 47 лет. <. > я чувствую, что для меня наступила старость». Он писал аллегорическим языком духовной автобиографии: как путник, он поднимался выше и выше «на таинственную гору», но не нашел того, что искал, и начал спуск туда, откуда он вышел. Теперь он вступал в старость, и пред ним была смерть. Отвергнув мысль, что жизнь - это «пустая и глупая шутка» («то сознание, из которого Декарт пришел к доказательству существования Бога»), он стал отыскивать иной взгляд на жизнь, «при котором уничтожилась бы кажущаяся бессмыслица жизни». Итак, «рассказать о том, каким образом из состояния безнадежности и отчаянья я перешел к уяснению для себя смысла жизни - составляет цель и содержание того, что пишу» (П 1: 236-237, 30 ноября 1875). (Через несколько лет в «Исповеди» Толстой воспользуется тем же языком, теми же метафорами.)
Здесь рукопись прерывается. Толстой продолжал свое письмо: «Я не мог дать переписать всего». Он опасался, что «то, что следует, привело бы во искушение переписчика». В том, что следовало, он рассуждал, что удовлетворительный ответ на такие вопросы может дать только религия, но «нам невозможно с нашими знаниями верить в положения религий» (П 1: 237).
Толстой с нетерпением ждал ответа - он ждал от своего собеседника возражений, чтобы «вам и себе показать <...> гармоничность и законность сопоставления понятий моего религиозного (философского воззрения)» (П 1: 239, 30 ноября 1875).
Страхов ответил, что в своем отступлении о методе Толстой, как кажется, говорит, что наука использует «анализ» (деление целого на составные части), в то время как метод философии - «синтез» (П 1: 240-241, 25 декабря 1875). Толстой не согласился с подставлением слов «анализ» и «синтез» под то, что он хотел сказать. Он добавил, что эти «злодейские слова», вместе со словами «субъективный», «объективный», «индуктивный», «дедуктивный», «наделали много бед» (П 1: 243, 1-2 января 1876). В их философской переписке затем наступил перерыв (обмен обычными, «дружескими» письмами продолжался); Толстой вынужден был вернуться к корректуре «Анны Карениной».
Толстой отправил свое второе философское письмо только 15 февраля 1876 года, приложив к нему очерк «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни»[69]. Обратившись к другому способу изложения (не духовной автобиографии, а философскому рассуждению), он также начал со слова «я» в составе картезианской формулы (которую тут же зачеркнул): «Я существую» (17: 340). (Возможно, образцом послужили слова Руссо в «Исповедании веры савойского викария»: «Mais qui suis-je? <...> J'existe <...>» [70] .) Зачеркнув написанное, Толстой попытался подойти к проблеме с точки зрения своих антагонистов, материалистов: «я живу и по опыту знаю, что и я умру» (17: 351-352). За этим следовало длинное рассуждение о различии между живыми существами и мертвым веществом (он заимствовал эту тему из книги Страхова «Мир как целое» [1872], написанной
в форме писем[71]). Это рассуждение привело Толстого к необходимости определить понятие души. Но как определить душу в категориях мышления? В конце концов (после многих страниц) Толстой вернулся к начальной точке: «Не знаю, в какой степени точно выражение Декарта: я мыслю, потому я живу; но знаю, что, если я скажу: я знаю прежде всего себя: то, что я живу, - то это не может быть не точно» (17: 351, курсив Толстого). Толстой ждал подробного ответа от Страхова.
Страхову было нелегко вести философский диалог с человеком, которого он боготворил. После долгого промедления он ответил - поставив попытку Толстого в широкий контекст философского знания:
Ваше письмо есть новая попытка пойти по тому же пути, по которому шли Декарт, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр. Они точно так же начинали из себя, от Cogito, ergo sum, от я, от сознания воли, - и отсюда выводили понятие об остальном существующем (П 1: 256).
Идя по этому пути, продолжал Страхов (пути посткартезианской философии), мы не сможем достичь того, чего оба желаем, - того, что лежит вне разума и вне субъекта. Таким образом, всегда окажется, что человек, от которого мы начали, или «сознательное я», и есть предел, до которого дошло все сущее. Страхов возлагал огромные надежды на Толстого и его поиски ответов на главные вопросы, но он начал сомневаться в действенности принятого Толстым философского способа рассуждения:
Ваши попытки меня и прельщают и пугают. Если Вы потерпите неудачи, если почувствуете сомнения, то для меня они будут страшнее собственных неудач и сомнений. Потому что в Вас я верю; я жду от Вас откровений, как те откровения, которые нашел у Вас в такой силе и множестве в Ваших поэтических произведениях. <...> Вы пытаетесь <...> привести Ваши взгляды в формулы обыкновенного знания. Я заранее уверен, что результаты, которые Вы получите, будут в сто раз беднее содержания Ваших поэтических созерцаний. Посудите, например, могу ли я взгляд на жизнь, разлитый в Ваших произведениях, не ставить бесконечно выше того, что толкует о жизни Шопенгауэр, или Гегель, или кто Вам угодно? (П 1: 257, 8 апреля 1876).
Высказав сомнения в способности собеседника найти откровения вне художественной формы, он перевел разговор на «Анну Каренину»: «Анна Каренина возбуждает такое восхищение и такое ожесточение, какого я не помню в литературе» (П 1: 258). (Главы 7-20 части пятой вышли в свет в журнале «Русский вестник» в апреле.)
Толстой давно уже просил Страхова перестать хвалить его роман. Что касается своих попыток философствовать, то Толстой понимал, что он выражается неясно, но надеялся, что его собеседник поймет «и дурно выраженное» (П 1: 261). Он сделал еще одну попытку определить тот принцип, который объемлет и живое и неживое, и «я» и «не-я»: «Бог живой и Бог любовь» (П 1: 262, 14 апреля 1876).
Страхов немедленно сел за ответ, но отправил свое «философское письмо» только 8 мая 1876 года (П 1: 271). Он вновь предпринял попытку поставить неясные мысли Толстого в контекст профессиональной философии:
Вы видите в мире Бога живого и чувствуете его любовь. Теперь мне ясна Ваша мысль, и сказать Вам прямо, я чувствую, что ее можно развить логически в такие же строгие формы, какие имеют другие философские системы. Это будет пантеизм, основным понятием которого будет любовь, как у Шопенгауэра воля, как у Гегеля мышление (П 1: 263).
Толстой не ответил. Он вернется к философской переписке только шесть месяцев спустя (П 1: 291, 12-13 ноября 1876). Летом 1876 года Страхов дважды посетил Ясную Поляну, и они продолжали свое философствование с глазу на глаз.
Эпистолярный философский диалог зашел в тупик. Другая тема теперь заняла главное место в переписке Толстого и Страхова: «Анна Каренина».
«Чтобы вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее...»
В течение всего года Толстой был раздражен призывами Страхова вернуться к «Анне Карениной». Со своей стороны, он упрекал Страхова в том, что тот продолжал заниматься литературной критикой: «Тут вы платите дань, несмотря на ваш огромный и независимый ум, дань Петербургу и литтературе» (П 1: 244, 1-2 января 1876; курсив Толстого; по-видимому, от французского «litt^rature»). Он просил Страхова показать истинную дружбу: или не хвалить роман, или написать про все, что в нем дурно. В этом контексте Толстой заметил: «Мерзкая наша писательская должность - развращающая» (П 1: 259, 8-9 апреля 1876). Мимоходом он упомянул, что думает оставить роман без завершения (П 1: 259).
Это так взволновало Страхова, что он обратился к Толстому со страстным призывом:
Вы теряете Ваше обыкновенное хладнокровие и, кажется, желаете от меня совета - прекратить печатанье Анны Карениной и оставить в самом жестоком недоумении тысячи читателей, которые все ждут и все спрашивают, чем же это кончится? <...> Вы меня привели в такое волнение, как будто мне самому приходится писать конец романа (П 1: 264-265, апрель 1876).
Он также упрекнул Толстого за то, что тот не отвечал на высказанные им в письмах суждения об «Анне Карениной», спрашивая, правильно ли он понял «идею» романа (П 1: 264)[72]. Толстой решил наконец принять этот вызов: «ваше суждение о моем романе верно, но не все - т. е. все верно, но то, что высказали, выражает не все, что я хотел сказать» (П 1: 267).
Толстой затем сформулировал свое представление о том, что составляет смысл романа:
Если же бы я хотел сказать словами все то, что я имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман, тот самый, который я написал, сначала. <...> Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно - словами описывая образы, действия, положения (П 1: 267).
В качестве примера он описал свою работу над сценой самоубийства Вронского (которая чрезвычайно понравилась Страхову). Глава была уже закончена, но когда Толстой стал поправлять ее, «совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться» (П 1: 267, 26 апреля 1876). Если верить Толстому, герой вышел из-под контроля автора. Толстой затем обрушился на литературных критиков: «И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить qu'ils en savent plus long que moi» (П 1: 267-268, 26 апреля 1876).
Литературоведы двадцатого века видят в этой (часто цитируемой) формуле утверждение превосходства словесного искусства над другими формами выражения - способности литературы создавать неисчерпаемые смыслы и, может быть, даже выразить невыразимое. Но в то самое время, когда Толстой создал эту формулу, он собирался оставить литературу, оставить «Анну Каренину», и старался овладеть другой формой выражения - философским рассуждением, которому доступны другие задачи - определить сущность человека и человеческой жизни по отношению к Богу. В этом контексте можно прочесть слова Толстого и иначе - как признание писателя в неспособности ясно выразить свою мысль и свою интенцию. В это время ему хотелось не продолжать сражаться с мучительными трудностями художественного выражения, а обратиться к другому методу - такому, как метод истинной философии, который позволил бы ему сказать то, что он хочет, и найти такую форму, в которой «убедительность достигается мгновенно».
В ответ на настойчивые призывы Страхова вернуться к «Анне Карениной» Толстой, в свою очередь, призывал его бросить литературу и обратиться к философии: «Бросьте литературу совсем и пишите философские книги. Кому же писать? Кто же скажет, что мы думаем?» (П 1: 293, 12 ноября 1876). Но из собственного опыта Толстой знал, что трудность состоит в том, как сказать то, что думаешь, в художественной ли, в философской или в какой-нибудь другой форме. В то время как Страхов умолял его не оставить в недоумении читателей, Толстой, автор, сам не знал, что он хотел сказать и чем же это кончится. Обращаясь к своему читателю и критику, Толстой ворчал: «Чтобы вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее и избавить меня от этого Дамоклова меча» (П 1: 276, 31 июля 1867).
После апрельского выпуска журнала «Русский вестник» (в котором роман был сериализован с января 1875 года) публикация «Анны Карениной» приостановилась. В конце июля читатели все еще ждали следующего выпуска. Роман оборвался после наиважнейшей главы, описывающей смерть брата Левина, Николая - единственной главы романа, имевшей заглавие: «Смерть». С этого момента автобиографический материал будет играть все большую роль в романе (описание смерти Николая заключает в себе, по мнению исследователей, конкретные детали из жизненного опыта самого автора, смерть его брата Дмитрия в 1856-м и Николая в 1860 году). Более того, Толстой все больше использовал в романе опыт сегодняшнего дня - в образе Левина проявляются черты его настойчивых мыслей о смерти и о вере.
Когда Толстой наконец закончил роман (в апреле 1877 года), то столкнулся с трудностями при издании заключительной части, и это еще более восстановило его против литературы как социального института. Эта история хорошо известна - издатель и редактор «Русского вестника» Михаил Катков отказался печатать эпилог романа (опасаясь реакции цензуры на высказанные героями критические суждения об участии России в Балканской войне). Вместо эпилога издатель поместил без ведома автора короткую заметку от редакции: «Что случилось по смерти Анны Карениной». Толстого это взбесило. Эпилог, в котором его автобиографический герой Левин подошел к невыразимой словами вере, был особенно важен для него. (В этом отношении характерна положительная реакция Толстого на отзыв читателя, который пришел в «неописуемый восторг» по поводу «философии Льва Николаевича»: он «сделал поворот в своих мыслях, прочитав философствования Левина»[73].) Толстой поручил Страхову печатание эпилога в виде отдельной брошюры, а в дальнейшем и заботы о публикации романа в виде отдельной книги (в которой эпилог стал самостоятельной, восьмой частью романа). В этом смысле Страхов кончил-таки «Анну
Каренину» за Толстого[74].
После завершения романа, в июле 1877 года, Толстой и Страхов наконец предприняли давно задуманное паломничество в Оптину пустынь, к старцам (которые наставляли в
вопросах веры и жизни приходивших в монастырь мирян)[75]. Толстому особенно понравился
отец Пимен, который заснул во время ученой беседы о вере[76].
Но при всем том, что было сказано и сделано, Толстой продолжал свои отчаянные поиски веры. Левин (герой, фамилия которого образована от имени автора) нашел веру, а именно (перефразируя последние слова романа) то «чувство», которое «незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе». Но в то время как герой, Левин, принял, что вера - это «тайна, для меня одного нужная, важная и невыразимая словами», автор, Лев Толстой, продолжал свои отчаянные попытки выразить сущность веры словами, и не только для себя, но и для других. В самом деле, при всем, что было общего между автором и героем, между ними есть серьезное различие: Левин не написал ни «Войны и мира», ни «Анны
Карениной»[77]. И если помещик Левин мог принять веру как нечто нужное для него одного и невыразимое словами, то Толстой - человек, который, даже когда он писал письмо близкому человеку, чувствовал себя, как если бы он оглашал свою profession de foi, зная, что его слушает все человечество, - этого сделать никак не мог (П 1: 230).
В катехизической форме, в форме беседы
Как Толстой знал, имеются и общепринятые формы для выражения веры. В ноябре 1877 года, вскоре после того, как он закончил «Анну Каренину», Толстой слышал, как священник давал урок катехизиса его детям. Это было так «безобразно» (Толстой писал Страхову), что он решил сам «изложить в катехизической форме то, во что я верю». Эта попытка еще раз показала ему, как трудно говорить о вере - и даже «невозможно» (П 1: 374, 6 ноября 1877). В бумагах Толстого имеется незаконченный текст под названием «Христианский катехизис» (17: 363-368). Толстой начал с формулы собственного сочинения: «Верую во единую истинную святую церковь, живущую в сердцах всех людей и на всей земле <...>» (17: 363). (Эти слова напоминают «Исповедание веры савойского викария» Руссо - «религии сердца», не нуждающейся в догматике.) Главный вопрос, «Что нужно для спасения души?», получил ответ: «Ясное определение того, во что мы верим <...>». Но следующий за тем вопрос, «Что есть вера?», привел Толстого в тупик (17: 364).
Существует черновик и другого незаконченного сочинения, «Определение религии-веры». В этом отрывке Толстой ввел новое понятие - «религия-вера»: «слово религия-вера есть слово понятное и несомненное для всех верующих <.> (17: 364). Но для неверующих или для тех, кто полагает, что не имеет религии, слово это требует точного определения» (17: 357). Но ясное определение явно не давалось Толстому: написав полстраницы, он оборвал и смял листок бумаги (именно в таком виде этот текст был найден в архиве Толстого [17: 731])^.
После этих неудач Толстой приступил к интенсивному чтению ученых трудов по вопросам религии. Страхов, используя свое служебное положение в Публичной библиотеке, посылал в Ясную Поляну книги. В декабре 1877 года Толстой писал ему, что весь ушел в книги; среди них были сочинения немецких и французских авторов, таких как Давид Фридрих Штраус, Эрнест Ренан, Фридрих Макс Мюллер, Эмиль Бюрнуф (который писал о индуизме и буддизме), а также Владимир Соловьев (1: 385). Толстой спрашивал Страхова о «Критике практического разума» Канта, а также о Лао Цзы и о трудах о религиях Индии и Ирана. Через две недели он упомянул, что у него так много книг, что он в них теряется (П 1: 389, 3 января 1878).
20 декабря 1877 года Толстой предпринял еще одну попытку определить сущность веры, прибегнув на этот раз к форме философского диалога. В диалоге «Собеседники» семеро участников, занимающих различные позиции (они соотнесены с прототипами среди друзей Толстого или известных философов): «здоровый идеалист философ» («Фет - Страхов - Шопенгауэр - Кант»); «естественник» («Вирхов - Dubois Raimond - Тиндаль - Милль»); «позитивист» («Бибиков»); «поп умный, отрицающий знание..»; «тонкий диалектик, джентельмен, софизмами оправдывающий веру» («Хомяков - Урусов»); «монах, отец Пимен. (спит)» и «я» («я» носит имя «Иван Ильич»)^.
В ходе беседы собеседники рассуждают о том, можно ли обосновать веру различными типами знания - естественной наукой, чистым разумом (по Канту), «диалектическим разумом» и опытом. «Иван Ильич» («я») объясняет «различие способа передачи», объявляет «субъективно-этические основания» главнейшим фактором, утверждает, что сущность религии вытекает из ответа на вопрос «Что я такое?», затем робеет и в конце концов «находится в жалком положении» (17: 371). На этом диалог обрывается.
Толстой вернулся к своему незаконченному сочинению ровно через год, 20 декабря 1878 года, и испробовал другую структуру - разговор между двумя собеседниками («И.» и «К.»). Но после нескольких страниц он вновь остановился, добавив (как бы обращаясь к самому себе - автору, а не герою): «Хотел прямо в форме беседы высказать пришедшую мне нынче мысль и запутался» (17: 373). Он продолжать писать в форме дневника, датируя отдельные записи (от 20 до 23 декабря). Но и этот проект остался незаконченным.
В апреле 1878 года Толстой писал Страхову, что на Пасху после долгого перерыва вернулся к соблюдению обрядов и предписаний православной церкви. Но это было не все: «я нынче говел и стал читать Евангелие и Ренана Vie de J^ sus.» (П 1: 429). Но он ни в чем не находил облегчения. Евангелие и церковь, вместо того чтобы говорить об учении Христа, настаивали на чудесах, в которые нельзя было верить. Ренан, напротив, представил Христа как человека, и этот человек «непременно потел и ходил на час» (П 1: 430). И та и другая крайность были неприемлемы для Толстого.
Итак, в течение более трех лет Толстой пытался в разных формах уяснить свою веру, но все его попытки - философская переписка с другом-единомышленником, философское сочинение, катехизис, философский диалог в литературной форме - казались ему неудовлетворительными. Его собеседник Страхов был вовлечен во все эти попытки, и Толстой описывал ему сомнения в своей способности определить веру, трудности с окончанием «Анны Карениной», разочарование в литературе и отчаянье.
Время от времени он писал о своих исканиях и другому постоянному корреспонденту - Александре Андреевне Толстой. В течение многих лет он обменивался с ней откровенными письмами, в которых религия занимала большое место. В письме от 5-9 февраля 1877 года он описал свои отношения со Страховым:
У меня есть приятель, ученый, Страхов, и один из лучших людей, которых я знаю. Мы с ним очень похожи друг на друга нашими религиозными взглядами; мы оба убеждены, что философия ничего не дает, что без религии жить нельзя, а верить не можем. И нынешний год летом мы собираемся в Оптину пустынь. Там я монахам расскажу все причины, по которым не могу верить (62: 311).
Это письмо заключает поразительное признание: и Толстой, и его ученый собеседник не только не могли уяснить свои религиозные взгляды - оба они не могли верить. (Позже, в 1880 году, Толстой обратился к Александре Андреевне с предложением обменяться исповеданиями веры - об этом речь пойдет ниже.)
Расскажите, чем вы жили и живете
В январе 1878 года Толстой включил в письмо к Страхову своего рода краткий отчет с подзаголовком «Об искании веры». Вновь обратившись к кантовским вопросам (которые в ноябре 1875 года открыли их переписку), он сделал решительное заключение о невозможности выразить сущность человека посредством разума, то есть словами:
Разум мне ничего не говорит и не может сказать на три вопроса, которые легко выразить одним: Что я такое? Ответы на эти вопросы дает мне в глубине сознания какое-то чувство. Те ответы, которые мне дает это чувство, мутны, неясны, невыразимы словами (П 1: 399).
Толстой добавил, что не он один мучим этими вопросами, а «все жившее человечество в каждой душе мучимо было теми же вопросами и получало те же смутные ответы в своей душе»: «Ответы эти - религия» (П 1: 399).
«На взгляд разума», продолжал Толстой, эти ответы бессмысленны: «Бессмысленны даже по тому одному, что они выражены словом. <.> Как выражение, как форма они бессмысленны, но как содержание они одни истинны» (П 1: 399). В этой замечательной формуле Толстой отвергает словесную форму выражения как таковую. Но как же преодолеть невозможность выразить, «что я такое», в форме, понятной разуму? Как человеку обнять истину, невыразимую словами? Толстой переходит к форме диалога, беря на себя и роль своего собеседника: «Но вы скажете: поэтому и ответов не может быть. Нет, вы не скажете этого <...>». Он убежден, что его адресат знает, что «ответы есть, что этими ответами только живут, жили все люди и вы сами живете»» (П 1: 399). Но ему кажется, что Страхов не понимает вот что:
На эти вопросы с тех пор, как существует род человеческий, отвечают люди не словом, орудием разума <...>, а всею жизнью, действиями, из которых слово есть одна только часть (П 1: 399).
Не надеясь больше на силу слова, в конце письма Толстой выражает надежду, что Страхов поймет, «несмотря на неточность моих выражений, мою мысль» (П 1: 400).
Страхов ответил, что не разделяет надежды Толстого на религию (он даже находил Евангелие неясным) (П 1: 402, 3 февраля 1878). Толстой начал понимать разницу между ними: «вижу, что мой путь - не ваш путь» (П 1: 405, 7 февраля 1878). Два месяца спустя Толстой выразил свое разочарование в собеседнике, который как будто не видит настоящей дороги (П 1: 423, 8 апреля 1878). Страхов охотно согласился с критикой: «Да, таков я» (П 1: 428, 11 апреля 1878). Он также сообщил, что, продолжая поиски, перебирает разные взгляды людей, древние и новые, на религию. Толстой ответил, что, перебирая чужие взгляды, «лишаешься согласия с самим собою» (П 1: 429). Затем он бросил Страхову новый вызов:
Вы прожили 2/3 жизни. Чем вы руководились, почему знали, что хорошо, что дурно. Ну вот это-то, не спрашивая о том, как и что говорили другие, скажите сами себе и скажите нам (П 1: 429, 17-18 апреля 1878).
С этим предложением Толстой, как кажется, предпринял новую попытку определить, «что я такое». Но какую именно форму рассказа о себе он имел в виду?
Это осталось неясным Страхову. В ответном письме он перефразировал вопрос Толстого: «Вы спрашиваете меня: как же я прожил до сих пор?» В ответ он писал о своей неспособности активно участвовать в жизни: «А вот как: я никогда не жил как следует. В эпоху наибольшего развития сил (1857-1867) я не то что жил, а поддался жизни. <...>». Страхов закончил словами: «Вот вам моя исповедь <...>» (П 1: 432-433).
Но такой ответ не удовлетворил Толстого. Он решил отложить объяснение до встречи, но дал понять, что речь идет о вере - вернее, неверии Страхова:
О предмете нашей переписки надеюсь, что переговорим. Коротко сказать, что мне странно, почему вы неверующий. И это самое я говорил, но, верно, неясно и нескладно (П 1: 434, 5-6 мая 1878).
Не дожидаясь встречи, Толстой предпринял и дальнейшие попытки добиться своего, уклоняясь, однако, от ясного изложения поставленной задачи: «Я пристаю к вам с нелегким: дайте мне ясный ответ, откуда вы знаете то, чем руководились и руководитесь в жизни?» (П 1: 439, 23-24 мая 1878). Между собеседниками возникло «странное недоразумение» (П 1: 439).
В следующем философском письме Толстой отозвался на недавно вышедшую книгу Страхова «Об основных понятиях психологии» (1878). (Слово «психология» понимается здесь буквально - изучение душевной жизни человека.) Страхов начал с Декарта и его
положения «Ego cogito, ergo sum» (именно в этой форме)*80*. (Напомним, что то же сделал Толстой в неоконченном очерке «О душе.», который он вложил в одно из своих первых философских писем к Страхову.) Едва ли будет преувеличением сказать, что аргумент всей книги исходит из попытки Страхова по-другому истолковать (или даже по-другому перевести) формулу, которая легла в основу всей западной философии. Обыкновенно слову cogito приписывают буквальный смысл (рассуждал Страхов), а именно «мыслю». Немецкие историки философии особенно настаивают на этом, так как понятие мышления играет главную роль в немецкой философской традиции. Декарт же (продолжал Страхов) подразумевал под словом cogito всю совокупность психических субъективных явлений, то есть то, что мы называем душевной жизнью, или душой. Следовательно, формулу «Ego cogito, ergo sum» можно понимать в том смысле, что мое существование есть прежде всего моя душа.
Страхов взялся определить понятие души и (в отличие от Толстого в его неудавшемся очерке «О душе.») сделал это без долгих рассуждений: «Душой я называю здесь пока <.> просто самого себя, насколько я обладатель дознанного мною субъективного мира <...>». Совокупность всех психических явлений индивида «и будет моя душа, мое я».
С этой точки зрения Страхов подверг критике понятие субъекта («я») и в немецкой («идеалистической») философии, и в «эмпирической психологии» (он имел в виду английскую традицию, от Локка, Беркли и Юма до Джеймса Милля и Джона Стюарта Милля, а также и современную физиологию). В конце книги Страхов пришел к заключению, что вся система западноевропейской философии и психологии является неадекватной тому, что составляет подлинный объект изучения, а именно не мысль, а душа, жизнь души, как о том учил еще Декарт*81*.
Толстой внимательно прочел брошюру Страхова («и не раз и не два, а всю исшарил по всем закоулкам»). Он похвалил автора за то, что тот впервые показал и ложность идеализма Канта и Шопенгауэра, и ложность материализма, и, более того, «как будто нечаянно» определил душу. И тем не менее Толстой чувствовал, что в целом Страхов на ложном пути:
Заслуга ваша в том, что вы доказали, что философия - мысль - не может дать никакого определения этим основам духовной жизни, но ошибка ваша в том, что вы не признаете того, что основы (если они - основы) необходимо существуют <.> и такие, которых мы - по вашему же определению - разумом, вообще своей природой, ниоткуда взять не можем, и которые поэтому даны нам. В этом-то смысле я спрашивал вас: чем вы живете, - и вы неправильно, шутя о важнейшем, говорите: я не живу (П 1: 447, 29 мая 1878). Толстой вновь свел разговор на свой вопрос и снова уклонился от того, чтобы ясно выразить, что же он имел в виду под вопросом «чем вы живете?».
Тем временем Толстой сам предпринял попытку рассказать о своей жизни. В мае 1878 года он начал работать над сочинением под названием «Моя жизнь», но потерпел неудачу. После нескольких страниц, посвященных воспоминаниям раннего детства, работа прекратилась. («Моя жизнь» и другие автобиографические опыты Толстого будут подробно рассмотрены в Главе 4 настоящей книги.)
Но чего же хотел Толстой от собеседника? Заметим, что он спрашивал, не как Страхов прожил до сих пор (как его понял Страхов), а «чем вы жили и живете?». Эта фраза неоднократно появляется в более поздних сочинениях Толстого. Ясный ответ на вопрос «чем вы жили?» имеется во вступлении к переводу и изложению Евангелия (около 1880 года): «Приведенный разумом без веры к отчаянию и отрицанию жизни, я, оглянувшись на живущее человечество, убедился, что это отчаянье не есть общий удел людей, но что люди жили и живут верою» (24: 9). (В 1881 году Толстой озаглавил одну из своих притч «Чем люди живы».) Как кажется из этих текстов, Толстой имел в виду, что рассказать, как человек прожил свою жизнь, означает рассказать о своей вере (и наоборот, рассказать о своей вере - это рассказать о том, чем человек жил и живет). Но от ясного изложения своей мысли он пока уклонился.
Разговор между Толстым и Страховым затем продолжался при личной встрече в августе 1878 года. По возвращении Страхов написал Толстому, что на пути из Ясной Поляны он решил принять вызов Толстого и написать свою жизнь, но не «биографию»: «НапишуВместо исповеди и посвящу Вам» (П 1: 458, 29 августа 1878). Через две недели Страхов подтвердил свое намерение, высказав новые сомнения:
А какую цену, какое значение имеет моя жизнь? <.> Мне трудно говорить об этом предмете, и вот почему я не могу писать автобиографии. Каким тоном ее писать? Кажется, я бы всего сильнее выразил чувство отвращения.
И с отвращением читаю жизнь свою, Я трепещу и проклинаю (П 1: 463).
(Страхов цитирует известные строки из стихотворения Пушкина «Воспоминание».) Он также повторил, что думает о Толстом как единственном адресате для своей не-биографии: «Но для Вас я готов бы это написать, а для других - не вижу цели <...>» (П 1: 463, 14 сентября 1878). Но Толстой не откликнулся на это предложение. Сам он находился осенью 1878 года в таком состоянии, что не мог даже ответить на письмо: «я не находился сам в себе <...>» (П 1: 475, 27 октября 1878).
Год спустя Толстой и Страхов все еще обсуждали план обменяться определениями своей веры и своей жизни. На этот раз Толстой прямо призывал своего корреспондента «написать свою жизнь», что он и сам собирался сделать, и, вторя Страхову (и Пушкину), упомянул, что отвращение и есть самый уместный модус для такого рассказа: «Напишите свою жизнь; я все хочу то же сделать. Но только надо поставить - возбудить к своей жизни отвращение всех читателей» (П 2: 540, 1-2 ноября 1879). Как кажется, он имел в виду не только рассказ о вере, но и исповедание в грехах.
В ответ Страхов вновь поделился с Толстым чувством неуверенности:
О жизни своей мне судить очень трудно, не только о ближайших, но и о самых далеких событиях. Иногда жизнь моя представляется мне пошлою, иногда героическою, иногда трогательною, иногда отвратительною, иногда несчастною до отчаянья, иногда радостною. <.> Эти колебания составляют для меня самого немалое огорчение: я сам от себя не могу добиться правды! И это бывает со мною не только в воспоминаниях, но и каждый день во всяких делах. Я ничего не чувствую просто и прямо, а все у меня двоится (П 2: 541, 17 ноября 1879).
Толстой ответил резко. Он принял амбивалентные суждения Страхова о себе за неспособность различать между добром и злом и, возможно, за признание в неверии:
Вы пишете мне, как бы вызывая меня. Да я и знаю, что вы дорожите моим мнением, как я вашим, и потому скажу все, что думаю. <.> Чужое виднее. И вы мне ясны. Письмо ваше очень огорчило меня. Я много перечувствовал и передумал о нем. По-моему, вы больны духовно. <.> И вам писать свою жизнь нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно было в ней. А надо знать (П 2: 545-546, 19-22 ноября 1879).
Но он понял, что зашел слишком далеко, и добавил, обращаясь как будто к самому себе: «Должно быть не пошлю это» (Там же).
Это письмо действительно осталось неотосланным. (Вместо этого 22 или 23 ноября Толстой послал короткую записку; о ней - ниже.)
Около четырех лет прошло с тех пор, как Толстой, которому «немножко открылось» душевное состояние своего друга, написал, что вызывает его на переписку (П 1: 211, 1: 226).
В декабре 1879 года он подверг переоценке свою надежду, что обмен между двумя родственными душами поможет обоим определить себя и свою веру: «Я рад был заглянуть вам в душу, так как вы открыли; но меня огорчило то, что вы так несчастливы, неспокойны. Я не ожидал этого» (П 2: 550, 11-12 декабря 1879). Он не скрывал своей уверенности в неспособности собеседника должным образом рассказать свою жизнь, не скрывал сознания своего превосходства (превосходства внешней точки зрения на человека): «Вы не умели сказать то, что в вас, и вышло что-то непонятное. Нам виднее - нам, тем, которые знают и любят вас. Но писать свою жизнь вам нельзя. Вы не сумеете» (Там же).
Еще недавно Толстой призывал Страхова рассказать свою жизнь. Теперь он побуждал его замолчать.
Экскурс: Руссо и его Profession de foi
Во многих отношениях позиция Толстого по отношению к религии и вере была сходной с той, которую разработал Жан-Жак Руссо, также искавший альтернативы и к позиции официальной религии и церкви, и к позиции скептицизма и материализма*82*. В старости Толстой писал: «Руссо и евангелие - два самые сильные и благотворные влияния на мою жизнь»*83*. Главную роль здесь сыграло знаменитое «Исповедание веры савойского викария» («Profession de foi du vicaire savoyard», 1762). Присутствие «Profession de foi.» в переписке со Страховым в 1875-1879 годах вполне ощутимо. Но дело не только в сознательной ориентации Толстого на Руссо. Руссо и его «Profession de foi.» были основополагающей частью той культурной традиции, которой располагал человек, столкнувшийся с необходимостью уяснить свое отношение к религии в ситуации развивающейся секуляризации.
Исследователи объясняли секрет влияния Руссо не только силой его идей, но и мастерским использованием речевых жанров*84*. «Profession de foi.», составляющая часть романа «Эмиль», показывает повествователя в беседе с савойским викарием, которому он часто поверял тайны своей душевной жизни. В свою очередь, викарий изливает перед другом историю своего отношения к религии и вере. Он рассказывает, как, придя в зрелом возрасте к неверию, оказался в отчаянном положении. Находясь в состоянии неуверенности и сомнения, о котором писал Декарт, он приступил к поискам истины. Он чувствовал невозможность принимать нелепые решения религиозных вопросов, которые предлагала церковь. Обратившись к философам, он рылся в книгах, но понял бессилие ума человеческого. Он спросил себя: «Но кто я?» И продолжал: «Я существую» («Mais qui suis-je? <.> J'existе <.>»)[85]. В конце концов савойский викарий излагает собеседнику исповедание своей веры («религии сердца»), и в результате их беседы молодой человек приобщается к его вере.
В этой ситуации сакральный дискурс исповедания веры оказывается секуляризованным, а диалог между друзьями-собеседниками приобретает сакральный характер. Читатель романа вовлекается в этот диалог, а также в диалог с автором, Руссо, который предлагает и читателю принять новую веру, причем не в сакральном или церковном, а в светском, литературном контексте. Как утверждают исследователи, заслуга Руссо в «Исповедании веры савойского викария» и последовавшей затем истории его жизни, «Исповеди», состоит в том, что он воплотил религиозный опыт исповеди и исповедания веры в литературной форме (форме романа и автобиографии), сделав этим решительный шаг к замене религии «автономной сферой искусства»186*.
Толстой пишет «Исповедь», Страхов продолжает исповедоваться Толстому
В неотосланном письме к Страхову от 19-22 ноября 1879 года (в котором он увещевал его: «Вам писать свою жизнь нельзя») Толстой упоминал, что очень занят и взволнован работой «для себя, которой никогда не напечатаю» (П 2: 546); в отосланной записке от 22-23 ноября он написал, что «работа не художественная и не для печати» (П 2: 547). В декабре, когда Страхов посетил Ясную Поляну, Толстой, по-видимому, поделился с ним своей работой. (Исследователи считают, что это был ранний вариант «Исповеди».)
Вернувшись домой, Страхов написал Толстому торжественное письмо, описывающее, как под влиянием этой встречи он пережил религиозное обращение:
Меня как будто что-то вдруг озарило, и я все больше и больше радуюсь и все вглядываюсь в этот новый свет. Скажу Вам откровенно, что меня прежде смущало и отчего для меня так нова Ваша теперешняя мысль. Мне всегда казалось непонятным и диким личное бессмертие в той форме, в которой его обыкновенно представляют; точно так же мне был всегда противенмистический восторг, до которого старались доходить большинство религиозных людей, говоривших почти так, как Вы. Но Вы избежали и того и другого; как ни горячи движения Вашей души, но Вы ищете спасения не в самозабвении и замирании, а в ясном и живом сознании. Боже мой, как это хорошо! Когда я вспоминаю Вас, все ваши вкусы, привычки, занятия, когда вспоминаю то всегдашнее сильнейшее отвращение от форм фальшивой жизни, которое слышится во всех Ваших писаниях и отражается во всей Вашей жизни, то мне становится понятным, как Вы могли наконец достигнуть Вашей теперешней точки зрения. До нее можно было дойти только силою души, только тою долгою и упорною работою, которой Вы предавались. Пожалуйста, не браните меня, что я все хвалю Вас; мне нужно в Вас верить, эта вера моя опора. Я давно называл Вас самым цельным и последовательным писателем; но Вы сверх того самый цельный и последовательный человек. Я в этом убежден умом, убежден моею любовью к Вам; я буду за вас держаться и надеюсь, что спасусь (2: 552, 8 января 1880).
Именно живой пример Толстого - услышанное им в Ясной Поляне исповедание его веры (веры, лишенной буквального понимания личного бессмертия) и, еще более, пример всей его жизни (вкусов, привычек, занятий) - позволил Страхову наконец испытать веру. В своем письме он обращался к Толстому, как если бы тот был не близким человеком, а священным лицом или старцем, как те, которых они посетили в Оптиной пустыни: в Толстом заключалась его надежда на спасение1871.
Что касается работы, которой был тогда занят Толстой, то Страхов нашел способ, как говорить об этой тайной работе другим: «Я говорю обыкновенно <.> что Вы пишете историю этих Ваших отношений к религии, историю, которая не может явиться печатно» (2: 553, 8 января 1880). Страхов как бы нечаянно определил здесь то, что Толстой не сумел ясно выразить в своих письмах, - как следовало писать то, чем человек жил: написать историю своих отношений к религии.
В последовавшие затем годы Толстой и Страхов продолжали переписываться, но после 1879 года письма Толстого потеряли исповедальный характер. Страхов же продолжал обращать к Толстому свои «исповеди»: «буду говорить как на исповеди» (2: 624, 29 ноября 1881); «нужно обратиться к Богу. И вот, хочу исповедаться перед Вами: мне становится страшно от этой мысли <.> не могу приступить к делу. Так со мною было всю жизнь.» (2: 994, 2 мая 1895). В одном из таких писем, в 1892 году, пытаясь «рассказать себя», свои пороки и проступки, Страхов описал себя как человека, который никогда не мог доводить аргументы до окончательных выводов, и привел знаменитый пример такого способа общения - Платон и его «разговоры». Он умолял Толстого написать хотя бы несколько строк в ответ на его «исповедь» (П 2: 911, 24 августа 1892). Но Толстой давно оставил их философский диалог.
В письме к другому конфиденту, Ивану Сергеевичу Аксакову, в 1884 году Страхов выразил свое скептическое отношение к писаниям Толстого о религии, появившимся после 1880 года.
Но и в этой ситуации (обращаясь к критику Толстого) он отделил плохо написанные отвлеченные сочинения Толстого от самого человека, как он знал его в непосредственном общении, и от того религиозного чувства, которое Толстой «не умеет выразить»:
Толстой очень плохо пишет все, что у него касается отвлеченного изложения христианства; но его чувства, которых он вовсе не умеет выразить и которые я знаю прямо по лицу, по тону, по разговорам, - имеют необыкновенную красоту. В нем много всего, но я поражен и навсегда остаюсь пораженным его натурою, христианскими чертами*88* (курсив Страхова). Страхов уяснил здесь роль и значение Толстого в его попытках изложить собственное религиозное мировоззрение: не умея выразить веру словами, Толстой (начиная с 1880-х годов) всей своей жизнью и своим обликом воплотил идеал религиозного обращения - и не
только для своего непосредственного собеседника, но и для других современников.
* * *
Подведем итоги. Философская переписка между Толстым и Страховым началась в тот период, когда Толстой, мучимый трудностями при дописывании «Анны Карениной», задумал бросить литературу и профессию писателя ради другой, еще неясной ему роли и деятельности. Его не устраивали как цели, так и метод художественной литературы, но в процессе переписки он разочаровался и в методе философии. Он решил, что ответ на главный вопрос - «что такое моя жизнь, что я такое?» - дает не философия, а религия, или вера («религия-вера»), но в попытках сформулировать свою веру пришел к выводу что, выраженные словом («как форма, как выражение»), ответы эти бессмысленны.
Толстой надеялся, что переписка с другом, который находится в том же бедственном положении, поможет ему сформулировать исповедание своей веры, но, в отличие от почитаемого им Руссо (вернее, от героя Руссо, савойского викария), ему не удалось убедительным образом изложить свою рrofession de foi в философском диалоге. В переписке отразился самый процесс этой мучительной работы. Переписка Толстого со Страховым в 1875-1879 годах документирует не столько поиски веры, сколько поиски способов выражения веры. Толстой начал эту работу в автобиографическом ключе («Мне 47 лет»), перешел к философскому способу изложения (что показалось неудачным Страхову, который ждал от него тех же «откровений», какие нашел в его «поэтических произведениях»), затем вернулся к идее «рассказать свою жизнь», приглашая к тому и собеседника, и вскоре почувствовал, что зашел в тупик - и в способе изложения, и в самой форме разговора с другим. От другого, от Страхова он требовал возражений на свои философские рассуждения, но немедленно отвергал все его замечания (включая и попытки привести рассуждения Толстого в соответствие с общепринятыми формами философского знания). Признавая, что не умел выразить то, что хотел, он тем не менее ждал от собеседника понимания и «дурно выраженного».
Пытаясь то уяснить свою веру, то рассказать свою жизнь, Толстой искал форму изложения, которая бы соединила и то и другое. Он пришел к представлению о вере как истине, вынесенной из всей жизни, и одновременно как о силе, которой люди жили. Таким образом, уяснить свою веру означало рассказать свою жизнь, а рассказать свою жизнь означало изложить историю своих отношений к религии, или вере (как это сформулировал Страхов).
В продолжение всей переписки Толстой выражался (как сам он неоднократно признавал) «нескладно и неясно» - не только потому, что не сумел выразиться яснее, но и потому, что все более убеждался в том, что ответы на вопросы, которые его мучили, невыразимы словами.
Добавим, что в феврале 1880 года, когда его философская переписка со Страховым в очередной раз зашла в тупик, Толстой сделал попытку обменяться исповеданиями веры с другим собеседником-конфидентом, Александрой Андреевной Толстой. Ей удалось
сформулировать свое кредо, но Толстого оно не устроило. Как он объяснил, «ваше исповедание веры есть исповедание веры нашей церкви». Он ответил: «Сказать свою веру нельзя. <.> Как сказать то, чем я живу. Я все-таки скажу <...>» (63: 8).
Этот парадокс хорошо определяет то положение, в котором Толстой оказался в 1875-1879 годах.
В конце 1879 года Толстой, со своей стороны, прекратил попытки сказать свою веру в переписке со Страховым. Он был всецело занят (как он писал собеседнику) «работой для себя, которой никогда не напечатаю». В 1882 году, вопреки первоначальному плану, Толстой выпустил эту работу из печати под названием «Вступление к ненапечатанному сочинению». В процессе хождения среди первых читателей она приобрела название «Исповедь», принятое затем и самим автором. За вступлением - за исповедью - должна была последовать основная часть, содержащая исповедание новой веры Толстого. Будучи опубликованной, «Исповедь» предоставила возможность не только непосредственному собеседнику Толстого, но и любому современнику испытать то «озарение», о котором писал в своем письме Страхов. Читателю (как и Страхову) предлагалась надежда на спасение. Это уже не было тем, что Толстой презрительно назвал «литтература»».
Глава 3
«Исповедь» Толстого: «Что я?»
Толстой отдает свою исповедь в печать (1882) - Экскурс о жанре: повествование о религиозном обращении - «Исповедь» Толстого как повествование об обращении - Толстой, Августин, Руссо - После «Исповеди»: «теперь мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа» - Влияние «Исповеди»
Толстой отдает свою исповедь в печать (1882)
В апреле 1882 года Толстой прочел старому знакомому, Сергею Андреевичу Юрьеву (редактору журнала «Русская мысль»), свою новую работу. Услышанное оставило «неизгладимое, сильное впечатление» в душе Юрьева - и желание напечатать «рассуждение» Толстого в своем журнале (23: 520). Вопреки первоначальному плану (работа «для себя» и не предназначена для печати [П 2: 546]), Толстой согласился на публикацию. На авторской корректуре стояла дата «1879», а постскриптум был датирован «1882». До последнего момента Толстой не мог решить, как назвать свой труд. На рукописи, отосланной печатникам, стояло зачеркнутое название: «Что я?». Когда же рукопись была набрана (для майского номера 1882 года), она носила название «Вступление к ненапечатанному сочинению». Прежде чем сочинение Толстого вышло в свет, на него был наложен запрет со стороны духовной цензуры, но тем не менее оно дошло до читателей в нелегальных экземплярах (включая литографированные и рукописные копии и даже корректурные оттиски с пометами автора)^. Вскоре и члены семьи, и друзья Толстого, и читатели, и критики стали называть это произведение «Исповедью». Когда первое бесцензурное издание появилось в печати, в 1884 году в Женеве, на титульном листе значилось: «Исповедь графа Л. Н. Толстого. Вступление к ненапечатанному сочинению». После 1884 года сам Толстой называл это свое произведение «Исповедь»^.
Экскурс о жанре: повествование о религиозном
обращении
«Исповедь» Толстого построена как рассказ о пути к истинной вере - герой-повествователь рассказывает о своем отпадении от христианской веры в юности, принятии ложной веры в зрелые годы, «остановке жизни» и годах мучительного кризиса, отречении от грехов
прошлого, блужданиях и мытарствах в поисках Бога, и наконец, «пробуждении» к новой вере. В общих чертах эта схема соответствует традиционному жанру - повествованию о религиозном обращении. В этом смысле «Исповедь» не является ни автобиографией, ни художественным произведением1911.
Краткий экскурс о жанре поможет истолковать и контекстуализировать «Исповедь» Толстого.
В рамках иудео-христианской традиции акт религиозного обращения, или переворота (лат. conversio), понимается как полное преобразование своего «я» в соединении человека с Богом. Это возврат к источнику, то есть обращение вспять. Самый термин «обращение» применялся и к отречению от одной религии и обращению к другой, и (в движениях Реформации) как переход к правильному пониманию веры, без искажения и заблуждения церкви1921. Обращение нередко описывается как внутренний опыт нового рождения или как пробуждение ото сна1931. Однако оно может быть представлено и как длительный процесс. В целом жанр строится на автобиографическом сюжете, который движется от исходной точки (от несовершенного состояния) к настоящему, приближаясь к моменту оборащения, и
1941
включает кризис - разрыв в континуальности жизни и личности .
Основополагающим текстом в истории жанра - а затем и автобиографического повествования как такового - принято считать «Исповедь» Августина. В структуру жанра обращения начиная именно с Августина входит разрыв между двумя «я»: автор, рассказывающий свою жизнь, - это уже не тот человек, который пережил описываемые им события1951. Повествовательное «я» относится и к фигуре автора, которая стоит за всем текстом, и к скользящему «я» героя, личность которого преображается по ходу рассказа. Разыгрывая смерть и возрождение «я», тексты в жанре обращения могут создавать эффект
1961
говорения из точки, находящейся за пределами жизни .
Исповедальный акт играет большую роль в структуре этого жанра. Понятию «исповедь» в тексте Августина приписывают несколько значений: он исповедуется в своих грехах, как они видятся с точки зрения обращения (confessio pecati), восхваляет Бога (confessio laudis) и исповедует свою веру перед лицом человечества (confessio fidei)197 Исповедание веры Августина (продолженное в последовавших за «Исповедью» богословских сочинениях, таких как «О троице» и «О граде Божием») заложило основы всего западного богословия1981.
Повествовательная схема «Исповеди» Августина хорошо известна (она не раз потом повторялась - в различных вариантах - в автобиографических повествованиях, и духовных, и светских). Рассказывая о собственной жизни (в Книгах 1-7), Августин судит о себе и своей жизни уже после обращения (описанного в Книгах 8 и 9). Он подробно описывает заблуждения младенчества и детства (Книга 1), отрочества и юности (Книга 2). Он исповедуется как в грехах плоти, похоти и позорной любви (Книга 3), так и в другом обольщении - увлечении свободными науками, искусством красноречия, драматической поэзией и подобными «суевериями», которым он предавался во имя славы оратора и учителя риторики (Книга 4). После смерти друга он поражен мыслью о бренности, и именно конфронтация с конечностью человека ставит перед автором проблему собственного «я»: «куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. <.> Стал я сам для себя великой загадкой» (4.4.9)1991. С этого момента начинаются поиски. Книги 5-7 посвящены увлечению ложной религией манихейства. Поворот к истинной вере описан в Книге 8, достигая кульминации в ставших знаменитыми словах «Проснись, спящий» (8.5.12) и в эпизоде под деревом смоковницы (8.12.29). Обращение принимает окончательный характер в Книге 9, когда, оплакивая смерть матери, герой-повествователь приходит к сознанию, что для нее, принявшей истинную веру, не было смерти (9.12.29). В Книгах 10 и 11 Августин переходит от биографического повествования к философским размышлениям о природе человека - о сущности «я», причем центральную роль здесь играет тема времени (что есть настоящее, прошлое и будущее). В Книгах 12 и 13 он исповедует свою веру и толкует Писание.
Особой заслугой Августина принято считать то, что он поставил вопрос о загадочной природе человеческого «я», которая окончательно сформулирована в Книге 10: «Тогда я обратился к себе и сказал: „Кто я?" И ответил: „человек" <.>» (10.6.9). Но главный вопрос обращен к Богу: «Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя?» (10.17.26). «Исповедь» Августина имеет диалогическую структуру: я - ты (Боже мой). «Исповедь» - это молитва, а не литература*100*.
Как неоднократно отмечали исследователи Августина, для человека уход в себя (внимание к внутреннему миру) - вопросы «кто, что я?» - это начало пути к Богу, начало процесса обращения как слияния человеческого и божественного*101*. Смысл двойного вопроса прокомментировала Ханна Арендт. Вкратце, вопрос «кто я?» получает простой ответ: «человек». Но на вопрос «что же я такое?» окончательный ответ может дать только Бог, сотворивший человека, и этот вопрос является предметом богословия*102*.
Именно в этом ключе объясняют смысл того, что в книгах, следующих за обращением, биографическая, то есть временная канва жизни заканчивается. Пользуясь формулировкой одного исследователя, «как только работа обращения завершилась, прошлое смыкается с настоящим, и ретроспективное повествование заканчивается»*103*. Повествователь, занятый философскими размышлениями о том, что же такое «я», постепенно переходит от рассуждений о природе времени и памяти к надежде на соединение с Богом в неизменности вечного, что предполагает полное растворение «я» в слиянии с Богом.
Историки идей приписывают Августину основополагающую роль в традиции повествования о своем «я» начиная от раннего христианства и до современности. Так, различные видоизменения повествовательных схем, жанровых признаков и философских концепций «Исповеди» находят в таких разнородных текстах, как «Рассуждение о методе» Декарта (в котором усматриваются черты автобиографического повествования) или дневники и жизнеописания пуритан и пиетистов в XVII и XVIII веках, а также в секуляризованных автобиографических повествованиях, которые берут начало с «Исповеди» Руссо *104*.
Об «Исповеди» Руссо часто говорят как о поворотном пункте в истории жанра: опыт обращения и акт исповедания понимаются здесь в секулярном, а не в религиозном ключе*105*. Для Руссо - деиста, а не атеиста - Бог еще присутствует при исповеди. (Более того, Руссо воображает, что в день Страшного суда он предстанет перед Высшим Судией с книгой «Исповеди» в руках.) Однако если Августин, живший в мире, ориентированном на Бога, исповедовался, обращаясь к Богу, Руссо адресовал свою исповедь в первую очередь людям, читателям, и это показывает, до какой степени мир подвергся секуляризации *106*.
Как и Августин, Руссо в своей «Исповеди» и в более поздних исповедальных текстах, «Диалоги» и «Прогулки одинокого мечтателя», спрашивает: «Что такое я сам?» (Que suis-je moi-mкme?)*107*. Однако в отличие от Августина, который адресует этот вопрос Богу, Руссо полагает, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно превратить свою душу в открытую книгу, понятную читателю. Для Руссо (в отличие от Августина) его внутренний мир является автономной ценностью. С Руссо берет начало традиция секуляризации исповеди в формах автобиографического дискурса*108*.
Акт обращения, занимающий (как и у Августина) центральное место в «Исповеди» Руссо, также имеет секулярный характер. Это знаменитый эпизод под деревом по дороге в Венсенский замок, когда героя осенила внезапная мысль, что «культура - ложь и преступление». С этого момента берет начало его новая жизнь (и карьера) как автора. Обращение приводит к парадоксальному результату: став автором, герой повествования потерял себя. Заканчивая свою «Исповедь», Руссо-повествователь отрекается от писательства и от роли писателя*109*. Итак, в своей «Исповеди» Руссо не только открыл дорогу жанрам секуляризованной исповеди и секулярного обращения, но и создал образец такого автобиографического письма, в котором повествование служит одновременно и тому,
чтобы определить свое «я» в процессе писания, и тому, чтобы отказаться от писательства во имя идеала подлинности и верности себе .
В конечном счете Руссо и видоизменил, и подтвердил модель Августина (а именно автобиографический нарратив, который строится на актах исповедания и обращения): он создал секулярный вариант такого повествования, но этот вариант не может быть понят вне соотношения с изначальной религиозной моделью*111*. «Исповедь» Руссо, таким образом, показала, и как далеко отошел современный мир от мира Августина, и как сильно тянуло человека к прежнему*112*.
Эта традиция стоит за «Исповедью» Толстого. И по названию, и по форме произведение Толстого приглашает к сравнению как с Августином, так и с Руссо, и многие исследователи сравнивали эти тексты. Думаю, что продуктивнее было бы прочесть «Исповедь» Толстого в рамках жанра обращения. С этой целью - и с мыслью поместить ее в контекст, отмечаемый двумя столпами жанра, «Исповедью» Августина и «Исповедью» Руссо, - обратимся к тексту. В центре этого прочтения будет использование Толстым повествовательных ходов, риторических оборотов и символических образов, являющихся характерными для повествования о религиозном обращении.
«Исповедь» Толстого как повествование об обращении
Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили (23: 1). Так начинается «Исповедь» Толстого. Текст написан от первого лица, но за «я» повествователя стоят различные формы субъективности. Во-первых, «Исповедь» не автобиография, и «я» - это не автор, а герой-повествователь. Более того, как свойственно жанру обращения, повествовательное «я» (тот, кто пишет «Исповедь») - это не обязательно тот же человек, жизнь которого рассказывается в тексте (личность героя меняется, или обращается, по ходу рассказа). Во-вторых, помимо биографического «я» - образа повествователя, которому приписываются известные факты из жизни автора, Льва Толстого, - в тексте имеются и фигуры аллегорического «я», типичные для текстов обращения (образ путника на дороге жизни и т. п.). Едва ли возможно определить все виды «я», присутствующие в тексте; в дальнейшем постараемся отметить те моменты, когда расщепление и взаимодействие форм субъективности оказываются явными и
*1131
ощутимыми .
О младенчестве, детстве и отрочестве героя-повествователя рассказывается немного. Жизнь героя (в Главе 1) становится предметом повествования в момент его отпадения от веры, которое произошло так же, как «происходит теперь в людях нашего склада образования», а именно под влиянием того, что «вероучение не участвует в жизни», и человек «нашего круга» может прожить десятки лет, не вспомнив, что он христианин (23: 2). Вспоминая это время, «я» вижу ясно, «что вера моя - то, что, кроме животных инстинктов, двигало моей жизнью, - единственная и истинная вера моя в то время была вера в совершенствование». Сначала это было «нравственное совершенствование», но вскоре оно подменилось желанием быть лучше не перед собой или Богом, а перед другими людьми (23: 4). (В черновике, отсылая к своим дневникам, Толстой посетовал, что он искал руководства не в «духовной письменности», а в светской: «У меня еще сохранились дневники всего того времени, ни для кого не интересные, с Франклиновскими таблицами, с правилами, как достигать совершенства», 23: 490-491.)
Глава 2 посвящена годам молодости, но, как явствует из слов повествователя, это не история его жизни: «Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни - и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости» (23: 4). Сейчас же он занят не жизнеописанием, а исповеданием в грехах: «Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли,
чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал» (23: 5). Эти поступки затем классифицируются в соответствии с религиозной концепцией греха: «Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство. Не было преступления, которого я бы не совершал <...>» (23: 5).
Таким образом, язык повествования отличает «я» до обращения («тогда») от «я» после обращения («теперь»), а также отличает светское отношение к жизни от религиозного.
Заметим, что, хотя «любодеяния всех родов» занимают видное место в этом списке грехов, в своей «Исповеди» Толстой (в отличие от Августина) не приводит подробностей. Однако Толстой много говорит о плотских грехах в дневниках (как ранних, так и поздних) и в поздней прозе, так что едва ли будет преувеличением сказать, что отказ от сексуальности занимает важное место в его концепции религиозного обращения.
Другое искушение - стремление к авторству и к авторитету учителя - занимает большое место в его исповеди (как это было и у Августина). Писательство приравнивается к трем смертным грехам: «В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости» (23: 5)ШИ. Такая риторика не оставляет никаких сомнений в том, что перед читателем не автобиография, а религиозный акт исповедания в грехах.
Рассказав затем о том, как «я», двадцати шести лет, приехал после войны в Петербург и «сошелся с писателями», повествователь поясняет взгляд на жизнь этих людей, который он тогда разделял:
жизнь вообще идет развиваясь и <.> в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы - художники, поэты. Наше призвание - учить людей (23: 5).
Затем он переключает повествование в религиозный регистр: «Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее» (23: 6). Слово «жрец» не оставляет сомнения, что культ искусства и идея развития причисляются к ложным, языческим верованиям.
И так «я» жил (продолжает повествователь), пока не начал сомневаться в «непогрешимости этой веры и стал ее исследовать». Это исследование приводит «я» к отчуждению от людей и от самого себя: «Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта - обман» (23: 6). Глядя на эту ситуацию с точки зрения теперешнего «я» («Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроение тогда <...>»), повествователь дивится на свое тогдашнее «я»: «Но странно, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но <.> от чина художника, поэта, учителя - я не отрекся» (23: 6).
Тысячи работников дни и ночи работали, набирали миллионы слов, и почта развозила их по всей России. «Тогда» все были убеждены, что «нам нужно говорить и говорить, писать, печатать» - во имя прогресса; «теперь» ему понятно, что «мы» хотели только получать как можно больше денег и похвал. Размышляя об абсурдности веры в развитие, Толстой иронически пересказывает, как люди его круга тогда рассуждали:
все, что существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается. Развивается же все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. <.> [М]ы пишем книги и газеты, и потому мы - самые полезные и хорошие люди (23: 7). К этой формулировке, направленной против идеи прогресса (в частности, гегельянства), Толстой еще будет возвращаться в своих писаниях.
Глава 3 описывает жизнь героя между тридцатью и пятьюдесятью годами. Поездка за границу и жизнь в Европе укрепила его веру в совершенствование вообще и в «прогресс» - «веру», разделяемую образованными людьми того времени. Два случая поколебали эту веру: зрелище смертной казни в Париже («никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка», 23: 8) и смерть брата («он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает»). «Но это были только редкие случаи сомнения, - добавляет повествователь, - в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс» (23: 8). Смерть, насильственная и естественная, является для него основным аргументом против теории прогресса.
Повествование затем описывает перемену в жизни, произошедшую после возвращения из-за границы: жизнь в деревне и занятие крестьянскими школами. «Теперь» повествователю ясно, что, в сущности, и этот тип учительства сводился к тому, «чтоб учить, не зная чему» (23: 9).
Вторая поездка за границу (для изучения педагогики), возвращение в год освобождения крестьян, издание педагогического журнала, деятельность мирового посредника - все это не приносит облегчения, и, бросив все, герой удаляется от цивилизации в пустыню («в степь, к башкирам - дышать воздухом, пить кумыс и жить животной жизнью») (23: 10).
Все это - события из биографии автора, Льва Толстого, которым читатель может найти подтверждение в других источниках, но в «Исповеди» они выстраиваются в соответствии с сюжетной парадигмой религиозного обращения - как этапы на пути поисков и заблуждений.
В следующие пятнадцать лет, после женитьбы, стремление к усовершенствованию и прогрессу обращается в стремление улучшить жизнь семьи. «Соблазн писательства» (в описании своей литературной деятельности Толстой пользуется религиозным дискурсом) служит теперь и удовлетворению тщеславия, и улучшению материальной жизни семьи (23: 10). (Толстой не упоминает, что «Война и мир» и «Анна Каренина» были написаны в эти годы.)
Рассказ затем подходит к моменту решительного кризиса. «Пять лет назад» (хронология не обязательно соответствует биографии, но важен сам отсчет от настоящего, то есть момента писания) «на меня стали находить минуты <.> остановки жизни». «Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?» (23: 10). Это были «самые важные и глубокие вопросы в жизни <.> И я ничего и ничего не мог ответить» (23: 11).
Глава 4 открывается с утверждения, что «жизнь моя остановилась» (23: 11), и подробно описывает состояние кризиса. Состояние «я» - это жизнь без желаний: «Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать» (23: 12). (Эти слова вторят тому, что Толстой написал в 1875 году в отрывке, вложенном в одно из его первых философских писем к Страхову11151.) Более того, это существование без понимания смысла своей жизни. Толстой описывает себя как внешне благополучного человека, боровшегося с искушением самоубийства: «И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок <...>, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни» (23: 12). Эти детали, как и другие биографические реалии, отсылают к жизни автора, Льва Толстого. (Читатель может вспомнить также и героя Толстого, Левина в «Анне Карениной».) В рамках жанра религиозного обращения это исповедание в грехе acedia (уныние), речь о котором идет в 90-м псалме. (В православной традиции акедия, наряду с помыслами тщеславия и гордыни, является смертным грехом11161.)
Привычные для жанра метафоры мобилизованы для того, чтобы описать состояние искателя-путника: «я» шел-шел и пришел к пропасти (23: 12); «я» стою на той вершине жизни, с которой открывается вся она (23: 13). Впереди - смерть: герой столкнулся с сознанием своей смертности.
Толстой подробно излагает «восточную басню» о путнике, застигнутом в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в колодезь - и видит на дне его дракона, разинувшего пасть, что пожрать его. Несчастный хватается за ветки растущего в расщелине куста и висит над бездной, зная, что неминуемо погибнет. Но пока он висит, ожидая гибели,
он находит на ветках капли меда и лижет их языком. Пересказ басни затем заменяется повествованием от первого лица: «Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти <.>. И я пытаюсь сосать тот мед <.>» (23: 14). Эта восточная басня заимствована из сборника духовного чтения «Пролог», который можно было найти в каждой православной семье*117*. Басни, параболы и аллегории являются характерной частью духовных автобиографий и повествований об обращении, таких, например, как «Путь паломника» Джона Беньяна (книга, которую Толстой хорошо знал)*118*.
В этот момент автобиографическое «я» уступает место аллегорическому «я». При этом Толстой настаивает на реальности аллегории: «И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда» (23: 14). Толстой обращает здесь историю своей жизни, знакомую его читателям и из других источников, в аллегорию, которую каждый читатель может применить и к собственной жизни.
Главы 5-16 описывают в аллегорических терминах ту постепенную внутреннюю перемену в самом себе, которая составляет ядро повествования об обращении. В Главе 5 герой мучительно ищет истины, «как ищет погибающий человек спасенья» (23: 16), ищет в разнообразных отраслях знания, как в «опытных» науках, так и в «умозрительных». Он приходит к выводу, что опытные науки не ставят насущных вопросов («что я такое?», «зачем я живу?», «что мне делать?»); умозрительные науки не отвечают на такие вопросы (23: 19).
Глава 6 разрабатывает эту ситуацию в аллегорическом образе путника, заблудившегося в лесу: «Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных <.> и между мраком умозрительных знаний <.>» (23: 21). Повествователь затем призывает Соломона, Сократа, Шопенгауэра и Будду в подтверждение мысли, что все - «суета сует» (23: 23).
В Главе 7, не найдя разъяснения в области знания, герой наблюдает людей. Он видит четыре выхода из того ужасного положения, в котором находятся люди его образования и образа жизни. Первый выход - неведение того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Второй - эпикурейство («лизать мед»); этого выхода придерживается большинство. Третий (редкий) выход - поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее («благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезды на железных дорогах», 23: 28). Четвертый - понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее: «Я находился в этом разряде» (23: 29). В этой главе «я» выступает заодно с Шопенгауэром («Что же, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни? <.> Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь <.>» 23: 30»). Однако он подозревает, что тут что-то не так. Где ошибка?
В Главе 8 герой оставляет тесный кружок людей, к которым он принадлежит, и обращает свой взор на огромные массы простых, не ученых и не богатых людей, и приходит к выводу, что у них есть какое-то невыразимое разумом знание смысла жизни - и это неразумное знание есть вера. Возникает «противоречие»: «По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл» (23: 33).
Глава 9 разрабатывает этот парадокс. Проверяя ход своих рассуждений, повествователь находит методологическую ошибку: он искал «вневременное, внепричинное, внепространственное» значение жизни, но рассуждал в категориях времени, причины, пространства (то есть в категориях разума) (23: 33-34). До сих пор он следовал за другими мыслителями; теперь он видит свое положение, которое разделял с Шопенгауэром и Соломоном, как «глупое». (Пользуясь словами одного исследователя, отныне «аллегорический Толстой» следует в своих поисках один*119*.) На вопрос «что такое я?» он отвечает: «часть бесконечного» (23: 36). Из этого следует, что человеческий разум не может дать ответа на этот вопрос. Аллегорический путник начинает понимать, что ответ находится в области божественного и дается только верой (23: 35). (Вспомним, что Августин обращал свой вопрос «Что же я такое?» непосредственно к Богу - но Толстой этого не делает.)
В Главе 10 «я» изучает религии, не только христианство, но и буддизм и магометанство, и по книгам, и на примере верующих, особенно простых людей. За этим, как могло бы показаться, следует описание религиозного обращения: «Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всего были во мне» (23: 40). (Слово «переворот» соответствует латинскому conversio*120*.) Однако повествование о процессе обращения продолжается.
В Главе 11 «я» исследует причины своих прошлых заблуждений: «Я понял, что я заблудился и как я заблудился» (23: 41). Он отказывается от себя прежнего и от жизни людей своего класса и образования во имя жизни простого рабочего народа: «Я полюбил хороших людей, возненавидел себя и я признал истину. Теперь мне все стало ясно» (23: 41).
Однако в Главе 12 поиски продолжаются. «Я» понимает, что в продолжение всего года, когда он мысленно следовал за доводами разума (за Кантом и Шопенгауэром), он искал Бога. И с отчаяньем в сердце из-за того, что нет Бога, он молится: «Господи, научи меня, Бог мой!» Но Бог не слышал его (23: 44). Толстой вновь обращается к устойчивым метафорам: «я» чувствовал себя выпавшим из гнезда птенцом (23: 44). Метафорические образы получают затем реализацию: аллегорический путник в буквальном смысле оказывается в лесу. Так, повествователь вспоминает об эпизоде из своей жизни: «Помню, это было раннею весною, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса» (23: 45). Он понимает, что там, в лесу, «я опять искал Бога». Здесь Толстой (как он это уже делал) смешивает аллегорический язык с буквальным и настаивает на буквальном смысле аллегории.
Герой-искатель еще не до конца свободен от искушений разума. «Хорошо, нет никакого Бога, - говорил я себе, - нет такого, который бы был не мое представление» (23: 45). Этот момент сомнения (описанный в терминах Шопенгауэра) сменяется образами, которые ясно говорят об обращении - герой слышит голос и видит свет:
Так чего же я ищу еще? - вскрикнул во мне голос. - Так вот Он. Он - то, без чего нельзя жить. <.. .> И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня. <.> Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать (23: 46).
И голос, и свет, и слово «переворот» - характерные черты жанра обращения. (Еще Августин разработал образ света Бога в душе человека*121*.) Теперь обращение кажется окончательным. Повествование, казалось бы, совершило круг, вернувшись к состоянию до потери веры - Толстой замечает, что «та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а <.> та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни» (23: 46). Последние слова главы 12, казалось бы, свидетельствуют о новой жизни: «Итак, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить» (23: 47).
Глава 13, однако, обнаруживает неокончательность переворота и описывает новые трудности на пути к вере. Возвратиться к вере детства означало принять догмы и обряды православной церкви, а этого «я не мог сделать» (23: 49). Герой старается «избегать всяких рассуждений», но пытается объяснить «сколько возможно разумно» те положения церковные, с которыми он сталкивается (23: 49). Толстой не комментирует противоречие в ситуации своего героя: отказавшись от принципа разума в вопросах веры, он - избегая всяких рассуждений - тем не менее старается объяснить «разумно» церковные положения. Это приводит к новому кризису.
Глава 14 описывает попытки героя вернуться в церковь и соблюдать предписанные обряды. Рассказ достигает драматической кульминации в тот момент, когда он принимает причастие: подойдя к царским вратам, повторяет за священником, что то, «что я буду глотать, есть истинное тело и кровь [Христа*» (23: 51)*122*. Зная, что его ожидает, он уже не мог идти в другой раз (23: 52). Дело обстояло лучше, когда вместе с простым народом он читал «Четьи-Минеи» и Пролог (источник басни о путнике в колодце), смотря на содержащиеся там истории «как на фабулу, выражающую мысль» (23: 52), но когда он сходился с учеными
верующими, то чувствовал, что идет к «пропасти» (23: 52). Блуждания путника продолжаются.
Глава 15 открывается признанием: «Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость» (23: 52). Именно благодаря свой неучености мужики могли принимать те положения веры, которые казались ему бессмысленными. Хотя Толстой не говорит этого прямо, он, как кажется, пришел к выводу, что образование и разум несовместимы с верой.
Продолжая повествование о долгом пути к вере, Толстой описывает себя как человека, которые три года жил «как оглашенный» (23: 53). Эта метафора ставит его в положение обращенного первых лет христианства, человека из доконстантиновского Рима.
В начале Главы 16 «я» принимает свои сомнения в истинности веры своих предков и отказывается от общепринятой религии. Он изучает богословие с целью реформировать христианское учение с точки зрения разума. Результат составит сочинение, которое будет «когда-нибудь и где-нибудь» напечатано (23: 57). Это обещание завершает основную часть «Исповеди».
«Это было написано мною три года тому назад», - замечает затем Толстой в постскриптуме, датированном апрелем 1882 года (23: 57). (Таким образом он выходит за пределы своего рассказа.) «Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидал сон» (23: 57). Следует подробное описание сна: «Вижу я, что лежу на постели. <.> И наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати <...>» (23: 57). Спящий с ужасом понимает, что его тело висит над пропастью. Еще мгновение - и он оторвется от помочей и упадет в бездну. Ему приходит в голову, что это сон и надо проснуться: «Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? - спрашиваю я себя <...>». Он глядит вверх: «Вверху тоже бездна» (23: 58). Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» Герой глядит вверх - все дальше и дальше в бесконечность вверху - и чувствует, что успокаивается (23: 58). Спящий начинает понимать, что на самом деле положение довольно прочно:
И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше <.> даже и вопроса не может быть о падении (23: 59).
Этот сон переигрывает ситуацию путника, висящего в колодце, из восточной басни в Главе 4. Как и в басне о путнике, это аллегорический образ человека, столкнувшегося со своей смертностью: человека, окруженного с двух сторон бездной небытия. Однако во сне эта ситуация приводит к счастливому концу: именно во сне достигается невыразимое наяву понимание. Сон предвещает обращенному спасение. Как это нередко бывает в текстах обращения, ищущий слышит голос, которой возвещает ему возвращение к новой жизни: «И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся» (23: 59).
Эти слова завершают «Исповедь» Толстого.
Пророческий сон, разыгрывающий аллегорию спасения, - характерный элемент в финале повествования о религиозном обращении. В «Исповеди» этот момент примечателен еще и тем, что аллегорический герой и повествователь встречаются здесь с биографическим Толстым: аллегория и биографический опыт сливаются в описании этого сна. «Я», которое фигурирует на последних страницах «Исповеди», это и аллегорическое «я» жанра обращения, и повествовательное «я», биографически соотнесенное с человеком, который только что завершил свой труд (я, Лев Толстой).
Знаменательно, что, как настаивал впоследствии Толстой, сон этот не был вымыслом: «Это я действительно видел, это я не выдумал», - сказал Толстой своему секретарю (а тот записал разговор в своем дневнике)"123 (Нет оснований не верить Толстому - как ясно из его дневников, ему не раз снились аллегорические сны, как будто готовые для печати; об этих снах речь пойдет в последней главе настоящей книги.)
Более того, смысл описания сна и всего постскриптума этим не ограничивается. Для Толстого важно, что он закончил свое повествование не аргументом, а сном. Приступая к изложению сна, он объясняет это таким образом:
Сон этот выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах (23: 57).
Толстой возвращается здесь к проблеме, с которой он столкнулся в своей философской переписке с Николаем Страховым в 1875-1879 годах, завершившейся написанием «Исповеди». Это проблема невыразимого: сказать свою веру нельзя. Как рассуждал тогда Толстой, разумом или логическими построениями вопросы веры не взять. Истинная философия (как он тогда думал) действует не логическими выводами, а чем-то иным, и убедительность достигается мгновенно, без выводов и доказательств - путем соединения в одно целое нелогических понятий11241. Стремясь найти именно такую форму, Толстой прибегнул к языку сна, заменившему для него язык разума. Сон передает смысл в виде символических образов, показывая, а не рассказывая истину, и убеждает мгновенно, без выводов и доказательств. «Исповедь» заканчивается жестом, который заменил повествование образом, и этот образ выразил все то, что автор «пережил и описал» - сон выразил невыразимое. Самому спящему казалось понятным и несомненным то, что наяву не имело смысла, - тот сложный механизм, посредством которого человек мог спастись от бездны небытия в вере, невыразимой словами.
Итак, «Исповедь», в соответствии с возможностями жанра, помогла Толстому соотнести два «я» - «я» человека, который пишет, и «я» того, чья жизнь описана. В конце текста, в момент пробуждения ото сна, в жизнь вступает новое «я», продукт обращения, и начинается новый этап работы над своим «я», ведущий к полному растворению «я» в слиянии с Богом.
Толстой, Августин, Руссо
Каково же место «Исповеди» Толстого в традиции, столпами которой являются Августин и Руссо?
Принято считать, что в конце восемнадцатого века Руссо подверг секуляризации жанр исповедального повествования об обращении в истинную веру, созданный Августином в его «Исповеди», и положил начало особому литературному жанру, сохранив при этом и сюжет обращения, и слово «исповедь». В свою очередь, Толстой произвел новую революцию, вернув жанру исповеди его первоначальное религиозное значение. В самом деле, у Толстого, как и у Августина, герой-повествователь обращается от неверия к религиозной вере и исповедуется в грехах, а не пишет свою автобиографию (именно поэтому Толстой описывал поступки своей юности, обычные для человека его социального круга, как нарушение христианских заповедей). Более того, в своей «Исповеди» он закладывает основы для исповедания принципов новой веры («Исповедь» мыслилась как вступление к еще не написанному богословскому сочинению).
Заметим, что между «Исповедью» Толстого и «Исповедью» Августина имеются значительные различия. В частности, в отличие от Августина, Толстой не пытался философствовать о природе своего «я» и сущности времени. Однако он обращался к этой задаче в других автобиографических повествованиях, «Моя жизнь» и «Воспоминания», речь о которых пойдет в следующей главе
В европейской литературе второй половины девятнадцатого века немалое место занимали автобиографические повествования о потере веры и поисках новой, такие как «The Nemesis of Faith» (1849) Джеймса Энтони Фроуде, «Apologia Pro Vita Sua» (1864) Джона Генри Ньюмана и незаконченные мемуары Эрнеста Ренана «Souvenirs d'enfance et de jeunesse» (1883), искания которого не увенчались успехом*125*. Однако «Исповедь» Толстого занимает особое место в этом ряду: Толстой отрекается не только от ложной веры, но и от роли писателя и от жанра литературной автобиографии. «Исповедь» Толстого - это не литература.
Созданная по образцу и подобию «Исповеди» Августина, «Исповедь» Толстого отвечала духовным потребностям человека того времени - человека светского образования, в распоряжении которого имелись немалые средства самопознания и самоопределения, заимствованные из литературного арсенала современного романа (к их созданию приложил руку и Толстой-романист), но беззащитного - в силу безверия - перед лицом смерти. В этом смысле позиция Толстого была регрессивной: он пытался вернуться назад, к истокам исповедального жанра - в полном сознании тех потерь, которые понес современный человек на пути просвещения и прогресса.
Нет сомнения, что успех и влияние «Исповеди» были основаны на репутации Толстого-писателя, но этот текст заявляет о решительной перемене в его отношении к роли писателя. Представляя институт литературы как ложную религию (языческий культ), после обращения он отрекается и от литературы, и от самого понятия авторства.
После «Исповеди»: «Теперь мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа»
В «Исповеди» описано, как автор пришел «к убеждению в том, что в христианском учении находится истина» (23: 519), однако, как ясно из всего текста, перед ним встала задача реформировать христианское учение - задача, которой он намеревался посвятить еще не напечатанное сочинение. К тому времени, когда весной 1882 года Толстой решился опубликовать «Исповедь», он работал над несколькими проектами; результаты этого труда завершились публикацией за границей (в бесцензурных изданиях) нескольких богословских сочинений. В «Исследовании догматического богословия», начатом в 1879 году, Толстой (как он сам описывал свой замысел) подвергает критике догматику и литургику существующей церкви (в первую очередь - Русской православной церкви), включая учение о Троице и догмат о божественности Иисуса Христа. «Соединение и перевод четырех Евангелий», над которым Толстой начал работать в 1880 году, призвано исправить существующие переводы, изложения и толкования Евангелия. Толстой отвергает как религиозные, так и светские толкования (такие, как «Жизнь Иисуса» Ренана) и предлагает новое изложение жизни Христа, основанное на его собственном переводе, синтезе и толковании. По замыслу Толстого, это история Иисуса Христа, очищенная от текстологических и биографических несообразностей (в частности и от чудес). Имелась и сокращенная версия, «Краткое изложение Евангелия». Трактат «В чем моя вера?», написанный в 1883-1884 годах, был замыслен как руководство к практическому осуществлению учения Христа.
В последующие десятилетия «Исповедь» выходила из печати в составе изданий, объединявших те или другие сочинения этой серии, и часто под заглавием, которое представляло «Исповедь» как вступление к богословским сочинениям Толстого *126*.
Достоин упоминания и незавершенный замысел, который проясняет план Толстого. В архиве Толстого имеется рукописная тетрадь объемом около ста страниц, разделенная на пять частей. В первом разделе описывается состояние автора в тот момент, когда он оглянулся на свою жизнь и задумался о вере. Во втором и третьем критикуется догматическое богословие. В четвертом Толстой обращается к изложению эволюции своей религиозной мысли. В пятом разделе Толстой излагает для ясности все четыре Евангелия. В заключение он старается сформулировать главные положения своей веры и предлагает критику современного
общества с точки зрения веры. Как кажется, в этой рукописи то, что стало серией сочинений, от «Исповеди» до «В чем моя вера?», набросано как единый текст*127*.
За первыми богословскими сочинениями Толстого последовал целый ряд трактатов, статей и брошюр, в которых излагался его собственный вариант христианского учения. Обсуждение богословия Толстого не входит в задачу этой книги. (В последние годы предпринимались попытки кратко сформулировать сущность его религиозных взглядов*128*.) В самом общем виде можно сказать, что Толстой стремился очистить христианство от всего, что несовместимо с разумом, включая богословскую догматику и литургику. Он не только решительно отвергал авторитет церкви, но и находился в сложном отношении к Христу*129*. Принимая нравственное учение Христа, Толстой отвергал доктрину о воскресении из мертвых, однако ему претил и образ Христа-человека, наделенного физическим естеством, как он был представлен у позитивистов, таких как Ренан*130*. Толстой видел сущность христианства в Нагорной проповеди - в «законе любви» и в отрицании всякого насилия.
Богословские сочинения Толстого написаны от первого лица, с позиции человека, ищущего ответа на вопрос «что такое я, что такое Бог» (24: 17). (Так он писал во Вступлении к сочинению «Соединение и перевод четырех Евангелий».) Два вопроса - «что такое я?» и «что такое Бог?» - оказались совмещенными в один, и ответа Толстой искал не в автобиографическом, а в богословском ключе. Как и Августин, он перешел от истории своей жизни, то есть истории своего обращения к истинной вере, к формулированию богословских принципов, которые он предлагал другим как основу истинной веры и религии.
Замечу, что параллель между Толстым и Августином не так сомнительна или натянута, как может показаться. Как и Августин пятнадцатью веками раньше, Толстой чувствовал себя основателем новой веры. Так, во вступлении к статье «В чем моя вера?» он описал себе как человека, оказавшегося в странном положении: «после 1800 лет исповедания Христова закона <.> теперь мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа» (23: 335).
Влияние «Исповеди»
Известно, что для многих современников чтение «Исповеди» и последовавших за ней религиозных сочинений Толстого способствовало религиозному обращению.
Такова история Павла Ивановича Бирюкова (1860-1931). Дворянин и офицер флота, он был мучим сомнениями в правильности выбранного пути. Чтение сочинений Толстого, а затем встреча с автором в 1884 году решили его судьбу: Бирюков вскоре покинул службу и посвятил всю оставшуюся жизнь распространению идей Толстого. (Бирюков стал также автором биографии Толстого, которая представляет всю его жизнь как путь к вере.) Вот как Бирюков описывает свое обращение:
Чтение религиозных сочинений Толстого, прежде всего «Исповеди» и «В чем моя вера», сразу захватило меня и поставило жизнь мою на новые рельсы. Вместе с тем эти единственные в своем роде сочинения перекинули мост через бездну, перед которой я стоял в душевном трепете, и дали мне возможность продолжать путь жизни <.>*131*. Бирюков пользуется здесь словарем Толстого, включая и образ бездны из завершающего «Исповедь» сна.
Другой пример касается человека из иного мира. Религиозные произведения Толстого, как принято считать, сыграли большую роль в жизни Людвига Витгенштейна (1889-1951). В августе 1914 года, находясь на службе в австрийской армии в Галиции, Витгенштейн (согласно известной биографии философа) зашел в книжный магазин и приобрел там «Краткое Евангелие» Толстого. «Эта книга захватила его. <.> Он повсюду носил ее с собой и перечитывал так часто, что мог цитировать целые абзацы наизусть». Витгенштейн рекомендовал эту книгу людям, находившимся в трудном духовном положении. Позже он
говорил, что «Евангелие» Толстого сохранило ему жизнь. Тогда, на Восточном фронте, ожидая наступления русских, Витгенштейн думал о неминуемой смерти. Как он записал в дневнике, «да будет мне дано умереть хорошей смертью». Рассуждая в терминах Платона, он ставит себе задачу отделить душу от оков тела для жизни в ином измерении. Толстой помог молодому философу, который потерял религиозную веру в школьные годы, упражняться в искусстве умирания. Возможно, что Витгенштейн был подготовлен к восприятию религии Толстого, а также к религиозному обращению перед лицом смерти чтением (в 1912 году) книги Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта» (1902), которая заключала в себе описание обращения Толстого и его «Исповеди». Влияние Толстого сыграло роль и в решении Витгенштейна поселиться после войны в деревне в качестве школьного учителя (его педагогическая деятельность, впрочем, не удалась). В более поздние годы Витгенштейн совершил то, что не удалось Толстому: он отказался от состояния, очень значительного, в пользу сестер и братьев и прожил всю оставшуюся жизнь, посвященную философии, в бедности^132'.
Толстой повлиял и на философские взгляды Витгенштейна, в частности в положениях «Логико-философского трактата» - в недоверии к слову как внешней форме речи, маскирующей мысль. (Опубликованный в 1921 году, «Трактат» был написан во время Первой мировой войны на основании фронтовых дневников, в которых упоминается Толстой.) Один исследователь слышит эхо идей Толстого в знаменитой формуле, заключающей «Трактат»: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». (При этом он указывает на завершающий «Исповедь» сон, который как бы заменяет весь рассказ.) Однако, как указывает тот же исследователь, молчать Толстому не удавалось1133'. Добавим, что здесь уместно вспомнить слова из позднего дневника Толстого: «Если не было противоречием бы написать о необходимости молчания, то написать бы теперь: Могу молчать. Не могу молчать. Только бы жить перед Богом <...>» (57: 6; курсив Толстого). В отличие от Витгенштейна-философа, для Толстого вопрос о невозможности говорить был вопросом религиозным.
ала
Вскоре после «Исповеди» Толстой после долгого перерыва вернулся к регулярному ведению дневника. В его поздних дневниках, после обращения, борьба с вопросом «Кто, что я?» продолжалась ежедневно и вполне сознательно: день ото дня Толстой работал над парадоксальной задачей описать «я», которое лежит за пределами времени и повествования. Чем старше он становился, тем сильнее было желание освободиться и от тела, и от личности, готовя себя к окончательному слиянию с Богом. И тем не менее Толстой время от времени возвращался к художественной литературе. Более того, он предпринял попытку написать свои мемуары или автобиографию. Следующая глава посвящена именно этим попыткам.
Глава 4
«Писать „свою жизнь"»: Толстой пытается написать автобиографию или мемуары
Первые попытки: биография писателя (1878) - «Моя жизнь»: «из своих воспоминаний и впечатлений» (1878)- «Воспоминания»: «полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений» (1903-1906) - «Воспоминания»: «Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу» - «Зеленая палочка»: «Ou suis-je? Pourquoi suis-je? Que suis-je?» - Место опытов Толстого в автобиографической традиции
Толстой дважды пытался написать свою жизнь в виде автобиографии или мемуаров, но обе попытки окончились неудачей. Как объяснить, что автор «Детства», «Войны и мира» и «Анны Карениной» оказался неспособным к этой, казалось бы, нетрудной задаче? Как он приступил к делу и почему потерпел неудачу?
Первые попытки: биография писателя (1878)
В 1878 году Николай Страхов (конфидент и редактор Толстого) готовил к печати подборку из его художественной прозы для антологии «Русская библиотека». Издатель попросил его предоставить краткую биографию писателя, и Страхов обратился к Толстому. Жена Толстого Софья Андреевна взяла эту задачу на себя, но когда биографический очерк был готов, Толстой вмешался в дело. Он объяснил Страхову (21-22 ноября 1878 года):
Биография <.> вышла превосходная для меня, и для меня только. <.> Мне интересно восстановить в памяти свою жизнь. И если Бог даст жизни и я когда-нибудь вздумаю писать свою историю, то это будет для меня канва чудесная; но для публики это немыслимо. Мы выберем на днях по вашим вопросам факты и пришлем вам11341.
Через несколько дней Толстой послал Страхову в письме новый вариант, основанный исключительно на фактах:
27-28 ноября 1878 г. Ясная Поляна
Граф Лев Николаевич Толстой родился в 1828 году, 28 августа, Тульской губернии, Крапивенского уезда, в сельце Ясная Поляна, родовом имении его матери, княжны Волхонской <.>
История его жизни разворачивается медленно, со многими деталями семейного происхождения, детства, отрочества и юности. Подробно представлена его служба в армии и начало деятельности писателя:
В 1851 граф Л. Н. Толстой поехал с <.> братом Николаем на Кавказ. <.> он поступил на службу <.> в 4-батарейную батарею 20-ой артиллерийской бригады, стоявшую в станице Старогладовской, на Тереке. На Кавказе граф Л. Н. Толстой в первый раз начал писать в романической форме. Им задуман был большой роман, из начала которого составились Детство, Отрочество и Юность <.>
Только три предложения описывают последние шестнадцать лет его жизни (1862-1878), после женитьбы, в которые Толстой стал отцом шестерых детей и автором двух знаменитых романов (которые он упоминает в одном ряду с учебниками для крестьянских детей):
В 1862 году Л. Н. Толстой женился в Москве на Софье Андреевне Берс. С той поры он безвыездно живет в именьи своем, Ясная Поляна, занимаясь воспитанием шестерых детей своих. В эти 16 лет написаны были Война и мир, Азбукаи Книга для чтения и Анна Каренина1135-.
Повествование о жизни - «родился», «поехал», «начал писать», «поступил на службу», «женился» - заканчивается в безвременном настоящем: «С той поры он безвыездно живет в именьи своем, Ясная Поляна <...>»
«Моя жизнь»: «из своих воспоминаний и впечатлений»
(1878)
В том же 1878 году (в год своего пятидесятилетия) Толстой предпринял и другую попытку написать свою жизнь. Напомню, что в это время Толстой был занят интенсивной перепиской со Страховым, в которой вопрос о том, «что такое моя жизнь, что я такое?», был поставлен в философском ключе. Начиная с апреля Толстой призывал своего корреспондента подойти к этой задаче и в биографической перспективе: рассказать свою жизнь. (История этой переписки изложена в Главе 2 настоящей книги.) Не сообщая об этом Страхову, Толстой и сам предпринял попытку описания своей жизни. 22 мая 1878 года он записал в дневнике: «Начал писать „свою жизнь"» (48: 70). Слова «свою жизнь» заключены в кавычки и подчеркнуты. (В апреле 1878 года Толстой после долгого перерыва возобновил свой дневник, но уже в июне вновь прекратил ежедневные записи, к которым он вернется только в 1881 году.) Что же это значило - писать «свою жизнь»?
Толстой начал свою историю, озаглавленную «Моя жизнь», просто: он повторил от первого лица начало своего биографического очерка: «5 мая 1878 года. - Я родился в Ясной Поляне, Тульской губернии Крапивенского уезда, 1828 года 28 августа. - » (23: 469). (Заметим, что рукопись датирована как если бы это была дневниковая запись: «5 мая 1878 года».) Затем он остановился и сделал комментарий методологического характера: «Это первое и последнее замечание, которое я делаю о своей жизни не из своих воспоминаний и впечатлений» (23: 469).
Как и его первый, относящийся к 1851 году, автобиографический замысел, «История вчерашнего дня» (в котором он поставил себе целью написать все «впечатления» вчерашнего дня), это был эксперимент. Толстой писал как писалось, наблюдая за собой, и то и дело вставлял комментарии о самом процессе писания.
Как явствует из этого комментария, Толстой нашел традиционный зачин биографического повествования неудовлетворительным. В самом деле, в автобиографии фраза «я родился», сделанная не на основе своих воспоминаний и впечатлений, так же неуместна, как и фраза «я умер»*136*.
Толстой продолжал свои замечания о методе. Прежде всего он прояснил свои интенции: «Я хочу попытаться описать все, что передумал и перечувствовал за эти 50 лет». Описать свое «внешнее положение», продолжал Толстой, было бы слишком легко; «описать все то, что сделало мою душу» было бы слишком трудно. Толстой решил попытаться найти середину: не делая догадок и предположений о том, как то или иное впечатление повлияло на развитие его личности, описывать «последовательно те впечатления, которые я пережил в эти 50 лет <...>, невольно избирая то, что оставило более сильные отпечатки в моей памяти» (23: 469).
Он начал с первых воспоминаний, с секции, озаглавленной «1828-1833», от рождения до пятилетнего возраста. Но прежде чем приступить к делу, Толстой заметил, что не может расставить свои первые воспоминания по порядку, а о некоторых даже не знает, «было ли то во сне, или наяву». Затем он перешел к воспоминанию:
Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (т. е. то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это ненужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для меня самого, но неудержимым (23: 469-470).
Толстой немедленно оговаривается, что он не уверен, относится ли это воспоминание к периоду младенчества и является ли оно воспоминанием в собственном смысле, но тем не менее настаивает на подлинности и значительности этого первого впечатления:
Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руку, или это пеленали меня уже, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятны мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому всё нужно, я слаб, а они сильны (23: 470).
Читатели последующих поколений могут увидеть в этих образах предвиденье психологических и художественных открытий будущего, таких как Deckerinnerungen Фрейда. Согласно Фрейду («Ьber Kindheits- und Deckerinnerungen», 1899), многие детские воспоминания представляют собой «экранные воспоминания», то есть проекции: это короткие сценки, сконструированные бессознательно, «почти как художественные произведения». Такие воспоминания имеют отчетливый визуальный характер: субъект как бы видит себя со стороны, но знает при этом, что ребенок - это «я сам». Анализируя одно воспоминание из своего собственного опыта, Фрейд пришел к выводу, что такие образы являются амальгамой нескольких разновременных воспоминаний и впечатлений и что они служат как «экран» для проекции проблем, которые беспокоят человека в тот момент, когда он вспоминает, наслаиваясь на ситуацию настоящего момента. Фрейд назвал такие воспоминания «ретрогрессивными». Но это не означает, настаивал Фрейд, что они не являются подлинными: это воспоминание не из детства, ао детстве, и, вероятно, это
Г1371
единственно возможные детские воспоминания .
Первое воспоминание Толстого можно рассматривать как символическое выражение тех проблем, которые занимали пятидесятилетнего писателя: сцена с пеленанием говорит о трудностях самовыражения (как объяснить себя другому) и о диалектике свободы и несвободы, которая возникает в отношении «я» и «другой».
Описывая свое первое воспоминание, Толстой использовал и образ, который он мог помнить из чтения Руссо (он знал многие пассажи из Руссо наизусть). Руссо сетовал в «Эмиле», что человек родится, живет и умирает в рабстве: при рождении его затягивают в свивальник, по смерти заколачивают в гроб, а в течение всей жизни человек скован социальными учреждениями, которые есть не что иное, как подчинение, стеснение, принуждение*138* Подкрепленное этими литературными ассоциациями, первое воспоминание Толстого заключает в себе целую философскую концепцию о насилии над человеком.
Как Толстой ни старался, ему удалось вспомнить лишь еще один эпизод из первых лет жизни: «Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый <.> запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце <...>» Это воспоминание о том, как новизна впечатления (запаха отрубей) «разбудила меня»: «я в первый раз заметил и полюбил мое тельце» (23: 470). (Заметим, что Толстой не единственный, для кого купание связано с осознанием своего тела*139*.)
Но если для современного читателя эти сцены кажутся предвестием таких опытов двадцатого века, как теории Фрейда (или проза Пруста), исследующих пути конструирования памяти, для Толстого их смысл был иным.
Толстого беспокоило то, что из первых пяти лет своего детства он мог вспомнить только отдельные впечатления: он не помнил, как его кормили грудью, как отняли от груди, как он начал ползать, ходить, говорить, и этот факт привел его к вопросам философского характера:
Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно; как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами (23: 470).
Эти философские вопросы восходят к понятию о памяти у Августина (в его «Исповеди») и в конечном счете к платоновской теории предсуществования души. Как и Августин, Толстой рассматривал ограничения памяти не как психологический феномен, требующий анализа (как это было с Фрейдом), а как богословскую проблему природы души.
Толстого беспокоила метафизическая проблема - то, что он мало помнил из своего младенчества и ничего не помнил из состояния до рождения, в которое он опять вступит после смерти. То «я», о котором здесь идет речь, - это бессмертная душа. Спрашивая себя, «когда же я начался?», и стараясь проникнуть в то состояние после смерти, «от которого не будет воспоминаний, выразимых словами», Толстой следовал за «Исповедью» Августина. (Об этом речь пойдет ниже.)
Толстой озаглавил следующую секцию «1833-1834», и здесь он столкнулся с трудностями технического характера: начиная с шестого года жизни воспоминаний было уже много, они вставали в его воображении без порядка, так что «трудно решить, какое было после, какое прежде, и какие надо соединить вместе и какие разрознить», то есть как организовать воспоминания в последовательность, в историю, в повествование (23: 473).
Одна из таких картин привела его к мысли, что воспоминания похожи на сны:
Я просыпаюсь, и постели братьев, самые братья, вставшие или встающие, Федор Иванович в халате, Николай (наш дядька), комната, солнечный свет, истопник, рукомойники, вода, то, что я говорю и слышу, - все только перемена сновидения (23: 473).
Эти образы напоминают начало «Детства» - знаменитую сцену пробуждения. Но если тогда, в 1852 году, Толстой использовал эту картину как отправную точку романного сюжета, начинающегося историей одного дня, сейчас, в 1878 году, он задумался о философском вопросе: как отличить сон от настоящей жизни, или яви. Толстой рассуждает об общей природе того, что он называет «сновидения ночи» и «сновидения дня»: «И основой для тех и других видений служит одно и то же» (23: 473).
Заметим, что эта проблема разработана Паскалем, который готов был предположить, что, как и время ночного сна, другая половина жизни, которую мы считаем явью, всего лишь второй сон, немногим отличающийся от первого, от которого мы пробуждаемся в смерти (Pens^ es, параграф 131).
Философскими рассуждениями о сне и яви закончился первый мемуарный замысел Толстого, «Моя жизнь» (в печатном варианте этот текст занимает около пяти страниц)1140 Опыт показал, что написать «свою жизнь» на основании воспоминаний и впечатлений было невозможно - и по техническим причинам (непонятно, как соединить их и расставить по порядку), и по метафизическим. Начав с, казалось бы, очевидного, «Я родился в Ясной Поляне <.> 1828 года 28 августа», Толстой вскоре перешел к философским рассуждениям о природе памяти и бессмертии души.
«Воспоминания»: «полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений» (1903-1906)
Толстой вернулся к мысли восстановить в памяти свою жизнь только в 1902 году. В это время его ученик и сотрудник Павел Бирюков взялся за составление биографии Толстого для французского издания его сочинений, и Толстой обещал предоставить ему сырой материал в виде своих «воспоминаний» или «автобиографии»11411. Но вскоре он начал колебаться. На этот раз его страшила другая трудность, а именно моральная проблема: как «избежать Харибды - самовосхваления (посредством умалчивания всего дурного) и Сциллы - цинической откровенности о всей мерзости своей жизни». Как он объяснил в письме к Бирюкову, Толстой чувствовал, что если «написать всю свою гадость, глупость, порочность, подлость - совсем правдиво, правдивее даже, чем Руссо, - это будет соблазнительная книга. Люди скажут: вот человек, которого многие высоко ставят, а он вон какой был негодяй, так уж нам-то, простым людям, и Бог велел» (73: 279, 20 августа 1902).
Заметим, что в это время Толстой уже был автором «Исповеди». Однако он все еще думает о книге воспоминаний о своей жизни - это явно другой замысел и другой жанр.
Толстой вернулся к этому замыслу только в декабре 1902 года, во время серьезной болезни и в мыслях о смерти: однажды ночью во время бессонницы он стал диктовать свои воспоминания. Первая серия записей, относящихся к детству, была отослана Бирюкову в феврале 1903 года. Между 1903 и 1906 годами Толстой записал и отослал еще несколько отрывков, из которых составился фрагментарный текст под общим заглавием «Воспоминания». Публиковать его при жизни Толстой не собирался (74: 141). У этих воспоминаний была другая цель - Бирюков начал работать над многотомной биографией Толстого, и эти записи послужили для него материалом11421.
Толстой предварил свои «Воспоминания» введением методологического характера, в котором описал самый процесс работы: сначала, незаметно для себя, он стал вспоминать только одно хорошее; затем он заболел, и во время болезни мысль его постоянно обращалась к воспоминаниям - «эти воспоминания были ужасны» (34: 345). Здесь Толстой процитировал «Воспоминание» Пушкина:
Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток; И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю.
В августе 1878 года Страхов, которого Толстой призывал тогда написать свою жизнь, процитировал эти строки Пушкина в письме к Толстому. Теперь, более чем через двадцать лет, Толстой повторил эти слова в применении к собственному замыслу, при этом он заметил: «я только изменил бы так: вместо строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю» (34: 345). Воспоминание стало для Толстого моральным актом.
Толстой читал свою жизнь с отвращением. Но вскоре он понял, что не вся жизнь была так ужасно дурна, и разделил ее на четыре периода: первые 14 лет, или «невинный» период детства; затем 20 лет «распущенности», то есть честолюбия, тщеславия и, главное, похоти; потом третий, 18-летний период, от женитьбы до «духовного рождения» - период жизни, не осуждаемой общественным мнением, но посвященной «эгоистическим интересам» семьи и литературы; и последний период, от «духовного рождения» до смерти, в котором он живет теперь и с точки зрения которого видит значение всей своей прошедшей жизни (34: 346-347).
Толстой придавал огромное значение своему замыслу: он намеревался написать такую «историю жизни», всех четырех периодов, которая «будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение» (34: 348).
Приступая к этой работе, он перечитал «Детство» и «пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, неискренно, литературно написано» (34: 348).
В «Введении» к своим «Воспоминаниям» Толстой поместил также запись из дневника, которую он сделал, когда, серьезно заболев, начал вспоминать о прошлом:
6 января 1903 г. Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет. Какое бы было мученье, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью <.> Да, великое счастье - уничтожение воспоминания; с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминаний, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное (34: 346).
Как явствует из этой записи, приступив к «Воспоминаниям», Толстой (как это было и с его первым мемуарным замыслом, «Моя жизнь») думает о воспоминаниях, которые простираются за пределы смерти.
Тогда пятидесятилетний Толстой размышлял о периоде до рождения (он спрашивал: «Когда я начался?»). Теперь, приближаясь к восьмидесяти, он думал о том, что будет после смерти. Тогда Толстой сожалел о пределах человеческой памяти (ему бы хотелось помнить больше); теперь он радовался тому, что воспоминания прекращаются со смертью. Помнить стало для него бременем.
Толстой не заметил противоречия: радуясь тому, что воспоминания уничтожаются со смертью, он тем не менее представлял себе, что и после смерти можно писать свою жизнь, только на чистой, белой странице.
«Воспоминания»: «Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу»
«Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне» - так Толстой начал свои «Воспоминания» (34: 351). Понимая, что невозможно писать только из своих непосредственных воспоминаний и впечатлений (как он пытался делать в отрывке «Моя жизнь»), он начал (в Главах 1 и 2) с истории семьи, которую знал по рассказам других. Ему было особенно важно восстановить «духовный образ» матери, которую он не помнил (мать умерла, когда Толстому было два года). Когда он приступил к тому, что пережил и помнил (в Главе 3), Толстой решил не говорить о «смутных младенческих, неясных воспоминаниях, в которых не можешь еще отделить действительности от сновидений» и начал с того, что ясно помнил, - с тех лиц, которые окружали его в первые годы (34: 355). Однако он отметил в рукописи, отосланной Бирюкову, куда относятся его первые воспоминания из отрывка «Моя жизнь», связав два текста (34: 375.)
Он описал отца (в Главе 3), бабушку (в Главе 4), двух тетушек (в Главах 5 и 6), решил не описывать учителя, потому что уже описал его в «Детстве» под именем Карла Ивановича, описал девочку-ровесницу, которая воспитывалась с Толстыми, Дунечку (в Главе 7), и затем остановился. Глава 8 начинается с рассуждения о трудностях писания:
Чем дальше я подвигаюсь в своих воспоминаниях, тем нерешительнее я становлюсь о том, как писать их. Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу, потому что я не помню этой связи и последовательности душевных состояний (34: 372). Толстой думал о разных способах организовать свои воспоминания. Так, у него явилась мысль бросить хронологический способ изложения и написать воспоминания, «связанные с каждой отдельной комнатой» (34: 600). Но это не принесло облегчения: воспоминания не шли. Он решил, что будет продолжать «как придется» (34: 372).
В Главе 8 Толстой пишет о ближайших людях прислуги, которые оставили в нем добрую память, потом переходит к описанию братьев и сестры, начиная с младшего, Митиньки. В Главе 9, прежде чем приступить к смерти Митиньки от чахотки в 1856 году, он делает замечание философского характера:
Как мне ясно теперь, что смерть Митиньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер. Как, где—я не знаю (34: 383, зачеркнуто Толстым).
Как показывает это замечание, в то время как Толстой боролся с техническими проблемами автобиографического повествования (в каком порядке расставить воспоминания), он думал и о жизни вне времени и пространства.
С описанием смерти Дмитрия «Воспоминания» остановились. Затем, решив писать как вспомнится, Толстой вспомнил о важном эпизоде из детства: «Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых далеких и милых и важных воспоминаний» (34: 385).
Это было воспоминание о брате Николеньке, имеющее явный символический смысл (оно часто цитируется биографами Толстого):
[он* объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья.) <.> Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру (34: 386).
Эта тайна, продолжал Толстой, была написана на зеленой палочке. Он заканчивает свое детское воспоминание просьбой похоронить его тело в том месте, где зарыта зеленая палочка:
Эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня. Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия <.> (34: 386).
Толстой пытался затем продолжать свое повествование (перейдя к воспоминаниям о брате Сереже), но вскоре вернулся к теме зеленой палочки, истолковав свое воспоминание в философском ключе: «Это состояние было первым опытом любви, не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к Богу» (34: 391).
Как и первое воспоминание Толстого (о страданиях младенца, затянутого в пеленки), образ муравьиного братства следует логике экранных воспоминаний, описанных Фрейдом: эта сцена из детства заключает в себе проекцию тех проблем, которые занимали Толстого в настоящем. В своих «Воспоминаниях» Толстой эксплицитно связал это детское воспоминание с сегодняшним днем:
Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает (34: 387). Вскоре после этого Толстой прервал свои «Воспоминания». Печатный текст составляет около 50 страниц, написанных, с большими перерывами, в течение более чем трех лет. Последний эпизод относится к 1837 году и описывает переезд семьи из Ясной Поляны в Москву. В это время Толстому еще не было десяти лет. В конце концов оказалось, что в описании собственной жизни он не способен продвинуться дальше детства. Незаконченный текст «Воспоминаний» был опубликован в 1911 году, через год после смерти Толстого . К этому времени сырые материалы воспоминаний Толстого были использованы Бирюковым в его биографии (первый том вышел в 1906 году)*144*.
В своем дневнике Толстой фиксировал ход работы над воспоминаниями. В июне 1903 года: «хотел продолжать воспоминания, но не мог: не берет» (54: 177, курсив Толстого). 17 августа 1904 года: «Воспоминания непременно надо записывать как вспомнится: какие времена, состояния, чувства живо вспомнятся и покажутся стоящими записи» (55: 76). (В этот день он также думал о том, что «надо оставить мысль отделывать свои сочинения», 55: 76.) 24 ноября 1904 года: «*В]оспоминания без порядка, а как придется» (55: 103). Вновь и вновь он писал о неудачных попытках продолжать «Воспоминания»*145*. В один из таких
дней Толстой записал свои философские рассуждения о природе времени и памяти и о сущности жизни:
Жизнь, истинная жизнь только в настоящем, т. е. вне времени. <.> Всегда в каждый момент жизни можно вспомнить это, перенести свою жизнь в настоящий момент, т. е. в сознание Бога. И как только сделаешь это, так отпадает все, что может тревожить, воспоминания прошедшего, раскаянье, ожидание или страх будущего <.> (55: 48-49). В этих строках Толстой переосмыслил само значение слова «вспомнить»: «вспомнить» надо
том, что истинная жизнь - вне времени, а значит, и вне памяти. В это время Толстой напряженно думал о прошлом: по просьбе Бирюкова он с большой неохотой читал черновик первого тома его биографии, во многом основанный на его воспоминаниях11461.
«Зеленая палочка»: «Ou suis-je? Pourquoi suis-je? Que
suis-je?»
Из этих автобиографических опытов ясно, что Толстой так и не мог решить, что же это значит - «писать „свою жизнь"». Описать только те впечатления, которые оставили сильные отпечатки в памяти? Написать историю своей жизни, которая будет полезнее людям, чем все тома его сочинений? В декабре 1904 года, когда работа над «Воспоминаниями» приостановилась, он начал еще один проект.
декабря 1904 года он отметил в дневнике: «Начал Кто я» (55: 104). В архиве Толстого имеются следы этого замысла. Как кажется, он взял чистый лист бумаги и написал заглавие: «Кто я». Начал он с вопросов: «Кто я? Где я? Зачем я? Кто я?»; затем перешел на французский язык: «Ou suis-je? Pourquoi suis-je? Que suis-je?» (36: 737). В архиве имеется и другой лист бумаги, на котором значится только: «Кто я? Где я? Зачем я? Кто я?» (по-видимому, Толстой написал, затем зачеркнул эти слова). 7 декабря он записал в дневнике: «Начал изложение веры» (55: 104). 11 декабря 1904 года: «Остановился в изложении веры» (55: 104). 9 марта 1905 года: «Писал „Кто я?" Ни хорошо, ни дурно» (55: 128). 6 апреля 1906 года: «Вчера попробовал „Зеленую палочку". Не пошло. Все не то» (55: 133). После многих попыток и переделок Толстой завершил небольшой очерк «Зеленая палочка», заглавие которого отсылает к одному из последних и самых значительных воспоминаний детства, помещенных им в незаконченных «Воспоминаниях»11471.
Этот очерк начинается с образа человека, просыпающегося после долгого сна в новом, незнакомом ему жилище, забыв все, что было прежде. Толстой рассуждает, что сначала такой человек постарался бы уяснить, кто и зачем поместил его в это место. Затем он задумался бы о своем происхождении. Но если речь идет о подлинном «я» («когда начался я, настоящий я»), человек не найдет удовлетворительного ответа:
Мне говорят, что я появился несколько лет тому назад из утробы моей матери. Но то, что появилось из утробы моей матери, есть мое тело, - то тело, которое очень много времени не знало и не знает о своем существовании и которое очень скоро, может быть, завтра, будет зарыто в землю и станет землею. То, что я сознаю своим я, появилось не одновременно с моим телом. Это мое я началось не в утробе матери и не по выходе из нее, когда отрезали пуповину, и не тогда, когда отняли от груди, и не тогда, когда я начал говорить (36: 407). Он предположил, что «я как будто никогда не появлялся, а всегда был и есть и только забыл свою прежнюю жизнь» (36: 407-408). В результате Толстой вынужден был признать: «я решительно не могу сказать, что я такое. Знаю только, что я и мое тело не одно и то же» (36: 408).
Как следует из этого опыта, биографическое повествование, основанное на воспоминаниях или на рассказах других, казалось Толстому неудовлетворительным ответом на занимавший его вопрос «Кто я?». Биографическое «я» («я родился в Ясной Поляне 1828 года 28 августа») - это не настоящее «я». Для Толстого дело было не в воспоминаниях о его жизни, а в существовании души вне времени и вне пространства.
Вопрос о том состоянии, до рождения и после смерти, от которого нет воспоминаний, выразимых словами, волновал Толстого уже тогда, когда в 1878 году он начал свой первый автобиографический опыт, «Моя жизнь». Теперь, в 1904-1905 годах, параллельно с плохо шедшей работой над «Воспоминаниями», в «Зеленой палочке» Толстой попытался определить себя в другом ключе. Он пришел к выводу, что ответы на вопрос «Кто я?» даются религией и без этих ответов нельзя жить на свете человеку (36: 407). В биографическом повествовании нельзя было найти ответа на этот вопрос. Можно предположить, что дело было в том, что повествование, начинающееся со слов «я родился», неизбежно должно было прийти к концу со смертью автора, а эта мысль была для Толстого неприемлемой.
И тем не менее он продолжал писать о себе и в биографическом ключе. Даже «Зеленая палочка», которая была попыткой другого, религиозного самоопределения, исходила из конкретного образа детства, зафиксированного в «Воспоминаниях». Впрочем эпизод с зеленой палочкой не упоминается в очерке Толстого, который целиком сводится к рассуждениям о природе души, и только заглавие отсылает к биографическому факту.
(Замечу, что и в «Воспоминаниях» идея Бога присутствует, но как бы за пределами текста: в последнем черновике, имеющемся в архиве Толстого, слово «Бог» написано крупными буквами на внутренней стороне обложки11481.)
После смерти Толстого в ноябре 1910 года его тело было захоронено в соответствии с желанием, впервые выраженным в «Воспоминаниях», на том месте на краю оврага, где была зарыта зеленая палочка. (На могиле нет ни креста, ни камня, ни надписи.) Завершая последний том своей биографии (для которой были написаны «Воспоминания»), Бирюков предложил символическое прочтение этого факта:
Потянулась процессия к могиле, вырытой у головы оврага, в лесу, в одной версте от дома, именно там, где, по преданию, была зарыта братом Николаем «Зеленая палочка», чудесный талисман, тайна возрождения человечества. <.> Любовь и Разум, озарявшие эту великую жизнь, освободились от оболочки личности. И наступила новая эпоха распространения
Г1491
великих идей .
Биограф Толстого сформулировал здесь парадоксальное желание, которое сам Толстой оставил без выражения, - надежду на то, что, несмотря на все, что он думал и писал о своем настоящем «я», вне времени и пространства, тайна возрождения человечества написана на его теле.
Место опытов Толстого в автобиографической традиции
Каково место опытов Толстого в литературной традиции автобиографии? Сам Толстой, приступая к своему замыслу, думал об известных прецедентах и решительно отвергал их. Так, он намеревался было писать «правдивее даже, чем Руссо» (73: 279), но отказался от этого плана по моральным соображениям, решив, что такая книга будет соблазнительной для читателя. Вспомнил он и о Гете и взял «Dichtung und Wahrheit», чтобы «видеть как писал Гете-старик», но нашел эту книгу неудовлетворительной: «нет искренней передачи впечатлений и чувств»^1501. И тем не менее попытки Толстого соотносятся с автобиографической традицией и смысл его экспериментов проясняется в рамках этой традиции.
Именно Руссо настаивал на том, что правда автобиографии лежит в передаче «чувств и впечатлений, которые оставили отпечатки в душе»*151*. В соответствии с этим принципом Руссо стремился восстановить в памяти «цепь переживаний», которыми было отмечено его развитие, для чего, он полагал, достаточно было «заглянуть поглубже в самого себя». По мысли Руссо, переживания были верным проводником к «истории души», а именно «последовательности событий», являвшихся «причиной или следствием» различных обстоятельств его жизни (а следовательно, именно «историей»):
У меня есть один только верный проводник, и я могу на него рассчитывать, - это цепь переживаний, которыми отмечено развитие моего существа, а через них - последовательность событий, являвшихся их причиной или следствием. <... > Я могу пропустить факты, изменить их последовательность, перепутать числа, - но не могу ошибиться ни в том, что я чувствовал, ни в том, как мое чувство заставило меня поступить; а в этом-то главным образом все дело. Непосредственная задача моей исповеди - дать точное представление о моем внутреннем мире во всех обстоятельствах моей жизни. Дать историю своей души обещал я, и, чтобы верно написать ее, мне не нужно документов, - мне достаточно, как я делал это до сих пор, заглянуть поглубже в самого себя . Толстой, который с юных лет разделял веру Руссо в надежность метода «заглянуть в себя», также пытался описать то, что он передумал и перечувствовал за свою жизнь, но когда он приступил к своим воспоминаниям, оказалось, что он не мог восстановить последовательность событий. От последовательного повествования - от «истории» (как своей души, так и своей жизни) - Толстой был вынужден отказаться.
До Толстого к мысли, что, следуя за своими воспоминаниями, невозможно восстановить последовательность событий, пришел Стендаль. В автобиографии «Жизнь Анри Брюлара» (La Vie de Henry Brulard), написанной в 1835-1836 годах, Стендаль (который писал о себе в третьем лице) сознательно следовал за Руссо в попытке «описать свои чувства в точности такими, как они были <.> сказать ли? как в „Исповеди" Руссо» (курсив Стендаля)*153*. Как и Руссо, он хотел ответить на вопрос «Кто я?». Но Стендаль знал, что, несмотря на намерение показать себя во всей правде, исповедь Руссо содержит ложь, хотя и не обязательно сознательную ложь. Стремясь, в свою очередь, к правде, Стендаль отказался от попытки восстановить последовательность чувств или впечатлений. Следуя за «мысленными образами», он записал не историю своей жизни (то есть не повествование, строящееся на строгой последовательности и причинно-следственных связях), а ряд отрывочных воспоминаний, в основном из детства. Он старался писать спонтанно, следуя логике памяти, без редактуры и поправок. (При этом Стендаль пользовался мнемоническими приемами - так, он мысленно проходил по комнатам своего детства.) Оставшиеся незаконченными, его мемуары были предназначены для печати в далеком будущем, и в тексте Стендаль то и дело обращался к читателю 1880, 1900 года и далее. Когда его мемуары были наконец напечатаны, в 1890 году, их фрагментарность и металитературные замечания, а также отказ от задачи предоставить читателю исповедь оказались вполне созвучными эпохе.
Независимо от того, знал ли Толстой об автобиографическом опыте Стендаля, его попытки были в некоторых отношениях сходными*154*. Как и Стендаль, Толстой, будучи сознательным последователем Руссо, писал после Руссо, и он не мог не писать иначе. Более того, к этому времени скептическое отношение к попыткам Руссо обнажить всю свою душу было неизбежным. (В Европе оно высказывалось уже романтиками, в России - Достоевским*155*.) Но дело было не только в мысли Толстого о «цинической откровенности о мерзости своей жизни», которая сопутствовала импульсу писать «правдивее даже, чем Руссо». Как и Стендаль, Толстой отказался от идеи последовательности и сюжетности автобиографического повествования. Во имя подлинности Толстой стремился писать как придется - как вспомнится. Но в отличие от Стендаля, который только надеялся на понимание со стороны читателя будущего (в 1880 или 1900 году), Толстой дожил до эпохи модернизма.
Когда в 1903 году Толстой приступил к своим «Воспоминаниям», и тем более когда в 1911 году они вышли из печати, фрагментарные повествования, ретрогрессивные «экранные» воспоминания, отказ от причинности и нестабильность личности казались многим современными и привлекательными. Достаточно вспомнить прозу Ницше и его автобиографическую книгу «Esse Ното» (опубликованную в 1908 году) и вдохновленные Ницше книги Василия Розанова «Уединенное» (1912) или «Опавшие листья» (1913-1915), которые представляют собой собрание отрывков: впечатлений, размышлений, афоризмов, дневниковых записей, внутренних диалогов. Но Толстой ничуть не ценил современные ему модернистские эксперименты. Разговор с Розановым в 1903 году оставил Толстого (но не Розанова) равнодушным. Не ценил Толстой и Ницше, хотя внимательно читал и цитировал его и даже сказал однажды, что «*н]екоторые выражения *Ницше* прямо как будто у меня взяты» (42: 622)*156*. Примечательно, что опубликованные в 1911 году «Воспоминания»
Толстого долго оставались не замеченными современниками*157*.
* * *
Мне представляется, что, как это было и с его «Исповедью», незаконченные автобиографические тексты Толстого имели много общего не с Руссо и не с современными ему модернистскими экспериментами, а с «Исповедью» Августина. С этой мыслью вернемся к вопросу о месте Толстого в традиции, вехами которой являются Августин и Руссо. (Речь об этом уже шла в Главе 3 в связи с «Исповедью» Толстого; тогда основное внимание было состредоточено на идее своего «я» в связи с жанром религиозного обращения, сейчас речь пойдет о природе памяти.)
«Исповедь» Августина, как известно, включает в себя не только историю его жизни и обращения, но и, в знаменитой Книге 10, философские рассуждения о природе времени и памяти. Для Августина «огромные палаты моей памяти» - это внутреннее пространство, где «находится все, что я помню из проверенного собственным опытом и принятого на веру от других», там, вспоминая, «что я делал, когда, где и что чувствовал в то время, как это делал», он «встречается сам с собой» (10.8.14)*158*. Понятие памяти включает и то, что недоступно для вспоминания: память удерживает образ забывчивости. При этом Августина занимает вопрос о том, каким образом он может вспомнить то, чего не помнит. «Кто сможет это исследовать? Кто поймет, как это происходит?» (10.16.24)*159*. Продолжая рассуждать о природе своей памяти, Августин приходит к знаменитому самоопределению: «вот я, помнящий себя, я, душа» (ego sum, qui memini, ego animus) (10.16.25). В этот момент Августин заменяет вопрос «Кто я?» на «Что я?», обращая его к Богу:
Велика сила памяти; не знаю, Господи, что-то внушающее ужас есть в многообразии ее бесчисленных глубин. И это моя душа, это я сам *et hoc animus est, et hoc ego ipse sum*. Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя? Жизнь пестрая, многообразная, бесконечной неизмеримости! (10.17.26).
В автобиографической части «Исповеди» Августин начинает повествование с младенчества, то есть с того, что он сам не помнит:
Я барахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям, - но знаки эти не выражали моих желаний. И когда меня не слушались, не поняв ли меня, или чтобы не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне, и свободные не служат как рабы, и мстил за себя плачем (1.6.8). При этом он руководствуется рассказом родителей. Но с вопросами о том, о чем некому рассказать и что не может быть основано на собственном опыте, Августин обращается к Богу:
Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим умершим возрастом моим, или ему предшествовал только период, который я провел в утробе матери
моей? О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных женщин. А что было до этого, Радость моя, Господь мой? Был я где-нибудь, был кем-нибудь? Рассказать мне об этом некому: ни отец, ни мать этого не могли: нет здесь ни чужого опыта, ни собственных воспоминаний (1.6.9).
Таким образом, Августин различает два типа воспоминаний о прошлом. С одной стороны, это собственные воспоминания и рассказы о том, что помнили другие; с другой - память о том, что было за пределами человеческого существования. (Августин следует здесь за платоновской и неоплатонической доктриной об анамнезисе - памяти о том, что душа созерцала до своего рождения, в божественном мире11601.) Второй тип памяти имел огромное значение для Августина: «забывчивость» лишала его доступа не только к младенчеству, но и к вечности11611
* * *
Вопросы Толстого в отрывке «Моя жизнь» о том, «когда же я начался», и о состоянии, о котором нет воспоминаний, выразимых словами, кажутся эхом знаменитых рассуждений Августина. На пороге двадцатого века Толстой оперировал в автобиографических опытах с концепцией памяти, подобной Августину (хотя он и уклонился в своей риторике от прямого обращения с вопросами к Богу).
Толстой не только знал Августина, но, в более поздние годы, обратил внимание именно на ту часть «Исповеди», где речь идет о памяти11621. Толстой пользовался двуязычным латино-французским изданием, содержавшим знаменитый янсенистский перевод Арно Д'Андийи (Arnauld D'Andilly) в модернизированном варианте11631. В яснополянской библиотеке по сей день имеется копия этого издания, и те пассажи в Главах 15-18 Книги 10, где речь идет о загадочной силе памяти и природе «я», отмечены Толстым. В копии Толстого (во французском тексте) отмечен тот самый пассаж, в котором Августин сформулировал свои два вопроса:
Mon Dieu, cette puissance de la m^moire est prodigieuse, et je ne puis assez admirer sa profonde multiplicitе, qui s'^tend jusqu'а l'infini. O, cette m^moire n'est autre chose que l'esprit; et je suis moi-mкme cet esprit. Que suis-je donc, ф mon Dieu! que suis-je, moi qui vous parle <.. .> (10.17.26)^.
(Выше этот пассаж процитирован в русском переводе.)
Мы не знаем, читал ли Толстой «Исповедь» Августина, когда он писал в 1878 году «Мою жизнь» (имеется свидетельство, что читал в 1884 году)11651. Если он прочел позже, то можно предположить, что рассуждения Августина о памяти оказались столь созвучны его собственным мыслям, что он подчеркнул соответствующие пассажи11661.
Более важным, чем вопрос о непосредственном заимствовании, кажется мне вопрос о месте автобиографических опытов Толстого в традиции, которая начинается с Августина и ведет к Руссо.
Между Августином и Руссо произошло фундаментальное изменение в понятии о темпоральности (временной протяженности) человеческой жизни. В «Исповеди» Августин указал на две проблемы в жизни человека, связанные со временем. Во-первых, жизнь конечна: человек по природе своей смертен. Во-вторых (что менее очевидно), существование времени приводит к тому, что человек не имеет непосредственного доступа к себе в настоящем: жизнь доступна нам только в опосредованном виде, через воспоминания и ожидания, из чего следует, что время приобретает ощутимое бытие лишь в процессе повествования. Стремясь преодолеть эти проблемы, Августин воспринимает человеческую жизнь с точки зрения Бога и божественной вечности. Руссо в своей «Исповеди» уже не возвращается к этим проблемам, оперируя с понятием биографического и исторического времени. После Руссо мысль о том, что условия человеческого существования неизбежно
имеют конечный и опосредованный характер, стала общепринятой. Философия и искусство нового времени - и литература, и живопись, и музыка - исходят из линейности времени11671.
После всех достижений нового времени Толстой в своих автобиографических опытах берет на себя задачу как что-то новое открывать принципы, сформулированные Августином в его «Исповеди». И в отрывке «Моя жизнь», и в «Воспоминаниях» Толстой настойчиво возвращается к идее, что настоящее «я» - это бессмертная душа. В своих повествовательных принципах Толстой - несмотря на такие протомодернистские черты, как фрагментарность и отказ от линейного повествования, - как бы стремится вернуться назад, к Августину, утверждая, что подлинное «я» и сущность человеческой жизни лежат за пределами биографии, за пределами индивидуальной памяти.
Подведем итоги. Как же объяснить, что Толстому не удалось написать автобиографию или воспоминания? Как он сам понимал, имелись проблемы морального, технического и метафизического характера. С моральной точки зрения Толстой опасался, что правдивое описание его жизни, по стопам Руссо и его «Исповеди», то есть исповедание во всей мерзости жизни, написанное знаменитым писателем и уважаемым человеком, введет читателя во искушение. С технической стороны он затруднялся построить последовательное и связное повествование на основании своих воспоминаний. Наконец, имелись и трудности метафизического характера: отказ Толстого признать, что и человеческая жизнь, и память ограничиваются пределами земной жизни.
Причины этих трудностей заключались в том положении, в котором Толстой находился в это время как в контексте истории идей, так и в рамках собственной жизни. Приближаясь к концу девятнадцатого века, он все более ощущал давление концепций в философии, историографии, литературе, искусстве и науке, которые строились на линейном протекании времени и идее эволюции и прогресса. В течение всего века, начиная от эпохи Просвещения, доминировали формы повествования, основанные на линейной последовательности и причинно-следственной связи событий. Историография, автобиография и реалистический роман следовали таким парадигмам11681. Толстой же чувствовал все возрастающее недоверие к таким повествовательным структурам - прежде всего потому, что они предполагали конечность. В своих автобиографических опытах он старался отойти от линейности исторического повествования.
Приступая к попыткам написать свою жизнь, Толстой понимал, конечно, что автобиографии и мемуары, как правило, ограничиваются пределами этой жизни, не стремясь описать существование до рождения или после смерти. Но именно в эти годы, между концом 1870-х годов и началом 1900-х, в мыслях о приближающейся смерти Толстой все более стремился определить свое «я» и свою жизнь иным образом, а именно вне пределов тела и времени. Полагаю, что, исходя из этого импульса, он отошел от автобиографических принципов современной литературы, начиная с Руссо, и стремился вернуться к Августину. В мемуарах Толстой хотел создать историю и философию своей души: его автобиографическое «я» - это «я, помнящий себя, душа».
В «Исповеди» Толстой уже написал сюжет своей жизни по канве Августина - сюжет обращения, историю пробуждения к вере и шаг на пути к Богу. Но «Исповедь» не содержала конкретных воспоминаний о его жизни, в частности о младенчестве и детстве. В отрывке «О жизни» и «Воспоминаниях» Толстой как бы пытался дополнить недостающее - добавить неясные воспоминания о младенчестве и рассуждения о конечности человека и природе памяти, которыми знаменита «Исповедь» Августина. При этом он ставил себе и другую задачу: абсолютной спонтанности, недоделанности, которая предполагала и отказ от линейного повествования. Он как бы хотел написать «Исповедь» Августина для своей эпохи, эпохи модернизма - но этого не мог сделать даже Лев Толстой.
Глава 5
«Так что же нам делать?» (1882-1889): проблема
«Я и другой»
«Зачем ты - человек из другого мира - остановился тут подле нас? Кто ты?» - Господин и Раб: Толстой переписывает Гегеля - Толстой и прачка - «Если это уж раз заведено»: государство, церковь, промышленность, науки и искусство - «Хозяин и работник» - Кода: неучастие в зле
«Зачем ты - человек из другого мира - остановился тут
подле нас? Кто ты?»
В 1881 году Толстой после многих лет жизни в Ясной Поляне неохотно переехал с семьей в Москву. Он начал было писать дневник: «1881, 5 Октября. Прошел месяц - самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. - <.> Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат» (49: 58).
Но дневник не пошел. В начале 1882 года Толстой начал работать над «статьей» обо всем том, что он «испытал» и «выжил», столкнувшись с городской жизнью (25: 741). Несмотря на обилие материала, работа шла плохо, с остановками и перерывами. Из замысла небольшой статьи под названием «Московские прогулки» вырос большой трактат, который после долгих колебаний был назван «Так что же нам делать?». В 1886 году Толстой приступил к публикации, но и тогда «статья» (как Толстой продолжал называть свое обширное произведение) не была закончена. В тексте ощутимы следы длительного процесса переживания и уяснения новой жизни.
Толстой писал от первого лица и начал с биографического факта:
Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 году переехал на житье в Москву, меня удивила городская бедность. Я знаю деревенскую бедность; но городская была для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенных нищих, не похожих на деревенских (25: 182)*169*.
Шаг за шагом в конкретных деталях он описывает одинокие прогулки по окраинам Москвы, полных нищими и бездомными, и попытки уяснить себе их положение. Однажды, идя по Афанасьевскому переулку (недалеко от своего нового дома), он увидел, как городовой сажает на извозчика опухшего от водянки и оборванного мужика. «Я спросил: „За что?" Городовой ответил мне: „За прошение милостыни"» (25: 183). Толстой взял другого извозчика и поехал за ними в полицейский участок. После нескольких таких историй Толстой прервал рассказ, чтобы поставить этический вопрос о своем положении по отношению к этим людям. Он вступил в диалог с самим собой:
«Зачем я пойду смотреть на страдания людей, которым я не могу помочь?» - говорил один голос. «Нет, если ты живешь здесь и видишь все прелести городской жизни, поди, посмотри и на это», - говорил другой голос (25: 186).
В последних словах слышится евангельское повеление из Апокалипсиса Иоанна: «Иди и смотри» (Откр. 6: 1). Подчиняясь этому повелению, в декабре, в морозный и ветреный день Толстой пошел к центру городской нищеты, к Хитрову рынку. (Он точен в описании времени, места и обстоятельств.) То, что он увидел, - толпы нищих, больных и бездомных, малолетних проституток, пьяных из разных классов населения, а также полицейских, забиравших тех, кто просил милостыню «ради Христа», в участок, - было для него образом нового мира, в котором он теперь жил: современной городской цивилизации.
Стремясь глубже проникнуть в этот мир, Толстой вызвался участвовать в переписи населения Москвы и выбрал район, в котором помещались притоны самой страшной нищеты, - Ржановскую крепость. В качестве работника переписи он уже не был фланером и получил возможность входить в жилища бедных и разговаривать с ними. Из этого опыта и вырос трактат «Так что же нам делать?», к которому Толстой периодически возвращался в течение 1880-х годов.
Заглавие трактата отсылает к вопросу, обращенному к Иоанну Крестителю теми, кто приходил креститься от него: «И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же» (Лк. 3: 10-11). Это заглавие вызывает в памяти и вопросы Канта, которыми началась переписка Толстого со Страховым о поисках веры в 1875 году: «Что я могу узнать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?» Тогда Толстой заметил, что все три вопроса нераздельно связаны в один: «Что такое моя жизнь, что я такое?» Тогда самым важным для Толстого был вопрос «На что я могу надеяться?». Теперь перед ним встал вопрос «Что я должен делать?». В 1886 году, когда его трактат впервые появился в печати (в незаконченном виде), он назывался «Какова моя жизнь?». Более полный текст под названием «Так что же нам делать?» вышел в Женеве в 1889 году. Как и в других случаях, поставить вопрос было непросто, но еще сложнее было найти ответ.
Первые главы трактата написаны в мемуарной форме. Один из ранних фрагментов был напечатан под названием «Из воспоминаний о переписи» (25: 750). Это размышления об опыте, который оказал значительное влияние на дальнейшую жизнь Толстого и на его представления о себе. В ходе дальнейшей работы Толстой перешел от воспоминаний и впечатлений к рассуждениям о причинах бедности и о своем положении по отношению к неимущим. В конечном варианте трактат соединяет в себе автобиографию, политическую экономику и этику.
В центре трактата, как мне представляется, стоит проблема «я и другой». Толстой подходит к этой проблеме в социальном ключе: «другой» - это те нищие и бездомные, обездоленные люди, которых он увидел на улицах Москвы. В Главе II Толстой подробно описывает, как, следуя за вереницей нищих, он оказался перед входом в Ляпинский бесплатный ночлежный дом. Ближайшие к нему люди смотрели на него и притягивали своим взглядом:
Во всех взглядах было выражение вопроса: зачем ты - человек из другого мира - остановился тут подле нас? Кто ты? Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучать нас, или ты то, что не бывает и не может быть, - человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос (25: 188). Толстой столкнулся с другим лицом к лицу, и он описывает эту ситуацию взгляд за взглядом, слово за словом, жест за жестом:
Как ни разделила нас жизнь, после двух, трех встреч взглядов мы почувствовали, что мы оба люди, и перестали бояться друг друга. Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. А было 8 градусов мороза. В третий или четвертый раз я встретился с ним глазами и почувствовал такую близость с ним, что уж не то что совестно было заговорить с ним, но совестно было не сказать чего-нибудь. Я спросил, откуда он. Он охотно ответил и заговорил; другие приблизились <...> (25: 188).
«Я» и «ты» увидели друг друга и почувствовали близость. Но вскоре разница в социальном и имущественном положении нарушила это чувство: один из мужиков попросил денег; Толстой дал. Затем попросил другой, третий, и толпа просящих осадила его. Толстой раздал все деньги, которые у него были, вернулся домой и сел с семьей за обед из пяти блюд.
В этот момент повествование достигает высокого эмоционального накала. Толстой вспоминает, как тридцать лет тому назад в Париже он видел, как человеку отрубили голову на гильотине. (В «Исповеди» этот эпизод представлен как один из ключевых моментов его
жизни.) И тогда, и теперь при виде голода, холода и унижения тысячи людей он всем своим существом чувствовал: «Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нем» (25: 190). Но что же он мог сделать?
я мог дать не только <.> те ничтожные деньги, которые были со мной, но я мог отдать и пальто с себя и все, что у меня есть дома. А я не сделал этого и потому чувствовал, и чувствую, и не перестану чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, пока у меня будет излишняя пища, а у другого совсем не будет, у меня будут две одежды, а у кого-нибудь не будет ни одной (25: 190). Толстой представил здесь свое моральное чувство в евангельских терминах, но вскоре он приступил к описанию практических действий, которые он предпринял.
Так, он описывает (в главе III) обширный план благотворительной деятельности с участием зажиточной части населения, который он обдумал и изложил в статье о переписи, и крушение этого плана. Потом шаг за шагом он описывает (в главах IV-XVI) собственные попытки, поделившись избытком, помочь деньгами тем обитателям притонов, с которыми он столкнулся в процессе работы для переписи. Он описывает, как, переходя из квартиры в квартиру, он не сумел найти таких несчастных, которым можно было бы «выдать деньги, и они из несчастных сделались бы счастливыми» (25: 202).
Обобщая свои наблюдения, Толстой приходит к неожиданному выводу. С одной стороны, он увидел в этих трущобах людей, которым немыслимо было бы помогать, потому что они были рабочие люди, привыкшие к труду и лишениям - «и потому стоявшие гораздо тверже меня в жизни». С другой - он увидел несчастных, которым не мог помогать:
Большинство несчастных, которых я увидал, были несчастные только потому, что они потеряли способность, охоту и привычку зарабатывать свой хлеб, т. е. их несчастие было в том, что они были такие же, как и я (25: 224).
Итак, ближе познакомившись с несчастными, Толстой сформулировал свое новое понимание проблемы «я и другой»: «я в них, как в зеркале, видел самого себя» (25: 207). Толстой посмотрел в зеркало другого человека и увидел в нем себя.
Теперь (когда он писал эту статью) Толстой понимал ошибку того, что он делал тогда, во время своих первых опытов помощи неимущим:
Я чувствовал тогда, что моя жизнь дурна и что так жить нельзя. Но из того, что моя жизнь дурна и так нельзя жить, я не вывел тот самый простой и ясный вывод, что надо улучшить свою жизнь и жить лучше, а сделал тот странный вывод, что для того, чтобы мне было жить хорошо, надо исправить жизнь других; и я стал исправлять жизнь других (25: 227). Диалектика «я и другой» принимает новый оборот: заглянув в жизнь «другого», «я» обращается к самому себе.
Прежде чем продолжать свои философские рассуждения, Толстой (как он уже делал и будет делать не раз в ходе своего повествования) повторяет то, что он знал не мыслью, а чувством:
То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя и нельзя, - это одно была правда (25: 243).
Теперь Толстой вновь обращается к вопросу «Кто, что я?», на этот раз формулируя его в терминах «я и другой». Он спрашивает себя: «Кто такой я, тот, который хочет помогать людям?» (25: 245). Ответ заставляет его взглянуть на свою жизнь с новой, политико-экономической точки зрения:
Я всю свою жизнь провожу так: ем, говорю и слушаю; ем, пишу или читаю, т. е. опять говорю и слушаю; ем, играю, ем, опять говорю и слушаю, ем и опять ложусь спать, и так каждый день, и другого ничего не могу и не умею делать. <.> И для того, чтобы я мог это делать, нужно, чтобы с утра до вечера работали дворник, мужик, кухарка, повар, лакей,
кучер, прачка; не говорю уже о тех работах людей, которые нужны для того, чтобы эти кучера, повара, лакеи и прочие имели те орудия и предметы, которыми и над которыми они для меня работают: топоры, бочки, щетки, посуду, мебель, стекла, воск, ваксу, керосин, сено, дрова, говядину (25: 246).
Этот анализ приводит к важному заключению: «И все эти люди тяжело работают целый день и каждый день для того, чтобы я мог говорить, есть и спать» (25: 246).
Толстой описывает свою ситуацию в конкретных терминах. И тем не менее, как мне представляется, в основе этих бытовых ситуаций лежит философская парадигма: диалектика господства и рабства, восходящая к Гегелю.
Господин и Раб: Толстой переписывает Гегеля
Диалектика отношений Господина и Раба (Herr und Knecht) у Гегеля в «Феноменологии духа» описывает и исторические условия рабства, и процесс самоопределения духа, или самосознания. Толстой в своем описании столкновения «я» и «ты», начавшегося перед воротами ночлежного дома, драматизирует схему Гегеля.
Позволю себе изложить основные параметры этой широко известной, многократно переосмысленной парадигмы. Самоопределение нуждается в «другом»: «я» отчуждает само себя в самосознании; «я» встречает «другого». Сначала «я» видит в «другом» лишь самого себя. Но подлинное самоопределение возникает только в результате взаимного признания, путь к которому идет через напряжение, конфликт и борьбу. Та же структурная схема приложима к социальной сфере (чему интерпретаторы Гегеля уделяют значительно больше внимания). В социальном ключе борьба между «я» и «другим» должна иметь исходом или смерть, или подчинение одного другому. Так рождается различие между Господином и Рабом. Диалектика их отношений получает дальнейшее развитие, в котором фундаментальным фактором становится труд. Господин живет за счет труда порабощенного им Раба. При этом жизнь Господина, движимого желанием, сводится к потреблению продуктов рабского труда. Раб же, производя вещи, не только овладевает материальным миром, но и ставит Господина в зависимость от этого производства, а таким образом и от себя. В этом смысле Господин является Рабом порабощенного им Раба .
В истории идей эта парадигма имеет и источники, и последствия. Среди источников Гегеля указывали на идеи Руссо в его трактате «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (в котором встречается и фраза «les maнtres et les esclaves»)*171* (Можно предположить, что Толстой, которому многие страницы Руссо были так близки, как будто он их сам написал, заимствовал схему Гегеля именно потому, что за ней он видел тень Руссо.) Как известно, Карл Маркс развил схему Гегеля в политико-экономическом анализе системы эксплуатации и процесса производства, предложив и путь к революционному обращению отношений Раба и Господина. Согласно другой интерпретации, Александра Кожева, в ходе истории отношения Господина и Раба должны привести к снятию противоречия: Господин и Раб получат синтез в Гражданине универсального и гомогенного государства. (В философском ключе, по Кожеву, человек как самосознание будет действительно человеком как в собственных, так и в чужих глазах, только в качестве признанного «другим»*172*.) Для многих комментаторов Гегеля диалектика Господина и Раба - это универсальная парадигма, описывающая не только становление самосознания в столкновении «себя и другого», с одной стороны, и диалектику общественных отношений, с другой, но и такие абстрактные понятия, как отношения духа и материи, души и тела, созерцания и деятельности, которые также управляются диалектикой господства и подчинения*173*. Как указал Жан Ипполит, гегелевская диалектика Раба и Господина представляет собой и модель отношений между человеком и Богом *174*.
В России тема Господина и Раба имела особый резонанс благодаря крепостному праву: до 1861 года едва ли не каждый образованный русский был владельцем рабов. Диалектика господства и рабства запечатлена в самом языке: многие авторы использовали палиндром барин-раб или фразу барство и рабство. Яркий пример - роман Гончарова «Обломов» (1859), в центре которого стоит анализ диалектики отношений Обломова и его крепостного слуги Захара, получивший социологическую интерпретацию в знаменитой статье Николая Добролюбова «Что такое обломовщина?» (1859). Современным читателям были памятны слова Добролюбова об Обломове: «Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который из них более подчиняется власти другого».
Толстой в своей «Исповеди» назвал владение крепостными среди своих страшных грехов: «Я убивал людей на войне <.> проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал» (23: 5). В то время когда Толстой писал «Так что же нам делать?», многие из его бывших крепостных в Ясной Поляне продолжали зависеть от него, а в городском доме он был окружен слугами, в основном тоже бывшими крепостными, хотя и получавшими теперь жалованье.
В своем трактате Толстой предлагает обширный обзор отношений господства и подчинения, написанный в политико-экономических терминах (Главы XVII-XXI). Убедившись на личном опыте в невозможности решить проблемы неравенства деньгами, он обращается к проблеме денег и затем шаг за шагом рассматривает те факторы и учреждения, которые приводят к властвованию одних людей над другими, такие как земля, капитал, труд. При этом Толстой подвергает критике многие установившиеся положения экономической науки. Работник, рассуждает Толстой, лишен земли и орудий труда. Право собственности на землю и на орудия труда - это зло, равноценное утверждению права собственности на личность другого человека (25: 252). Толстой затем дает краткий исторический обзор завоевания и порабощения одних народов другими, от древности к Средним векам и далее. Тема денег остается для него важной. Другая тема вскоре выходит на первый план: насилие человека над человеком, совершающееся под угрозой смерти. «Всякое порабощение одного человека другим основано только на том, что один человек может лишить другого жизни» (25: 271). С этим положением (к которому он возвращается снова и снова) Толстой следует за Гегелем. (По Гегелю, борьба между Господином и Рабом - это борьба не на жизнь, а на смерть; Раб подчиняется именно под угрозой физического уничтожения.) Рассмотрев различные способы порабощения людей насилием, Толстой приходит к утверждению, что в «цивилизованном мире» и сегодня рабство не уничтожено, включая и Америку после освобождения рабов, и Россию после отмены крепостного права: рабство продолжается в других, узаконенных формах, в частности в виде земельного и податного, то есть денежного, порабощения и в форме воинской повинности (25: 279-281). Где есть насилие, возведенное в закон, там есть и рабство (25: 289).
Толстой не называет источники своих рассуждений ни из философии, ни из политической экономии. В черновом наброске к трактату значится, что он не раз обращался к экономической науке и трижды садился, чтобы прочесть «Бастиа, Милля, Ласалля, Прудона и Маркса», но каждый раз бросал книги и говорил себе, что «или я глуп <.> или все, что написано в этих книгах, есть величайший вздор». К такому же выводу он пришел, читая в ходе работы над своей «статьей» современные сочинения по политической экономии (25: 634).
И тем не менее можно предположить, что помимо Руссо и Гегеля Толстой пользовался и Марксом. В частности, использование Толстым понятия «отчуждения», как он применяет его в своем анализе организации труда и отчуждения работника от орудий производства, напоминает идеи Маркса. (Заметим, что, вернувшись в 1900 году в статье «Рабство нашего времени» к теме современного рабства, Толстой уже прямо ссылался на Маркса и что хорошо проработанный экземпляр «Капитала» имелся в яснополянской библиотеке11751.) Однако для Толстого идея рабства не ограничивается политико-экономичекой сферой. Как и Маркс, он видит сущность рабства в условиях денежного и товарного производства. Как и Гегель, он заинтересован не только в диалектике социальных отношений, но и в философском смысле отношений «я и другой». Еще больше его интересует моральная сторона проблемы. Более того, как мы увидим, для Толстого за диалектикой Господина и Раба стояли и отношения Бога и человека.
Закончив свой обширный политико-экономический экскурс, Толстой возвращается (в главе XXII) к тому, что является для него главной проблемой: его собственное положение в этой системе отношений. «Я захотел помогать несчастным <...>» - вот начальный пункт рассуждений Толстого (25: 291). Желая помочь несчастным, он начал давать деньги, но вскоре увидел, что это нелепость. Толстой затем предлагает читателю теоретическое рассуждение о том, что есть деньги, но не для того, чтобы рассуждать, а для того, чтобы разрешить жизненно необходимый вопрос «что делать?» (25: 291-292). Он приравнивает свое нынешнее положение к положению рабовладельца:
Когда я был рабовладельцем, имея крепостных, и понял безнравственность этого положения, я вместе с другими людьми, понявшими то же, в то время старался избавиться от этого положения. <.> То же самое я не могу не делать относительно теперешнего рабства <.> (25: 293).
Ответ на вопрос «что делать?» предлагается (в главе XXIII) в экономических терминах:
Я сделал следующий простой вывод: что для того, чтобы не производить разврата и страданий людей, я должен как можно меньше пользоваться работой других и как можно больше самому работать (25: 295).
Затем Толстой переводит это положение на язык евангельских заповедей:
Для того, кто точно искренно страдает страданиями окружающих его людей, есть самое ясное, простое и легкое средство <.> то самое, которое дал Иоанн Креститель на вопрос его: что делать, и которое подтвердил Христос: не иметь больше одной одежды и не иметь денег, т. е. не пользоваться трудами других людей. А чтобы не пользоваться трудами других - делать своими руками все, что можем делать (25: 295).
Заметим, однако, что «не иметь больше одной одежды» - это не совсем то, что говорил Иоанн Креститель. Смысл его заповеди - «у кого две одежды, тот дай неимущему» - не в том, чтобы не иметь, а в том, чтобы отдать другому.
Толстой, как это ему свойственно, конкретен в своих предписаниях: нужно самому нарубить дрова, вычистить калоши, принести воду и вылить грязную (25: 296). Если же описать его решение вопроса в философских терминах, то получим следующее: Толстой предлагает снять противоречие между Господином и Рабом не за счет взаимного признания, а за счет отрицания другого. Не пользуясь трудами других и беря на себя самого труд Раба, Господин становится завершенным человеком, который не зависит от Раба, но при этом он исключает себя из сферы отношений с Рабом: «я» оказывается отрезанным от «другого». Это не то, что имел в виду Гегель.
Известно, что Толстой сделал попытку провести эти принципы в жизнь. В 1884 году он разработал в дневнике конкретную программу для всей семьи: «Жить в Ясной. Самарский доход отдать на бедных <.> Прислуги держать только столько, чтобы помочь нам переделать и научить нас <.> обходиться без них. Жить всем вместе: мущинам в одной, женщинам и детям в другой комнате. <.> Все лишнее: фортепьяно, мебель, экипажи - продать, раздать <...>» (49: 122-123). Хотя эти планы не вызвали одобрения со стороны семьи, он, к неудовольствию Софьи Андреевны и недоумению прислуги, принялся сам убирать комнату, выносить горшок и приносить воду, стараясь вовлечь в это и младших детей, и даже пытался сам шить сапоги. Свои попытки Толстой описывал в дневнике: «*8 марта 1884 года* Встал в 9, весело убрал комнату с маленькими. Стыдно делать то, что должно - выносить горшок. <.> Шил долго и приятно сапоги» (49: 64). В 1884 году он сделал первую попытку уйти из дома. В 1891 году Толстой распределил имущество между женой и детьми, как будто бы его уже не было в живых. (Он предпочел бы отдать имущество крестьянам.) Толстой отказался от авторских прав почти на все свои произведения, написанные после 1881 года. (Он предпочел бы отказаться от авторских прав - и авторства - на все свои сочинения.) С годами напряжение между Толстым и Софьей Андреевной все росло; оба были очень несчастны.
Толстой и прачка
Завершив длинный экскурс в область политической экономии, Толстой возвращается (в главе XXIV) к своим непосредственным впечатлениям о жизни бедных в Москве. В марте прошлого, 1884 года к нему пришел один из несчастных, с которым Толстой сошелся во время своих прогулок, и рассказал, что случилось у них в Ржаном доме в эту ночь. Толстой пересказывает его историю:
В той ночлежной квартире, в нижнем этаже, в 32 номере, в котором ночевал мой приятель, <.. .> ночевала и прачка, женщина лет 30-ти, белокурая, тихая и благообразная, но болезненная. <.> ЦО]на задолжала за квартиру и чувствовала себя виноватой, и потому ей надо было быть тихой. Она все реже и реже могла ходить на работу - сил не хватало, и потому не могла выплачивать хозяйке. Последнюю неделю она вовсе не ходила на работу и только отравляла всем, особенно старухе, тоже не выходившей, жизнь своей перхотой. <.> [Х]озяйка отказала прачке и сказала, чтобы она выходила из квартиры, коли не отдаст денег <.> Городовой с саблей и пистолетом на красном шнурке пришел в квартиру и, учтиво приговаривая приличные слова, вывел прачку на улицу.
Был ясный, солнечный, неморозный мартовский день. Ручьи текли, дворники кололи лед. Сани извозчиков подпрыгивали по обледеневшему снегу и визжали по камням. Прачка пошла в гору по солнечной стороне, дошла до церкви и села, тоже на солнечной стороне, на паперти церкви. Но когда солнце стало заходить за дома, лужи стали затягиваться стеклышком мороза, прачке стало холодно и жутко. Она поднялась и потащилась. Куда? Домой, в тот единственный дом, в котором она жила последнее время. Пока она дошла, отдыхая, стало смеркаться. Она подошла к воротам, завернула в них, поскользнулась, ахнула и упала.
Прошел один, прошел другой человек. «Должно, пьяная». Прошел еще человек и спотыкнулся на прачку и сказал дворнику: «Какая-то у вас пьяная в воротах валяется, чуть голову себе не проломил через нее; уберите вы ее, что ли!»
Дворник пошел. Прачка умерла (25: 299-300).
Выслушав этот рассказ, Толстой пошел в Ржанов дом узнать подробнее об истории прачки. Погода была прекрасная, солнечная, и на припеке солнца, на Хамовнической площади, снег таял и вода бежала. Слышался звон колоколов и звуки пальбы по мишеням из солдатских казарм. В Ржаном доме Толстой застал чтение дьячка над покойницей. Он взглянул на мертвую прачку: «чистое бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом <...>» (25: 301). Обращаясь к читателю, Толстой настаивает на подлинности этой истории: это так точно было, в одну ночь, в марте 1884 года (он не помнил только числа) (25: 300). В самом деле, история эта подлинная - она упоминается Толстым в его дневнике 27 марта 1884 года (49: 74) и в письме к Владимиру Черткову, написанном в тот же день (85: 42-43).
Рассказав эту историю, Толстой возвращается (в главе XXV) к своему вопросу: «Но что же делать? Ведь не мы сделали это?» Он немедленно добавляет: «Не мы, так кто же?» (25: 307). Он говорит здесь от лица людей своего класса и образования - для того, чтобы решительно отказаться от членства в сообществе, которое представляет это «мы». «Мы говорим: не мы это сделали. <.> Но это - неправда» (25: 307). Вспомним, как Толстой описал, что он чувствовал, когда впервые увидел голодных и холодных у Ляпинского дома: «то, что я виноват в этом и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя и нельзя, - это одно была правда» (25: 243). Толстой формулирует свое личное (а не политико-экономическое) понимание того, в каких отношениях находятся Господин и Раб, на примере его собственного отношения к мертвой прачке:
Я люблю чистоту и даю деньги только под тем условием, чтобы прачка вымыла ту рубашку, которую я сменяю два раза в день, и эта рубашка надорвала последние силы прачки, и она умерла (25: 306).
Ему ясно, и что надо делать: не менять два раза в день и не отдавать прачке мыть рубашку, то есть как можно меньше пользоваться работой других.
Едва ли можно считать случайным, что, отвечая на вопрос «что же нам делать?», Толстой использует в качестве примера именно рубашку - он имеет в виду евангельскую заповедь о «рубашке», или «одежде». Заметим, однако, что ответ Толстого отличается от того, который дал Иоанн («у кого две одежды, тот дай неимущему»): вместо того чтобы отдать одну рубашку другому, Толстой предпочитает вовсе не иметь одежды.
В гегельянских терминах, Толстой решает проблему отношений между «я» и «другой» тем, что радикальным образом изымает себя из отношений с другим. Вместо взаимного признания, которое виделось Гегелю и его последователям, - самодостаточность.
(Возможно, в этом Толстой следовал за Руссо, идеалом которого в «Общественном договоре» и в «Эмиле» был Робинзон Крузо на необитаемом острове - один, лишенный помощи себе подобных и всякого рода орудий, обеспечивающий, однако, себе пропитание и самосохранение*176*.)
«Если это уж раз заведено»: государство, церковь, промышленность, науки и искусство
.если это уж раз заведено <.> Уж начали, попортили, так отчего же и мне не попользоваться? Ну, что же будет, если я буду носить грязную рубашку? Разве кому-нибудь будет легче? - спрашивают люди, которым хочется оправдать себя (25: 306). Толстой яростно нападает (начиная с главы XXVII) на самооправдания тех, кто пользуется трудом других, а именно людей государства, церкви, промышленности, науки и искусства. С его точки зрения, общественные заведения - суды, земства, полиция, церковь, банки, торговля, фабрики, железные дороги, академии, университеты, школы, музеи, библиотеки - производят деятельность, сопряженную с насилием над рабочими людьми и сообразную с личной выгодой людей, занятых в этих учреждениях. Люди этих родов деятельности освободили себя от «труда» (под чем Толстой понимает физический труд), наложив эту повинность на других, твердо уверенные при этом, что приносят пользу. «Как могли люди впасть в такое удивительное заблуждение?» (25: 314).
Толстой затем подвергает критике теории, которые служат оправданием существующего порядка вещей, причем главной мишенью оказывается «столь долго царствующая теория Гегеля с его положением разумности существующего и того, что государство есть необходимая форма совершенствования личности<.. .>» (25: 317). Толстой перефразирует здесь известное высказывание из «Философии права» («Was vernьnftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernьnftig»). Упрощая, согласно русской традиции, идею Гегеля, он видит в ней призыв к принятию существующего государственного устройства и в этом качестве - carte blanche на насилие человека над человеком*177*.
Заметим, что Толстой и раньше не упускал случая отметить свое негативное отношение к Гегелю как к слабому мыслителю и пустому человеку, от которого «нечего взять»*178*. Тем не менее в трактате «Так что же нам делать?» Толстой, не называя Гегеля, активно
использует его парадигму господства и рабства; при этом он открыто нападает на его отношение к власти и государству.
Обратившись (в главе XXVIII) к подробному объяснению заблуждения, что можно жить чужим трудом, Толстой поясняет, что целых три «вероучения» сплотились, чтобы оправдать этот обман (25: 326). Первое - это «церковно-христианское вероучение», оправдывающее различие между людьми волей Божией. Второе - «государственно-философское вероучение», выразившееся вполне в Гегеле («все разумно, все хорошо, ни в чем никто не виноват») (25: 327). Во времена его молодости, иронически замечает Толстой, «гегельянство было основой всего», а теперь «об нем нет и помину»; также исчезнет и «лжехристианство»11791. (По свидетельству и других современников, в 1840-е годы философия Гегеля пользовалась авторитетом религии или веры11801.) И наконец, существует и третье, ныне царствующее вероучение, выдвинутое новым классом людей, не служащих ни церкви, ни государству (25: 327; 330).
Толстой останавливается затем на оправдательных теориях этого нового сословия. Эти люди нападают на слуг церкви, государства и войска, признавая их деятельность вредною, и уже не опираются на идеи «божеского избрания» или «философского значения государства»; во главе этого нового сословия стоят ученые и художники. Думаю, что Толстой нападает здесь на так называемую русскую интеллигенцию (не называя этого слова), с его точки зрения - еще один паразитический класс.
«Царствующее сословие ученых и художников» оправдывает свое освобождение от труда разделением труда: одни люди выполняют «мускульную» работу, другие - «мозговую» (25: 330). Но прежде чем перейти к этой теме, Толстой (в главах XXIX-XXX) кратко описывает и отвергает различные умственные теории - и философские учения (от Платона до Гегеля), и современные научные воззрения (Мальтуса, Дарвина, Конта, Спенсера). Затем он возвращается к идеологии нового паразитического класса, занятого интеллектуальным трудом, и обращается (в главе XXXI) к идее разделения труда на физический и умственный. (При жизни Толстого теория разделения труда, разработанная Адамом Смитом, была вполне актуальной, получив новое развитие после Дарвина, в частности в «Капитале» Маркса.) «Разделение труда!» (25: 348). Одни заняты умственной, духовной, другие - мускульной, физической работой. Людям нового сословия, сословия умственного труда, кажется, что происходит правильный обмен, а происходит самое простое, старое насилие (25: 348). В наше время не люди церкви или государства, а именно люди науки и искусства являются главными адептами такого насилия.
Здесь Толстой возвращается к теме, которую он затронул в «Исповеди», когда писал о сакрализации искусства и возведении художников в статус жрецов. Тогда он отрекался от ложной веры и от чина жреца этой веры; сейчас, вооруженный понятиями, заимствованными из политической философии и экономики, он подвергает эту ситуацию разностороннему анализу. Так, он возвращается (в главе XXXII) к гегельянской парадигме Господина и Раба, применяя ее к людям духовного и физического труда. Этот агрумент сформулирован в терминах диалога между «я» и «ты» (или «вы»):
Ты, или скорее вы (потому что всегда многим надо кормить одного), вы меня кормите, одевайте, делайте для меня всю ту грубую работу, которую я потребую <...>, а я буду делать для вас <.> умственную работу <.> Вы давайте мне телесную, а я буду давать духовную пищу (25: 349).
Этот расчет, рассуждает Толстой, был бы верен, если бы это был свободный и взаимный обмен и условия труда были бы одинаковы. Между тем дело обстоит иначе. Производитель духовных ценностей говорит: «Для того, чтобы я мог вам дать духовную пищу, вы кормите, одевайте меня, выносите за мной мои нечистоты» (25: 349). В свою очередь, каждый работник мог бы сказать: «Прежде чем мне служить вам телесной пищей, мне нужна духовная пища, и, не получив ее, я не могу работать <...>» (25: 349).
Этот гипотетический диалог затем подвергается проверке практикой: «Что, если рабочий скажет это? И если он скажет это, ведь это будет не шутка, а только самая простая справедливость» (25: 350). В этот решительный момент Толстой начинает говорить от первого лица множественного числа («мы»). Он включает себя в число тех «ученых и художников», тех «производителей духовной пищи», тех «мы», которые живут трудом других людей, и в его словах звучит жестокая ирония:
Что же ответим мы, люди умственного труда, если нам предъявят такие простые и законные требования? Чем удовлетворим мы их? Катехизисом Филарета <.> и листками разных лавр и Исакиевского собора - для удовлетворения его религиозных требований; сводом законов и кассационными решениями разных департаментов и разными уставами комитетов и комиссий - для удовлетворения требований порядка; спектральным анализом, измерениями млечных путей, воображаемой геометрией, микроскопическими исследованиями, спорами спиритизма и медиумизма, деятельностью академий наук - для удовлетворения требований знания <...>? (25: 350).
Авторский тон достигает особой эмоциональной интенсивности, когда речь заходит об эстетических потребностях работника физического труда:
Чем удовлетворим его художественным требованиям? Пушкиным, Достоевским, Тургеневым, Л. Толстым, картинами французского салона и наших художников, изображающих голых баб, атлас, бархат, пейзажи и жанры, музыкой Вагнера или новейших музыкантов? Ничто это не годится и не может годиться <.> (25: 350). В этот момент становится ясно, что «Л. Толстой», известный русский писатель, - это не тот человек, который является автором «Так что же нам делать?».
(Что касается картины состояния живописи и музыки, то она вполне соответствует представлениям о том, что такое искусство и каково его назначение, к которым Толстой позже пришел в своем знаменитом трактате «Что такое искусство?»*181*.)
Толстой возвращается (в главе XXXIII) к идее исторической смены власти: «было время, когда церковь руководила духовной жизнью людей», затем это делало государство, теперь - наука и искусство, в свою очередь злоупотребляя властью для того, чтобы пользоваться трудом, нищетой и страданиями других людей (25: 352-354). Он обрушивается на теорию прогресса, вступая (в главах XXXV-XXXVII) в диалог с теми из своих современников, кто оправдывает существование наук и искусств тем, что они движут вперед человечество. Толстой поясняет, что не отрицает науку и искусство, но выступает во имя «истинной науки и истинного искусства» (25: 363). «Деятельность научная и художественная в ее настоящем смысле только тогда плодотворна, когда она не знает прав, а знает одни обязанности» (25: 373). Истинное искусство должно быть «понятно» и «полезно» народу. (Каковы эти обязанности и как именно быть понятным и полезным народу - этого Толстой не проясняет.)
«Так что же нам делать? Что же нам делать?» - повторяет вновь Толстой в начале главы XXXVIII (25: 376). (Он поясняет, что «мы» - это те, кто находится в положении людей привилегированных, то есть людей умственного труда.) Обращаясь затем к себе самому («я»), он дает несколько ответов: «Прежде всего, на вопрос, что делать, я ответил себе: не лгать, ни перед людьми, ни перед собой <...>» (25: 376). Тот, кто не будет лгать перед собой, «он найдет, что, где и как делать» (25: 378). Лишь одно может помешать в этом: ложно высокое мнение о себе и о своем положении по отношению к другому (25: 378). И потому второе, что надо делать человеку нашего круга, - это «покаяться», то есть осознать себя не благодетелем народа, а глубоко виноватым и никуда не нужным человеком (25: 379). После долгой оттяжки он формулирует наконец и третий ответ: человек нашего образования должен «выучиться не жить на шее других», а именно, уничтожив ложное разделение труда, заняться всем тем, что необходимо для того, чтобы поддержать свое существование (25: 379). «На вопрос, что надо делать, явился самый несомненный ответ: прежде всего, что мне самому нужно: мой самовар, моя печка, моя вода, моя одежда - все, что я могу сам делать»
(25: 382). Если перевести этот вывод на язык гегелевской диалектики, получается, что Господин должен отказаться от своего привилегированного статуса и взять на себя все задачи, предоставленные Рабу.
«Я кончил, сказав все то, что касалось меня, - заявляет Толстой, начиная следующую главу (XXXIX), - но не могу удержаться от желания сказать еще то, что касается всех» (25: 392). И его рассуждения продолжаются. Затянувшаяся «статья», над которой Толстой работал в течение восьми лет, представляет собой более чем двести страниц печатного текста и приходит к концу только в главе XL. В заключение Толстой, пояснив мужчине «закон труда», поясняет женщине, что ей надо делать, а именно соблюдать «закон рождения детей» (25: 411).
«Хозяин и работник»
Вскоре Толстой направил свои усилия на создание таких произведений искусства, которые могли бы удовлетворить духовные потребности рабочего человека, оставшегося не удовлетворенным (как он писал в «Так что же нам делать?») Пушкиным, Достоевским, Тургеневым, Л. Толстым.
В 1884 году по инициативе Толстого в Москве открылось книжное издательство «Посредник», задачей которого было издание такой литературы. Часть изданий было обращено к малограмотным читателям, но этим дело не ограничилось. Как Толстой писал В. Г. Черткову (в феврале 1884 года), «я увлекаюсь все больше и больше мыслью издания книг для образования русских людей. Я избегаю слова „для народа", потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления народа и не народа» (85: 27). В письме к одному автору (в 1886 году) Толстой так сформулировал задачу: «направление ясное - это выражение в художественных образах учения Христа; характер - чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщине, ребенку <...>» (63: 326).
В последующие годы Толстой не только активно сотрудничал в «Посреднике», но и сам стал автором так называемых народных рассказов.
В одном из таких рассказов, «Хозяин и работник», опубликованном в 1895 году, Толстой вновь обратился к гегелевской парадигме Господина и Раба. Как и другие народные рассказы, «Хозяин и работник» излагает историю из крестьянского быта, снабженную нравоучительным содержанием, но это не все.
Главные герои рассказа - это жадный купец Василий Андреич Брехунов, работник из крестьян Никита и лошадь по кличке Мухортый. Василий Андреич, будучи уверен, что он благодетельствует Никите, эксплуатирует и обманывает работника, а Никита, хорошо это понимая, знает, что надо жить и, пока нет другого места, брать что дают. Был зимний день, на другой день после праздника Николы. Хозяин, одержимый желанием выгодной покупки леса, решил ехать совершать сделку, несмотря на начинавшуюся метель. Работнику Никите не хотелось ехать, «но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим», и, запрягая лошадь, он разъяснил свое поведение Мухортому («говорил он с лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами») (29: 5), (Отношения работника и лошади явно противопоставляются отношениям хозяина и работника.) И вот, движимые жадностью и произволом хозяина, подчинением понимающего ситуацию работника и преданностью умной лошади, Василий Андреич, Никита и Мухортый попадают в страшную метель.
После многих часов блуждания в снегу (и многих страниц прекрасной прозы, достойной автора «Войны и мира») хозяин решает покинуть работника. Он садится верхом на лошадь и едет один в метель в поисках спасения. Лошадь, хотя и с трудом, покорно идет, куда ее посылают. Работник между тем, оставшись один, ложится в сани на место хозяина и спокойно ждет смерти. Мысль о том, что он должен умереть, не кажется ему страшной - и потому, что «вся его жизнь была неперестающей службой, от которой он начинал уставать», и потому, «что, кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь <...>» (29: 36). «Батюшка, отец небесный!» - говорит он, - «и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. <.> Умирал он или засыпал - он не знал, но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое» (29: 37). Между тем жадный хозяин гонит лошадь сквозь апокалиптический пейзаж. (Характерная деталь, что вид мучимой ветром травы чернобыльник заставляет его содрогаться - чернобыльник, или полынь, встречается в Откровении Иоанна.) Так он блуждает, пока лошадь не приводит его назад к оставленным саням и замерзающему работнику. «Чую, смерть моя. прости, Христа ради.» - говорит Никита хозяину (29: 41). Хозяин с полминуты стоит молча и неподвижно и вдруг ложится на работника, покрывая его своей шубой и своим телом - страх покидает его, и, согревая работника, он чувствует «не испытанную еще никогда радость». Проходит время. Василий спит и во сне слышит зов того, кто велел ему лечь на Никиту и кто пришел за ним. «И он просыпается, но просыпается уже не тем, кем заснул» (29: 43). Хозяин понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается этим:
И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он - Никита, а Никита - он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. «Жив Никита, значит, жив и я», - с торжеством говорит он себе (29: 44).
Итак, хозяин умирает, отдав жизнь, чтобы спасти работника. Лошадь тоже умирает - стоя. Через двадцать лет умирает и переживший метель работник, или уже «по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в <.> иную жизнь» (29: 46). Рассказ заканчивается обращением к читателю: «Лучше или хуже ему там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся? разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал? - мы все скоро узнаем» (Там же).
Как и планировал Толстой, рассказ получил широкую известность. Опубликованный одновременно в толстом журнале «Северный вестник» и в «Посреднике», в первые дни после своего появления он был перепечатан в целом ряде газет.
Павел Бирюков полагал, что у рассказа имеется биографический подтекст, а именно эпизод из жизни автора зимой 1892/93 года, во время голода, когда Толстой был занят организацией помощи голодающим крестьянам. Однажды возле деревни Бегичевка Рязанской области Толстой заблудился в метель и был спасен от смерти одним из своих сотрудников (29: 375)Щ2.1. Но это не все: написанный (как и другие народные рассказы Толстого) в форме притчи, этот рассказ приглашает читателя к аллегорическому истолкованию.
Топос метели хорошо разработан в русской литературе, включая знаменитый эпизод из «Капитанской дочки» Пушкина и ранний рассказ самого Толстого «Метель». Толстой уже обращался к этому топосу в трактате «В чем моя вера?» (1883-1884), где положение человека, заблудившегося в метель («Я заблудился в снежную метель <.>») и ищущего помощи от другого, служит аллегорией поисков веры (23: 400).
В центре «Хозяина и работника» - образ взаимного отношения двух людей, Господина и Раба - парадигма Гегеля, которую Толстой уже подверг драматизации в «Так что же нам делать?». Какое же решение этого философского конфликта он предлагает в этом новом, народном варианте?
В рассказе на первый план выступает один из главных параметров гегельянской схемы: страх смерти. По Гегелю, именно из-за страха смерти Раб, спасая свою жизнь, подчиняется Господину. В рассказе Толстого, наоборот, работник свободен от страха смерти. Толстой объясняет это двояко: с одной стороны, рабу не дорога его жизнь («вся его жизнь была неперестающей службой»); с другой - «он чувствует себя в зависимости от главного хозяина», то есть от Бога. Хозяин же одержим страхом смерти. Сначала в попытке спасти свою жизнь хозяин разрывает связь с работником, но в конце концов возвращается к нему (благодаря лошади, которая сохраняет верность своему хозяину - работнику). То, что приносит спасение и хозяину, и работнику, - это акт слияния с другим, в буквальном смысле - соединение и в одно тело, и в одну жизнь («ему кажется, что он - Никита, а Никита - он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите»). Именно в этот момент хозяин теряет страх смерти. Работник спасен для этой жизни, а хозяин спасен для жизни вечной. Таким образом, ответ Толстого Гегелю - это замена борьбы за господство над другим христианским самоотвержением ради другого, а именно слияние с другим. (Заметим, что такое решение вопроса «я и другой» не предполагает общения друг с другом.)
Решение проблемы Господина и Раба в рассказе «Хозяин и работник» отличается от того, что было предложено ранее в трактате «Так что же нам делать?», включая и историю о Толстом и прачке. В трактате, написанном вскоре после религиозного обращения, Толстой не нашел удовлетворительного разрешения противоречию между Господином и Рабом; единственное, что он тогда предложил, - это господину разойтись с рабом и взять все его функции на себя. В рассказе «Хозяин и работник», написанном на десять лет позже, он нашел другое решение: отношения Господина и Раба подменяются отношениями каждого из них с «главным хозяином», пославшим их в эту жизнь, то есть отношения «я и другой» заменяются отношениями «я и Бог». В конце концов и хозяин, и работник умирают, но в смерти пробуждаются к новой жизни у нового хозяина, а в заключительных строках рассказа такое пробуждение обещано и автору с читателем («Лучше или хуже ему там <.> мы все скоро узнаем», 25: 46).
Это не диалектика господства и рабства по Гегелю, а христианская этика по Толстому. Заметим, однако, что гегельянскую парадигму Господина и Раба, как указывали исследователи, можно считать секуляризованным вариантом богословского представления об отношениях Бога и человека. Как заметил Александр Кожев, «гегельянская антропология представляет собой преодоленную теологию христианства»*183*. Толстой же (как и в других случаях) обратил вспять процесс секуляризации: от философской антропологии он возвращается к христианскому богословию. При этом, используя созданный им жанр народного рассказа, он обращался и к читателю-работнику, и к читателю своего образования, знакомому с Гегелем, но оставившему Бога.
* * *
Как явствует из его дневников этого времени, Толстой был занят мыслями об отношениях «я и другой» постоянно, в повседневной жизни. Однажды (2 марта 1889 года) ответ пришел к нему во сне:
Во сне видел: цель жизни всякого человека улучшение мира, людей: себя и других. Так я видел во сне, но это неправильно. Цель моей жизни, как и всякой: улучшение жизни; средство для этого одно: улучшение себя. (Не могу разобраться в этом - после.) А очень важно (50: 44).
Толстой, как кажется, находится в конфликте с самим собой: во сне ему видится, что цель жизни включает и себя, и других людей, но наяву он думает об одном себе. Позже он вернулся к этой проблеме во время прогулки и, гуляя, перешел от понятия «я и другие» к идее «я и Отец»:
думал об этом, гуляя, и пришел к тому, что удовлетворило меня, что действительно надо быть совершенным, как Отец. Надо быть, как Отец. <.> Я и Отец одно. <.> Так думал на прогулке. Да, выразить это так: ты посланец от Отца, делать Его дело (50: 44). Таким путем он приходит к мысли о слиянии с Богом и воображает себя посланцем Божиим. В этом Толстой следует за Христом: согласно Евангелию от Иоанна, «Я и Отец - одно» (Ин. 10: 30). Толстой пояснил свое понимание идеи посланничества в письме к Владимиру
Черткову (от 30 января - 3 февраля 1885 года): «Вспомните, сколько раз он говорит: Отец послал меня, я послан, я творю волю пославшего меня. Мне всегда эти слова были неясны <...>» (85: 136). Теперь Толстому стало ясно: «Христос считает свою жизнь посланничеством, исполнением воли пославшего» (Там же). По мнению другого ученика, Павла Бирюкова, до конца своей жизни Толстой именно в этом видел свое место в жизни: посланник, делающий «дело» Отца11841.
В другой день, 14 апреля 1889 года, в дневнике Толстой попытался выразить свою мысль в аллегорической форме. Он думал (во время прогулки), что главное - это то, что «мы работники, от которых скрыт результат работы». «Дано одно: возможность участия в работе, слияние интересов с хозяином». Этот вывод, как ему казалось, был в буквальной форме выражен Христом в одной из евангельских притч: «Ведь это даже не сравнение - это само дело». Толстой затем перечисляет различные виды деятельности - сельскохозяйственная, фабричная, «умственные изобретения» - и приходит к выводу, что в буквальном, а не в аллегорическом смысле вся жизнь - это работа, и работа не для себя одного: человеку дано «перенесение своего интереса в интерес другого, вне себя, в интерес хозяина или дела», надо на всю жизнь смотреть «как на работу для дела Божьего, или, короче, для Бога». В конце концов Толстой формулирует молитву, которую он собирается написать на ногте: «Помни, ты работник дела Божьего» (50: 67).
В другой дневниковой записи Толстой попытался выразить эту мысль в форме евангельской притчи:
10 Сентября 89. Я. П. Встал в 10. - Гораздо лучше. С особенной ясностью думал: Хозяин (это Бог) поручил свое именье рабам (это люди) <.> Хозяин поручил виноградник <.> Сделка с должниками <.> (двойная аналогия) <.> (50: 139).
Он вспомнил притчи Христа (притчу о работниках в винограднике, притчу о талантах, притчу о неверном домоправителе) и решил написать свою собственную. Через несколько дней (14 сентября 1889 года) он начал: «Так же как один частный работник не может понять всего дела предпринимателя <...>». Здесь Толстой остановился, подумав о том, как жалко сравнение воли Бога с волей предпринимателя - и тем не менее оно показывает невозможность человеку понять всю волю Бога (50: 142). Затем он попробовал составить аналогию по-другому и перешел от образа работника к образу лошади: «Лошадь верно знает, что она идет по воле хозяина, когда и возжи не дергают ее, но она не знает воли хозяина и горе ей, если она вообразит, что знает эту волю <...>» (50: 143). Много позже, 24 марта 1891 года, Толстой вернулся к образу доброго хозяина и лошади как аллегории отношений Бога и человека (52: 22). Так день ото дня в течение нескольких лет в дневнике Толстой строил свой вариант великой цепи бытия.
Есть основания считать, что, работая с аллегорическими образами хозяина и работника в дневнике, Толстой думал не только о евангельских притчах, но и о Гегеле. 29 мая 1893 года он записал: «Говорят, существующее разумно; напротив, все, что есть, всегда неразумно. <.> Если есть работники, т. е. работающие люди, то очевидно есть дело, которое нужно сделать, то очевидно, что мир несовершенен, а есть представление и возможность его большего совершенства» (52: 81). Как и в «Так что же нам делать?», он принимал и видоизменял диалектику Господина и Раба, но отвергал гегелевскую формулу о разумности существующего порядка вещей.
Итак, в 1880-1890-е годы Толстой и в своих писаниях, и в повседневной жизни (часто на прогулке) использовал формулу «Господин и Раб» или «хозяин и работник» для напряженных размышлений об отношениях между Богом и человеком. 6 сентября 1894 года он решил наконец оформить свои мысли в художественной форме: «Утром в постели, после дурной ночи, продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике <...>» (52: 137). В рассказе «Хозяин и работник», написанном в форме притчи, Толстой сформулировал наконец ответ на вопрос, который мучил его много лет, - вопрос об отношении «я и другой». После многолетних усилий найти решение в философском трактате, основанном на непосредственных впечатлениях от столкновения с бедными в Москве в 1881 году, Толстой обратился к художественной форме, от которой он к этому времени решил отказаться. По-видимому, он считал свое произведение «истинным искусством»: и по форме, и по выводам рассказ этот был выражением в художественных образах учения Христа.
Подведем итоги. В 1880-е годы в обширной статье «Так что же нам делать?» Толстой обратился к проблеме «я и другой». Он писал от первого лица, в жанре, который соединял личные впечатления и воспоминания с философскими и политико-экономическими рассуждениями. В этом сочинении Толстой поставил проблему в социальном ключе, как вопрос о своем положении по отношению к бедным и обездоленным в современном ему обществе. Он говорил о вещах, которые касались непосредственно его, человека, поселившегося в 1881 году в Хамовническом переулке на окраине Москвы, где он столкнулся лицом к лицу с городскими нищими. Правда, он не мог удержаться, чтобы не сказать и о том, что касается всех, но главным образом Толстой был озабочен созданием программы личного поведения. Он писал с позиции, которая отделяла авторское «я» от образа известного писателя Л. Толстого, писания которого, как он теперь понимал, не могли быть ни понятны, ни полезны народу. Как и в других своих сочинениях, написанных после обращения, Толстой подходил к проблеме в религиозном ключе, используя евангельские притчи и заповеди (в собственной интерпретации) как практическое руководство к жизни. Но рассуждая о том, «так что же нам делать?», он думал и о том, «кто, что я?», и евангельские притчи накладывались на философские парадигмы.
Как я старалась показать в этой главе, главной философской парадигмой, в рамках которой он подошел к проблеме «я и другой», была гегелевская диалектика Господина и Раба, представленная у Толстого в виде художественных образов, таких как «я и прачка» или «хозяин и работник». И в статье, и в более поздних сочинениях Толстой переиначил гегелевскую схему. Следуя за Гегелем, он понимал, что ни Господин, ни Раб не может быть сам по себе свободен и самодостаточен, но, в отличие от других философов, развивавших парадигму Гегеля, Толстой не стремился поставить их в положение взаимного признания или найти синтез Господина и Раба. Его первоначальным решением, предложенным в трактате «Так что же нам делать?» в 1880-е годы, было разорвать связь между Господином и Рабом, то есть поставить себя вне отношений с другим. В практической жизни он принял решение потреблять как можно меньше труда другого и все, что возможно, делать самому. В последующие годы Толстой продолжал размышлять в терминах этой парадигмы в дневнике, в контексте повседневных занятий, где он подменял роли Господина и Раба, Хозяина и Работника идеей об отношении Бога и человека. В рассказе «Хозяин и работник» (1895) в образе спасительного слияния между хозяином и работником он предложил другое решение, чем в статье «Так что же нам делать?». Более того, Толстой перевел парадигму Господина и Раба из области философии и политической экономии в область богословия, то есть подверг категории Гегеля ресакрализации. Таким образом проблема «я и другой» оказалась снятой.
Кода: неучастие в зле
Широкое распространение получило учение Толстого о неучастии в зле и непротивлении злу насилием. Хорошо известна вторая часть этической программы Толстого - о непротивлении, которая изложена в его трактатах «В чем моя вера?» (1884) и «Царство Божие внутри нас» (1890-1893) и в притчах. Принцип неучастия в зле является не менее важным, а в основе его (как мне кажется) лежит идея исключить себя из отношений с другим, возникшая в ходе работы Толстого над гегелевской диалектикой Господина и Раба.
Как и другие идеи Толстого после 1880-х годов, его этическая система исходит из акта религиозного обращения. В трактате «В чем моя вера?» Толстой объясняет, чем его не устраивает официальное церковное учение:
На вопрос: что я, что мне делать? <.> - мне отвечают: исполняй предписание властей и верь церкви. Но отчего же так дурно мы живем в этом мире? - спрашивает отчаяный голос; зачем все это зло, неужели нельзя мне своей жизнью не участвовать в этом зле? неужели нельзя облегчить это зло? Отвечают: нельзя (23: 412). Толстой решает дать свое толкование учению Христа.
Толстой, как он не раз утверждал, вынес свое понятие о христианской этике из Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мт. 5: 38-39). Однажды (как он объясняет в трактате «В чем моя вера?») Толстой понял, что это значит. Чтобы объяснить это другим, он перевел предписание Христа на свой язык и на современные нравы:
Христос говорит: вам внушено, вы привыкли считать хорошим и разумным то, чтобы силой отстаиваться ото зла и вырывать глаз за глаз, учреждать уголовные суды, полицию, войско, отстаиваться от врагов, а я говорю: не делайте насилия, не участвуйте в насилии, не делайте зла никому, даже тем, кого вы называете врагами (23: 328).
Заметим, что слова Христа в переложении Толстого (вы привыкли считать разумными уголовные суды, полицию, войско, то есть государственные установления) напоминают об учении Гегеля из «Философии права» о разумности всего действительного. Как и Гегель, он рассуждает в юридических терминах. Как и Христос, Толстой заменяет эту юридическую доктрину своим собственным предписанием: «а я говорю <.> не участвуйте в насилии».
Толстой уделил немало внимания практической разработке своего учения. Одним из первых шагов было его обращение к вегетерианству в 1885 году. В статье «Первая ступень» (1891) он представил вегетерианство как образец практической реализации принципа неучастия в зле. Толстой рассуждал, что тот, кто участвует в поедании мяса, участвует в причинении страдания животным; человек, воздержавшийся от употребления мясной пищи - не уничтожив при этом насилия над животными, - изымет себя из цепи зла. (Этим он встанет на первую ступень лестницы добродетели.) Большое место в статье, оказавшей немалое влияние на движение вегетерианства, занимают подробные, ужасающие описания убийства скота, сделанные на основании собственного опыта. Как ни совестно было Толстому идти и смотреть на страдания, которых он не мог предотвратить, он посетил - и описал - бойню в городе Тула возле Ясной Поляны.
Принцип неучастия в зле лежит и в основе другой знаменитой статьи Толстого, «Не могу молчать» (1908), направленной против смертной казни. Статья начинается с конкретного впечатления дня: 9 мая Толстой открыл газету и прочел, что двадцать (позже он узнал, что двенадцать) крестьян были казнены в Херсоне за «разбойное нападение на усадьбу землевладельца». Толстой затем переводит это газетное известие на язык, который проясняет, что это значит: «Двенадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы живем <.> двенадцать таких людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кормят, одевают и обстраивают <...>» Толстой шаг за шагом описывает, как это происходит: как секретарь читает бумагу, как человек с длинными волосами (то есть священник) говорит что-то о Боге и Христе, как палачи намыливают веревки, чтобы лучше затягивались, как на людей надевают саваны, взводят на помост с виселицами, накладывают на шеи веревочные петли, как один за другим живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и как, наконец, «своей тяжестью затягивают на своей шее петли и мучительно задыхаются» (37: 83-84). Все это - результат «власти одних людей над другими» (37: 85). Толстой признает, что совершаемые революционерами злодейства ужасны, но еще ужаснее злодейства правительства. Обращаясь к власть имущим, он говорит «вы»: «они делают совершенно то же, что и вы» (37: 90). Затем Толстой переходит к тому, что все это значит для него самого: «все, что делается сейчас в России, делается во имя общего блага. <.> А если это так, все это делается и для меня, живущего в России». Он сознает, что с точки зрения идеи непротивления злу его оппозиция является парадоксальной (отсюда название: «не могу молчать»), и признает, что долго боролся с недобрым чувством, которое возбуждают в нем виновники этих страшных преступлений: «Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством» (37: 94). Шаг за шагом он перечисляет все то, что делается в России для него:
Для меня, стало быть, и нищета народа, лишенного первого, самого естественного права человеческого - пользования той землей, на которой он родился; для меня эти полмиллиона оторванных от доброй жизни мужиков, одетых в мундиры и обучаемых убийству, для меня это лживое так называемое духовенство, на главной обязанности которого лежит извращение и скрывание истинного христианства.
<.> Для меня все эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих. Для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых, для меня эта ужасная работа <.> людей-палачей <.> (37: 94-95).
Вспомним, что эта цепь зла была описана Толстым в 1880-е годы в статье «Так что же нам делать?» - тогда, при своей привычке менять два раза в день рубашку, он чувствовал себя ответственным за смерть прачки. Теперь, как и тогда, Толстой утверждает связь между привилегиями, которыми он пользовался, и угнетением тех, кто кормит, одевает и обстраивает его, но сейчас - после событий 1905 года и последовавших за ними репрессий - он проводит эту связь еще дальше, утверждая свое участие в том страшном преступлении, каким является смертная казнь.
И как ни странно утверждение о том, что все это делается для меня, и что я участник этих страшных дел, я все-таки не могу не чувствовать, что есть несомненная зависимость между моей просторной комнатой, моим обедом, моей одеждой, моим досугом и теми страшными преступлениями <.> (37: 95).
Другая привилегия образованного класса, самосознание, требует от него действия, и это действие - исключить себя из цепи участников преступления:
А сознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения. Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду (37: 95).
За этим следует программа конкретных действий:
Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю (37: 95).
Доведенная до логического конца, этическая позиция Толстого, неучастие в зле, приводит его к парадоксальному желанию: его собственная смерть посредством казни. Только казнь самого Толстого полностью и окончательно исключит его из цепи зла. Заметим, что, описывая эту воображаемую картину, Толстой - несмотря на все его отвращение к литературе - активно использует разработанные им художественные приемы, главным образом знаменитое толстовское отстранение.
Начиная с 1880-х годов Толстой, выступая со своей уникальной позиции, принимал участие в общественной жизни России. Характерна его реакция на революционный террор. 1 марта 1881 года Александр II был убит членами организации «Народная воля». Не будучи сторонником правительства, Толстой был поражен революционным насилием. Перспектива, что участники террористического акта будут, в свою очередь, казнены, также ужаснула его. За обедом, в присутствии семьи и домочадцев, состоялся острый разговор об этом. После обеда Толстой задремал на диване у себя в кабинете, и ему приснился кошмарный сон: «что не их, а меня казнят, и казнят не Александр III с палачами и судьями, а я же и казню их» (76: 114). (Заметим, что в этом сне субъект и объект, жертва и палач слиты в одно.) С ужасом Толстой проснулся и обратился с письмом к новому императору, Алексадру III, призывая его следовать евангельской заповеди не противиться злу и, будучи сыном Отца Небесного, не казнить убийц отца, а дать им денег и услать куда-нибудь в Америку*185*.
В последующие годы Толстой многократно выступал в печати с протестами по поводу условий жизни, бедствий и актов насилия. (Многие из его протестов печатались за границей и распространялись в России нелегально.) Он писал о голоде среди крестьян («О голоде», 1891; «Страшный вопрос», 1891; «Голод или не голод», 1898), о телесных наказаниях («Стыдно», 1895), о катастрофическом положении промышленных рабочих («Рабство нашего времени», 1900). Толстой публично обратился к Николаю II, призывая его уничтожить то, что он считал корнем зла, - частную собственность на землю («Царю и его помощникам», 1901). Он писал об опасностях патриотизма («Христианство и патриотизм», 1894; «Патриотизм или мир?», 1895; «Патриотизм и правительство», 1900) и об ужасах войны, в частности во время Русско-японской войны («Одумайтесь!», 1904). После революции 1905 года в статье «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу» Толстой призывал обе стороны и весь русский народ воздержаться от насилия. Он неоднократно выступал против смертной казни («Не могу молчать», 1908; «Не убий», 1910).
Многие из таких статей были написаны в форме писем или воззваний: «К молодым людям, живущим нерабочей жизнью» (1901), «К рабочему народу» (1902), «К духовенству» (1902), «Письмо о воспитании» (1901-1904), «Письмо к крестьянам о земле» (1905), «Письмо китайцу» (1906), «Письмо индусу» (1908), «Письмо студенту о праве» (1909), «Письмо революционеру» (1909), «О науке (ответ крестьянину)» (1909) и многие другие.
В 1890-е и 1900-е годы Толстой пользовался репутацией морального арбитра, проповедника и учителя и в этой роли приобрел и последователей, и противников, и насмешников*186*.
Такие моралистические писания Толстого при всем их разнообразии имели общие черты: они были написаны от первого лица («я»), непосредственно обращались к адресату («вы») и исходили из личного опыта автора как человека и христианина. Все это уменьшало дистанцию между авторским «я» и опытом конкретного человека, именем которого были подписаны эти воззвания: «Лев Толстой».
Глава 6
«Почувствовал совершенно новое освобождение от личности»: поздние дневники
Толстой возвращается к дневнику - Временная последовательность дневника: последний день - «О жизни и смерти » - Дневник как духовное упражнение - «Да, я - тело - это такой отвратительный нужник» - «Сознавал, что я сознаю себя сознающим сознающего себя» - «Я потерял память всего, почти всего прошедшего <...> Как же не радоваться потере памяти?» - «Смерть похожа на сон, на засыпание <... > но смерть еще более похожа на пробуждение» - Сны Толстого - Сон: мир вне времени и представления - Книга жизни: «она только написана на времени» - «Круг чтения»: «Сознание Льва Толстого заменить сознанием всего человечества» - Смерть Сократа - Смерть Толстого
Толстой возвращается к дневнику
В 1884 году после нескольких неудачных попыток Толстой вернулся к регулярному ведению дневника11871. Он долго колебался: писать или не писать? как? для кого? Однажды он записал: «Думал, надо писать с тем, чтобы не показывать своего писания, как и дневник этот, при жизни. И, о ужас! Я задумался - писать ли? Станет ли сил писать для Бога? <.> Так думал перед сном» (50: 39, 20 февраля 1889). Быть может, Толстой воображал, вслед за Руссо в его «Исповеди», что он предстанет перед Богом с книгой своей жизни в руках11881. Но ему не удалось не показывать при жизни не только другие свои писания, но и дневники. Дневники Толстого были доступны и его жене, и другим домочадцам, и ученикам; с них снимались копии и делались выписки. Доступ к дневникам стал предметом острого конфликта между женой Толстого и его соратником Владимиром Чертковым. С июля по октябрь 1910 года кроме регулярного дневника Толстой вел в маленькой книжечке тайный «Дневник для одного себя» (58: 127-144), который он прятал в голенище сапога, но он был обнаружен Софьей Андреевной, когда она помогала раздевать потерявшего сознание мужа11891. Его последний секретарь Валентин Булгаков полагал, что именно очередное столкновение между Софьей Андреевной и Чертковым по вопросу о дневниках послужило непосредственным поводом к уходу Толстого11901.
Временная последовательность дневника: последний день
Поздние дневники Толстого писались в постоянном предвосхищении смерти. Исследователи много писали об огромной роли смерти в его писаниях11911. Поздние дневники документируют переживание постоянного присутствия смерти в жизни Толстого. На протяжении тридцати лет он ожидал смерти ежедневно, и именно это ожидание является главным содержанием дневника. Это экзистенциальное состояние требовало особого распорядка времени: в поздних дневниках рассказ о конкретном дне часто заканчивается не расписанием на следующий день, а фразой «если буду жив» (обычно в сокращении, «е. б. ж.»), которая следует за датой следующего (еще не наступившего) дня. Отчет о следующем дне начинается с подтверждения: «жив». За этим следует дата завтрашнего дня, с той же оговоркой: «е. б. ж.»11921. (Возможно, эта формула составлена на основании Послания Иакова, который увещевал тех, кто строит планы на завтра: вместо того чтобы говорить «завтра», следует говорить «если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», Иак. 4: 13-1 511931.)
Приведем пример, который хорошо показывает и эту временную схему, и душевное состояние Толстого:
25 февр. Никольское. 1897. Е. б. ж.
февраля 118971. Жив. Писал не много, но не так легко, как вчера. Гости разъехались. Ходил два раза гулять. Читаю Аристотеля. Нынче получил письма с Сережей, который приехал сюда. Неприятное письмо от Сони. Или скорее я не в духе. Вчера, гуляя, молился и испытал удивительное чувство. Вероятно, подобное тому, которое возбуждают в себе мистики духовным деланием: почувствовал себя одного духовного, свободного, связанного иллюзией тела.
Ф. II. 97. Е. б. ж. (53: 141).
(Следует пояснить, что первая запись, «25 февр. Никольское. 1897. Е. б. ж.», сделана 24 февраля. Последняя запись, «26 Ф. II. 97. Е. б. ж.», сделана 25 февраля.)
Вспомним, что в своих первых дневниках молодой Толстой пробовал создать такой тип повествования, который позволил бы передать жизнь в ее целостности, ничего не исключая. («История вчерашнего дня» представляет собой такую экспериментальную попытку.) Означало ли это, что он надеялся дописать свою жизнь до самого конца? В любом случае для молодого Толстого этот утопический идеал остался недостижимым. В поздних дневниках он ставит именно проблему последнего дня жизни. С одной стороны, формула «е. б. ж.» ставит под сомнение, что наступит завтра; с другой - эта фраза, стоящая под датой следующего дня, делает завтра реальностью, а сегодняшний день оказывается днем вчерашним. В поздние годы Толстой как бы стремился вести дневник, в котором отчет о каждом дне - включая самый последний день его жизни - представлял бы собой историю вчерашнего дня.
Дневниковая запись, приведенная выше, при всей своей четкой временной структуре заключает в себе слова, свидетельствующие и о другом, противоречивом желании: «.молился и испытал удивительное чувство <.> подобное тому, которое возбуждают в себе мистики духовным деланием <.>». Толстой пишет здесь о своем стремлении достигнуть вневременного и свободного от повествовательной отчетности ощущения себя посредством акта, схожего с «духовным деланием», или Иисусовой молитвой, восходящей к традиции исихазма11941. Суть этой «молчаливой молитвы» заключается в том, что молящийся, произнося имя Иисус, входит в мистическое состояние, при котором слово освобождается от своей внешней формы; в молчании человек соединяется с Богом, а значит, и с вечностью.
Какова же цель: полная текстуализация всего себя без остатка или абсолютное молчание? В поздних дневниках Толстой колебался между этими двумя крайностями, то переходя от одной к другой, то пытаясь примирить их.
Как мы уже видели, старый Толстой испытывал противоречивые чувства и по поводу самого процесса писания. В другой раз он заметил в дневнике, что «уже не в силах писать». И тут же добавил: «И мне грустно, точно как будто я и умирая буду писать и после смерти тоже» (52: 105, 22 декабря 1893). Эти поразительные слова свидетельствуют о том, что Толстой не мог себе представить состояния, в котором он бы перестал писать.
Старый Толстой писал свой дневник так, как если бы каждый день был последним в его жизни, но при этом он хотел оставить запись об этом последнем дне. В этом Толстой опирался на культурные прецеденты. Как и другие его современники, он был вдохновлен повестью Виктора Гюго «Le dernier jour d'un condamn^» (1829) - хроникой последнего дня приговоренного к смертной казни, фиксирующей все его мысли, чувства и впечатления. Достоевский в романе «Идиот» (1868) переосмыслил образ Гюго как метафору жизни человека девятнадцатого столетия: вся жизнь, прожитая в сознании собственной конечности, становится последним днем приговоренного к смерти1195 В дневнике за 1909 год Толстой заимствует образ Гюго для описания своего собственного положения: «В старости это уже совсем можно и даже должно, но возможно и в молодости, а именно то, чтобы быть в состоянии не только приговоренного к смертной казни, но в состоянии везомого на место казни» (57: 4, 3 января 1909). Для Толстого положение приговоренного к смерти предоставляло уникальную возможность - сделать запись абсолютно аутентичного переживания, нечто вроде того, что Хайдеггер позже назовет «Sein zum Tode» .
В своих поздних дневниках Толстой стремился дать отчет именно о таком состоянии. Возможно, что он надеялся пойти дальше этого. В конце повести Гюго герой поднимается на эшафот с гильотиной. В отличие от известного сновидения, описанного Мори, у Гюго приговоренный не повествует о том, что он переживает в момент, когда его голова отделяется от тела. (Сон, описанный Мори, включает описание этого переживания.) Толстой (как мы увидим) помышлял именно об этом. Вспомним, что молодой Толстой (в «Истории вчерашнего дня») привел запись сна, сделанную спящим человеком11971. Старый Толстой в своих дневниках задавался вопросом: если бы сознание не покинуло пишущего после смерти, какого рода текст вышел бы из-под его пера?
Михаил Бахтин заметил о Толстом, что «смерть он изображает не только извне, но и изнутри, то есть из самого сознания умирающего человека, почти как факт этого сознания» (курсив Бахтина). Бахтин, говоря здесь об описаниях смерти в художественных произведениях Толстого, добавляет: «Чтобы изобразить смерть изнутри, Толстой не боится резко нарушать жизненное правдоподобие позиции рассказчика (точно умерший сам
рассказал ему о своей смерти, как Агамемнон Одиссею). <.> Достоевский никогда не изображает смерть изнутри»*198*. На основании не романов Толстого, а его поздних дневников можно убрать слово «почти»: смерть - свою собственную смерть - он изображает из самого сознания умирающего, как факт сознания.
«О жизни и смерти »
Прежде чем обратиться к теме смерти в дневниках Толстого, следует сказать несколько слов о его трактате «О жизни» (опубликованном в 1888 году) - он содержит теоретические рассуждения о смерти*199*. Летом 1886 года, во время серьезной болезни, Толстой предпринял попытку сформулировать свои взгляды на смерть на языке профессиональной философии. Вскоре он выступил со своими соображениями на заседании московского Психологического общества в присутствии его тогдашнего председателя Н. Я. Грота (труды которого повлияли на Толстого)*200*. Доклад Толстого назывался «О жизни и смерти». Год спустя Софья Андреевна записала в своем дневнике, что он изменил заглавие трактата: «Слова о смерти выкинул. Когда он кончил статью, он решил, что смерти нет» (26: 767, 4 августа 1887, курсив С. А. Толстой).
Ключевая глава, «Плотская смерть уничтожает пространственное тело и временное сознание, но не может уничтожить того, что составляет основу жизни: особенное отношение к миру каждого существа», уже в заглавии выдвигает центральный тезис всего трактата. В этой главе Толстой предлагает цепь логических пропозиций в защиту этого тезиса. Он спрашивает: отчего происходит страх смерти? Страх смерти (отвечает Толстой) происходит от неспособности человека определить, что такое «я», что такое моя жизнь (иными словами, это результат ошибки в понятийном аппарате): «Я жил 59 лет, и во все это время я сознавал себя собою в своем теле, и это-то сознание себя собою, мне кажется, и была моя жизнь» (26: 402).
Это обычное заключение (продолжает Толстой) - совершенно произвольно. Ошибка заключается, в частности, в том, что «я» отождествляется с телом - но тело, к тому же постоянно меняющееся, нисколько не составляют существа моей жизни. Толстой затем ставит проблему сознания:
Мое сознание говорит мне только: я есть <.> О том, когда и где я родился, <.> я решительно ничего не сознаю. <.> О своем рождении, о своем детстве, о многих периодах моей юности, о средних годах, об очень недавнем времени я часто ничего не помню (26: 402).
Эти философские рассуждения напоминают те выводы, к которым Толстой пришел в своих неудачных автобиографических опытах, когда он понял, что биографическое «я» - «я родился в 1828 году в Ясной Поляне» - не составляет сущности жизни. Более того, продолжает Толстой, сознание, как и тело, не является неизменным. Доказательством этого является сон: «Каждые сутки, во время полного сна, сознание обрывается совершенно и потом опять возобновляется. <.> *М]ы <.> сознание теряем всякий день, когда засыпаем» (26: 404). Итак, самосознание не может служить основой чувства своего «я». (В этом выводе Толстой противоречит Локку, который определил личность через непрерывность сознания и памяти.) Согласно Толстому, чтобы определить «я», необходимо включить и «памятные мне сознания», и «сознания, предшествующие памятной мне жизни», «как говорит Платон и как мы все это в себе чувствуем» (26: 407). В своих дальнейших рассуждениях Толстой выходит за пределы индивидуального сознания, говоря о «разумном сознании», которое объединяет всех живущих людей. (По-видимому, он имеет в виду понятие о Логосе.) Такое «я», то есть «не-я», не подлежит уничтожению. Рассуждая таким образом, Толстой старается с помощью философских аргументов отменить понятие о смерти.
Толстой называет в качестве источника Платона (подкрепляя при этом философский авторитет Платона выводами из непосредственного человеческого опыта), но этим, без сомнения, дело не ограничивается. Главным источником этих идей является Шопенгауэр, а именно знаменитая глава 41 второго тома трактата «Мир как воля и представление», озаглавленная «Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа в себе», а также глава «Об учении о неуничтожимости нашего существа смертью» из книги «Parerga und Paralipomena».
Толстой, как считают исследователи, познакомился с Шопенгауэром в 1868 году и вскоре понял, что нашел в нем родственную душу. В письме к Афанасию Фету от 30 августа 1869 года он описал «неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал» (61: 219). Он добавил, что «выписал все его сочинения и прочел и читаю (прочел и Канта) <...>» (61: 219). В другом письме к Фету он писал, что в Шопенгауэре нашел подтверждение мыслям, которые сам высказал в эпилоге к «Войне и миру» (61: 217). В черновиках в эпилогу Толстой упоминает имя Шопенгауэра (15: 246). Это было трудное время для Толстого - после завершения «Войны и мира» он находился в подавленном состоянии. Он начал переводить «Мир как воля и представление» и предложил Фету присоединиться к этому проекту, но завершил перевод один Фет. Когда в 1881 году книга наконец появилась по-русски, Толстой перечитал ее, делая многочисленные пометы на полях. Он мог бы сказать (как сказал о Руссо), что многие страницы Шопенгауэра были так близки ему, как будто бы он их сам написал. Однако после завершения «Анны Карениной» (в которой следы Шопенгауэра, без сомнения, присутствуют) Толстой отрицательно высказывался о пессимизме Шопенгауэра. В трактате «О жизни» Толстой замечает, что негативное отношение Шопенгауэра к жизни является нравственно несостоятельным. И тем не менее, рассуждая в своем трактате о неуничтожимости человеческого существования смертью, он оперирует идеями Шопенгауэра. Можно думать, что Шопенгауэр сохранил свою власть над мыслями Толстого до конца его жизни*201*.
В трактате «О жизни» Толстой (не называя источника) повторяет известный аргумент Шопенгауэра о том, что небытие после смерти не может отличаться от небытия до нашего рождения и, следовательно, не должно вызывать страха. (Заметим, что эту мысль можно найти уже в автобиографических опытах Толстого.) Он следует за Шопенгауэром и в развитии кантовской эпистемологии, утверждая, что представления об уничтожимости или неуничтожимости, как и представления о времени, пространстве и причинности, принадлежат к понятийной сфере и, следовательно, лишены реальности*202*. Аналогия между смертью и сном, которую Толстой обсуждает в этом трактате, также имеется у Шопенгауэра. К Шопенгауэру восходит и мысль Толстого, что смерть является изначальной и неотъемлемой частью жизни, а следовательно, жизнь и смерть - одно. И наконец Толстой, как мне представляется, разделял убеждение Шопенгауэра, что философия - это упражнение в смерти.
Шопенгауэр начал свою главу «Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа в себе» с упоминания Сократа и отсылки к диалогу Платона «Федон», и он следовал за Сократом и Платоном в понимании философии как melete thanatou - подготовки к смерти, или упражнения в смерти. Шопенгауэр приспособил эти понятия для употребления в девятнадцатом веке - так, в своих рассуждениях о смерти он обходил и материалистическую концепцию смерти как прекращения органической жизни материи, которая казалась неопровержимой в свете достижений современных естественных наук, и надежду на воскресение, которая казалась несовместимой с доводами науки. После Шопенгауэра преодоление страха смерти стало философской проблемой и предполагало ревизию понятия о том, что такое «я». Вслед за Шопенгауэром Толстой поставил перед собой задачу дать новое определение сущности «я» и сущности жизни индивида, то есть ответить на вопрос,
что такое «я», что такое моя жизнь. (Другие мыслители этого времени - среди них Георг Зиммель - также шли этим путем в вопросе о смерти12031.)
Но между Шопенгауэром и Толстым существовала и значительная разница - Толстой стремился не столько философствовать, сколько переживать жизнь в этих терминах. В этом смысле его образцом был Сократ из диалога «Федон». В отличие от Шопенгауэра, Толстой стремился воспринимать смерть не как повод для пессимизма, а как причину для радости. Еще в большей степени, чем его трактат «О жизни», поздние дневники Толстого документируют этот жизненный опыт: опыт принятия смерти в сферу жизни.
Дневник как духовное упражнение
Как показывают дневники, Толстой радостно ожидал смерти, делая записи об этих переживаниях в контексте бытовых впечатлений дня:
31 О. Я. П. 89.
Апатия, грусть, уныние. Но не дурно мне. Впереди смерть, т. е. жизнь, как же не радоваться? - (50: 170).
23 Я. Я. П. 90. Если буду жив.
Итак, нынче 27-е. Встал поздно. Поговорил с Чертковым очень хорошо об искусстве и смерти и пошел гулять. <.> О смерти то, что не надо никогда забывать, что жизнь есть постоянное умирание. И сказать, что я постоянно умираю, все равно, что сказать - я живу. - (51:15).
Из этих записей ясно, что радость основывалась на философском положении о единстве жизни и смерти, а тезис, что жизнь есть постоянное умирание, - это перефразирование Шопенгауэра. В одной из записей Толстой прямо называет Шопенгауэра среди деталей повседневной жизни:
29 Июня 1894. Я. П.
- Потерял странно часы. Все чаще и чаще и живее думаю о смерти, смерти только плотской. Той, которая ужасала меня прежде, уж не вижу теперь. <.> Лучше в этом отношении только готовность. Читаю Шопенгауера Parerga <.> (52: 124).
Для Толстого философия смерти была не теорией, а жизненной практикой. Через много лет после того, как он закончил трактат «О жизни», он повторял свои философские выкладки в дневнике, на материале каждодневного опыта.
Такое использование философии в быту напоминает «духовные упражнения», то есть внутреннюю деятельность, которая направлена на преобразование собственного «я», своего бытия и видения мира. С понятием духовных упражнений связывают философские тексты и практики античных мыслителей начиная с Сократа и стоиков (Марка Аврелия и Сенеки), а в Новое время в этой связи называют Монтеня, Паскаля, Амьеля и его дневник («Journal intime»), а также Шопенгауэра, особенно афоризмы из книги «Parerga und Paralipomena»12041 (Все эти авторы, и именно их практические сочинения, были любимым, каждодневным чтением Толстого в поздние годы его жизни.) В свою очередь, Толстой использовал свой дневник для таких духовных упражнений - практической философии жизни и смерти. Именно поэтому (как и другие авторы, практиковавшие духовные упражнения) он повторяет себя - снова и снова12051. Толстой в дневниках день за днем в письменном виде упражнялся в смерти.
«Да, я - тело - это такой отвратительный нужник»
Начиная дневник за 1908 год, в котором ему исполнялось восемьдесят лет, Толстой определил, что надо делать в последний день жизни: «освобождать свою душу» (56: 88; 1 января 1908). (В этом он следовал за Сократом, который, ожидая казни, также поставил себе задачу освобождать душу от тела.) В конце года Толстой заметил, что теперь, в восемьдесят лет, надо делать то же самое, что он делал в юности, - совершенствоваться, только с той разницей, что «тогда идеалы совершенства были другие» (56: 160, 3 декабря 1908). Как и в юности, он упрекал себя в моральных слабостях. Его мучило тщеславие (читая газеты, искал глазами слово «Толстой»); более того, он понимал, что отчасти пишет дневник для тех людей, которые будут его читать (56: 160). Не отпускали плотские желания (ему снились эротические сны). Предстояло освободиться от всего, что составляло сущность его «я»: от тела, эгоистических эмоций, времени и, наконец, от самого сознания. В виду смерти это было главной задачей жизни. Размышляя о смерти и о будущей жизни, Толстой однажды записал в дневнике: «Бессмертно только то, что не я» (49: 129, 19 июня 1886). Его поздние дневники - отчет о «последнем дне», который длился больше двадцати лет, - отражают ежедневную борьбу со своим «я» во имя окончательного освобождения.
В год своего восьмидесятилетия Толстой обращал особое внимание на изменения в своем теле и душе. Так, 1 января 1908 года он записал:
В первый раз с необыкновенной, новой ясностью осознал свою духовность: мне нездоровится, чувствую слабость тела, и так просто, ясно, легко представляется освобождение от тела, - не смерть, а освобождение от тела. <.> Теперь ясна стала бренность, иллюзорность тела, которое только кажется. <.> Неужели это новое душевное состояние - шаг вперед к освобождению? (56: 89).
Предстояло освобождение не только от тела, но и от индивидуального сознания:
Я хочу жить Богом, а не своим телесным я, Львом Толстым. Что это значит? То, что я хочу сознание Льва Толстого заменить сознанием всего человечества, даже всего живого (56: 123). Ведение дневника помогало следить за процессом освобождения, причем ему не раз казалось, что он почувствовал признаки освобождения «в первый раз». 14 сентября 1908 года он записал:
Нынче взял тетрадь именно для того, чтобы записать то, что утром и ночью в первый разпочувствовал, именно почувствовал, свое равнодушие полное ко всему телесному и не перестающий интерес к своему духовному росту, т. е. своей духовной жизни (56: 150, курсив Толстого).
Но жизнь с ее каждодневными занятиями не отпускала его, препятствуя освобождению. Более того, не так легко было описать в дневнике ту внутреннюю духовную работу, в которой Толстой теперь видел смысл своей жизни.
В одной замечательной записи (в марте 1908 года) Толстой обратился к этой проблеме:
Ровно месяц не писал. Занят был за письменным столом статьей. Не идет, а не хочется отставить. Работа же внутренняя, слава Богу, идет не переставая и все лучше и лучше. Хочу написать то, что делается во мне и как делается; то, чего я никому не рассказывал и чего никто не знает (56: 109).
За этими замечаниями следует описание внешней, каждодневной жизни:
Живу я вот как: Встаю, голова свежа и приходят хорошие мысли, и, сидя на горшке, записываю их. Одеваюсь, с усилием и удовольствием выношу нечистоты. Иду гулять. Гуляя, жду почту, которая мне не нужна, но по старой привычке. Часто задаю себе загадку: сколько будет шагов до какого-нибудь места, и считаю, разделяя каждую единицу на 4, 6, 8 придыханий: раз, и а, и а, и а; и два, и а, и а, и а. Иногда по старой привычке хочется загадать, что если будет столько шагов, сколько предполагаю, то. все будет хорошо. Но сейчас же спрашиваю себя: что хорошо? и знаю, что и так все очень хорошо, и нечего загадывать. Потом, встречаясь с людьми, вспоминаю, а большей частью забываю то, что
хотел помнить, что Он и я одно. Особенно трудно бывает помнить при разговоре. Потом лает собака Белка, мешает думать, и я сержусь и упрекаю себя за то, что сержусь. Упрекаю себя за то, что сержусь на палку, на которую спотыкаюсь (56: 109-110).
Эта запись отражает двойственность позиции Толстого. Стремясь к освобождению души от тела, к соединению с Богом, он чувствует, как его телесное «я» утверждает свое существование в физиологических отправлениях и эмоциях. А в старых привычках - ждать почты или загадывать на будущее - в его жизнь вторгается время.
Физические отправления ежедневно напоминали о тленности плоти и о бренности своего «я», отождествляемого с телом:
Да, я - тело - это такой отвратительный нужник - только сними, приоткрой крышку духовности, и смрад и мерзость. Постараюсь нынче жить для души (56: 173). Как явствует из дневника, эта метафора (я - тело - нужник) была подсказана ежедневным опытом: Толстой упомянул, что записывал свои мысли, сидя на горшке.
«Сознавал, что я сознаю себя сознающим сознающего
себя»
Хотя тело - одно из препятствий на пути к освобождению - подавало явные признаки разрушения (как, например, несварение желудка), другое препятствие - сознание - казалось непреодолимым. Толстой (как он однажды записал в дневнике) знал из личного опыта, что «я» - это не тело, а сознание, неизбежно замкнутое в восприятии самого себя:
Помню, как я в детстве почти удивился проявлению в себе этого свойства, которое еще не умело находить для себя матерьял. Помню, меня удивляло то, что я мог, сознавая себя, сознавать сознающего себя, и опять спрашивая, сознавал, что я сознаю себя сознающим сознающего себя. И потом: сознаю себя, сознающего себя, сознающего себя и т. д. до бесконечности (56: 128)*206*.
Если верить этому утверждению, в детстве Толстой самостоятельно пришел к пониманию «я» как акта осознания себя, то есть к философскому понятию, сформулированному Фихте и Шеллингом, Ich-an-sich, или Ich ist Ich.
Вот как Фихте описал такое представление «с точки зрения обыденного сознания»: «в течение всей нашей жизни, во все моменты мы постоянно думаем: Я, Я, Я, и никогда не думаем ничего другого, кроме Я *Ich, Ich, Ich, und nie etwas als Ich*»*207*. При этом Фихте постулировал и другой тип сознания - бессубъектное сознание, атрибутами которого являются неразделенность, абсолютность, бесконечность и которое осуществляется лишь в деятельности и не может быть осмыслено концептуально. Шеллинг говорил о несовпадении «я» индивидуального и абсолютного, или божественного. (Фихте и Шеллинг, как известно, исходили при этом из Канта, а затем их системы сравнил и развил Гегель.)
Толстой (как и профессиональные философы до него) рассматривал такое понимание субъективности как замкнутый круг, в котором «я» заперто без исхода в акте сознавания себя. Рассуждения Толстого о «я, сознающем сознающего себя» в позднем дневнике звучат как перефразирование Фихте или Шеллинга.
Толстой возвращался к этой теме вновь и вновь:
Что такое сознание? То, что я спрошу себя: кто, что я? - И отвечу: я - я. Но я спрошу себя: кто же этот второй «я»? - И ответ только один: опять я, и сколько ни спрашивай; все я - я. Явно, что я есть что-то внепространственное... вневременное. (58: 42-43). Толстой (как Фихте и Шеллинг) постулировал два типа сознания:
Сознаний два: одно - низшее сознание: сознание своей отделенности от Всего; и высшее сознание: сознание своей причастности ко Всему, сознание своей вневременности, внепространственности, своей духовности, сознание всемирности (54: 179). Толстой поясняет, что первое сознание доступно: «я могу понять, сознать себя отделенным». «Второе же сознание - духовное - я не могу сознать. Я сознаю только, что я сознаю, что сознаю, и так до бесконечности» (54: 180). Он затем приходит к выводу, что «вся задача жизни состоит в перенесении своего «я» из отделенного во всемирное, духовное, сознание». Однако написав это, Толстой добавил в скобках: «(Опять не то. Дальше не могу)» (Там же). Как ясно из дневника, такие философские выкладки не приносили ему облегчения - ни в теории, ни на практике.
В своих философских выводах Толстой (как он неоднократно указывал) исходил из непосредственного жизненного опыта:
Только и помню теперь, что я сижу в бане, и мальчик пастух вошел в сени. Я спросил: Кто там? - Я. - Кто я? - Да я. - Кто ты? - Да я же. <.> И так всякий <.>
7 А. Я. П. 92. Если буду жив (52: 69).
Заметим, однако, что Фихте использовал подобную ситуацию, чтобы описать свое понятие не в философских терминах, а на материале «повседневной жизни»:
.вы окликаете кого-нибудь в темноте: «Кто там?» *Wer ist da?* - и он отвечает вам в предположении, что его голос вам знаком: «Это я» *Ich bin es* <.>*208*. Можно предположить, что Толстой действительно пришел к ощущению замкнутого круга самосознания через личный опыт, а не через философское чтение. (Как заметил Фихте, то, что в самосознании субъект и объект мышления едины, может стать ясным каждому в каждодневной жизни в процессе акта мышления.) И тем не менее Толстой знал о Фихте и Шеллинге и их философии субъективности*209*.
Концепции субъективности, восходящие к Фихте и Шеллингу, составляли основу философского образования русских мыслителей начиная со знаменитого кружка Николая Станкевича в 1830-1840-е годы. Их философские взгляды формировались в процессе интенсивного личного общения, часто с чужих слов, и стали известными последующим поколениям из личных документов. Формула Шеллинга «я = я» поразила молодого Станкевича, и он поделился ею с товарищем в письме, объяснив, что этот принцип служит основанием всей философии, или, как он выразился, разумения (он рекомендовал товарищу начать с Канта и признался, что еще не читал Гегеля)*210*. В другом письме он упомянул о Фихте: «Я не читал Фихте, но слышал, что у него я человеческое, а у Шеллинга - абсолютное <.>»*211*. Эмоциональная интенсивность, интимность и наивность такого философствования способствовали его действенности. Толстой прочел переписку Станкевича в 1858 году, когда она появились в печати, и, как он писал другу, был тронут до слез («вот человек, которого я любил бы, как себя»). Можно предположить, что свои первые философские знания Толстой получил из этого «человеческого источника» (так он выразился в этом письме) (60: 272)*212*.
Итак, в своем дневнике Толстой на примере собственного жизненного опыта разрабатывал идею о неизбежном, замкнутом круге самосознания и рассуждал о принципе «я есть я», известном также из философских концепций субъективности. Его беспокоило, что, сколько ни спрашивай, «кто, что я?», ответ один: «я - я». Подлинное «я» остается недоступным, сознание - неизбежным. Даже если возможно освободить душу от внешних условий (то есть от тела), мыслимо ли освобождение от сознания?
«Я потерял память всего, почти всего прошедшего <...> Как же не радоваться потере памяти?»
На восьмидесятом году жизни Толстой испытал на себе, что это возможно: с ним стали случаться обмороки (потеря сознания), за которыми следовала временная потеря памяти. Толстой воспринял этот опыт как прообраз полного забвения себя, которое достигается в смерти. По поводу первого обморока, случившегося 2 марта 1908 года, он писал (10 марта): «С неделю тому назад я заболел. Со мной сделался обморок. И мне было очень хорошо. Но окружающие делают из этого fuss» (56: 109)12131. Во время следующих двух обмороков, в апреле, о которых он не упоминает в дневнике, Толстой чувствовал присутствие давно умершего брата Дмитрия12141.
В нескольких случаях Толстой описал эпизод амнезии после пробуждения от сна:
Сегодня, 13 мая, проснувшись, испытываю странное душевное состояние: как будто все забыл <.> не могу вспомнить: какое число? что я пишу? - А между тем не столько представления, сколько чувства нынешних сновидений представляются особенно ярко (56:
35)Ш5].
В этом случае сны представлялись Толстому более реальными, чем впечатления яви.
В другой раз забвение сопровождалось моральным очищением - чуткостью к добру:
Со мной случилось нынче что-то новое, необыкновенное, не знаю, хорошее или дурное <...>: Случилось то, что я проснулся с небольшой головной болью и как-то странно забыв все: который час? Что я пишу? Куда идти? - Но, удивительная вещь! рядом с этим особенная чуткость к добру: увидал мальчика, спящего на земле - жалко; бабы работают - мне особенно стыдно. Прохожие - мне не досадно, а жалко. Так что совсем не к худшему, а к лучшему (56: 117).
В обоих случаях он чувствовал себя как бы вне времени (забыл, какое число, который час).
Помимо моментов полного забвения, Толстой замечал признаки ухудшения памяти. В дневнике он внимательно следил за собой. Воспринимая потерю памяти как продвижение по пути к освобождению, Толстой радуется этому процессу: «Я потерял память. И - удивительное дело - ни разу не пожалел об этом. Могу пожалеть о том, что теряю волосы, и жалею, но не о памяти <...>» (56: 161).
Среди прочего, Толстой (как он отмечал в дневнике) забывал, о чем он писал. Он также уверял, что забыл свои опубликованные сочинения. Однажды Толстой сказал посетителю, что забыл содержание «Анны Карениной». (Этим посетителем был известный биолог Илья Мечников, который тоже был озабочен проблемой смерти, подходя к этому вопросу с научной точки зрения - он искал способов освобождения организма от старения и распада путем гигиенических средств12161.) Жена напомнила Толстому сюжет романа, но он слушал без интереса. Этот эпизод попал в газеты. Толстой был тронут до слез, прочтя статью под названием «Не помню. Забыл.», автор которой объяснил: «Толстому необходимо было из памяти стереть все прошлое, не только свои прежние произведения, но даже все заповеди, кроме одной, „единой заповеди": любви к ближнему»12171.
Как и в других случаях, Толстой обобщал свои наблюдения над собой и, применяя их к переживаниям всех людей, формулировал принципы, исполненные философского смысла:
123 октября 19101 Я потерял память всего, почти всего прошедшего, всех моих писаний, всего того, что привело меня к тому сознанию, в каком живу теперь. <.> Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем выработал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях), всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу - не помню. Удивительно. А между тем думаю, что эта радостная перемена у всех стариков: жизнь вся сосредотачивается в настоящем. Как хорошо! (58: 121-122).
В дневнике бытописание обращалось в метафизику: Толстой обратил свои дневниковые наблюдения над потерей памяти в философские размышления о времени. Прошлое исчезло, так как субъект потерял память о предыстории своего «я». Ввиду близящейся смерти будущее также потеряло актуальность. Казалось, время остановилось: Толстой мог наконец
жить «безвременной жизнью в настоящем» (58: 122). Но сделать запись этого настоящего было далеко не просто, в частности и потому, что Толстой теперь нередко забывал, что случилось в течение дня. Время от времени дневниковая запись сводится к констатации забвения: «22, 23, 24 фев. 119101 <.> Плохо помню, что было в эти два дня» (58: 19).
«Смерть похожа на сон, на засыпание <...> Но смерть еще
более похожа на пробуждение»
В последние годы жизни Толстой все больше и больше спал. При пробуждении ему нередко не удавалось сразу восстановить память и сознание себя:
Я нынче все больше и больше начинаю забывать. Нынче много спал и, проснувшись, почувствовал совершенно новое освобождение от личности: так удивительно хорошо! Только бы совсем освободиться. Пробуждение от сна, сновидения, это - образец такого освобождения (56: 98).
Толстой истолковывал пробуждение от сна как прообраз будущего перехода от жизни к смерти, понимая смерть как желанное освобождение от сознания своего «я».
В дневнике Толстой не раз обращался к аналогии между сном и жизнью или сном и смертью. Размышления о своих ощущениях перемежаются философскими рассуждениями. Работая над этой аналогией, Толстой пробовал разные ходы. Одна возможность: «Сновидения совершенное подобие жизни» (57: 91). В этом он опирался на метафору «жизнь есть сон», к которой не раз обращались философы Платон, Декарт, Паскаль, Шопенгауэр и другие. Он испробовал и другой ход: «Сон - совершенное подобие смерти» (56: 34). И у этой идеи есть культурные прецеденты, достаточно вспомнить монолог Гамлета: «Умереть, уснуть; Уснуть! И видеть сны, быть может?» (To die, to sleep; To sleep, perchance to dream)12181.
Толстой рассуждал о том, как соотносятся разные метафорические ходы: «Я говорил себе, что смерть похожа на сон, на засыпание: устал и засыпаешь, - и это правда, что похоже, но смерть еще более похожа на пробуждение <.>» (55: 89). Он испытывал особенный интерес к моменту пробуждения. День ото дня, засыпая и просыпаясь, Толстой подвергал известные философские аналогии и литературные метафоры опытной проверке: он размышлял о том, что происходит при переходе между жизнью и смертью.
Однажды, лежа в постели после пробуждения, он составил сложную аналогию, в которой цикл засыпания и пробуждения соотносится с переходом от жизни к смерти таким образом, что жизнь и смерть кажутся соизмеримыми:
Сегодня 5 Февраля 1892. Бегичевка. Только что встал. В постели думал: От сна пробуждаешься в то, что мы называем жизнью <.>. Но и эта жизнь не есть ли сон? А от нее смертью не пробуждаемся ли в то, что мы называем будущей жизнью, в то, что предшествовало и следует за сновидением этой жизни? (52: 62).
В последующие годы Толстой вновь и вновь возвращался к роковому вопросу о том, не есть ли смерть пробуждение к новой, будущей жизни. («Эта», т. е. земная, жизнь в этом случае является лишь сновидением.)
Следует упомянуть, что Толстому впервые подумалось (и снилось), что смерть есть пробуждение, задолго до того, как наступила старость. Запись такого сна, датированная 11 апреля 1858 года, имеется в его записной книжке:
Я видел во сне, что в моей темной комнате вдруг страшно отворилась дверь и потом снова неслышно закрылась. Мне было страшно, но я старался верить, что это ветер. Кто-то сказал мне: поди, притвори, я пошел и хотел отворить сначала, кто-то упорно держал сзади. Я хотел бежать, но ноги не шли, и меня обуял неописанный ужас. Я проснулся, я был счастлив пробуждением. Чем же я был счастлив? Я получил сознание и потерял то, которое было во сне. Не может ли также быть счастлив человек, умирая? Он теряет сознание я, говорят. Но разве я не теряю его засыпая, а все-таки живу. Теряет личность, индивидуальное <.> (48: 75).
В тот же день Толстой записал в дневнике: «кошмар и философская теория бессознательности» (52: 12). Как явствует из этого замечания, тридцатилетний Толстой понимал, что он разработал целую концепцию сознания (вернее, бессознательности) на основании своего сна.
Но это было не все. Читателям Толстого-романиста бросается в глаза (и исследователи не раз писали об этом), что Толстой использовал свой ночной кошмар в знаменитом эпизоде смерти князя Андрея: на смертном одре он видит сон о двери и на этом основании делает философский вывод о природе смерти: «Я умер - я проснулся. Да, смерть - пробуждение !»*219*Освобожденный этим открытием, герой Толстого умирает без страха и сожаления. Однако, как мы знаем из дневников старого Толстого, автор не был удовлетворен символическим решением проблемы смерти, предложенным в его романе. В поздних дневниках Толстой продолжал размышлять о снах, в которых смерть оказывалась пробуждением, и строить целые философские теории на этом материале.
Сны Толстого
С молодых лет Толстой считал сон и сновидения значительным опытом и записывал свои сны в дневнике или записной книжке. (Кроме дневника, Толстой в разные годы своей жизни делал заметки в записных книжках и на отдельных листах. В последние годы он постоянно носил такую памятную книжку в кармане для фиксации своих мыслей, а ночью она лежала возле его кровати - для записи снов. Некоторые из записей потом переносились в дневник.)
Многие из записанных снов касались сильных эмоций и нравственных конфликтов. 5 мая 1884 года он записал счастливый сон: «Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно все стало! Ничего похожего наяву» (49: 90). 25 мая 1889 года он видел во сне, что взят в солдаты. (За день до этого, рассуждая в дневнике о том, как обеспечить мир, он записал, что «не конгрессы мирные нужны, а непокорение солдатству каждого».) «Я взят в солдаты и подчиняюсь одежде, вставанию и т. п., но чувствую, что сейчас потребуют присяги и я откажусь, и тут же думаю, что должен отказаться и от учения. И внутренняя борьба. И борьба, в которой верх взяла совесть» (50: 85). 29 июня 1889 года он записал: «Ночью увидал во сне какую-то лягушку в человека ростом и испугался. И испугался как будто смерти. Но нет, это ужас сам по себе» (50: 101). 29 сентября 1895 года он видел во сне, что его били по лицу и он стыдится, что не вызвал на дуэль, но потом соображает, что может не вызвать, так как это доказывает его верность учению о непротивлении злу. Он проснулся с мыслью о том, что соображения во сне бывают самые низменные (53: 59). Полтора года спустя, 22 января 1897 года, он записал, что видел во сне «все то же оскорбление» и проснулся с болью в сердце, думая о смерти (53: 132).
В одном замечательном сне (29 ноября 1908 года) Толстой пережил драму Христа, притом он видел себя и автором истории о Христа, и ее героем (более чем одним героем): «Ночью видел во сне, что я отчасти пишу, сочиняю, отчасти переживаю драму Христа. Я - и Христос и воин. Помню, как надевал меч. Очень ярко» (56: 158).
Заметим, что эффект расщепления своего «я», пережитый и описанный здесь Толстым, хорошо известен психологам и философам, исследовавшим сны. Сновидение создает особое отношение к собственному «я». В самом деле, кто есть «я» сна? Во многих случаях «я» - это одновременно и субъект, и объект сновидения*220*. Что касается авторства, хотя сновидение является формой душевной деятельности человека, текст сна обычно «представляется нам чем-то чуждым»*221*. После пробуждения «я», которое в некотором смысле является его
Г222*
автором, не понимает своего создания . В результате сновидение, рассказанное после пробуждения, является конфронтацией со скрытыми противоречиями и глубинами своего «я». Поэтому рассказ о сне - это отрефлектированная форма конфронтации с собой, включая конфронтацию между «я»-субъектом и «я»-объектом, между «я» знающим и «я» не знающим самого себя и своего положения в мире. Этот потенциал сновидений был задействован Толстым: как мы видели, он использовал записи своих снов как форму саморефлексии и самоописания.
Но этим значение снов не ограничивалось. Время от времени Толстому снились целые философские и социальные концепции, и, проснувшись, он записывал результат - с переменным успехом. 23 марта 1890 года он видел во сне, что «материя претворяется, изменяет форму, но не уничтожается, и это было доказательством бессмертия». Это было «ново и ясно», но при пробуждении доказательство потерялось, остался только образ порошка на тарелке (51: 31). В ночь на 20 июня 1909 года, читая накануне рассуждения Энгельса о Марксе, Толстой «проснулся от ясного, простого, понятного всем опровержения матерьялизма». Записывая этот сон в дневнике, он добавил: «Наяву вышло не так ясно, как во сне, но кое-что осталось» (57: 87).
В нескольких случаях Толстой публиковал произведения, основанные на снах12231. 22 октября 1909 года во сне он горячо говорил о Генри Жорже. (Толстой был большим поклонником его труда «Прогресс и бедность», в котором растущая бедность ставилась в непосредственное отношение к институту частной собственности на землю.) На следующий день Толстой записал свой сон (57: 157-158). В течение следующих двух месяцев Толстой создал на основе этой записи очерк о земельной собственности. Опубликованный в 1911 году под названием «Сон» (38: 23-29), этот очерк является одним из самых важных заявлений Толстого по вопросу о положении крестьян в пореформенной России (а этот вопрос занимал его со времени трактата «Так что же нам делать?»). Закончив свой очерк, Толстой отметил в своей записной книжке, что это произведение было основано на подлинном опыте:
Все то, что я записал, я точно видел, слышал во сне. Правда, я часто и много думаю наяву о земельном вопросе, но то, что я слышал во сне, я не думал сам наяву, а услышал только во сне (57: 264).
Эта запись свидетельствует о сложном и плодотворном для Толстого отношении между двумя «я» - «я», которое думает наяву, и «я», которое слышит во сне то, о чем не думает наяву.
Сон: мир вне времени и представления
Философский потенциал сновидений казался Толстому еще более значительным, когда на основании своих снов он делал выводы по основополагающим вопросам о сознании, способах репрезентации и переживания времени, а также о главной проблеме - смерти.
8 марта 1904 года Толстой записал такой знаменательный сон:
Видел сон. Я разговариваю с Гротом и знаю, что он умер, и все-таки спокойно, не удивляясь, разговариваю. И в разговоре хочу вспомнить чье-то суждение о Спенсере или самого Спенсера, что тоже не представляет во сне различия. И это рассуждение я знаю и говорил уже прежде. Так что рассуждение это было и прежде и после.
Здесь Толстой приостановился и сделал далекоидущие философские заключения о времени и о личности:
- То, что я разговариваю с Гротом, несмотря на то, что он умер, и то, что рассуждение о Спенсере было и прежде и после и принадлежало и Спенсеру и другому кому-то - все это не менее справедливо, чем то, что было в действительности, распределенное во времени.
8 марта 1904. Я. П. Е. б. (55: 18-19).
Содержание этого сна восходит к реальному жизненному событию. Толстой видит себя говорящим с тем философом, Николаем Гротом, который в 1887 году пригласил его сделать доклад о его сочинении «О жизни и смерти» на заседании московского Психологического общества. В более ранние годы Грот был последователем Герберта Спенсера и, как
и Спенсер, сторонником теории эволюции и агностиком. (Спенсер понимал эволюцию как процесс преобразования материи.) Однако когда Грот заинтересовался сочинением Толстого, он перешел на метафизическую позицию и был занят подготовкой труда о душе, в связи с чем изучал диалог Платона о смерти Сократа, «Федон». К концу жизни Грот надеялся создать синтез эмпирической науки и метафизики. Грот умер в 1899 году, прежде чем ему удалось сформулировать эмпирическое доказательство бессмертия души.
Через два дня Толстой вернулся к своему сну о Гроте и сформулировал пережитое во сне в философских терминах: «Я видел сон, который уяснил многое, именно то, что сон соединяет в одно то, что в действительности разбивается по времени, пространству, причинности <...>» (55: 19-20). Через четыре месяца он записал общие выводы о времени, пространстве, причинности и личности как категориях, неприменимых к жизни как она переживается в сновидении:
Жизнь в сновидении происходит вне времени, пространства, вне отдельных личностей: имеешь дело во сне с умершими как с живыми, хотя знаешь, что они умершие. Также и место - и в Москве и в деревне, и время - и давнее и настоящее (55: 64, 12 июля 1904). Едва ли не самой важной частью этих философских выкладок было наблюдение о стирании разницы между живыми и мертвыми.
Толстой рассуждал в этих категориях и раньше, вне контекста сновидений, но также на основании каждодневного опыта. Одна из карманных записных книжек Толстого содержит размышления, датированные 21 июля 1870 года, причем в этом случае, рассуждая о формах времени и пространства, Толстой упоминает Канта:
21 июля *1870* Я купаюсь. Лошадь привязана и глядит на меня, когда я выплыл из купальни. Знает ли она, что это я, - тот я, который приехал на ней?
Кант говорит, что пространство, время - суть формы нашего мышления. Но, кроме пространства и времени, есть форма нашего мышления - индивидуальность. Для меня лошадь, я, козявка суть индивидуумы, потому что я сам вижу себя индивидуумом, но так ли лошадь? (48: 126, курсив Толстого).
Нет сомнения, что и в других случаях, оперируя с категориями времени, пространства, причинности и личности, Толстой опирался на Канта, а также на Шопенгауэра. Возможно, что рассуждения о сознании лошади связаны с увлечением Шопенгауэром, начавшимся летом 1869 года, когда Толстой прочел и Канта. (Именно Шопенгауэр рассуждал о том, что животные, в отличие от человека, не обладают индивидуальностью.)
Однако для Толстого важно было осознать эти мысли как свои собственные. По свидетельству его секретаря Валентина Булгакова, в последний год жизни Толстой так сформулировал свое отношение к философским мыслям предшественников:
Я читал Канта, Шопенгауэра и это им обязан взглядам на пространство и время как формы восприятия. Но, знаете, мысль становится близка тогда, когда в душе уже сознаешь ее, когда при чтении кажется, что она уже была у тебя, что все это ты знал, когда ты точно только
*224*
вспоминаешь ее .
Такое понимание преемственности философской мысли, в свою очередь, восходит к прецедентам: к учению Платона о душе и о познании как припоминании. Но для Толстого также важно, что его мысль укоренена в каждодневном опыте, будь то сновидение или купание и езда на лошади*225*.
В последние годы жизни Толстой воспринимал свои сны как эмпирическое свидетельство того, что время, пространство, причинность и индивидуальность являются лишь категориями мышления. Более того, он воспринимал свои сны как предвидение того состояния, в котором сознание будет оперировать вне этих категорий - или той области, в которой не будет различия между «прежде» и «после», «там» и «здесь», где мысли будут принадлежать и мне, и «другому кому-то» и где живые смогут вести философские разговоры с умершими.
В дневниковых записях Толстой сформулировал и теорию происхождения снов: сновидения возникают мгновенно, в момент пробуждения, «без времени», но в бодрствующем состоянии представления сна складываются в последовательность («часто неразумную»), и «эта последовательность дает нам иллюзию времени». Он провел аналогию между сном и жизнью: «не то же самое ли есть жизнь со своим множеством представлений, тоже часто в неразумной последовательности, которая представляется во времени?» Толстой предположил, что при смерти эта иллюзия последовательности, то есть иллюзия времени, исчезнет и возобладает другое, «расширившееся сознание» (54: 172). (Такие формулировки повторяются в дневнике неоднократно - см., например, 54: 172 и 55: 23.)
В этом контексте Толстой вновь обратился к ретроспективным снам, которые описал еще в «Истории вчерашнего дня» в 1851 году, - снам, возникающим именно в момент пробуждения, как будто текст сновидения сложился мгновенно, вне времени. В дневниках последних лет жизни Толстой неоднократно обсуждал такие сны. Одна такая запись сделана 25 марта 1908 года - в тот самый день (на Благовещение), который в 1851 году он выбрал для своей «Истории вчерашнего дня». 24 марта 1908 года он записал: «Нельзя не думать о засыпании и пробуждении, как о подобии смерти и рождения». Он постарался сформулировать аналогию, но прервал рассуждения, заметив: «Что-то тут есть, но не могу разобраться» (56: 114). На следующий день он вернулся к своей аналогии, обратившись к определенного типа снам:
Главное подобие в отношении ко времени: в том, что как во сне, так и наяву времени нет, но мы только воображаем, не можем не воображать его. Я вспоминаю длинный, связный сон, который кончается выстрелом, и я просыпаюсь. Звук выстрела - это был стук ветром прихлопнутого окна. Время в воспоминании о сновидении мне нужно, необходимо было для того, чтобы в бдящем состоянии расположить все впечатления сна. Так же и в воспоминаниях о событиях бдения: вся моя жизнь в настоящем, но не могу в воспоминании о ней, скорее в сознании ее - не располагать ее во времени. Я ребенок, и муж, и старик - все одно, все настоящее. Я только не могу сознавать этого вне времени (56: 114). Толстой высказал затем надежду, что смерть внесет необходимую правку в искаженный текст жизни: «Как, просыпаясь от стука захлопнувшегося окна, я знаю, что сновидение было иллюзия, так я при смерти узнаю это обо всех, кажущихся мне столь реальными событиях мира» (56: 115).
В другой раз, 15 сентября 1909 года, Толстой проснулся после ночи, полной ярких снов, с особенно свежей головой и радостным чувством жизни: он испытал (как ему казалось) «никогда до такой степени ясности не испытанное сознание своей внепространственности, вневременности», «сознал всей душой обманчивость, воображаемость того, что считается действительной, настоящей жизнью». Под влиянием этого переживания он сформулировал свои мысли о временной структуре ретроспективных сновидений:
Все знают и все замечали те странные сны, которые кончаются пробуждением от какого-нибудь внешнего воздействия на сонного: или стук, шум, или прикосновение, или падение, - при чем этот в действительности случившийся шум, толчок или еще что получает во сне характер заключительного впечатления после многих, как будто подготавливавших к нему. Так что сон я вспоминаю, например, так: я приезжаю к брату и встречаю его на крыльце с ружьем и собакой. Он зовет меня итти с собой на охоту, я говорю, что у меня ружья нет. Он говорит, что можно вместо ружья взять, почему-то, кларнет. Я не удивляюсь и иду с ним по знакомым местам на охоту, но по знакомым местам этим мы приходим к морю (я тоже не удивляюсь). По морю плывут корабли, они же и лебеди. Брат говорит: стреляй. Я исполняю его желание, беру кларнет в рот, но никак не могу дуть. Тогда он говорит: ну, так я, - и стреляет. И выстрел так громок, что я просыпаюсь в постели и вижу, что то, что был выстрел, это стук от упавших ширм, стоявших против окна и поваленных ветром. Мы все знаем такие сны и удивляемся, как это сейчас совершившееся дело, разбудившее меня, могло
во сне подготовляться всем тем, что я до этого видел во сне и что привело к этому только что
совершившемуся мгновенному событию? (57: 139-140).
На основании таких снов Толстой сделал важный вывод о природе времени:
Этот обман времени имеет, по моему мнению, очень важное значение. А именно то, что времени нет, а что нам представляется все во времени только потому, что таково свойство нашего ума (57: 140).
Затем он применил выводы, сделанные на основании анализа сна, к свойствам жизни:
Точно тот же обман происходит и в том, что мы называем действительной жизнью. Только с той разницей, что от того сновидения мы проснулись, а от жизни проснемся только при смерти. Только тогда мы узнаем и убедимся, что реально было в этой жизни то, что спало и что проснулось при смерти (57: 140).
В своих поздних дневниках - и в своей повседневной жизни - Толстой вновь и вновь ставил проблему времени, которая занимала его уже в юношеских дневниках: «Ночью думал: что такое время?» (55: 10). Сны предлагали ответ на этот вопрос: времени нет. Этот ответ был основан как на собственном опыте, так и на философских рассуждениях, в которых Толстой следовал за Кантом и Шопенгауэром («что нам представляется все во времени <.> таково свойство нашего ума»), но в своих заключениях он пошел дальше, чем профессиональные философы. Так, развивая известную метафору «жизнь есть сон», Толстой постулировал существование другой жизни, то есть другого сознания, подобного тому, которым человек обладает во сне, - сознания, которое не оперирует категориями времени, пространства, причинности и индивидуальной личности.
Вскоре Толстой заметил трагическое противоречие в своих размышлениях: говорить о будущей жизни нельзя, поскольку самый акт представления о другой жизни является актом мышления, которое со всеми своими категориями принадлежит этому миру. 29 октября 1909 года, через полтора месяца после того, как он сделал запись о том, что мы узнаем при смерти, Толстой напомнил себе о пределах, поставленных и мышлению, и речи. Сон (повторил он) есть «совершенное подобие жизни» в том смысле, что и сон, и жизнь кончаются пробуждением. Он хотел продолжать, но остановился:
Хотелось бы сказать, что жизнь до рождения, может быть, была такая же, что тот характер, который я вношу в жизнь, есть плод прежних пробуждений, и что такая же будет будущая жизнь, хотелось бы сказать это, но не имею права, потому что я вне времени не могу мыслить. Для истинной же жизни времени нет, она только представляется мне во времени. Одно могу сказать - то, что она есть, и смерть не только не уничтожает, но только больше раскрывает ее. Сказать же, что было до жизни и будет после смерти, значило бы прием мысли, свойственный только в этой жизни, употреблять для объяснения других, неизвестных мне форм жизни (57: 142; курсив Толстого).
В самом деле, Толстой, будучи читателем Канта и Шопенгауэра, понимал, что другая жизнь, жизнь вне времени, то есть вне категорий сознания, недоступна ни мысли, ни репрезентации. Однако и после того, как он сформулировал этот принцип, он продолжал думать и рассуждать о свойствах будущей жизни в дневнике.
Делая далекоидущие философские выводы о природе времени на основании снов, Толстой был человеком своего времени. Во второй половине девятнадцатого века сновидения (включая ретроспективные) стали предметом исследования ряда авторов во Франции и в Германии, среди них Адольф Гарнье (Adolphe Garnier), Альфред Мори (Alfred Maury), Гервей де Сен-Дени (Harvey de Saint-Denis), Ф. В. Гильдебрандт (F. W. Hildebrandt)*226*. Как и Толстой, они делали наблюдения над своими собственными снами. В 1885 году немецкий философ Карл Дю Прель (Carl Du Prel) в своей «Философии мистики» сделал выводы о философском значении сновидений, сходные с теми, к которым пришел в своем дневнике Толстой.
Согласно Дю Прелю, сновидения доказывают, что человек имеет два сознания: эмпирическое, c физиологической мерой времени, и «метафизическое» (или «трансцендентальное»), которым мы обладаем во сне, с его особенной - трансцендентальной - мерой времени. В этой связи Дю Прель привел слова Лютера: «Бог зрит время не в продольном, а в поперечном направлении» (89)1227 Так, во сне мы получаем способность заглядывать в иное измерение бытия; сновидения показывают, и притом на основе опыта, что наше самосознание не содержит всего нашего «я» (79).
Дю Преля особенно интересовали ретроспективные сновидения, в которых «начало и конец сновидения совпадают во времени» (52), а следствие предшествует причине (85). Он упомянул среди других известных примеров, сон Наполеона о переходе Тальяменто, описанный Гарнье, и сон Мори о том, как он был казнен на гильотине (83-84), а также привел несколько собственных снов такого типа. Как и Толстой после него, Дю Прель рассматривал такие сны как эмпирическое свидетельство «учения Канта об исключительно субъективном значении формы времени» (52), и он постоянно апеллировал к Шопенгауэру, а также к Эдуарду фон Гартману, автору «Философии бессознательного», также исходившему из Шопенгауэра.
Неизвестно, знал ли Толстой о Дю Преле, но эти идеи были широко известны в конце века12281. Рассуждая в том же ключе, Толстой пошел еще дальше, чем Дю Прель, предполагая, что ретроспективные сны являются моделью того, что будет при пробуждении к будущей жизни, хотя он и понимал, что сказать о том, что будет после смерти, не имеет права.
Через год после того, как Толстой написал эти слова («хотелось бы сказать это, но не имею права»), 26 октября 1910 года (за два дня до ухода из дома), ему приснился еще один ретроспективный сон, и он описал его в письме к своему духовному ученику Владимиру Черткову:
нынче во сне испытал толчок сердца, который разбудил меня, и, проснувшись, вспомнил длинный сон, как я шел под гору, держался за ветки и все-таки поскользнулся и упал, - т. е. проснулся. Все сновидение, казавшееся прошедшим, возникло мгновенно, так одна мысль о том, что в минуту смерти будет этот, подобный толчку сердца в сонном состоянии, момент вневременный, и вся жизнь будет этим ретроспективным сновидением. Теперь же ты в самом разгаре этого ретроспективного сновидения. - Иногда мне это кажется верным, а иногда кажется чепухой (89: 230).
Этот замечательный сон реализует метафору жизненного пути, которую Толстой использовал в своей «Исповеди». В его сне «я» идет под гору, т. е. приближается к концу жизни, и нисхождение прервано пробуждением. При пробуждении Толстой - теперь уже не герой, а автор и читатель сна - понимает, что вся его жизнь была иллюзией, подобной ретроспективному сновидению. Не то же ли наступит при смерти? В письме Толстой выражает сомнения в своей теории, признаваясь, что иногда это кажется ему чепухой. И тем не менее в другие моменты - как мы знаем из дневника - он верил в эту возможность. В письме Толстой упомянул и другой сон, который приснился ему в эти дни, - «прелестное художественное сновидение» (89: 230)12291. Чертков воспринял идеи учителя совершенно серьезно и пересказал его ретроспективное, метафизическое сновидение в своей книге о смерти Толстого12301. Это последний известный нам сон Толстого. Опубликованный Чертковым, он приобрел статус пророчества.
Книга жизни: «она только написана на времени»
Вспомним, что молодой Толстой хотел превратить себя или хотя бы один день своей жизни в книгу, «чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам» (1: 279).
Отчаянье охватило его, когда он попытался, «чертя по бумаге буквы», описать себя в дневнике (46: 65)*23**. Мы видели, что это отчаянье не покидало его до конца жизни. В поздних дневниках, размышляя не только об ограниченных возможностях повествования, но и о лимитированности понятия «я», Толстой тем не менее вернулся к знаменитой метафоре
Г2321
«книга жизни» .
В 1888 году (в котором ему исполнилось шестьдесят лет) Толстой сделал в дневнике замечательную запись. В свете обновленного им христианства земная жизнь представлялась ему именно книгой, но при этом встал вопрос и о книге другой жизни:
Думал: жизнь, не моя, но жизнь мира с тем renouveau христианства со всех сторон выступающая, как весна, и в деревьях, и в траве, и в воде, становится до невозможности интересна. В этом одном весь интерес и моей жизни; а вместе с тем моя жизнь земная кончилась. Точно читал, читал книгу, которая становилась все интереснее и интереснее, и вдруг на самом интересном месте кончилась книга и оказывается, что это только первый том неизвестно сколь многотомного сочинения и достать продолжения здесь нельзя. Только за границей на иностранном языке можно будет прочесть его. А наверно прочтешь. - (50: 4, 24 ноября 1888).
Сейчас, когда ему кажется, что он дочитал книгу своей земной жизни до конца, Толстой старается представить книгу неземной жизни, и известная метафора приобретает новый характер: написанная за границей между жизнью и смертью, это будет другая книга - на иностранном языке.
В 1909 году Толстой вновь обратился к метафоре «книга жизни», на этот раз в контексте своих размышлений об иллюзорном характере времени:
Времени нет. Есть моя жизнь. А она только написана на времени. Есть сочинение, а нет строк, букв. Оно написано только посредством строк и букв. И то, что хорошее сочинение написано строками и буквами, никак не доказывает того, что дальнейшие строки и буквы книги будут продолжать сочинение или составят подобное же сочинение (57: 19, 2 февраля 1909).
В этой записи книга жизни представляется Толстому написанной на времени (как на бумаге), и он думает, как и в 1888 году, о продолжении - о книге другой жизни, после смерти, которая будет написана иначе. Если молодой Толстой сожалел в своих дневниках о трудности выражать себя, чертя буквы на бумаге, то старый Толстой, отставной романист, сомневался в том, что книга новой жизни будет подобным сочинением - и тем не менее продолжал пользоваться привычной метафорой.
«Круг чтения»: «сознание Льва Толстого заменить сознанием всего человечества»
В последние годы жизни Толстой интенсивно работал над составлением альманахов для ежедневного чтения. Эти календари содержали и мысли самого Толстого, и афоризмы, заимствованные из произведений разных авторов (многие из которых Толстой существенно переиначил). Для Толстого, как он описал свой проект Владимиру Черткову в июне 1885 года, эта работа - делать «выборки из книг, которые все говорят про то одно, что нужно человеку прежде всего, в чем его жизнь, его благо» - позволяла «входить в общение с такими душами, как Сократ, Эпиктет, Arnold, Паркер» (85: 218).
Идея такого альманаха возникла у Толстого уже в середине 1880-х годов, но он приступил к работе в 1902 году, во время тяжелой болезни. Лежа в постели, он каждый день отрывал листки стенного календаря и прочитывал помещенные в нем изречения разных мыслителей*233*. После того как с этого древа жизни все листы были сорваны, Толстой решил посадить свое собственное. В последние годы жизни составление календарных альманахов было едва ли не главной задачей дня. Едва доведя до конца первое такое собрание («Мысли
мудрых людей на каждый день», 1903), Толстой приступил к подготовке новой редакции («Круг чтения», 1906-1907), которую затем переработал («Новый круг чтения», или «На каждый день», 1909-1910). (В последний год жизни он составил также сборник «Путь жизни», который был организован не хронологически, а тематически12341.) Толстой сам ежедневно прочитывал то, что предназначалось на данное число.
Выбор авторов был широким и кажется эклектичным, но Толстой включал тех, которые казались ему родственными по духу. Обсуждая этот проект в дневнике и в письмах, он выделял следующих: Марк Аврелий, Эпиктет, Ксенофонт, Сократ, Сенека, Плутарх, Цицерон, Конфуций, Лао Цзы («Лао-Тсе»), Будда, Евангелие, Паскаль, Монтескье, Руссо, Вольтер, Лессинг, Кант, Лихтенберг, Шопенгауэр, Амьель, Эмерсон, Вилльям Эллери Чаннинг, Теодор Паркер, Джон Рескин, Мэтью Арнольд (49: 68, 64: 152, 75: 169). В поисках авторов Толстого выходил за пределы Европы, за пределы христианства (имелись и выписки из Талмуда, Дхаммапады, Упанишад).
Некоторые из мыслей, включенных в альманахи, были перенесены из дневника, записных книжек и писем Толстого. Так, философская виньетка о крестьянском мальчике в бане («Кто там? - Я. - Кто я? - Да я») из записной книжки за 6 апреля 1892 года (52: 69) вошла в альманах «На каждый день» для чтения 2 июля (44: 6). Чтение на 30 июля включает мысль Толстого о том, что вся жизнь от рождения до смерти похожа на один день жизни от пробуждения до засыпания, которую он подробно разработал в дневниках (44: 65). Три вопроса Канта (которые занимают большое место в философской переписке Толстого со Страховым) помещены среди чтения на 1 августа (44: 70). Толстовский принцип непротивления злу насилием суммирован в чтении на 15 августа (44: 96) и на 15 октября (44: 218). Афоризм Паскаля о том, как отличить действительную жизнь ото сна, имеется в чтении на 29 ноября (44: 320).
Толстой редактировал мысли мудрых людей, которые помещались рядом с его собственными, так что в этих книгах он как бы достиг цели «сознание Льва Толстого заменить сознанием всего человечества» (56: 123). Можно думать, что ему виделась некая разновидность логоса - коллективная мысль, или мировая душа. В разговоре с секретарем (Николаем Гусевым, который записал его слова в своем дневнике) Толстой говорил об идее «культурной души», которая пришла к нему во сне:
Я во сне все думаю о «Круге чтения». Сегодня вижу во сне, как на бумажке написано: «У тебя есть душа, но ты должен образовывать в себе другую, культурную душу». И подписано: Кант. Я думаю: «Кант, надо обратить внимание»12351.
В другой раз Толстого поразило сходство его мысли (о необходимости отречения от себя) с мыслью Паскаля, и он сказал секретарю (Валентину Булгакову, который также сделал запись в дневнике):
Вот Паскаль умер двести лет тому назад, а я живу с ним одной душой - что может быть таинственнее этого? Вот эта мысль <.> которая меня переворачивает сегодня, мне так близка, точно моя!.. Я чувствую, как я в ней сливаюсь душой с Паскалем. Чувствую, что Паскаль жив, не умер, вот он! Так же как Христос.12361
Из этого можно было сделать вывод, что, подобно Паскалю (и Христу), Толстой, как часть общей «культурной души», также не подвержен смерти.
Доступные в дешевых изданиях толстовские альманахи предоставляли читателю своего рода матрицы для ежедневной жизни и мысли: любой мог приобрести себе дневник духовной жизни Льва Толстого и день за днем жить согласно этой схеме. Напомним, что сам Толстой был одновременно и автором этих духовных дневников, и их читателем. («Круг чтения» обыкновенно лежал у него возле кровати, рядом с карманной записной книжкой, и, как правило, он прочитывал мысли на этот день перед сном.) Альманахи для чтения представляли собой вид дневника, не зависящего от условия «если буду жив», поскольку каждый из них всегда проделывал полный годовой круг. Размеченная такими книгами, жизнь
множества людей, наряду с его собственной, текла день за днем согласно предписанию. С таким дневником можно было прожить жизнь, которая уже описана.
Смерть Сократа
Среди других писаний Толстой воплотил свою практическую философию смерти в диалоге «Смерть Сократа», который он написал для «Круга чтения» (на 22 сентября); это свободный пересказ знаменитого диалога Платона «Федон», описывающего предсмертные слова Сократа о бессмертии души (42: 65-72). По-видимому, чтение его собственного сочинения производило сильное впечатление на Толстого. Так, 24 сентября 1910 года он сказал секретарю, Валентину Булгакову (который записал этот разговор в своем дневнике), что не знает ничего сильнее, чем описание последних часов Сократа в «Федоне»*237*. Сократ Толстого радуется смерти как освобождению и, отослав жену, объясняет ученикам, что душа со своей способностью знания и воспоминания о прежней жизни не может умереть вместе с телом: «как идеи <.> не подлежат смерти, то также не подлежит смерти наша душа» (42: 67).
Известно, что Толстой знал и внимательно читал диалог «Федон» Платона*238*. Более того, он переписал его не один раз. В 1886 году (в тот год, когда Толстой начал работу над трактатом «О жизни и смерти») писательница А. М. Калмыкова послала Толстому рукопись своей популярной книги «Греческий учитель Сократ» для публикации в «Посреднике». Толстой переписал некоторые страницы и добавил целую главу, «Как жить в семье?». Как явствует из этой книги, Толстой отождествлял себя с умирающим Сократом *239*.
Для старика Толстого, как и для Сократа, жить в семье было отнюдь не легко. В изложении Толстого, когда Сократ стал отрываться от своей обычной работы и ходить на площадь учить народ, не беря при этом денег, его жена Ксантиппа стала роптать. Жить бедно казалось ей и тяжело, и стыдно. Дело доходило до слез, попреков и брани. Рассердившись, Ксантиппа рвала и бросала все, что под руку попадется (25: 441).
9 августа 1909 года Толстой сделал запись о Ксантиппе в дневнике. В этот день (как и во многие другие дни) он записал свои мысли о смерти: «Говорят: не думай о смерти - и не будет смерти. Как раз наоборот: не переставая помни о смерти - и будет жизнь, для которой нет смерти» (57: 111). Непосредственно после этого он вспомнил о ворчливой жене Сократа и обобщил этот образ:
Отчего Ксантипы бывают особенно злы? А от того, что жене всегда приятно, почти нужно осуждать своего мужа. А когда муж Сократ или приближается к нему, то жена, не находя в нем явно дурного, осуждает в нем то, что хорошо. А осуждая хорошее, теряет la notion du bien et du mal - и становится все ксантипистее и ксантипистее (57: 111). В следующей строке оказывается совершенно ясным, что под «Ксантипой» он имел в виду Софью Андреевну, а под мужем, приближающимся к Сократу, - самого себя:
Софья Андреевна готовится к Стокгольму и как только заговорит о нем, приходит в отчаяние. На мои предложения не ехать не обращается никакого внимания. Одно спасение: жизнь в настоящем и молчание (57: 111).
(В это время Толстой намеревался посетить Международный конгресс мира в Стокгольме, чтобы с трибуны изложить свои взгляды на войну, но Софья Андреевна возражала; поездка не состоялась.)
Кажется, что Толстой надеялся умереть, как Сократ, - не только освободив свою душу от бренного тела, но и освободившись от ворчливой жены. В своих подготовительных писаниях он входил в общение с такими душами, как Сократ.
Смерть Толстого
После ухода из дома 28 октября 1910 года Толстой остановился в Шамординском монастыре (возле Оптиной пустыни), где его сестра Мария была монахиней. Он нашел у «Машеньки» «Круг чтения» и, читая книгу на ночь, был поражен - как он записал в дневнике, - что мысли этого дня были ответом на его положение (58: 125). (По-видимому, Толстой имел в виду афоризм о страдании как о необходимом условии нашей жизни 142: 181J.)
На смертном одре, в доме станционного смотрителя в Астапове (где болезнь прервала его бегство), Толстой продолжал записывать или диктовать свои мысли. Даже в бреду он просил окружающих записывать продиктованное. В ночь с 4 на 5 ноября разыгралась тяжелая сцена. Толстой просил прочесть ему записанное: «Ну, прочтите же, пожалуйста». Находившийся при нем Чертков отвечал, что ничего не было продиктовано. Толстой продолжал настаивать: «Да нет, прочтите же. Отчего вы не хотите прочесть?» Чертков: «Да ничего не записано». Эта мучительная ситуация продолжалась довольно долго, пока дочь Толстого, Александра Львовна, не посоветовала прочесть что-нибудь из лежавшей на столе книги. Оказалось, что это был «Круг чтения», который Толстой всегда держал при себе. Чертков начал читать относившееся к 5 ноября (было два часа ночи), и Толстой весь обратился во внимание, время от времени прося повторить какое-нибудь не вполне расслышанное слово. «А это чья?» - спрашивал он несколько раз про мысли в «Круге чтения». Но когда Чертков через некоторое время остановился, Толстой стал снова стараться диктовать. Чертков поспешил продолжать чтение. Это повторилось несколько раз12401.
За пятнадцать лет до этого Толстой (как он записал в дневнике) с грустью чувствовал, «что как будто и умирая я буду писать и после смерти тоже» (52: 105). Но когда пришел конец, ему удалось, в бреду, стать читателем своей жизни, а не писателем. Парадоксальным образом, идеал молчания, к которому стремился Толстой, был достигнут. Другой писатель, Андрей Белый, так описал его позицию: «„Круг чтения" есть молчание самого Толстого»12411.
Когда Толстой умер, 7 ноября 1910 года, журналисты, сообщавшие о его смерти, заметили, что мысли в «Круге чтения» на этот день соответствовали ситуации:
Можно смотреть на жизнь как на сон, а на смерть как на пробуждение. <.> Мы можем только гадать о том, что будет после смерти, будущее скрыто от нас. Оно не только скрыто, но оно не существует, так как будущее говорит о времени, а умирая, мы уходим из
12421
времени .
В самом деле, посредством альманаха для ежедневного чтения Толстому удалось не только довести книгу своей жизни до конца, но и утвердить в последний день, что времени больше не будет и что здесь кончаются возможности репрезентации.
Толстой с юных лет догадывался о том, что утопия, описанная им в «Истории вчерашнего дня» в 1851 году, - превратить всего себя в открытую книгу - недостижима. Тома его дневников, его «критика чистого разума» и его суждение о «мире как о представлении» оставлены им как памятник неудаче - неизбежной неудаче любого писателя, нацеленного на полную текстуализацию себя. Толстой надеялся, что в смерти он сможет наконец испытать чувство подлинного бытия - вневременное, внеличностное бытие в настоящем, которое невозможно описать словами. На протяжении многих лет он готовил себя к этому опыту, следя в своем старческом дневнике за разрушением тела, забвением прошлого и даже уничтожением самого сознания. Иногда он признавал, что оставить описание такого жизненного опыта так же невозможно, как записать свой сон синхронно с самим сновидением. Однако время от времени Толстой, который в молодости (в «Истории вчерашнего дня») предпринял-таки попытку стенографировать свой сон, пытался подготовить отчет о собственной смерти.
В смерти Толстой надеялся наконец оставить писательское поприще - он готовился прекратить писать книгу своей жизни (или читать уже напечатанный вариант) и на мгновение увидеть свет, падающий на то, что не подлежит репрезентации.
Толстой-романист приписал такой опыт своей героине, Анне:
И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла (19: 349).
В «Круге чтения» эти слова приведены в виде афоризма, относящегося к человеку как таковому и без подписи автора, под датой 29 декабря (то есть в самом конце года):
В минуту смерти человека свеча, при которой он читал исполненную обманов, горя и зла книгу, вспыхивает более ярким, чем когда-либо, светом, освещает ему все то, что прежде было во мраке, трещит, меркнет и навсегда потухает (44: 385).
Указатель имен
Августин Адо П.
Аксаков И. С.
Александр II, император
Александр III, император
Алексеев В. И.
Алексеева Г. В.
Амьель А.-Ф.
Анненков П. В.
Апостолов Н. Н.
Арендт Х.
Аристотель
Арнольд М.
Бактер Р.
Бакунин М.
Бастиа Ф.
Бастрыкина В. С.
Бах И. С.
Бахтин М. М.
Бегичев Д. Н.
Белый А.
Бем А. Л.
Беньян Дж.
Бергсон А. Беркли Дж. Бибиков В. А. Бибихин В. В. Бирюков П. И. Бицилли П. Благой Д. Д. Боткин В. П. Брейтбург С. М. Буайе П. Будда
Булгаков В. Ф. Бунин И. А. Бурлакова Т. Т. Бюрнуф Э. Василий, слуга Вейнтрауб К. Вирхов Р. Витгенштейн Л. Вольтер Галаган Г. Гарнье А. Гартман Э. фон Гегель Г. В. Ф. Гете И. В. Гильдебрандт Ф. В. Гинзбург Л. Гиттон Ж. Гольденвейзер А. Б. Гончаров И. А. Горбунов-Посадов И. Грот Н. Я. Грузинский А. Е. Гуковский Г. А. Гусев Н. Н. Густафсон Р. Ф. Гюго В.
Д'Андийи А. Дарвин Ч. Декарт Р. Джеймс У. Добролюбов Н. Донсков А. А. Доринг Р. Достоевский Ф. М. Дю Прель К.
Екатерина II, императрица Ергольская Т. А. Жерноклеев Д. Жорж Г. Жуковский В. А. Зверев А. Зиммель Г. Ипполит Ж.
К. Р. (Константин Романов) Калинина Н. А. Калмыкова А. М. Кант И.
Карпович М. М. Карус К. Г. Катков М. Н. Ковалевский Е. Кожев А. Козеллек Р. Конт О. Конфуций Корбен А. Круглов А. Н. Ксантиппа Ксенофонт Кузен В. Лао Цзы Лассаль Ф. Лебедев Д.
Лессинг Г. Э. Лихтенберг Г. Х. Локк Дж. Лютер М. Мак-Лейн Х. Маковицкий Д. П. Мальтус Т. Марат Ж.-П. Марк Аврелий Марк Антоний Маркс К. Масон И. Меджибовская И. Мережковский Д. Мечников Ив. И. Мечников И. И. Милль Дж. Милль Дж. С. Монтемайор К. Монтескье Ш. Монтень М. Мори А. Моцарт В. А. Мюллер Ф. М. Набоков В. Наполеон Бонапарт Неверов Я. М. Некрасов Н. А. Никифорова Т. Г. Никкел В.
Николай II, император Ницше Ф. Новикова С. Д. Ньюман Дж. Г. Оболенский Л. Е. Орвин Д. Паркер Т.
Паскаль Б. Платон Плотников Н. Плутарх Полосина А. Н. Прудон П.-Ж. Пруст М. Пушкин А. С. Райс Дж. Л. Ренан Э. Рескин Дж. Рикер П. Робеспьер М. Розанов В. В. Руссо Ж.-Ж. Седакова О. Сен-Дени Г. де Сенека Сократ Соловьев Вл. Соломон Спенсер Г. Смит А. Стайнер Дж. Станкевич Н. В. Старобинский Ж. Стасов В. В. Стасюлевич А. М. Стендаль Стерн Л. Страхов Н. Н. Тиндаль Дж. Толстая А. А. Толстая А. Л. Толстая М. Н. Толстая С. А. Толстой Д. Н.
Толстой Н. Н. Толстой С. Н. Туниманов В. Тургенев И. А. Урусов Л. Д. Успенский Б. А. Фет А. А. Фихте И. Г. Флоренский П. Флоровский Г. Франклин Б. Фрейд З. Фроуде Дж. Э. Хайдеггер М. Хомяков А. С. Цицерон Чаннинг В. Э. Чернышевский Н. Г. Чертков В. Г. Чертков А. Черткова А. К. Чижевский Д. И. Чичерин Б. Шекспир У. Шеллинг Ф. Шкловский В. Б. Шпет Г. Г. Шопенгауэр А. Штраус Д. Ф. Эйхенбаум Б. М. Эмерсон К. Энгельс Ф. Энгельштейн Л. Эпиктет Юм Д. Юнг Э. Юрьев С. А.
Якобсон Р. Янушкевич Я. С. Archambault P. J. Barbour J. D. Barran T. Bayley J. Benveniste E. Berger К. Bernasconi R. Blanchot M. Blumenberg H. Boyer P. Bouvier B. Brooks Р. Brown P. Burke K. Carden P. Cary Р. Courcelle Р. Cirtius E. R. Egger V. Ellenberger H. Emerson C. Flew А. Foucault M. Frede V. Gay Р. Gilson Е. Greenwood E. B. Gurley R. E. Habermas J. Hamburg G. M. Hansen-Love A. Harrison T. Hartle А. Jahn G. R. Kahler E.
Kaufmann W. Knapp L. Kokobobo A. Kolst0 P. Lejeune Р. Ling J. O. III. Lorrain J. Love J. Lovell S. Man Р. de Matthews G. B. McLaughlin S. Milkov N. Monk R. Morson G. S. Mьcke von D. O'Donnell J. Pankenier S. Raimond D. Riley P. Sankovich N. Scanlan J. P. Seigel J. Shklar J. Sluga H. Somavilla I. Sorabji R. States B. O. Taylor Charles Taylor Chloк Thomas E. Thompson С. Tobowolska J. Todd W. M. Urban G. Vaught C. G. Volkelt J.
Wachtel A. B. Wright J. L.
Предметный указатель
время
книга жизни литература, отказ от молчание память
секуляризация (и ресакрализация)
смерть
сны
[1] «История вчерашнего дня» (1851). О цитировании: здесь и далее по всей книге, за исключением специально оговоренных случаев, произведения Толстого цитируются по юбилейному изданию: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.: Художественная литература, 1928-1958. Ссылки на это издание даны в тексте в круглых скобках с указанием тома и страницы. Заметим, что в Полном собрании сочинений слова, написанные Толстым в сокращении, дополняются издателями, причем дополнения отмечены квадратными скобками; в настоящей книге такие редакторские дополнения не отмечаются.
[2] О проекте Руссо см.: Starobinski J. Jean-Jacques Rousseau: Transparency and Obstruction / Trans. from French by Arthur Goldhammer. Chicago: University of Chicago Press, 1988. P. 182.
[3] Что касается объема нехудожественных писаний Толстого, то только одна треть томов 90-томного собрания занята художественными произведениями (вместе с черновиками), а две трети - нехудожественными.
[4] Цит. по: Белый А. Лев Толстой и культура [1912] // Лев Толстой. Pro et Contra. СПб.: РХГИ, 2000. С. 583.
[5] Дневники и записные книжки Толстого занимают тт. 46-58 (1934-1953); в примечаниях можно найти библиографию более ранних публикаций дневников. См. описание внешнего вида и способов ведения дневников и записных книжек в примечаниях: 46: XIII-XV.
[6] Одним из первых о философском смысле дневников Толстого писал Иван Бунин, бывший в молодости толстовцем: Бунин И. Освобождение Толстого. Париж: Современные записки, 1937. О поздних дневниках Толстого говорил в философском ключе В. В. Бибихин в курсе лекций на философском факультете МГУ в 2000-2001 годах: Бибихин В. В. Дневники Льва Толстого / Вступ. статья Ольги Седаковой. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012.
[7] О связях между Толстым и Витгенштейном см. в Главе 3 настоящей книги.
[8] Интерес Толстого к понятию личности в восточной (индийской и китайской) мысли останется за пределами этого исследования - эта область вне моей профессиональной компетенции. Приведу лишь базовую биографическую и библиографическую информацию. Интерес Толстого к Востоку, а именно к буддизму и индуизму, начинается в 1870-е годы (когда он обсуждал вопросы веры и личности с Николаем Страховым) и, как кажется, связан с чтением Шопенгауэра. Как и Шопенгауэра, Толстого привлекала альтернатива к западному понятию о личности («я»). Толстой впервые упоминает китайских мыслителей Конфуция и Лао Цзы в 1877 году, также в переписке со Страховым. В 1884 году он читает Конфуция и Лао Цзы в процессе подготовки «Круга чтения» (49: 68). Ученик Толстого Павел Бирюков опубликовал справочник упоминания Толстым восточных религий: Birjukoff P. Tolstoi und der Orient: Briefe und sonstige Zeugnisse ьber Tolstois Beziehungen zu den Vertretern orientalischer Religionen. Zurich; Leipzig: Rotapfel Verlag, 1925. Каталог книг об Индии в библиотеке Толстого (в основном исследований немецких и английских буддологов) составлен его последним секретарем: Булгаков B. Книги об Индии в библиотеке Л. Н. Толстого // Краткие сообщения Института востоковедения. 1959. № 31. С. 45-56. Более полная информация о библиотеке Толстого в издании: Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Т. 3. Тула, 1999. См. также: Л. Н. Толстой и Индия. Переписка // Ред. Т. Н. Загородников. М.: Восточная литература, 2013. Научные исследования включают: Bodde D. with the cooperation of Galia Speshneff Bodde. Tolstoy and China. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1950; Шифман А. Ф. Лев Толстой и Восток. M.: 1971, Balasubramanian R. The Influence of India on Leo Tolstoy and Tolstoy's Influence on India: A Study of Reciprocal Receptions. Lewiston, N. Y.: Mellen Press, 2013.
[9] Ричард Густафсон подчеркивает роль православного богословия для Толстого в: Gustafson R. F. Leo Tolstoy, Resident and Stranger: A Study in Fiction and Theology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986; Густафсон Р. Ф. Обитатель и Чужак. Теология и художественное творчество Льва Толстого / Пер. с англ. Т. Бузиной. СПб.: Академический проект, 2003.
[10] Бунин И. Освобождение Толстого. С. 103-104.
[11] Пример такого подхода - книга Джорджа Стайнера «Толстой или Достоевский» (1959). См.: Steiner G. Tolstoy or Dostoevsky: An Essay in the Old Criticism. 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 1996. Р. 242-243. Ричард Густафсон в упомянутой выше книге придерживается сходной концепции.
[12] Nabokov V. Lectures on Russian Literature / Ed. by Fredson Bowers. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981. Р. 140. Я использовала русский перевод из издания: Набоков В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. и франц., предисл. И. Толстого. М.: Независимая газета, 1996.
[13] Практику ведения дневника связывали со страхом смерти. Так, по мнению Алена Корбена, дневник представляет собой способ предотвращения растраты времени. См.: Corbin A. Backstage // A History of Private Life / Ed. by Michelle Perrot. Translated from French. Vol. 4. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990. P. 498-502.
[14] О понятии «вчерашнего завтра» (vergangene Zukunft) писал Райнхарт Козеллек: Koselleck R. Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.
[15] «Прошедшее - это то, что было, будущее - то, что будет, а настоящее - то, что не существует. - Поэтому жизнь человеческая состоит лишь в будущем и прошедшем, и счастие, которым мы хотим обладать, есть только призрак, как и настоящее».
[16] Здесь и далее при цитировании «Исповеди» Августина я следую общепринятому стандарту, указывая номер книги, главы и параграфа. Использован, с изменениями, перевод из издания: Августин Аврелий. Исповедь / Пер. с лат. и коммент. М. Е. Сергеенко. Предисл. и послесл. Н. И. Григорьевой. М.: Гендальф, 1992.
[17] В изложении взглядов Августина я опираюсь на анализ «Исповеди», предложенный Полем Рикером, см.: Ricoeur P. Temps et rйcit. Paris: Seuil, 1983-1985. T. 1. P. 27-29.
[18] Руссо не ссылается здесь на Августина, которого он, однако, упоминает, в другом контексте, во «Второй прогулке». О Руссо см.: Starobinski J. Jean-Jacques Rousseau: Transparency and Obstruction / Trans. from French by Arthur Goldhammer. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. P. 180-200.
[19] О Толстом и Августине писала Алла Полосина; она также отмечает, что Руссо вторит Августину в медитации о времени в «Les Rкveries du promeneur solitaire»: Полосина А. Н. Руссоизм Л. Н. Толстого // Литературоведческий журнал. 2011. № 28. С. 74-75. О Толстом и Августине речь будет идти в нашей книге и
в дальнейшем.
[20] Борис Эйхенбаум приводит несколько параллелей между ранними дневниками Толстого и «Исповедью» Руссо в книге «Молодой Толстой» (1922) - первом исследовании ранних дневников Толстого. Здесь и далее Эйхенбаум цитируется по: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб., 2009; о дневниках Толстого см. с. 75-100; о присутствии Руссо в дневниках - с. 87-89.
[21] «История вчерашнего дня» впервые опубликована в 90-томном собрании сочинений (1935) с комментарием А. Е. Грузинского (1: 341-343). Одним из первых обратил внимание на этот текст Виктор Шкловский, считавший его значительным для Толстого. См.: Шкловский В. «История вчерашнего дня» в общем ходе трудовых дней писателя Толстого // Он же. Художественная проза: размышления и разборы. М.: Советский писатель, 1959. С. 421-425; Шкловский В. Лев Толстой. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 75.
[22] Метафора книги жизни имеет широкое хождение в европейской культуре. См. об этом: Curtius E. R. Das Buch als Symbol // Idem. Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter [1948]. Auflage 11. Bern: Francke Verlag, 1993; Blumenberg H. Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt am Main: Surkamp, 1981. Об использовании этой метафоры Толстым речь пойдет в Главе 6 настоящей книги.
[23] Вступления, предисловия и варианты начала «Войны и мира» (не датировано) (13: 53-55). Об этих аспектах истории создания романа писал Эйхенбаум в книге «Лев Толстой: шестидесятые годы»; см.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 460-461.
[24] Критика чистого разума. II. 3. B («Вторая аналогия»); Kritik der reinen Vernunft. II. 3. B. (Zweite Analogie). (Я пользуюсь здесь стандартным способом цитировать «Критику чистого разума».)
[25] Шкловский В. Лев Толстой. С. 78.
[26] Знакомство Толстого со Стерном (он перевел «Сентиментальное путешествие» в качестве стилистического упражнения в 1851 году) и использование приемов Стерна в ранних дневниках и в «Истории вчерашнего дня» отмечались не раз, начиная с книги Эйхенбаума «Молодой Толстой» в 1922 году. См.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 102-105; А. Е. Грузинский, в комментарии к первой публикации «Истории.» в 90-томном собрании (1: 301 и 343); Rudy P. Lev Tolstoj's Apprenticeship to Laurence Stern // The Slavic and East European Review. 1971. № 15/2. P. 1-21.
[27] Здесь перефразируется «Опыт о человеческом разуме Джона Локка» (кн. II, гл. 14, § 2-3).
[28] О Стерне в связи с Локком см.: Watt I. The Rise of the Novel. Berkeley: University of California Press, 1957. Р. 290-295.
[29] Об этих экспериментах Стерна см.: Kahler E. The Inward Turn of Narrative / Trans. from German by Richard and Clara Winston. Princeton: Princeton University Press, 1973. P. 189-196.
[30] Принято считать, что Толстой прочел «Критику чистого разума» в 1869 году. См.: Jahn G. R. Tolstoy and Kant // New Perspectives on Nineteenth-Century Russian Prose / Ed. by G. J. Gutsche and L. G. Leighton. Columbus, Ohio: Slavica, 1982; Kruglov A. N. Lev Nikolaevic Tolstoj als Leser Kants // Kant Studien. 2008. № 99. S. 361-386; Круглое А. Н. Л. Н. Толстой - читатель И. Канта // Лев Толстой и мировая литература: Материалы V Междунар. научной конференции. Ясная Поляна, 2008. Однако Толстой упоминал имя Канта и раньше.
[31] Толстой вспоминал об угрозе порки со стороны своего гувернера Saint Thomas в дневнике 31 июля 1896 года (53: 105) и в черновике памфлета против телесных наказаний под названием «Стыдно» в 1895 году (31: 245). В заметке на полях «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым (1904), Толстой написал: «Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое я испытывал всю свою жизнь» (34: 396).
[32] Шкловский В. Лев Толстой. С. 79. О появлении имени Saint Thomas в произведениях Толстого см. также комментарии к юбилейному изданию (53: 453, примеч. 385).
[33] Связь с «Капитанской дочкой» также отмечена Шкловским: Шкловский В. Лев Толстой. С. 79. Шкловский заметил, что в анализе сна Толстой, говоря о «задушевной» стороне дня, пришел к вопросу о «подсознательном» (Шкловский В. История вчерашнего дня» в общем ходе трудовых дней писателя Толстого. С. 421-425).
[34] Об этом см.: Ellenberger H. The Discovery of the Unconscious. The History and Evolution of Dynamic
Psychiatry. New York: Basic Books, 1970. Р. 205.
[35] Историки связывают идею бессознательного в трактате Каруса «Душа» («Psyche; zur Entwicklungsgeschichte der Seele», 1846, 1851) с Фрейдом (через посредство Эдуарда фон Гартмана и Шопенгауэра). См.: EllenbergerH. The Discovery of the Unconscious. P. 207-210. В этой связи Элленбергер упоминает и об исследователях снов в XIX веке (Р. 303-311). Джеймс Л. Райс пишет о том, как литература в эпоху Достоевского использовала Каруса, включая его обсуждения снов: Rice J. L. Dostoevsky and the Healing Art. An Essay in Literary and Medical History. Ann Arbor, MI: Ardis, 1985. Р. 137-142, 152.
[36] Снам посвящены следующие книги: Maury L.-F. Alfred. Le sommeil et les rкves. Paris, 1861 (изданию книги предшествовали публикации отрывков в медицинском журнале «Annales m^dico-psychologiques» в 1848 и 1853 годах); Garnier A. Traits des facuhйs de l'вme, contenant l'histoire des principales th^ories psychologiques. Paris, 1852; Anonyme [Marquis d'Hervey de Saint-Denis]. Les rкves et les moyens de les diriger. Paris, 1867; HildebrandtF. W. Der Traum und seine Verwertung fur's Leben. Leipzig, 1871, 1881; Volkelt J. Die Traumphantasie. Stuttgart, 1875. Карл Дюпрель предложил философское и мистическое истолкование ретроспективных сновидений (как выхода в иную меру времени, чем та, что доступна сознанию): Du Prel С. Die Philosophie der Mystik. Leipzig, 1885. Позже сообщения о подобных снах были подвергнуты сомнению в некоторых исследованиях: Lorrain J. De la durйe du temps dans les rкves // Revue philosophique. 1894. T. 38; Egger V. La duree apparente des rкves // Revue philosophique. 1895. T. 40; Tobowolska J. Etude sur les illusions de temps dans les rкves du sommeil normal. Paris, 1900. Фрейд в «Толковании сновидений» (1900) обсуждает такие сны как специфические нарушения мыслительного процесса и приводит библиографию по этому вопросу. Фрейд несколько раз упоминает сон Мори о гильотине и сон Гарнье о переходе через реку Тальяменто (см.: Freud S. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud / Trans. from German and ed. by James Strachey. Vol. 4. L.: Hogarth Press, 1953. P. 26-29 et passim). Среди философов времени о ретроспективных сновидениях писал Анри Бергсон в книге «Le rкve» (1901) и, в России, Павел Флоренский в «Иконостасе» (1922). Для Флоренского время сновидения представляло собой иллюстрацию принципа относительности времени и свидетельствовало о присутствии трансцедентного в человеческой жизни (Флоренский П. Собр. соч. Т. 1. Париж, 1985. С. 194-202). (Флоренский упоминает Дю Преля, но не тот факт, что между положениями Дю Преля и его собственной концепцией имеется большое сходство.) См. также замечания о времени в сновидениях у современного исследователя: Успенский Б. А. История и семиотика (восприятие времени как семиотическая проблема) // Труды по знаковым системам. Вып. 22. Тарту, 1988. О снах и исследованиях снов речь еще пойдет в Главе 6 настоящей книги.
[37] Все цитаты из «Несколько слов по поводу книги „Война и мир"» (1867-1868) (16: 7-16).
[38] См.: Шкловский В. Лев Толстой. С. 292.
[39] О разных типах ложных исторических повествований в «Войне и мире» писал Морсон: Morson G. S. Hidden in Plain View: Narrative and Creative Potentials in War and Peace. Stanford: Stanford University Press, 1987.
[40] О том, как Толстой читал Руссо, подробно рассказано в: Полосина А. Н. Французские книги XVIII века яснополянской библиотеки - как источник творчества Л. Н. Толстого. М.: Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 2008. С. 83-169. На связь ранних дневников с Руссо впервые указал Эйхенбаум: см. сноску 3 на с. 28 настоящей книги.
[41] Из разговора Толстого с французским посетителем Полем Буайе в 1901 году; цит. по комментарию к 90-томному собранию (впервые опубликовано в газете Le Temps. 1901. 28 Aout).
[42] Об исследованиях связей между Толстым и Стерном см. сноску 3 на с. 28 настоящей книги.
[43] Об использовании Толстым Бенджамина Франклина писали Эйхенбаум в книге «Молодой Толстой» (см. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 83) и Шкловский (см. Шкловский В. Лев Толстой. С. 73). Исследователи считают, что Толстой узнал о Франклине из популярного русского романа Д. Н. Бегичева «Семейство Холмских» (1832), герой которого прибегает к франклиновскому методу в целях самосовершенствования, что подробно описано в главе 12. Много позже, в 1891 году, Толстой упомянул этот роман (наряду с «Исповедью» Руссо и «Сентиментальным путешествием» Стерна) среди книг, которые произвели на него огромное впечатление в ранней юности, между четырнадцатью и двадцатью годами (66: 67). Любопытно, что в дневнике Толстого фигурирует его приятель Бегичев, имя которого он упоминает на тех же страницах, что и свой франклиновский журнал (46: 48-49). Согласно недавней биографии Толстого, это племянник автора романа «Семейство Холмских». См.: Зверев А., Туниманов В. Лев Толстой. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 58. О Толстом и Франклине см. также: Алексеева Г. В. Американские диалоги Льва Толстого. Тула, 2001. С. 27-32.
[44] Об этом см.: Weintraub K. J. The Value of the Individual: Self and Circumstance in Autobiography. Chicago: The University of Chicago Press, 1978. Р. 230-231, 251-256, 299-301, 320-321. Вейнтрауб называет Франклина «пуританской личностью без пуританских мотиваций и целей» (Р. 251), а также пишет об «Исповеди» Руссо как попытке секуляризовать идею Августина (в его «Исповеди») о взаимоотношениях между своей душой и бесконечностью Бога (Р. 300).
[45] Mason J. A Treatise on Self-Knowledge. London: R. Reynolds and C. Baldwyn and Co, 1818. Экземпляр в библиотеке Толстого содержит отметки читателя, но неясно, кому именно они принадлежат. Указано в: Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Т. 3. Тула, 1999. № 2184.
[46] Василий Жуковский (род. 1783) спрашивал себя в дневниках 1804-1806 годов: «Каков я? Что во мне хорошего? Что худого? <...> Что можно приобресть и как? Что должно исправить и как? <...>». Обсуждению этих вопросов он уделял много места в своем журнале, где помещалось также расписание занятий на день. Однако сходство с дневниками молодого Толстого этими чертами и ограничивается. Так, Жуковского не интересовала проблема времени и повествования, которая занимала Толстого. О дневниках Жуковского писала Лидия Гинзбург, которая указывает как возможный источник такого метода самоанализа трактат Иоанна Масона «Познание самого себя» (Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: Худ. лит., 1977. С. 39-45). Я. С. Янушкевич (в научном издании дневников Жуковского) также упоминает Масона и пишет о влиянии Франклина на Жуковского в: Янушкевич Я. С. Дневники В. А. Жуковского как литературный памятник // Полное собрание сочинений и писем В. А. Жуковского: В 20 т. Т. 13. М.: Языки славянских культур, 1999). Янушкевич (вслед за Гинзбург) полагает, что Иоанн Масон (и Франклин) попал к русскому читетелю через посредство среды русских масонов в конце XVII - начале XIX века. Некоторые исследователи называют также Иоанна Масона и его трактат масонским текстом. (Мне не удалось найти подтверждения, что это масонский трактат.)
[47] Исследователи Толстого, начиная с Эйхенбаума («Молодой Толстой»), писали, что в юности Толстой сознательно следовал за авторами XVIII века, отвергая как своих непосредственных предшественников, романтиков, так и современников. (Может быть, на его выбор оказал влияние и состав яснополянской библиотеки, собранной его дедом и отцом и полной книг XVIII века.) Георгий Флоровский писал о том, что для молодого Толстого важен был сентиментализм как религиозно-психологическое движение (о дневниках молодого Толстого он замечает, что «точно писал их кто-то из сверстников Жуковского»). Как пример такого сентиментализма Флоровский называет «Ночные размышения» Юнга, а также пиетистов, которые оказали влияние также на Гете и Руссо. Руссо он называет «обмирщенным пиетистом». «Это было пробуждение сердца, открытие внутреннего мира, открытие душевной глубины в повседневной, домашней, семейной жизни. И книги сентиментальных писателей получали смысл религиозного благовестия» (Флоровский Г. В. У истоков [1936] // Лев Толстой: Pro et contra. С. 678).
[48] Mason J. A Treatise on Self-Knowledge. Р. 4-7, 200-201.
[49] Такой подход к ранним дневникам Толстого преобладает у Эйхенбаума в книгах «Молодой Толстой» (1922) и «Лев Толстой. Пятидесятые годы» (1928) (см. Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 162. См. также c. 85, 95-96, 166). Шкловский также видел в дневниках молодого Толстого прообраз его будущей прозы. Об «Истории вчерашнего дня» Шкловский сказал: «Если бы Толстой дописал свою вещь, то перед нами получилась бы книга, какую писал Джойс через много десятилетий после. Толстой готовил черновик, содержащий анализ части сознания» (Шкловский В. «История вчерашнего дня» в общем ходе трудовых дней писателя Толстого. С. 421. Об этом также: Он же. Лев Толстой. С. 73-84).
[50] Формула «диалектика души» восходит к рецензии Н. Г. Чернышевского на «Детство», «Отрочество» и «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого» в 1856 году; см. об этом: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 112-113.
[51] Среди исследований, посвященных дневникам Толстого, следует особо упомянуть неопубликованную диссертацию: Gurley R. E. The Diaries of Leo Tolstoy: Their Literariness and Their Relationships to his Literarture. University of Pennsylvania, 1979 (акцент здесь делается на их литературности). Морсон сделал замечания о своебразной ситуации поздних дневников Толстого как коммуникативного акта (Morson G. S. Hidden in Plain View. Р. 29-32).
[52] Ср. наблюдения Поля Рикера о повествовательной структуре психоаналитических интервью: «А history that would remain inconsistent, incoherent, or incomplete would clearly resemble what we know of the course of life in ordinary experience» (Ricoeur P. The Question of Proof in Freud's Psychoanalytic Writings // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1977. № 25, 4. Р. 862).
[53] Идея «перехода» от дневника и «Истории вчерашнего дня» к литературе принадлежит Борису Эйхенбауму: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб., 2009. С. 102-113, 167-176, 189-200. Шкловский в своей биографии Толстого следует за Эйхенбаумом: Шкловский В. Лев Толстой. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 73-122, 136-144.
[54] Эндрю Барух Вахтель подробно анализирует «переходный» жанр «Детства», и я следую за его анализом: Wachtel A. B. The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth. Stanford: Stanford University Press, 1990. Р. 7-57. См. также: Wachtel A. B. History and Autobiography in Tolstoy // The Cambridge Companion to Tolstoy / Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 176-190.
[55] Bayley J. Tolstoy and the Novel. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. Р. 86.
[56] Wachtel А. History and Autobiography in Tolstoy. Р. 176.
[57] Идея повторяющихся кризисов также восходит к Эйхенбауму, впервые в: Эйхенбаум Б. М. О кризисах Толстого // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л.: Academia, 1924. С. 67-72.
[58] Из дневника за сентябрь 1853 года, 46: 176. Отмечено в: Полосина А. Н. Французские книги XVIII века яснополянской библиотеки как источник творчества Л. Н. Толстого. М.: Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького, 2008. С. 121-122.
[59] В дневнике Толстой писал: «Кончил Анну, но нехорошо» (48: 20, 9 апреля 1859).
[60] ГольденвейзерA. Б. Вблизи Толстого. М.: Худ. лит., 1959. С. 81. (Гольденвейзер рассказывает здесь о разговоре с Толстым в 1901 году.)
[61] Эйхенбаум писал об этих письмах Толстого: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 356, 362, 367 и след.
[62] Очерк «Сон», описывающий восторженную проповедь, которую «я» обращает к внимающей толпе, был написан на основании реального сна, виденного братом Толстого; см. 7: 117-119 и 361-363; см. также письмо об этом сне 60: 247, 250 и дневниковые записи 47: 164, 166.
[63] Эйхенбаум описывает новую попытку Толстого «оставить литературу», или «новый уход из литературы», в книге «Лев Толстой. Семидесятые годы» (1960): Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 575-578, 600-601. Этому кризису уделяют особое внимание недавние биографы Толстого: Зверев А., ТунимановВ. Лев Толстой. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 269-273.
[64] Цитирую по: Толстой Л. Н., Страхов Н. Н. Полное собрание переписки: В 2 т. / Ред. А. Донсков; Сост. Л. Д. Громова и Т. Г. Никифорова. Ottawa; Moscow: Slavic Research Group at the University of Ottawa; the State L. N. Tolstoy Museum, 2003. Т. 1. С. 164.
[65] Эйхенбаум упоминал «Что такое искусство?» в этой связи в статье «О кризисах Толстого». См. также: Emerson C. Tolstoy's Aesthetics // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 237-250.
[66] По объему письма Толстого занимают шестнадцать томов Собрания сочинений в 90 томах. О переписке Толстого и Страхова см.: Донсков А. А. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Эпистолярный диалог о жизни и литературе. Ottawa; Moscow: Slavic Research Group at the University of Ottawa; the State L. N. Tolstoy Museum, 2008.
[67] Об этом см.: Orwin D. T. Strakhov's World as a Whole: A Missing Link between Dostoevsky and Tolstoy // Poetics. Self. Place. Essays in Honor of Anna Lisa Crone / Ed. by Catherine O'Neil et al. Bloomington, Ind.: Slavica, 2007. P. 473-493.
[68] Переписка Толстого и Страхова цитируется в этой главе и далее по изданию: Толстой Л. Н., Страхов Н. Н. Полное собрание переписки: В 2 т. / Ред. А. Донсков; Сост. Л. Д. Громова и Т. Г. Никифорова. Ottawa; Moscow: Slavic Research Group; the University of Ottawa and the State L. N. Tolstoy Museum, 2003. В тексте в круглых скобках после аббревиатуры П (Переписка) указаны том и страница этого издания. Другие тексты Толстого, как и по всей книге, цитируются по Полному собранию сочинений в 90 томах с указанием тома и страницы.
[69] Инесса Меджибовская предложила другую интерпретацию очерка «О душе». См.: Medzhibovskaya I. Tolstoy and the Religious Culture of his Time: A Biography of a Long Conversion, 1845-1887. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2008. P. 162-163, 166-167.
[70] Rousseau J.-J. Йmile // Rousseau J.-J. Oeuvres completes. T. IV. Paris: Ptйiade, 1959. P. 570.
[71] О реакции Толстого на книгу Страхова см.: Orwin D. T. Strakhov's World as a Whole. P. 166-170.
[72] Комментаторы полного собрания переписки Толстого и Страхова полагают, что существовало письмо Страхова об «Анне Карениной», которое до нас не дошло. Мне кажется возможным, что Страхов имел в виду суждения о романе, которые он высказывал в разных письмах: см. письма от 23 июля 1874 (П 1: 171-72), 8 ноября 1876 (П 1: 186), 1 января 1875 (П 1: 190). Замечу, что Страхов и прежде упрекал Толстого в том, что тот не отвечал на его суждения о романе: см. письмо от 1 января 1875 (П 1: 190).
[73] Цитирую письмо Страхова Толстому от 8 сентября 1877 года, в котором он излагает реакцию этого читателя (П 1: 363); см. также ответ Толстого (П 1: 366).
[74] История сериализации романа описана в работах Вильяма Тодда: Todd W. M. Reading Anna in Parts // Tolstoy Studies Journal. 1995-1996. № 8. Р. 125-128; Idem. The Responsibilities of (Co-) Authorship: Notes on Revising the Serialized Version of Anna Karenina // Freedom and Responsibility in Russian Literature: Essays in Honor of Robert Louis Jackson / Ed. by Elizabeth Cheresh Allen and Gary Saul Morson. New Haven: Yale University Press, 1995. P. 162-169.
[75] O старчестве и Толстом см.: Kolst0 P. Lev Tolstoi and the Orthodox Starets Tradition // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9. № 3. Р. 533-554.
[76] Посещение Оптиной пустыни обсуждалось в переписке между Толстым и Страховым: П 1: 355 и П 1: 349. См. также: ГусевН. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1879 по 1881 год. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. C. 440-441.
[77] Как вспоминал Г. А. Гуковский, Б. М. Эйхенбаум любил говорить: «Левин в „Анне Карениной" все-таки не Толстой, - между ними одно различие, всего одно, но какое! Левин делает и думает совсем то же, что делал и думал Толстой, кроме одного: он не написал „Войны и мира"» (Гуковский Г. Изучение литературного произведения в школе. М.-Л., 1965. С. 62-63). Лидия Гинзбург упоминала об этом в своих записных книжках за 1928 год (Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство, 2002. С. 43).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
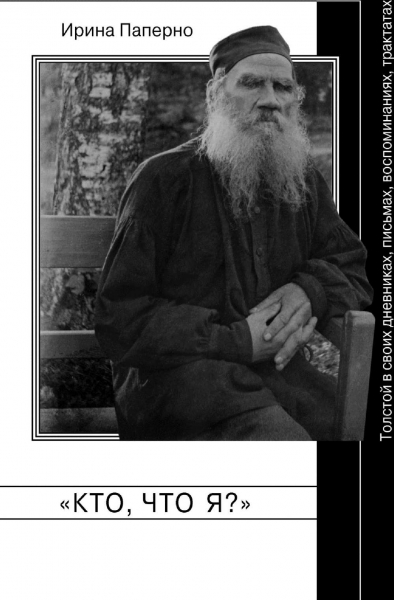
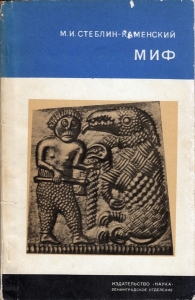





Комментарии к книге ««Кто, что я» Толстой в своих дневниках», Ирина Ароновна Паперно
Всего 0 комментариев