Коллектив авторов Антология исследований культуры. Символическое поле культуры
© С.Я. Левит, И.А. Осиновская, составление серии, 2011
© Л.А. Мостова, составление тома, 2011
© Л. Гончарова, правообладатель, 2011
© Центр гуманитарных инициатив, 2011
Личность в пространстве культуры
Уоллес Э. Культура и личность
III. Культурное распределение личностных характеристик
В этой главе нас будет занимать тот аспект исследований культуры-и-личности, который породил гору литературы в этой области. Для многих, конечно, этот аспект есть собственно культура-и-личность. Однако в силу ряда понятийных двусмысленностей, приведших к бесплодным дискуссиям и тавтологиям, исследования культуры-и-личности зашли в этой сфере в своего рода тупик. Мы попытаемся отчасти расчистить эти завалы.
Теория копирования и организационная теория
Во вводной главе мы различили два подхода к культуре-и-личности, в одном из которых на передний план выдвигается копирование единообразий, а в другом – организация многообразия. Оба подхода берутся объяснить системы взаимодействия между индивидами, толкуя о том, что происходит внутри индивидов. Когда перед нами стоят задачи описания и нам надо всего лишь определить преобладающие характеристики группы, особенно при сравнении ее с какой-нибудь другой группой (например, при сравнении одного племени с другим или одного поколения с другим), удобным и полезным будет подход с точки зрения копирования единообразия. Если же необходимо разработать эмпирическую поддержку для теоретического анализа связи между социокультурными и личностными системами, то принципиально важным для нас будет подход с точки зрения организации многообразия. И наоборот, в таких контекстах подход с точки зрения копирования единообразия будет вводить нас в заблуждение.
Одна из крайних формулировок теории копирования тавтологична едва ли не до такой степени, что делает вообще ненужным эмпирическое исследование. Речь идет о метафоре микрокосма. Эта метафора имеет много форм, однако во всех них передается общее суждение, что в голове «—» (здесь вставляется прилагательное, обозначающее название группы1*) индивида содержится уменьшенная копия культуры его группы, которую он «интернализировал», копия, систематическим образом преобразованная и приспособленная к его нервной ткани по принципу «один-в-один». Эта копия и есть «—» личность. Имея в виду примерно такую формулу утверждали, что «все исследования культуры и личности… сфокусированы на том, как люди воплощают в себе ту культуру, в которой они были воспитаны или в которую они иммигрировали» (Mead, 1953). В любой культуре, разумеется, есть некоторое множество лиц, к которым эта формула неприменима; этих немногих можно назвать «девиантами». Если исключить таких девиантов, то данная метафора предполагает, во-первых, соответствие всех личностей в пределах данной группы – носительницы культуры (или субкультуры) – единому личностному типу; во-вторых, она предполагает наличие идеально точной связи между типом культуры и типом личности. Из последнего допущения, соответственно, могут быть сделаны два возможных вывода: либо что культура может быть выведена из личности, либо что личность может быть выведена из культуры. Процесс, благодаря которому происходит интернализация, – это процесс развития ребенка в том виде, в каком он выражен в данной культуре.
Путаница, порожденная попытками интерпретировать эмпирические данные с точки зрения метафоры микрокосма, хорошо видна на примере широко известного анализа алорского личностного материала (Du Bois, 1944). Консультант-психоаналитик, работающий с полевыми данными, восстановленными по памяти антропологом, принимает допущение, что все алорцы имеют общую базисную структуру личности, поскольку все были подвержены одним и тем же культурным влияниям. Однако наряду с этим он эмпирически обнаруживает, что из четырех мужчин, относительно которых был получен автобиографический и сновиденческий материал, каждый обладает «в высокой степени индивидуальным характером». «У каждого наличествуют некоторые черты базисной структуры личности, но каждый в свою очередь сформирован специфическими факторами своей индивидуальной судьбы». У аналитика, по сути дела, возникают серьезные проблемы с тем, как связать структуры характера этих четырех мужчин с какой-либо нормой базисной личности. Таким образом, в первоначальном изложении материала он замечает: «Трудно решить, насколько типичен Мангма. Но осмелюсь сказать, что если бы он был типичным, общество не могло бы продолжать существовать». Далее, однако, аналитик утверждает: «Мангма из всех наиболее типичен, и его характер соответствует базисной структуре личности». Второй мужчина, Рилпада, «нетипичен», поскольку пассивен и благодаря хорошей материнской заботе и могущественному отцу обладает сильным суперэго. (Типичное суперэго алорского мужчины «с необходимостью» слабое.) Третий алорец, Фантан, имеет «самый сильный характер и лишен скованности в отношениях с женщинами». Фантан «отличается от других мужчин… настолько же, насколько отличается от фермера завзятый горожанин». (Базисная структура личности «для мужчин» крайне перегружена, по определению аналитика, запретами в отношении гетеросексуальности: «приближение к женщине наполнено застенчивостью и тревогой».) Малелака тоже трудно поддается оценке. Аналитик говорит: «Его жизненная история во всех отношениях типична». Это примечательно, ибо Малелака был видным пророком, предпринявшим попытку религиозного возрождения. С другой стороны говорится, что он похож на Рилпаду тоже провидца, который, в свою очередь, описывался как «нетипичный». И, дабы еще больше все запутать, аналитик говорит, что «такие характеры, как у Мангмы, Рилпады и Фантана, можно обнаружить в любом обществе».
К метафоре микрокосма прибегают, как правило, при использовании культурно-дедуктивного метода, который предполагает подчинение этнологического описания психологическому анализу. При таком методе описания мифа, легенды, религиозного ритуала, экономических отношений и т. д., сделанные антропологом, историком или фольклористом, «интерпретируются» согласно некоторой схеме, обычно психоаналитической, которая трактует эти формы поведения так, как если бы они были невротическими продуктами единичного индивида. В этом и состоял особый интерес тех культурологов-психоаналитиков, которые, обращаясь за помощью к психоаналитической теории, дедуцировали из культурного материала «значение» различных институтов для индивидуального члена общества. Критика этой процедуры была подчас весьма свирепой, поскольку сами интерпретации кажутся иногда произвольными, если не притянутыми за уши, а доказательство того, что их можно обоснованно применить ко всем или хотя бы не только к некоторым членам общества, неизменно отсутствуют. Аргументация ad hominem2* может даже вытеснить рациональный спор между антагонистами в таких дискуссиях!
Рациональную критику метафоры микрокосма можно, видимо, подразделить на три рубрики: (1) что эта метафора предполагает ложную эквивалентность между понятиями, располагающимися на разных уровнях абстракции (например, личность является воплощением культуры не более, чем младенец – воплощением коэффициента рождаемости); (2) что эта метафора – упрощенческая (изменчивость в личностных характеристиках гораздо выше, нежели можно объяснить с помощью формул); (3) что нет никаких оснований предполагать, будто социальная организация требует высокой степени личностной конформности к универсалистским нормам (например, отношения между мужчинами и женщинами зависят не от обоюдной конформности к одной и той же роли, а от комплементарности разных ролей).
Рациональные аргументы в защиту микрокосмической позиции, между тем, высказывались весьма энергично. Большинство ее сторонников легко допускают, что даже в самом униформистском обществе каждый индивид несколько отличается от любого другого вследствие комбинирования разных генетических факторов и случайностей опыта. Однако это разнообразие, каким его описывают, напоминает нам «разнообразие» домов новой планировки: они выкрашены в разные цвета, очертания крыш чередуются от дома к дому по дуге в девяносто градусов, но поэтажные планы одинаковы. Иначе говоря, динамически важные черты принимаются как общие. Таким образом, несмотря на лицемерное уважение к индивидуальной изменчивости, здесь все еще упорно сохраняется понятие «статистического» распределения. Маргарет Мид, к примеру, настаивала на том, что описания индивидуальных характеристик и культурной среды должны быть настолько точными, чтобы можно было установить между ними идеальную ковариацию. «Любой член культуры при условии, что его позиция в этой группе надлежащим образом уточнена, служит идеальным примером того группового образца (pattern), на основе которого он действует в качестве информанта… Любое утверждение о культуре должно делаться так, чтобы добавление другого класса информантов, ранее не представленного в выборке, не изменяло природу этого утверждения таким образом, который не был бы уже предусмотрен в изначальном утверждении» (Mead, 1953). Однако утверждение, будто какой-то один компонент служит «идеальным примером» образца при условии уточнения его взаимосвязей с другими компонентами, несет в себе смысла не более, чем утверждение о том, что одна бусинка является идеальным примером вампума3*, если вы уже держите вампум в своей руке. О распределении же говорили голословно, выбирая (sampling) других информантов для уточнения «позиции» «образцового» («sample») информанта.
Между тем, хотя защита «культурной выборки» логически небезупречна, с ней связано еще одно суждение, имеющее свои собственные достоинства, не зависящие от его статуса в этой аргументации (в которой у него есть свои как сильные, так и слабые стороны). Этим оборонительным аргументом является само понятие «образца» (pattern). В литературе, посвященной культуре-и-личности, «образец» имеет, по крайней мере, два смысла: один, в котором он понимается как синхронический комплекс, общий для разных репрезентаций, и другой, в котором он представляется как диахронический комплекс, общий для разных последовательностей. Образец – это, разумеется, такой класс феноменов, который допускает множество подклассов, и эти подклассы сами по себе интересны; однако идентичность его как опознаваемого класса не может быть поставлена под вопрос просто в силу того, что он содержит подклассы. Сила понятия образца как аргумента в защиту микрокосмического взгляда состоит в том, что существование образца невозможно отрицать, просто настаивая на различении и вычислении частот его подклассов. Слабой же его стороной является слабость, вообще присущая старому сравнительному методу: аналитик с необыкновенной легкостью может брать кусочек отсюда, лоскуток оттуда и, пользуясь такими методами, как «соединение концов» и «резонансный» анализ (Mead and Metraux, 1953), интуитивно связывать их в некий образец, место существования которого так и остается не определенным. Старые культурные эволюционисты, как уже неоднократно говорилось, запросто могли взять обычай из этого племени, легенду из того и, терпеливо подогнав такие кусочки и обрезки друг к другу, сконструировать культурный образец («стадию» эволюции культуры), который, возможно, никогда и нигде не существовал и уж точно не был частью наследия всех известных культур. Аналитики образцов, работающие в сфере изучения культуры-и-личности, склонны брать детское воспоминание у этого информатора, невротическую фобию у другого, добавлять к ним тему из кинофильма, историю какого-нибудь международного инцидента и, умело маневрируя кусочками, создавать «образец», который невозможно обнаружить ни в одном индивиде, но зато можно приписать всем. Ущербность этой процедуры вытекает не из недостаточной полноты наблюдений, на которых она базируется, и не из недостаточной надежности процессов комбинирования элементов с целью сформирования образцов, а из того поп sequitur4*, посредством которого такой образец приписывается не исследованным (а иногда, как это было в случае с алорцами, даже и исследованным) индивидам en masse5*.
Существует параллельная традиция, которая идет в большей степени от Сепира (Mandelbaum (ed.), 1949) и Халлоуэла (1955), нежели от Мид и Рохейма, и которая частично избегает опасных ловушек микрокосмической метафоры, придавая большую значимость уникальности индивида. Сепир пребывал под впечатлением того факта, что индивидуальные информанты давали разную информацию и ни один информант не знал всей культуры в целом. «Две-Вороны отрицает это» означало для Сепира, что Две-Вороны «имел» иную культуру, нежели другой информант, а также, вероятно, соответственно и иную личность (Mandelbaum, 1949). Спиро (1951) аналогичным образом подчеркивал уникальность партикулярных семейных и индивидуальных культур, каждая из которых рассматривалась им как продукт особой истории социального взаимодействия причастных к ней индивидов. Однако логическим следствием этой линии рассуждения становится еще один тупик: несмотря на более полное признание индивидуальных различий, культура, опять-таки, становится всего лишь субъективным микрокосмом личности, проведение различия между ними полагается как «ложная дихотомия», и мы откатываемся назад, к тому, с чего начали, а именно к разграничению культуры и личности как эквивалентных конструктов.
Альтернативную точку зрения дает организационная теория, согласно которой ни одна популяция в установленных границах той или иной культуры не может быть принята как единообразная в отношении той или иной переменной либо того или иного образца. (Например, не может быть принято допущение, что мужчины и женщины разделяют одни и те же ценности, одни и те же ролевые когниции, одну и ту же эмоциональную структуру.) В каждом отдельном случае с целью охарактеризовать выборку будет искаться распределение. Личность не принимается как интернализация культуры, а культура не концептуализируется как постоянная среда, или проекция, всех членов общества. Описания личности и культуры рассматриваются как созданные наблюдателем интуитивные или формальные абстракции от путанных описаний индивидов. Индивидуальные личностные конструкты являются обобщениями того лабиринта, который был пройден во времени данным индивидом; культурные же конструкты представляют собой обобщения и синтезы того поведения, которое сообща принимается и/или производится группами. Модальная личность и национальный характер – абстракции от личностных и культурных данных соответственно. Нет такого конечного списка категорий, который определял бы личность, равно как и нет конкретной численности или пропорциональной доли индивидов, которые должны были бы разделять друг с другом общее поведение, с тем чтобы его можно было назвать «культурой». Описания культуры будут включать такие утверждения о связях между поведенческими образцами, которые никогда не давал, да и попросту не мог дать никакой информант: описания культуры вовсе не обязательно должны быть «психологически реальными» (Wallace and Atkins, 1960) для информанта.
Последствия принятия микрокосмической или организационной точки зрения для теории и эмпирических исследований велики, и именно этим обусловлена важность обсуждения данной проблемы. Если принимается микрокосмический взгляд, то нет необходимости доказывать в исследовании, что между личностью и культурой (при заданных «генетических факторах») существует точная ковариация; это считается истинным по определению. Главной проблемой становится проблема развития ребенка: как ребенок приходит к «воплощению» собственной культуры? Поэтому многие из тех, кто принимает микрокосмическую точку зрения, интересуются прежде всего воспитанием ребенка, его образованием и т. д. Между тем, если принять организационную точку зрения, то (как мы уже предположили во введении) проблемой, заслуживающей наибольшего интереса, становятся процессы, посредством которых индивидуально различающиеся организмы работают в направлении поддержания, повышения и восстановления количества организации в своих психологических системах и тех социокультурных и физических системах, компонентами которых они являются. Развитие ребенка остается важной проблемой, но уже не рассматривается в качестве единственной и основной. Утверждения о «—» индивиде и его культурных и личностных характеристиках все еще могут предлагаться, однако теперь понимаются как удобные и краткие выражения для более тяжеловесных формулировок, специфицирующих членство в подгруппах и относительную повторяемость.
Синхронические распределения
Исследования синхронических распределений личностных характеристик пытаются ответить на вопрос: каково в данный момент времени частотное распределение определенных личностных характеристик в определенном классе лиц? «Класс лиц» определяется по некоторому общему свойству, которым обладают все лица, принадлежащие к данному классу: национальность («японец»), раса («монголоид»), регион («юг Соединенных Штатов»), возрастная группа («лица старше 65 лет»), цивилизация («западная культура»), культурный ареал («индейцы прерий»), социальный класс («буржуазия»), этническая группа («итало-американцы во втором поколении»), религия («консервативный иудаизм»), экономический статус («семьи со среднегодовым доходом менее чем 2 тыс. долларов»), род занятий («официанты»), пол («женский»), племя («оджибве»), сообщество («Плейнвилл, США») – иначе говоря, по любому одному или по нескольким из бесконечно большого числа возможных свойств. Многие из этих классо-определяющих свойств внекультурны (например, «возраст»), однако, поскольку все они, как правило, связаны с изменчивостью в культурных системах, исследования культуры-и-личности так или иначе с ними сталкиваются.
Реестр личностных характеристик, используемый в исследованиях культуры-и-личности, так же велик, как и перечень классов. Психология личности предложила множество систем, понятий и инструментов измерения. Эти разнообразные схемы, как мы уже указали во введении, не претендуют на исключительную достоверность; скорее, они релевантны и пригодны для разных практических целей и операциональных ситуаций. Однако все они имеют по крайней мере одну общую коннотацию, связанную с интересом к той структуре относительно абстрактных ценностей и средств их достижения, которая поддерживается индивидом на достаточно продолжительном отрезке времени. Их можно классифицировать по методикам исследования (проективный тест, глубинное интервью, гальваническая реакция кожи, метод свободных ассоциаций, опросник и т. д.) или по аналитическим схемам (авторитарность vs. демократичность, интроверсия vs.6* экстраверсия, психоаналитическая динамическая характерология и т. п.). В антропологии наиболее часто употребляемыми аналитическими схемами были, вероятно, следующие: творческий дух (дух культуры или цивилизации), мировоззрение, этос, темы, ценности, национальный характер, базисная структура личности и модальная структура личности. С технической точки зрения, некоторые из них сконструированы главным образом посредством абстрагирования от индивидуальных личностных описаний, другие – посредством дедукции из культурных описаний. В некоторых из них на передний план выносятся когнитивные позиции (представления), в других – аффективная ориентация (эмоциональный настрой) и мотивация. Давайте вкратце рассмотрим каждую из этих аналитических схем.
«Творческий дух» (genius)
Наиболее абстрактен и наименее аффективен по своему содержанию тот набор психологических характеристик, обычно выводимый из данных о культуре, который, за неимением лучшего термина, можно было бы назвать «творческим духом» в том смысле, в каком употребляются такие, например, выражения, как «дух греческой цивилизации». Теория, кроющаяся за этим подходом, наиболее последовательное свое развитие получила, вероятно, в психолингвистике, опирающейся на традицию, у истоков которой стояли Сепир и Уорф; однако основную ее тему пытались также развить Крёбер, Шпенглер, Тойнби и другие философы истории. Дух народа имеет как преемственный, так и эволюционный аспекты. Его преемственность обеспечивается постоянным присутствием на продолжительных отрезках исторического процесса определенной схемы соотнесения, дающей ряд простых категорий, в которых может кодироваться опыт, и определяющей типы отношений, которые понятным образом могут существовать между такими категориями. Таким образом, эта схема функционирует (по крайней мере, теоретически) как некий набор параметров, или правил, руководящих умственными операциями. В этом смысле творческий дух можно сопоставить с простейшими предикатами, операторами и аксиомами логического исчисления; однажды установившись, в дальнейшем могут конструироваться только определенные пропозициональные функции; по сути дела, возможно лишь ограниченное число этих функций. В эволюционном же смысле, дух народа – это некий сценарий, или программа, которая осуществляется в его истории: последняя есть развертывание в череде веков или тысячелетий внутренних возможностей, заложенных в этих простейших культурных аксиомах. Здесь, опять-таки, уместно провести сравнение с логическим исчислением, ибо сценарий культуры развертывается таким образом, что это можно сопоставить с постепенным развертыванием (в процессе логических и математических открытий и доказательств) новых теорем, каждая из которых служит основой для дальнейшего кумулятивного синтеза. Творческий дух, стало быть, сродни геометрии, ибо может находить выражение как в своей простейшей аксиоматике, так и в историческом процессе развития теорем. В конце концов можно, разумеется, достигнуть того предела, когда творческий дух до конца исчерпывает свою судьбу, после чего наступает фаза бесплодия, увенчивающаяся «смертью».
Таким образом, понятие творческого духа часто обладает как мистическим, фаталистическим качеством, лучше всего выраженным философами истории, в частности Шпенглером, так и прочным логическим качеством, выдвинутым на передний план такими психолингвистами, как Уорф, и такими культурологами, как Крёбер и Уайт. От того, в каком смысле употребляется это понятие, в равной степени зависят как «душа» сверхорганики, так и фонемика, лексика и синтаксис культуры.
Прояснить суть этого понятия нам помогут примеры, в которых описывается творческий дух в его преемственном и эволюционном аспектах. В частности, Уорф (р. 57–58) описывает в преемственном аспекте некоторые особенности творческого духа хопи. Свои данные он черпает из интенсивного исследования языка хопи: «После долгого и тщательного изучения и анализа мы увидели, что язык хопи не содержит никаких слов, грамматических форм, конструкций или выражений, которые бы непосредственно реферировали к тому, что мы называем «временем», к прошлому, настоящему и будущему, к длительности или длению, к движению как чему-то кинематическому, а не динамическому (т. е. движению как непрерывному перемещению в пространстве и времени, в отличие от проявления динамического усилия в определенном процессе), или даже таких, которые бы таким образом реферировали к пространству, чтобы это исключало тот элемент протяженности или существования, который мы называем "временем", и тем самым оставляло некий остаток, который можно было бы обозначить как "время". Следовательно, язык хопи не содержит референции ко "времени" – ни эксплицитной, ни имплицитной.
В то же время язык хопи способен правильно, в прагматическом или операциональном смысле этого слова, объяснить и описать все наблюдаемые явления универсума… Как возможно сколь угодно много разных геометрий, отличных от евклидовой, которые бы давали не менее совершенное описание пространственных конфигураций, так возможны и описания мира, равно убедительные, которые не содержали бы знакомых нам противоположностей времени и пространства. Релятивистская точка зрения современной физики – одно из таких воззрений, которое можно постигнуть в математических терминах; Weltanschauung7* хопи – другое такое воззрение, совершенно отличное от него, не математическое, а языковое…»
Этот анализ Уорфа наряду с аналогичными умственными упражнениями других психолингвистов был открыто признан Уорфом в качестве подхода к пониманию психологических процессов. Как писал сам Уорф:
«…лингвистика – это, по сути, поиск ЗНАЧЕНИЯ. Человеку постороннему она может показаться излишне погруженной в регистрацию незначительных дистинкций звука, выполнение фонетической гимнастики и в написание сложных грамматик, которые никто, кроме самих грамматиков, не читает. Однако простой факт состоит в том, что на самом деле интерес ее направлен на то, чтобы осветить непроницаемую мглу языка – а тем самым в значительной мере мглу мышления, культуры и жизневосприятия данного сообщества – светом этого "золотого нечто" (как, я слышал, его называют), светом этого всепреображающего принципа значения. Как я попытался показать, дело отнюдь не ограничивается тем, чтобы научиться разговаривать на языке и его понимать, как обычно мыслит эти задачи учитель практического языка. Исследователь культуры должен определить идеал лингвистики как идеал эвристического подхода к таким проблемам психологии, которые до сей поры мы, быть может, не решались даже рассматривать, – как своего рода стекло, через которое, если правильно его сфокусировать, должны проступить ИСТИННЫЕ ФОРМЫ многих из тех сил, которые до сих пор оставались для ученого непостижимой бездной невидимого и бесплотного мышления» (р. 73).
С этой точки зрения, стало быть, лингвистика становится методом исследования того, что можно было бы назвать семантической геометрией культуры. Можно сомневаться в том, достаточно ли оснащена сама по себе структурная лингвистика, чтобы проводить такие исследования; но такие позже разработанные процедуры с семантической направленностью, какие были предложены в компонентном анализе (Goodenough, 1956; Lounsbury 1956; Wallace and Atkins, 1960), соединенные с лексическим и грамматическим анализом а 1а Уорф, могут сделать возможным строгое исследование.
В эволюционном смысле творческий дух представляет собой программу развития логической системы: своего рода последовательную разработку теорем, вытекающих из аксиом семантической геометрии. В исследовании «Конфигурации культурного роста» (1944), очерке об ареалах коренной североамериканской культуры (1939), а также во многих других работах Крёбер отмечал, что истории культур демонстрируют характерную последовательность роста, расцвета и усталости. Он предполагает, что эта последовательность и есть программа развертывания тех «логических возможностей», которые заложены в конкретных «стилях», или «образцах». Типичен в этом отношении анализ развития греческой математики (Kroeber, 1948, р. 330–331): «Мы увидели, как греческая наука и математика вошли в четырехвековой рывок, а затем застыли в неподвижном состоянии. Греки так никогда и не преуспели в простой арифметике, и отчасти, вероятно, потому, что их метод записи количеств – с помощью буквенных символов, обозначающих конкретные числа, вместо использования позиционных чисел – делал затруднительными даже самые простые подсчеты. Еще скромнее были их достижения в алгебре, несовершенные рудименты которой появляются – или впервые являются нашему взору – примерно четыре века спустя после того, как общематематический прогресс греков уже остановился. Областью математики, которой греки в полной мере положили начало и дали развиться, была геометрия – планиметрия, стереометрия и сферическая геометрия. Здесь они по существу «исчерпали образец», реализовали его возможности и не оставили другим ничего, что еще можно было открыть. Геометрия и ныне представляет собой особый способ занятия математикой – с помощью циркуля, линейки и ничего более, на чем настаивали греки. Она визуализирует свойства и отношения; она может быть проиллюстрирована изображениями, чего нельзя сказать об алгебре и арифметике. Хотя геометрия уже стала в подлинном смысле слова абстрактной, она легко удерживает в себе наиболее конкретный аспект всех отраслей математики. Этот геометрический подход и представлял собой греческий «стиль» в математике. Элементами этого стиля были греческий акцент на пропорции, которую тоже можно изобразить графически, избегание греками по мере возможности всех чисел, кроме интегральных, с которыми можно было обращаться как со зримыми и осязаемыми кирпичиками, и избегание отрицательных количеств и иррациональных дробей, с которыми невозможно было обращаться таким способом. В положительном плане греки, опять-таки, продвинулись из своей геометрии в область конических сечений, работая с плоскими срезами конусов и получая в итоге такие кривые, как эллипсы, параболы, гиперболы. Это такая область математики, которую мы до сих пор называем ее первоначальным именем, "конические сечения", хотя теперь выражаем ее понятия главным образом алгебраически. Дальнейшие ограничения математического стиля греков демонстрируются тем, что они не предложили абсолютно ничего в области логарифмов, аналитической геометрии, исчисления или понятия функции. Всего, чего они могли достичь со свои стилем, построенным на геометрии и целых числах, они достигли. Осуществление других математических возможностей, подобных упомянутым выше, было попросту оставлено другим народам и эпохам, главным образом западноевропейцам, жившим в последние три-четыре столетия».
Крёберовский тип анализа вполне применим к другим категориям культуры и, фактически, к «стилю» (или творческому гению) целых цивилизаций.
Итак, «творческий дух» народа можно определить как некоторый набор в высокой степени обобщенных простейших понятий и аксиом, служащих схемой соотнесения для всего общества (или, по крайней мере, для значительной части его населения). Сами по себе эти аксиомы могут не сознаваться их обладателями; и, как правило, они могут быть извлечены из культурных или психологических данных. Они заключают в себе программу возможной культурной эволюции и, стало быть, устанавливают пределы возможного культурного развития того населения, которое их использует.
Мировоззрение
Еще преимущественно когнитивной, но уже более конкретной в отношении наблюдаемых вещей характеристикой является мировоззрение. Наиболее действенно понятие мировоззрения было развито Робертом Редфилдом и его коллегами. Оно относится прежде всего к когнитивному содержанию, какая-то часть которого может быть аффективно нейтральной, и выводится путем абстрагирования из этнографического описания. Редфилд определяет мировоззрение как взгляд на мир, характерный для того или иного народа (Redfield, 1952, р. 30):
«"Мировоззрение" отличается от культуры, этоса, модели мышления и национального характера. Это картина, которой обладают члены общества в отношении свойств и качеств, присущих сцене их действия. Если понятие "национальный характер" обозначает то, как выглядят эти люди в глазах наведавшегося к ним извне аутсайдера, то "мировоззрение" обозначает то, как выглядит мир в глазах этих людей, смотрящих на него изнутри. Из всего, что коннотирует со словом "культура", "мировоззрение" в наибольшей степени относится к тому, как человек в конкретном обществе видит самого себя в отношении ко всему остальному. Это свойства существования, отличные от человеческого я и вместе с тем привязанные к нему. Короче говоря, это представление человека об универсуме. Это та организация идей, которая дает человеку ответы на вопросы: где я? среди чего я движусь? как я со всеми этими вещами связан?»
Между тем, Редфилд в действительности не имеет в виду никакой особой экзистенциальной веры; речь у него идет о широких классах таких вер. Таким образом, это понятие очень похоже на понятие «имплицитной доминантной онтологии», обозначающее основные допущения, принимаемые населением относительно экзистенциальной природы мира, и на понятие «космологии», которую можно трактовать как систематизированное мировоззрение. Некоторые категории мировоззрения рассматриваются Редфилдом как психические универсалии: вера в разделение вещей на те, которые суть я, и те, которые суть не-я; вера в разделение последних на явления человеческие, нечеловеческие, но материальные, и сверхъестественные; вера в различия между землей и небом, днем и ночью, рождением и смертью и т. п. Среди множества мировоззрений, которые может наблюдать антрополог, Редфилд уделяет особое внимание одному типу – примитивному мировоззрению, которое, как он полагает, характеризуется тремя основными утверждениями: (1) что различие между я и тем, чему я противопоставлено, неопределенно, вследствие чего человек имеет склонность видеть себя единым с природой, а не стоящим от нее особняком; (2) что человек не господствует над этой единой системой «человек-в-природе» и не изменяет ее, а участвует в ее поддержании; (3) что универсум имеет моральную значимость, поскольку вся природа одушевлена и, следовательно, связь человека с природой, как и все социальные связи, должна быть связью моральной.
Разумеется, и другие ученые работали с аналогичными понятиями, когда противопоставляли примитивное и цивилизованное, народное и городское, провинциальное и космополитическое, и т. п. Когда Кассирер (1946) описывает «мифопоэтическую личность» примитивного человека, Халлоуэл (1955) обсуждает временную и пространственную ориентацию у оджибве, Уоллис (1930), Лёвит (1949) и Бери (1921) рассматривают понятия эсхатологии и прогресса, Вебер (1930) анализирует протестантскую этику, а Маннгейм (1936) обсуждает идеологии и утопии – каждый из них имеет дело с мировоззрением.
Упоминание о Маннгейме должно обратить внимание читателя на традиционный интерес континентальных социологов к социологии знания. Главная тема, которой занимался Маннгейм, имеет глубокое родство с антропологической теорией, и суть ее в том, что вся ткань институтов общества должна быть теснейшим образом связана с доминирующей системой экзистенциальной веры, которая, в свою очередь, не просто играет рационализирующую роль, но и естественным образом вытекает из условий функциональной организации. Таким образом, мировоззрение не просто побочный философский продукт каждой культуры, не что-то вроде тени, которую она отбрасывает, а самый что ни на есть скелет конкретных когнитивных допущений, на котором держится плоть обычного поведения. Соответственно, мировоззрение может более или менее систематически выражаться в космологии, философии, этике, религиозном ритуале, научном кредо и т. д., но имплицитно присутствует почти в каждом акте поведения. Если перевести это на язык Парсонса, оно конституирует набор когнитивных ориентации членов общества (Parsons and Shils, 1951).
Ценности, этос и темы
Ценное – это нечто такое, ради переживания чего организм готов потрудиться. Однако «ценности» как таковые, как абстрактные сущности, определить довольно трудно. В одном из экономических значений «ценность» чего-то понимается как некое неосязаемое свойство, добавляемое к грубому, сырому материалу производителем, который его обрабатывает, и потребителем, который прилагает усилия к его получению. Мера этой добавленной ценности, или стоимости, есть функция работы, выполняемой производителем и потребителем. В психологическом, социологическом и антропологическом значении «ценность» вещи или состояния дел – в некоторой степени аналогичным образом – понимается как их позитивная или негативная валентность, т. е. как их относительная способность стать целью («вознаграждением», «наказанием», «удовольствием», «болью» и т. д.), приблизиться к которой или отдалиться от которой организм стремится. Об объекте, приобретшем психологическую ценность, принято говорить, что он «катектирован». Таким образом, «ценность» долголетия, питательных пилюль, сексуального удовлетворения, членства в престижной группе, да и всего чего угодно можно определить как количество или по крайней мере ранговый порядок, занимаемый ими на шкале от минус-х (минуя 0) до плюс-х. Однако в том смысле, в котором употребляют этот термин психологи, антропологи и социологи, под «ценностью» имеется в виду нечто большее, нежели просто катексис, прилипший, образно говоря, к объекту наподобие положительного или отрицательного заряда статического электричества. Во-первых, слово «ценность» обозначает не только катектический «заряд», но также носитель этого заряда – мысленный образ объекта или сам объект, являющийся целью («потребительские ценности»), – а иногда и такие поведенческие маневры, которые организм может использовать для приближения к этому объекту или для его избежания («инструментальные ценности»). Во-вторых, в силу того, что «ценности» (в последнем указанном смысле) тесно связаны с онтологией, эмпирические описания «ценностей» обычно включают в себя описания творческого духа и мировоззрения. И наконец, в антропологическом значении «ценности» народа, или культурные ценности, представляют собой в действительности не всякие и не любые объектные катексисы, а только те, которые, как может показать антрополог, распространены достаточно широко, считаются «желанными» или же просто «желаемыми» и пронизывают собой множество разных культурных категорий. Словом, это абстракции, или логические типы, очень высокого порядка.
Понятие ценностей иногда привлекает тех социальных антропологов, которые по той или иной причине не в ладах с психологией личности. В частности, когда поднялась волна критики в отношении униформистских импликаций некоторых исследований национального характера, понятие ценностей обеспечило своего рода замену. «Личность» может быть изменчивой, но могут ли быть таковыми общие «ценности» народа? И разве не являются «ценности» в некотором роде более безличными, более структурными, более очевидно релевантными культуре? Что, как не определенные «ценности», организует разнообразие личностей в обществе?
В самом широком смысле понятие ценностей было применено антропологами в «Сравнительном исследовании ценностей пяти культур (навахо, зуньи, мормонов, тексанцев и испано-американцев)», которое было проведено Гарвардским университетом. В этом исследовании фигурируют такие широкие ценности, как «гармония универсума» (позитивно оцениваемое состояние дел у навахо) и «индивидуальная независимость» (позитивно оцениваемое состояние у тексанцев). Схожей же традиции придерживался, развивая свою модель, и Парсонс (тоже в Гарварде), однако парсонсовская схема выводила на передний план классификацию этих и без того уже широких абстракций и преобразование их в компонентную таксономию ценностных типов. (Например, основополагающие ценности общества могут быть просто классифицированы по их характеру как «универсалистско-достиженческие» или «партикуляристско-аскрипционные»; см.: Parsons and Shils, 1952). Такого рода типология полезна в некоторой степени как эвристический инструмент; оправданность ее использования в качестве аналитического инструмента мы обсудим позже.
Термин «этос» обозначает особого рода «объект», которому склонны сообща придавать ценность члены общества. Этим «объектом» является стиль эмоционального переживания, или, как говорит Хонигман (1954), «эмоциональное качество поведения, сформированного по социальному образцу (patterned)». Самый известный пример описания этоса – знаменитая книга Рут Бенедикт «Образцы культуры» (где слово «образец» (pattern) используется для обозначения того, что мы здесь называем «этосом»). Бенедикт противопоставляет два типа этоса, дионисийский и аполлоновский (1934, р. 72):
«Желание дионисийца, будь то в личном опыте или ритуале, состоит в том, чтобы достичь через них определенного психологического состояния, выйти за пределы себя. Ближайшим аналогом эмоций, которых он ищет, является алкогольное опьянение, и он ценит озарения безумия. Вместе с Блейком он считает, что "путь выхода за пределы себя ведет во дворец мудрости". Аполлониец не доверяет всему этому и часто имеет самое смутное представление о природе таких переживаний. Он находит средства изгнать их из своей сознательной жизни. Он "знает лишь один закон – меру в эллинском смысле слова". Он держится середины дороги, остается в рамках известного, избегает соприкосновения с волнующими психологическими состояниями. По прекрасному выражению Ницше, даже в экзальтации танца он "остается тем, что он есть, и бережет свое доброе имя"«.
Другие авторы тоже имели дело с такими культурно ценимыми или осуждаемыми эмоциональными состояниями, пользуясь при этом самыми разными понятиями. Так, например, Бело (1935) обсуждал балийский «темперамент», а Клайнеберг (1938) исследовал установки по отношению к эмоциональным проявлениям, выраженные в китайской литературе.
Понятие культурных тем, развиваемое, наряду с другими авторами Моррисом Оплером (1945), – тоже ценностно-ориентированное понятие. Темы культуры – это некоторый конечный перечень (скажем, десять) суждений относительно того, из чего складывается хорошая жизнь и каковы надежные и долговечные цели человеческого существования, общие для членов группы. В узкой своей форме тематический анализ широко использовался в исследовании литературных произведений: романов, пьес, кинофильмов, мифов и таких искусственных продуктов, как, например, тест тематической апперцепции. В таких темах, по сути дела, описываются известные сценарии культуры: те цели, позитивные и негативные, в сочетании с методами их достижения или избежания, которые пользуются публичным признанием и понятны аудитории (Mead and Metraux, 1953). Так, в популярном американском «вестерне» – причем неважно, рассказ это, роман, кинофильм или телевизионный спектакль – можно различить одну навязчивую тему: утверждение о том, что хорошие люди, которых трудно сыскать в этом мире хаоса и беззакония, должны сражаться, причем не ведая усталости, с намного превосходящими их численно силами ради того, чтобы внести порядок в сообщество, но они наверняка одержат победу и получат если уж не материальное вознаграждение, то во всяком случае сексуальную любовь и публичное одобрение, стоит лишь им взяться за дело. Эта тема преобладает также в «грубом» жанре детективных историй, где «частные сыщики» являются, как правило, разочаровавшимися идеалистами, которые не верят во властную структуру своего общества, но несмотря на это делают правое дело ради попавших в беду клиентов. Темы вестерна и частного сыщика отличны от английского детектива конца XIX в., герои которого превозносили вместо благонамеренной брутальности добродетель умелого пользования логической дедукцией, принимали правоту властной структуры и вели неустанную и деликатную работу по поддержанию порядка в уже и так хорошо упорядоченном сообществе. И все эти три темы в свою очередь отличаются от темы английской драмы XVII в., героев которой заботит не благосостояние общества, а удовлетворение личных склонностей в таком сообществе, которое осознается ими как лицемерное, испорченное и эксплуататорское.
В основе своей все подходы, выносящие на передний план ценности – будь то собственно ценности, этос или темы, постулируют наличие в лабиринтных структурах (mazeway) индивида определенных семантических параметров. Тот или иной из этих параметров дает коннотацию практически всему опыту, но не обязательно входит в эксплицитное определение любой вещи. Это эмоциональные аналоги семантической геометрии или мировоззрения народа. Каждый мотив теоретически можно классифицировать и отнести к той или иной ценности или теме, однако идентичность этих ценностей обычно становится очевидной лишь после основательной зашифровки и сверхзашифровки данных о культуре и индивидуальном поведении.
Национальный характер и базисная личность
В описание национального характера народа обычно включаются утверждения о творческом духе, мировоззрении и ценностях. Что отличает «национальный характер» как понятие, так это, во-первых, обычное ограничение – он употребляется в отношении граждан современных, политически организованных государств и, во-вторых, что более важно, – акцент на сочленении большого числа компонентов в некую структуру, или образец (pattern). (Образец в этом смысле означает совсем не то же самое, что имеет под ним в виду Рут Бенедикт. У Бенедикт «образцы» были по сути своей простыми эмоциональными элементами, находимыми в большинстве элементов культурной структуры, которые можно было бы сопоставить с хромосомами, находимыми в большинстве клеток тела. В свою очередь «образец» структуры национального характера – это набор сложных динамических взаимоотношений между разными элементами личности, или характера.) Род явлений, обозначаемый термином «национальный характер», обозначается также понятием «базисная личность». Однако понятие базисной личности применимо к любой ограниченной культурной группе, будь то племя, нация или культурный ареал; кроме того, оно обычно было сопряжено с более основательным применением психоаналитической теории личности. Между тем, представляется неудобным вынужденно менять термины в зависимости от политической формы, и неуклюже – использовать прилагательное «национальный» в отношении всех социальных групп без разбора. Поэтому в этом параграфе мы ограничимся одним выражением и будем использовать термин «базисная личность» вне зависимости от того, является ли группа, о которой идет речь, маленьким примитивным племенем, современным государством, культурным ареалом или целой цивилизацией. Принимая этот термин, мы отрекаемся также от причастности к какой-либо частной теоретической схеме. Таким образом, базисная личность, в нашем употреблении этого термина, не предполагает ни какого-либо особого типа социальной организации, ни какой-то особой теории личности; это понятие обозначает всего лишь структуру сочлененных личностных характеристик и процессов, которая может быть нестатистическим способом атрибутирована почти всем членам некоторой ограниченной культурной популяции.
В плане метода, подход под углом зрения базисной личности покоится прежде всего на культурно-дедуктивном принципе; иначе говоря, сначала аналитик готовит этнографическое описание, а затем выводит из этнографических данных интрапсихические структуры членов общества (Mead, 1953; Wallace, 1952b). Он чувствует себя способным это сделать, поскольку вооружен сложной – нередко психоаналитической – теорией, в которой устанавливаются соответствия между поведением (или опытом) и мотивацией. Таким образом, знание того, как приучают детей к туалету или оплакивают умерших, предполагает соответственно и определенное знание о последующих и предшествующих мотивационных структурах; это знание возрастает вместе со сложностью описания контекста действия. Кроме того, эта теория требует от аналитика базисной личности проведения различия между периферийными и основными мотивами: основные мотивы являются одновременно «базисными» для психодинамической структуры и «универсальными» для общества. Аналитика интересуют в первую очередь основные мотивы. В целом принято считать, что взаимосвязь основных мотивов образует конфликтную структуру, в которой мотивы (и ценности) диалектически разделяются на пары противоположностей, а внешнее поведение репрезентирует того или иного рода компромиссный синтез. Предполагается, что базисная мотивационная структура усваивается в процессе обучения, обычно во младенчестве и раннем детстве; однако поздний опыт, особенно стрессовый, может привести к формированию или применению различных институционализированных механизмов. Последние защищают глубинную целостность данной структуры, давая косвенное удовлетворение покоренным, но все еще мятежным мотивам.
Примером теории базисной личности служит вызвавшая много споров пеленочная гипотеза Горера. Джеффри Горер, обсуждая великороссов, предположил, что русская культура институционализировала крайнюю дисциплину и авторитаризм в человеческих отношениях, однако допускала периоды оргиастического высвобождения зверской вседозволенности и деструктивности. Этим, по-видимому, предполагался (согласно культурно-дедуктивному методу) особый тип личности, при котором эго испытывает потребность в строгих внешних ограничениях, дабы соответствовать той ценности, которой наделяются дисциплина и порядок, и удерживать под контролем мятежное желание свободы от каких бы то ни было ограничений. Согласно теории Горера, эта конфликтная структура складывалась еще в младенческом возрасте (однако закреплялась во множестве других, более поздних переживаний) под влиянием продолжительного тугого пеленания, которое изредка прерывалось распеленанием и освобождением, когда ребенок яростно брыкался, а няньки тревожно за ним следили, опасаясь, как бы ребенок, опьяненный свободой, себя не покалечил (Gorer and Rickman, 1949; Mead and Metraux, 1953). Как отмечает Мид, критика гореровской гипотезы в значительной своей части бьет мимо цели: Горер вовсе не говорил, что русские неспособны к свободе, потому что их туго пеленали во младенчестве (Mead, 1953). Если принять допущение, что у всех великороссов существует общая конфликтная структура и что она одновременно является психологическим эквивалентом некоторых взрослых институтов и продуктом некоторого ряда младенческих переживаний, то гипотеза эта вполне разумна. Если и нужно в ней что-то критиковать, так это исходные допущения.
Такая верно понятая критика совпадает в существенных чертах с той, которая адресуется микрокосмическим теориям в целом. Как доказать, что все великороссы переживают в своем опыте эту конфликтную структуру, что институты их взрослой жизни являются культурными эквивалентами этой единообразной конфликтной структуры, что у них одинаковы младенческие переживания и что их младенческий опыт детерминирует их взрослые личности? Эти вопросы уводят нас далеко вперед; а потому на данный момент мы отложим их рассмотрение и перейдем теперь к тесно связанному с понятием базисной личности понятию модальной личности.
Модальная структура личности
«Базисная личность» – это нестатистическое понятие, в котором подчеркивается значимость структурного образца и предпринимается попытка отбросить вопросы о статистических частотах посредством исключения из внимания «девиантных» и «периферийных» черт, в результате чего остается структурное ядро, которое предположительно является общим для всех членов группы. Соответствующим статистическим конструктом является модальная личность. Строго говоря, «модальность» означает здесь то значение переменной, которое с наибольшей частотой встречается в распределении: концептуально, а часто и эмпирически она отличается от других параметров основной тенденции, таких, как средняя и медиана. Однако ради простоты мы будем использовать здесь выражение «модальная личность» более вольно – как обозначение любого метода, который описывает личность, типичную для культурно ограниченной популяции, исходя из основной тенденции определенного частотного распределения.
Культурные описания редко строятся так, чтобы из них можно было вывести статистические распределения личностных характеристик. Поэтому в большинстве случаев модальная личность должна конструироваться на основе иных данных, нежели этнографический отчет. Такие данные легче всего собрать, проведя психологическое тестирование некоторой выборки лиц из культурно ограниченной популяции; иногда применяются и другие инструменты, например, запись сновидений, документирование жизненных историй и регистрация частоты того или иного поведения, однако эти методы более трудоемки и, следовательно, более трудны для адекватного применения к большому числу людей. Таким образом, модальная личность стала ассоциироваться с применением разнообразных проективных методик: теста Роршаха, теста тематической апперцепции (как в исходной его форме, так и в различных модификациях, адаптированных к разным культурам), теста эмоционального реагирования Стюарта и множества других. К настоящему времени накопилась богатая литература, посвященная кросс-культурному применению проективных методик (см.: Henry and Spiro, 1953).
Специфические недостатки понятия «модальная личность» являются дополнительными по отношению к недостаткам понятия «базисная личность». Понятие базисной личности затрудняет рассмотрение вопросов о статистической частоте; понятие модальной личности – вопросов о структуре и образце. Как мы уже видели, теория базисной личности, пользуясь отношением конфликта, связывает мотивы в сложные гомеостатические системы, которые трансформируются во времени, деформируясь и изменяясь соответственно тем давлениям, которые на них оказываются. Описание модальной личности может установить всего лишь основную тенденцию в частотном распределении значений какой-то одной переменной, в лучшем же случае должно довольствоваться установлением частоты проявления тех или иных комбинаций значений нескольких переменных. Так, например, Уоллесу удалось установить, что модальный тип личности, определенный по 21 параметру наблюдения в одной из индейских популяций, был свойствен лишь 37 % обследованной выборки (Wallace, 1952a). Такие комбинации, независимо от того, выявлены ли они с помощью простых методов корреляции и ассоциации, с помощью факторного анализа или же с помощью описанной Уоллесом методики модальной группы, не образуют сами по себе динамической структуры; они являются по сути дела таксономическими структурами. Динамическая структура (например, конфликтная структура), представленная той или иной конкретной комбинацией ценностей (например, в пятнах Роршаха), должна выводиться из формального интерпретативного кода. Кроме того, многие исследования модальной личности уязвимы перед статистической критикой процедуры выборки, отбора статистического показателя и обоснования вывода. Еще одна дополнительная слабость статистического подхода состоит в том, что этот метод требует крайней избирательности. В нем не схватывается все богатство человеческого опыта, ибо сам выбор статистического инструмента обычно означает, что в исследовании могут быть учтены лишь очень немногие параметры поведения и что они должны быть интегрированы в безжизненные абстрактные типы.
Вместе с тем, статистический подход имеет то важное достоинство, что (несмотря на обычно допускаемое ошибочное трактование абстрактных тенденций так, как если бы они представляли все индивидуальные случаи) позволяет выявить разнородность человеческих характеристик в рамках ограниченных культурных групп, таких, как племена, нации, половые, возрастные, статусные, классовые группы и т. д. Прогрессивная наука о человеческом поведении должна базироваться не только на концепции копирования единообразия, но и на понятии организации разнообразий.
Диахронические распределения
Развитие ребенка
Наиболее общепризнанная временная последовательность в сфере «культура-и-личность» – это трансформация контингента асоциальных младенцев в социализированных взрослых. В связи с этим обычно принимается особое допущение, что трансформация любого возрастного контингента осуществляется путем манипулятивного воздействия на него со стороны предыдущего поколения, претерпевшего в свое время такую же трансформацию. Эту идею ясно выразил Горер (см.: Mead and Metraux, p. 63):
«На основании факта социальной преемственности принимается допущение, что в любом данном обществе (или части общества, если это общество достаточно велико и дифференцировано по регионам, классам или сочетанию этих критериев) наблюдаемые взрослые его члены делили друг с другом общие переживания и превратности детства, аналогичные тем, которые теперь претерпевают в своем опыте наблюдаемые младенцы и дети, и что, повзрослев, наблюдаемые младенцы и дети приобретут общие предрасположения и черты характера, аналогичные тем, которыми обладают наблюдаемые взрослые. Это допущение повторения, по-видимому, должно стать базисным допущением в исследованиях национального характера и является тем допущением, которое отграничивает изучение национального характера от изучения индивидуальной психологии».
Поскольку эта модель преемственной межпоколенной трансформации делает каждое поколение копией предыдущего взрослого поколения, ее можно логически сопоставить с моделями генетического копирования при биологическом воспроизводстве. В генетике механизмом копирования является ген, который передает генетическую информацию каждой клетке созревающего организма, инструктируя ее, как реагировать на различные обстоятельства. Национальный характер, в гореровском смысле термина, представляет собой аналог генетической структуры, как ее понимает генетик: предполагается, что он является постоянным для каждой «клетки» социального организма и несет в себе информацию, определяющую реакцию этой «клетки» на ее среду. Именно эта аналогия наполняет рациональным смыслом утверждение Мид, которое ранее уже приводилось с оттенком некоторого неодобрения в этой главе:
«Любой член группы при условии, что его позиция в этой группе надлежащим образом уточнена, служит идеальным примером того группового образца (pattern), на основе которого он действует в качестве информанта. Так, юноша 21 года от роду, родившийся в семье американцев китайского происхождения в небольшом городке на севере штата Нью-Йорк и только что окончивший summa cum laude8* Гарвардский университет, и глухонемой бостонец в десятом поколении, принадлежащий к старинному английскому роду, являются равно совершенными образцами американского национального характера, при условии, что будут полностью приняты в расчет их индивидуальная позиция и индивидуальные характеристики» (Mead, 1953, р. 648).
Мид утверждает, что различия между американцем китайского происхождения и глухонемым уроженцем Бостона – того же порядка, что и между мозговым нейроном и эпителиальной клеткой пальца одного и того же человека: и то, и другое (в этой аналогии) является совершенным зрелым выражением одной и той же генетической структуры, но развившимся в иных условиях. Результатом перевода проблемы временно́й последовательности в эту генетическую форму становится возможность рассматривать два процесса социализации. Первый – это процесс, посредством которого от одного поколения к следующему передается «генотип» (культурный характер и базисная личность), второй – процесс, посредством которого индивиды вследствие разнящегося опыта «фенотипически» дифференцируются друг от друга, с тем чтобы исполнять разные социальные роли.
Антропологи всегда проявляли интерес к методам, применяемым в воспитании (или «энкультурации», или «социализации») молодого поколения в той или иной социокультурной системе. Отчасти этот интерес неотделим от задач общей этнографии. Так, например, уже давно было признано, что значительная часть ритуального оснащения общества предназначена для максимально быстрого осуществления социальной и психологической трансформации индивидов. Многие rites de passage9* открыто нацелены на достижение в мотивации индивидов определенных изменений, соответствующих заново принятым ими социальным ролям, которые публично провозглашаются посредством ритуалов. Церемонии, проводимые по случаю полового созревания («инициационные обряды»), заключения брака, вступления в организации, понесенной утраты и т. д., выполняют двойственную функцию, оповещая общество о произошедшем изменении в роли и внушая участникам ценности и представления, призванные обеспечить конгениальное выполнение новой роли. Лишь немногие антропологи проявили интерес к структуре протекания процессов воспитания, в которых ролевые переходы являются прерывными. Они, например, предположили, что без такого ритуального обусловливания индивид несет «огромные психические издержки» (Benedict, 1938). Однако в целом неизвестно, насколько эффективно различного рода обряды перехода осуществляют мотивационную трансформацию индивида в разных условиях. Аналогичным образом, хотя некоторые антропологи и интересовались примитивными методами «формального» обучения (например Pettitt, 1946), анализ эффективности этих процедур отсутствует.
Исследования, выводящие на первый план процессы развития ребенка в «семье» (которая, разумеется, представляет собой в разных обществах далеко не одно и то же), руководствовались главным образом культурально модифицированными психоаналитическими гипотезами. Гарвардская группа Уайтинга, проводящая кросс-культурное исследование практик воспитания и различных культурных переменных, занята поиском статистически надежных корреляций между опытом развития ребенка и институционализированным поведением взрослых (Whiting and Child, 1953). Мид и ее коллеги в своих не столь статистически организованных исследованиях терпеливо описали, как многообразный и развертывающийся во времени опыт ребенка постепенно рождает взрослого человека, который играет (более или менее) те же самые культурно стандартизированные роли, которые до него играли его родители. В такого рода исследованиях, как мы уже отмечали, факты индивидуальных различий и культурного изменения концептуально принимаются как константы; система трактуется так, как если бы в синхроническом и диахроническом плане правилом было единообразие (Mead, 1947b). Несмотря на вытекающие отсюда недостатки, которые мы ранее уже постарались выявить, впечатляющим результатом таких исследований возрастного паттернирования стала демонстрация факта многократного запечатления относительно небольшого числа широких тем или ценностей, каждая из которых имеет свою особую фразировку для каждого возраста, пола и т. д., благодаря бесконечно сложному образцу последовательного протекания тех переживаний, которым подвергается подрастающий человек в любом организованном обществе. Этот процесс может быть не настолько надежным, каким его считают, однако тип этого процесса в полной мере установлен. Как красноречиво замечает Мид (Ibid, p. 634):
«…одновременность влияния осуществляется не только поведением каждого индивида, с которым ребенок входит в контакт, но и опосредствуется ритуалом, драмой и искусствами. Форма глиняного горшка, художественное оформление двери, ведущей в храм, модель внутреннего дворика, форма кровати, могильные столбы или похоронная урна, головной убор танцора и маска клоуна являются дополнительными подкреплениями и полноценными проявлениями одного и того же образца, который ребенок последовательно из раза в раз переживает в своем опыте».
Стоит заметить, что несмотря на церемониальное почтение, оказываемое в антропологических исследованиях теориям научения, разработанным в рамках академической психологии, тот род научения, который имеет место при паттернировании личности посредством множественных запечатлений, не описывается адекватно формальной теорией научения. А стало быть, попытки (подобные той, которая была предпринята Уайтингом и нашла отражение в книге «Becoming a Kwoma», 1941) использовать теорию научения для анализа процесса социализации или изучения языка не требуют более сложной психологической реальности, которую вызывает к жизни поэтический язык Мид (ср.: Chomsky, 1959). Модели научения посредством «запечатления», подчиненного «закону попытки» (ср.: Hess, 1959), возможно, окажутся для антропологов, анализирующих процесс энкультурации, более полезными, нежели нынешняя теория закрепления, в которой на передний план выносится «закон эффекта».
Уоллес (1952b), пытаясь реабилитировать понятие индивидуальных различий, сформулировал вероятностное суждение о связи между культурным научением и развитием личности:
«…вероятность осуществления любой определимой последовательности событий, формирующих личность, равна вероятности возникновения данного типа личности, а общее число индивидов, обладающих этим типом личности, будет следствием этой вероятности и численности населения».
Формулировка Уоллеса, подобно ранее приведенным формулировкам Сепира и Спиро, все еще оставляет нерешенной главную проблему всех этих процедур: проблему предсказуемости этих процессов в их операциональном определении.
В большинстве трактовок процессов развития ребенка, по-видимому предполагается, что либо это развитие – вполне надежный процесс, который можно предсказать исходя из знания культурной среды и семейной ситуации, либо что это процесс очень ненадежный. Сторонники предсказуемости включают почти всех – если не всех – исследователей развития ребенка, работающих в области «культура-и-личность». Однако в психологической и социологической литературе имеются некоторые тревожные данные, которые, если принять их всерьез, говорят о том, что лелеемые допущения о предположительно инвариантных связях между младенческим опытом и личностью взрослого при строгом исследовании не подтверждаются (Orlansky 1949; Sewell, 1952). Сторонники предсказуемости могут указать в свою защиту на то, что строгие исследования, пытающиеся «проконтролировать» все, кроме некоторых, факторы, просто упраздняют изучаемый феномен. Решение этой проблемы можно найти, лишь отказавшись от ожидания, что в ближайшем будущем какое-нибудь исследование будет способно продемонстрировать почти идеальную надежность процессов развития; и не потому, что эти процессы не подчинены закону, а потому, что они настолько фантастически сложны и настолько продолжительны, что эмпирическое наблюдение не может зарегистрировать достаточное число релевантных параметров. Но ведь это типичная ситуация, в которой оказывается любая наука, выходящая на новые рубежи. Теперь прогресса можно достичь посредством эмпирического выявления того, каковы пределы надежности в предсказаниях личностного развития. Такие пределы будут, предположительно, варьировать вместе со сложностью и идентичностью того конкретного аспекта процесса развития, который предсказывается, и вместе с числом и идентичностью независимых переменных, на которых базируется предсказание. Кросс-культурное исследование дифференциальной надежности воспитательных воздействий принесет приличные дивиденды как в области практического знания, так и в деле познания культуры и личности как взаимосвязанных систем.
Межпоколенное изменение группового характера
Подход с точки зрения копирования единообразия по своей природе не допускает межпоколенного изменения; он просто принимает как данность, что из поколения в поколение передается один и тот же образец. Ученые, исследующие культуру-и-личность, признают, тем не менее, что групповой характер изменяется во времени (хотя обычно, как предполагалось, базисная личность отстает от культурного изменения). Механизмом межпоколенного изменения в теории копирования должна быть изменчивость в обращении старшего поколения с новым поколением. Какие процессы могут вызвать такое изменение в поведении взрослых? Некоторые из ответов на этот вопрос крайне осторожны. Например, Мид (1953, р. 647) в обзоре теоретических позиций исследователей, работающих в области изучения национального характера, лаконично замечает в связи с культурным изменением:
«Можно ожидать, что каждая культура будет соответствующим образом изменяться, сталкиваясь с событиями, которые до тех пор находились вне системы: вторжением неведомого доселе народа, землетрясением, эпидемией, пришедшей в общество извне, и т. п. …
Она также мимоходом указывает на понимание культур как «исторически стандартизированных систем» и отмечает, что «каждый член каждого поколения от младенчества и до преклонного возраста вносит вклад… в переистолкование культурных форм». И наоборот, необдуманные авантюры в процессе культурного изменения могут потерпеть крах, столкнувшись с национальным характером народа (ibid). Такие связи между межпоколенными изменениями в личности и культурными событиями, находящимися вне цикла взросления, предположительно, опосредствуются самим процессом развития ребенка. Например, экономические и технологические изменения, которые происходят вследствие рациональных («периферийных») мотивов или принудительных изменений в среде, могут приводить в движение другие изменения, вызывающие в конечном итоге преобразования в практиках воспитания. Таким образом, межпоколенное изменение характера может происходить через культурные изменения, которые сначала оказывают влияние на иосда-инфантильный опыт. Рисмен (1950), например, усматривает наличие общей взаимосвязи между демографическими условиями, экономическим процессом, семейной структурой и структурой личности. Почти во всех исследованиях такого рода личность понимается как зависимая переменная, экономическое изменение (или миграция) – как независимая, а практики социализации – как промежуточная переменная, зависящая от экономического изменения (или миграции). Кроме того, обычно считается самоочевидным, что изменения в базисной личности происходят очень медленно и становятся заметными лишь после того, как проваливаются попытки ограничить культурное изменение или направить его в определенное русло, либо после того, как базисная личность под воздействием стресса претерпевает крупные и болезненные деформации.
Часто полагают, что культурные изменения, повышающие степень гетерогенности общества – например, аккультурация и урбанизация, представляют серьезную угрозу как для личности, так и для социальной интеграции (см.: Mead, 1947b; Beaglehole, 1949). Представление, будто гетерогенные культуры, расколотые на множество несоизмеримых фрагментов, непременно должны производить личности, раздираемые внутренними конфликтами, является следствием общего тезиса, определяющего интеграцию как функцию гомогенности. Между тем, с точки зрения теории организации многообразия, культурное изменение не обязательно является травматическим; на самом деле, его следует рассматривать как естественное условие человеческого существования. Если посмотреть на большинство «живых» культур как на культуры гетерогенные и пребывающие в постоянном, относительно быстром изменении (быстрое изменение, кстати, не обязательно подразумевает изменение в материальных артефактах или быструю кумулятивную эволюцию), то мы прежде всего заметим, что теперь гетерогенность и изменение, по определению, уже не предполагают психологической и культурной дезорганизации. Причины такой дезорганизации следует искать где угодно, но только не в гетерогенности и не в изменении как таковых. Фундаментальной проблемой становится, опять-таки, организация многообразия, а не копирование единообразия.
Таким образом, вполне возможно, что в «гетерогенной» и быстро изменяющейся культуре будет производиться более широкое разнообразие личностных типов, нежели в гомогенной медленно изменяющейся культуре. Каждый из этих типов может быть внутренне не менее устойчивым, чем любой тип, производимый в стабильной гомогенной культуре. Проблема такого сложного общества будет заключаться не в том, что у всех его членов будет расщеплена личность, а скорее в том, что для его членов могут оказаться непосильными проблемы социокультурной организации. В последнем случае многие индивиды могут вторично пережить лишения и фрустрации и начать страдать психосоматическими и невротическими недомоганиями; однако это будет следствием неспособности системы ответить на чаяния некоторых ее членов. Это в свою очередь вызывает подозрение, что подгруппы, традиционно находящиеся в обществе в ущемленном положении – например, этнические или религиозные меньшинства, коренное население, находящееся под иноземным господством, или низшие экономические классы, – могут страдать от интенсивного дискомфорта и болезненности. Это не является прямым следствием гетерогенности общества, а связано с теми конкретными ущемлениями данных подгрупп, которые заставляют их непропорционально много страдать, такими, как недостаточное питание, презрение со стороны окружающих, эпидемические заболевания, физическое переутомление и (на чем мы подробно остановимся в следующей главе) шок культурной утраты.
IV. Психология культурного изменения
В этой главе мы подробнее остановимся на том, как психологические процессы влияют на изменения в культуре и испытывают обратное влияние со стороны последних. На протяжении всего обсуждения этой темы читатель должен помнить о концептуальном различии между аффективными и когнитивными компонентами мотивации. Из этого различия вытекает следствие: различие между эмоциями и ценностями. Кроме того, читатель должен помнить о том, что в любой мотивационной структуре заключено два рода ценностей: потребительские ценности («желания») и инструментальные ценности («потребности»).
Нововведение: процесс изобретения и открытия
Есть старинное изречение, что «нет ничего нового под солнцем». Этот образец народной мудрости цитируют всякий раз, когда открывают, что то или иное нововведение имело прототип в каком-нибудь древнем или экзотическом сообществе; и приводят его с намерением уязвить гордость позднейших изобретателей. Между тем, за этим, казалось бы, парадоксом (ибо мы «знаем», что нововведения все-таки происходят) кроются две важные проблемы.
Первая состоит в том, что некоторые общества – в частности, древние ближневосточные общества, от которых произошла наша культура, – определяли кажущиеся нововведения не как «новые» вещи, а как всего лишь стадии повторяющегося космического цикла. Для такого воззрения «новое» технологическое приспособление или «революционное» социальное преобразование являются новшеством не более, чем наступление весны или прорезание первого зуба у ребенка; такие изменения в состоянии являются не более чем стадиями повторяющегося процесса. Таким образом, наше современное понимание инновации как новой тождественности в известной степени обусловлено культурой, а сама наша готовность мыслить об инновациях представляет собой отличительную для нас привычку мышления.
Вторая проблема, не столь бросающаяся в глаза на фоне первой, – это философская проблема тождества. Каковы критерии, по которым мы решаем или должны решать, что два перцептуальных переживания были вызваны одним и тем же феноменом? Когда мы соглашаемся или должны согласиться с тем, что вещь более не существует или что появилась какая-то новая вещь? Ответы на эти вопросы важны не только в качестве наблюдений по поводу психологических процессов нововведения как такового; они будут также оказывать влияние на то, как будет исследоваться нововведение.
Хомер Барнетт, автор наиболее полного антропологического трактата на тему нововведения, посвящает значительную часть своей книги философскому анализу тождества и психологическим процессам, с помощью которых оно распознается. Барнетт вступает в спор с теми психологами старшего поколения, которые утверждают, что организация восприятия зависит от формальных свойств наблюдаемой вещи. Указывая на то, что восприятие в значительной степени определяется прошлым опытом воспринимающего, он присоединяется к более поздней традиции психологии восприятия и, кстати говоря, приходит к согласию с точкой зрения Халлоуэла относительно зависимости восприятия от культурно предсказуемого опыта. Эта квазинезависимость восприятия от «объективной» реальности природы делает возможными два ментальных феномена: во-первых, способность воспринимающего говорить, что два чувственно различных переживания заключают в себе «одну и ту же вещь» («тождество» здесь определяется постоянством конфигурации, временной преемственностью в пространстве и разными прочими критериями); во-вторых, возможность разного восприятия «одного и того же» объекта двумя воспринимающими или одним наблюдателем в разное время, зависящую от различий в их перцептуальном оснащении и опыте. Первая из указанных способностей делает возможными обучение и культурную преемственность; последняя обусловливает возможность культурного изменения. «Ментальное взаимодействие между тем, что есть, и тем, что было, дает на самом деле единственную основу для перекомбинирования природных событий, т. е. для инновации, сугубо ментального вклада в новизну» (Barnett, 1953, р. 448).
Далее Барнетт анализирует логическую структуру нововведения таким образом, чтобы частично избежать дилеммы «эволюционизм vs прерывность». Нововведение истолковывается как всецело ментальный процесс, а его субстанциальная основа – не как «вещи», а как «ментальные конфигурации» (т. е. «любой(-ые) унифицированные-ые) образец(-цы) опыта»). Каждое нововведение (или открытие) является в своей основе рекомбинацией двух или более ментальных конфигураций. С этими конфигурациями инноватор делает три вещи: (1) он анализирует каждую из них, выделяя ее составные элементы и рассматривая взаимоотношения между этими элементами; (2) он сопоставляет их, отождествляя некоторые элементы одной конфигурации с некоторыми элементами другой в контексте, предоставляемом конкретными конфигурациями; (3) он рекомбинирует эти конфигурации, производя замену отождествленных элементов и выявляя изменения во взаимных отношениях между некоторыми элементами. Этот процесс можно проиллюстрировать простейшим примером, взяв следующую парадигму, в которой вербальные высказывания приняты в качестве прототипических и стимульных конфигураций интереса и в качестве инновационной идеи (инновационной, разумеется, в контексте этих высказываний):
Стадия 1 (Анализ)
Прототип: «Субмарины, имеющие форму субмарины, движутся медленно соответственно их длине».
Стимул: «Рыбы, имеющие форму рыбы, плывут быстро соответственно их длине».
Стадия 2 (Отождествление)
Отождествить «рыбу» с «субмариной».
Отождествить «плывет» с «движется».
Отождествить «форму рыбы» с «формой субмарины».
Стадия 3 (Рекомбинация)
Заменить в прототипическом высказывании «форму субмарины» на «форму рыбы».
Заменить в прототипическом высказывании «быстро» на «медленно».
Инновационное утверждение: «Субмарины, имеющие форму рыбы, движутся быстро соответственно их длине».
Инновационное высказывание (кстати говоря, достоверное) представляет собой новую конфигурацию и новый Gestalt, со всеми вытекающими отсюда следствиями для конструкции субмарины, военно-морской стратегии и т. д.; однако, как утверждает Барнетт, здесь нет ни одного элемента или отношения, которые были бы уникально новыми, ибо как морфемы, так и синтаксис были заданы предшествующими высказываниями.
Тезис о «рекомбинации конфигураций» обладает тем достоинством, что отвечает на вопрос, откуда берутся элементы, и тем самым соединяет анализ процесса нововведения с изучением других естественных процессов, в которых «новое» состояние системы является функцией «старого». Однако хотя здесь и исключается проблема прерывности, одновременно обостряется дополнительная проблема преемственности. Каждое нововведение, а, стало быть, и всякое культурное изменение должны в этом случае рассматриваться как рекомбинация заранее существующих конфигураций. Это делает любую эволюционную последовательность в культуре сопоставимой с развитием логических следствий из некоторого набора аксиоматических суждений и предполагает, что «начало» должно существовать там, где можно найти некоторые простейшие конфигурации, из которых были произведены все последующие рекомбинации. Но ведь это в точности совпадает с понятием Elementargedanken10* Бастиана, которое оказалось неадекватной основой для исследований культурной эволюции, а также природы психического единства человечества (см.: Wallace, 1961). Еще одно следствие, вытекающее из тезиса о рекомбинации, состоит в том, что существует конечное, пусть даже очень большое число возможных конфигураций, диапазон которых определяется размером изначального набора элементов и отношений. Это в свою очередь требует дедуктивного умозаключения о существовании ограниченного числа возможных культур.
Частичная неадекватность тезиса о рекомбинации состоит, однако, вовсе не в необходимой ошибочности утверждения, что каждое нововведение есть рекомбинация заранее существующих ментальных конфигураций (даже если следствия их этого положения идут настолько далеко, что перестают поддаваться проверке и, следовательно, становятся метафизическими). Скорее, она кроется в неадекватности этого положения для установления условий, при которых будет происходить конкретное нововведение, т. е. для предсказания того, какие именно из возможных рекомбинаций, кем и когда будут совершаться. Предсказания такого рода требуют учета личной мотивации, идиосинкратического опыта, культурного и ситуационного окружения и общего когнитивного процесса.
Мотивационные теории инновационного поведения разделяются на два типа: (1) «позитивные» теории, которые пытаются объяснить творческий акт; (2) «негативные» теории, которые пытаются объяснить неинновативный консерватизм. Эти теории широко различаются по уровню генерализации; некоторые из них относятся ко всем организмам, способным учиться, другие – только к особым подгруппам, существующим в конкретных человеческих обществах (например, к профессиональным изобретателям в Америке XX в.). Возможно, наиболее генерализованной позитивной теорией мотивации является теория, постулирующая свойственный всем организмам инстинкт, или мотив, к исследованию, игре, переживанию и удовлетворению «любопытства», получению эстетического удовольствия, понижению «когнитивного диссонанса» между воображением и реальностью (Linton, 1936; Festinger, 1957). Уоллес (1957) сформулировал этот постулат с точки зрения организационной теории:
«Принцип Максимальной Организации… гласит, что организм действует таким образом, чтобы максимизировать – в рамках существующих условий и в меру своих способностей – сумму организации в динамической системе, представленной в его лабиринтной структуре; иначе говоря, он работает в направлении увеличения как сложности, так и упорядоченности своего опыта».
Если обстоятельства таковы, что конкретная инновационная рекомбинация будет максимизировать степень организации в данной лабиринтной структуре, а физиологическая среда адекватна для поддержания когнитивной задачи, это нововведение будет произведено (см.: Wallace, 1956a, 1956b). Такая рекомбинация не будет, однако, происходить до тех пор, пока не будут присутствовать необходимые прототипические и стимульные конфигурации.
Другая группа теорий поднимает проблему процессов, посредством которых в лабиринтной структуре собираются воедино прототипические и стимульные конфигурации, необходимые для конкретного нововведения. Уайт (1949), Крёбер (1944) и многие другие (в числе которых есть историки и социологи), обсуждая распространенное мнение, будто гений самопроизвольно создает культурное нечто из идиосинкратического ничто, представили данные, призванные показать, что конкретные нововведения имеют свойство производиться в данном типе культурной среды многими индивидами почти одновременно и независимо друг от друга. Такие случаи одновременного изобретения настойчиво наводят на мысль, что культура по ходу своей эволюции «снабжает» многих индивидов прототипическими и стимульными конфигурациями, необходимыми для данного нововведения, и что в любой данной культурной среде возможны только некоторые нововведения.
Что можно сказать о психологических свойствах инноваторов, в том числе мотивациях? Прежде всего прямо-таки необходимо допустить, как это делает Барнетт и как предполагается организационной теорией, что все люди время от времени создают что-то новое в границах, установленных их культурой, локальной ситуацией и индивидуальными способностями. Иногда нововведение происходит случайно или в результате когнитивной ошибки. Кроме того, общества могут быть либо конгениальны, либо неконгениальны нововведению, в зависимости от того когнитивного процесса, посредством которого была осуществлена инновация. Так, например, ирокезская культура семнадцатого столетия весьма поощрительно относилась к религиозным (ритуальным и мифологическим), политическим и даже экономическим нововведениям, если когнитивная модальность была галлюцинаторной (Wallace, 1958b). В нашем обществе научные, технологические, религиозные и художественные инновации с готовностью вознаграждаются, независимо от когнитивной модальности, посредством которой они были созданы, политические же и экономические вознаграждаются гораздо меньше и фактически не имеют шансов на успех, когда известно, что когнитивная модальность открытия была галлюцинаторной. Если подойти к проблеме мотивации с точки зрения теории научения, выводящей на передний план понятие закрепления, следует ожидать, что члены общества будут «учиться» создавать новое именно в тех культурных областях, где нововведение обычно вознаграждается обществом (или, по крайней мере, той его частью, к которой принадлежит инноватор). Херсковин называет эти области областями «культурного фокуса». В таких областях влечение к максимальной организации обычно в наибольшей степени находит свое удовлетворение. Однако было бы ошибкой слишком далеко заходить в этой вере в культурную конформность инновации, ибо тут мы в не меньшей (а то и большей) степени, чем с процессом нововведения, имеем дело с критериями принятия. Как мы предположили, нововведение может пожинать и иные вознаграждения, нежели те, которые предлагает общество. Творческий порыв крайне трудно поставить под контроль или подавить. И в самом деле, похоже, что нововведение производится чрезвычайно гетерогенным населением, при в высшей степени изменчивых обстоятельствах и ради достижения столь разнородных сознательных целей, что можно заподозрить, что инновация per se11*, как ментальный процесс, почти не зависит от мотивации; инновация как таковая – это «инстинктивная» склонность человеческого организма, приводимая в действие при малейшем подстрекательстве со стороны желания обогатить или упорядочить опыт. Мотивационные процессы, имеющие коннотацию с понятием «личность», будут с большей вероятностью управлять реакцией на нововведение (в том числе и реакцией самого инноватора).
Реакция на нововведение: принятие, применение и отвержение
Антропологи традиционно сохраняли интерес к тем психологическим процессам, которые определяют, будет ли предлагаемое нововведение принято для применения или отвергнуто самим инноватором, другими членами его общества и (в ситуациях диффузии и аккультурации) членами других обществ. В таких ситуациях нововведение обычно понимается как любая новая для культуры конфигурация, которая преподносится агентом изменения, например, изобретателем, торговцем, религиозным или политическим реформатором, военнопленным или супругом, происходящим из чуждого культурного окружения. Такое предлагаемое нововведение может быть воспринято как стимульная конфигурация, находящаяся в согласии с прототипом, который поддерживается реципиентом. В этом случае принятие нововведения обычно будет приводить к его модификации, позволяющей ему вписаться в более широкий культурный гештальт; однако ради простоты изложения мы будем говорить о «принятии» без эксплицитного упоминания процесса модификации. Члены сообщества производят оценку нововведения, принимают или отвергают его и, наконец (если оно принято), используют. (Разумеется, мы не принимаем здесь во внимание такие микроинновации, которые включены, например, в языковой дрейф, ибо они, по-видимому, не предполагают рационального оценивания.) Эти процессы не обязательно протекают преднамеренно или даже осознанно: единственно необходимое допущение состоит в том, что нововведение должно быть прежде пропущено через своего рода экран, оценивающий его как «новую вещь», и только потом ему может быть дано то или иное вещественное применение.
Ситуация аккультурации в целом соответствует вышеописанной модели: «донорская» культура «предлагает» «принимающей» культуре «новую» культурную конфигурацию. После этого члены последней подвергают новую конфигурацию различным проверкам и рано или поздно принимают или отвергают ее. Действующие здесь механизмы, как бы плохо мы их ни понимали, приобрели первостепенную практическую значимость в современном мире, где разные национальные государства как во внутренней, так и во внешней политике напряженно пытаются заставить потенциальных союзников, а также свои народы, принять новые образцы культуры.
Одна из детерминант – так называемый «психологический экран», который ставится модальной структурой личности между предложением и принятием. Этот экран сортирует предлагаемые нововведения на две группы: (1) совместимые с обычной для общества структурой мотивов и (2) несовместимые с ней. Мотивационная структура, которую затрагивает этот процесс, располагается на высоком уровне абстракции, который включает в себя широкие ценности, имплицитно заключенные в этосе, национальном характере или модальной структуре личности: например, соблазнительность материального богатства, относительную значимость обязательств, накладываемых родственными связями и отношениями в сообществе, определение мужественности, важность пунктуальности и т. п. (см.: Wallace, 1951; Linton, 1947). Каждая отдельная аффективно нагруженная категория этого типа может использоваться для классификации огромного множества конкретных нововведений, которые, казалось бы, непосредственно релевантны для более ограниченных контекстов. Таким образом, эти ценности функционируют в культуре как постоянные параметры выбора, дающие коннотацию большинству феноменов, невзирая на несравнимость их индивидуальных определений. Можно заметить, что метод семантического тестирования («семантический дифференциал»), разработанный психологом Осгудом (Osgood, Suchi and Tannenbaum, 1957), в высшей степени подходит для оценки той функции, которую выполняют такие широкие ценности в наделении коннотативными значениями огромного множества существующих феноменов, в том числе инновационных предложений.
Между тем, если инновация успешно минует экран общих ценностей, она сталкивается далее с другими испытаниями. (Читатель, разумеется, заметит, что порядок этих различительных функций выбирается сугубо эвристически и не обязательно существует в природе.) Некоторые из этих дальнейших препятствий для принятия образуют в совокупности основную часть предмета «прикладной», или «практической», антропологии. Их общий характер «функционален»: иначе говоря, критерием приемлемости является убеждение потенциальных реципиентов в том, что данная инновация в целом внесет более важный вклад в удовлетворение сети желаний и потребностей, нежели в их фрустрацию. Как только нововведение получает такое культурное значение, оно само обретает статус испытываемой потребности. Необходимо, конечно, заметить, что представления донора о желаниях и потребностях реципиентов не обязательно совпадает с представлениями о них самого реципиента. К настоящему времени выросла внушительная гора литературы по прикладной антропологии, где описываются и анализируются ситуации, в которых потенциальные реципиенты отказывались принять нововведения, которые по ожиданиям доноров должны были быть встречены с распростертыми объятьями. Ошибка донора обычно состоит в том, что он не удосуживается оценить релевантные негативные функции предлагаемого нововведения, иначе говоря, неправильно определяет институционализированные мотивы, которые эта инновация на самом деле будет фрустрировать (см.: Goodenough, n. d.; Paul, 1955; Mead, 1955; Spicer, 1952).
Следующим препятствием для принятия нововведений в большинстве обществ-реципиентов является наличие групп с разными материальными интересами, недовольствами и амбициями. Американская антропология в силу существующей в ней тенденции (формированию которой отчасти способствовала на раннем этапе своей работы школа «культуры-и-личности») сосредоточивать внимание на поведенческой гомогенности, причем даже в сложных обществах, испытывала некоторые трудности, мешавшие ей всерьез заняться интрасоциетальными группами. Британская социальная антропология, которая ставила в центр внимания взаимодействие между социальными сущностями, такими, как родственные группы, корпорации и т. д., иногда, как казалось американцам, пренебрегала «психологическими» процессами. Континентальные науки о человеке идут еще дальше: опираясь на вековую традицию интенсивного интереса к конфликту между заинтересованными группами, особенно общественными классами, европейский социальный ученый, похоже, обитает в мире мистически абстрактной межгрупповой динамики, в котором общественные классы сталкиваются друг с другом, плетут заговоры и контрзаговоры, подобно огромным теням на гигантском экране. Однако для теории культуры и личности в высшей степени важно, чтобы антропологи восприняли и использовали при определении хода культурного изменения британские и европейские открытия, касающиеся динамической роли групповых лояльностей, идентификаций и интересов. То, что в связи с аккультурацией мы можем показать наличие систематических групповых дифференциалов, даже в небольших обществах (см.: Spindler, 1955), – это, разумеется, важный первый шаг. Полезно также указать, как часто делалось в прикладной антропологии, что имущественные интересы одного индивида или группы могут оказаться под угрозой вследствие нововведения, способствующего обогащению другого; результатом этого обычно становится отвержение нововведения одним, принятие его другим и обоюдно деструктивный конфликт между обоими (иногда переносимый на донора). Между тем, дело отнюдь не ограничивается этой общенаблюдаемой поляризацией общества на фракции, настроенные более или менее решительно «за» или «против» того или иного предлагаемого нововведения. Главное здесь то, что многие общества, особенно более сложные, имеют свойство сохранять на протяжении длительных промежутков времени две основные костелляции заинтересованных групп независимо от предлагаемого извне нововведения. Эти две группы Карл Маннгейм (социолог, чей метод анализа является по существу антропологическим) назвал сторонниками идеологии и сторонниками утопии. Идеология – это консервативное мировоззрение, рационализирующее, выражающее и поддерживающее существующую социокультурную систему, которой довольны некоторые члены общества. Утопия, со своей стороны, – это революционное мировоззрение, рационализирующее, выражающее и поддерживающее попытки трансформировать существующую социокультурную систему, с тем чтобы принести большее удовлетворение недовольным. Согласно традиционной точке зрения маннгеймовской школы, во взаимной борьбе этих двух мировоззрений возникнет их синтез, который станет идеологией господствующего класса на следующей фазе диалектического процесса (см.: Mannheim, 1936).
Значимость для аккультурационной теории этой интрасоциетальной борьбы между идеологией и утопией состоит в том, что реакция утопического мышления на предлагаемое нововведение не будет основываться на соображениях относительно его функциональной приемлемости в существующей социокультурной системе. Стало быть, «утопическая» реакция будет отлична от реакции консерватора не только в силу различия поведенческих систем этих двух групп, но и в силу их различающейся временной ориентации. Функциональные расчеты утописта будут требовать оценки полезности нововведения для разрушения существующей системы (т. е. его негативной ценности для оппонентов) и его ценности для лучшего будущего мира. Таким образом, нововведение, максимально ровное вписывание которого в существующую систему искусно просчитывается, может парадоксальным образом отвергаться утопической фракцией, и именно ввиду ее превосходной адаптации к текущему статус-кво. Еще одним следствием фракционного деления становится то, что нововведения – совершенно независимо от рационально рассчитанных оценок их функциональной ценности – могут становиться символами членства в социальной группе. Если членство в данной группе оценивается положительно, нововведение может оцениваться исключительно исходя из его соответствия «внутренней» ценности группы; и наоборот, если его принятие означает идентификацию с «вражеской» или «низшей» группой, индивид, который его принимает, должен отвергнуть ту группу, к которой он принадлежит, либо она должна его отвергнуть. J^-образ и самооценка индивида непоколебимо зависят от его представления о своей приемлемости для референтной группы, с которой он себя отождествляет; а следовательно, нововведения, во всех иных отношениях безупречные, могут приниматься довольно трудно, когда принятие предполагает идентификацию с негативно оцениваемым донором.
Обсудив разные характеристики реципиентов, оказывающие влияние на вероятность принятия или отвержения нововведения, мы должны теперь перенести наше внимание на другую группу факторов. Этими факторами являются разные типы и степени давления, которое в процессе предложения может оказывать на реципиента донор для обеспечения гарантии того, что реципиент примет или отвергнет данное нововведение. Редко бывает, чтобы донору была безразлична реакция реципиента; обычно у донора есть свои интересы, которым будет служить либо принятие реципиентом данной инновации, либо ее отвержение. Эти интересы донорской группы крайне разнородны и колеблются в диапазоне от честной заботы о благосостоянии общества-реципиента и просвещенного своекорыстия до чисто эгоистических целей экономического, военного или политического характера. Обычно разные мотивы донора смешиваются – либо в одном и том же человеке, либо в кругу разных представителей общества-донора. Кроме того, один донор может быть заинтересован в гарантированном отвержении «даров» другого донора: например, квакеры-миссионеры настойчиво пытались убедить американских индейцев внять их призывам отвергнуть такие предлагаемые нововведения, как виски, одновременно оказывая содействие принятию плуга, прялки и ткачества.
Методы, используемые донором, обычно включают предложение нововведения реципиенту в таких условиях, которые предполагают, что его принятие будет вознаграждено, а несогласие принесет одни разочарования. В грубой и примитивной форме это означает, что либо реципиента открыто обворовывают, либо ему открыто угрожают. При более мягких подходах интересы донора могут удерживаться в тайне, а парадигма подкрепления преподноситься таким образом, чтобы вознаграждения не выглядели как влекущие за собой жертвование другими интересами, а угрозы не отсылали открыто к каким-либо наказательным действиям донора, а лишь указывали на нежелательный ход событий. Дескать, при данных обстоятельствах эти события неизбежны и произойдут независимо от интересов донора. Американская прикладная антропология, как подчеркивает Гудинаф (п. d.), проявляет интерес к непринудительному «сотрудничеству в изменении», которое для большинства американцев этически более привлекательно и зачастую более эффективно. Вместе с тем, несмотря на этическое предпочтение непринудительных методов свободного выбора, просвещения и взаимопомощи, теоретики не должны быть слепы в отношении того факта, что большинство обществ, в том числе наше, часто прибегают к принудительным методам, когда методы убеждения не срабатывают в силу скрытого мотива принуждения, лежащего за предложением донора. Вся история религиозных войн, политических революций, классовых, кастовых и этнических конфликтов, миссионерских предприятий, дискуссий вокруг общественного здравоохранения и гражданских прав, а также многих других межгрупповых напряженностей свидетельствует о той готовности, с какой донорские группы прибегают к более или менее суровым принудительным мерам, призванным заставить реципиента принять нововведения, когда донор считает это принятие необходимым для удовлетворения своих нужд. Методы принуждения можно рассматривать в континууме суровости – от минимальной суровости до наивысшей. На минимальном полюсе находится, разумеется, пограничный случай: бесстрастное предложение. В данном случае нововведение вообще может быть предложено ненамеренно; реципиентная группа имеет свободу выбирать, принять его и отвергнуть; и реакция будет полностью определяться ценностями и функциональным значением самого нововведения для реципиентного общества. Далее следуют методы миролюбивой подачи примера – убеждение, переговоры и сотрудничество, – подробно проанализированные Гудинафом (п. d.). В этом случае донор осторожно пытается установить в процессе изменения такие взаимовыгодные связи, в которых бы на долговременной основе получали удовлетворение интересы и мотивы обеих сторон. Донор может предложить некоторую сумму миролюбивых аргументов и просвещения, в которых не подразумевается никакой угрозы и вообще нет намерения угрожать. Более суровым является целенаправленное применение угрозы. В данном случае используется, в конечном счете, такая формула: «Прими (или отвергни) это нововведение, иначе будешь лишен возможности удовлетворить некоторую потребность». Грозящие адским пламенем и проклятием проповедники, политические властелины, а иногда даже друзья и союзники склонны обращаться к этому методу, когда более мягкие методы оборачиваются неудачей. Часто пользуются этим средством и коммерческие рекламодатели, пытающиеся заставить принять свой продукт целевую группу: тем, кто его не покупает, угрожают потерей друзей, работы, здоровья и сексуального удовлетворения, если они не купят предлагаемое им мыло, дезодорант, зубную пасту, ликер, косметическое средство для укладки волос, парфюм, да и вообще все что угодно. Столь же непосредственным является применение массового внушения путем заманивания целевого населения в такую среду в которой оно не сможет избежать монотонного повторения по многочисленным каналам и многочисленными ораторами одного и того же предложения. Такое внушение чрезвычайно эффективно для достижения массового принятия таких форм поведения, которые в условиях свободного выбора были бы решительно отвергнуты индивидами, составляющими общество. И наконец, самое суровое средство из всех – это использование методов наподобие физических пыток и изнурения, приводящих мишень воздействия в такое психофизиологическое состояние, в котором принятие нововведения становится почти автоматическим. Сарджент (1957) видит в этом процессе обращения, или «промывки мозгов», действие, по Павлову, «парадоксального» и «ультрапарадоксального» способов обусловливания.
В свете вышесказанного очевидно, что предсказание принятия или отвержения группой предложенного ей нововведения будет определяться балансом некоторого множества сложным образом взаимосвязанных негативных и позитивных психологических валентностей, присутствующих в индивидуальных лабиринтных структурах членов группы. Индивид должен – сознательно или нет – просчитывать сумму организационных издержек и выгод, которую принесет принятие, и сумму организационных издержек и выгод, которые принесет отвержение. Если итоговая сумма всех издержек и выгод положительна, нововведение будет принято. Ценности, включенные в такие расчеты, будут, в конечном счете, личными (даже если их распределение в обществе может быть культурным фактом), и, следовательно, стороннему наблюдателю будет трудно произвести их оценку. Тем не менее, знание ценностного экрана, создаваемого этосом, национальным характером или модальной личностью, функциональной структуры текущей психологически реальной культуры населения, векторов нативизма и утопизма, а также природы принуждения (если таковое есть), используемого в предложении, позволит дать необходимую оценку вероятности группового принятия. Групповое принятие или отвержение могут, однако, быть не совсем единообразными, учитывая разные интересы подгрупп в отношении нововведения. Следовательно, имеет тенденцию развиваться долгий процесс интрасоциетального взаимодействия, в ходе которого каждая подгруппа пытается оказывать влияние на другие, а каждая обособленная стадия повторяет описанный выше процесс.
Типы процессов культурного изменения
Обычно антропологи рассматривают культурное изменение либо на очень больших промежутках времени (макровременное изменение), либо на очень малых (микровременное изменение). Макровременные процессы часто относят к категории культурной эволюции или диффузии; микровременные процессы идут под такими рубриками, как нововведение, аккультурация и нативистское движение.
Макровременные процессы
Исследования макровременных процессов культурного изменения, охватывающих собою сотни или тысячи лет, обычно строятся на допущении, что «человеческую природу», что бы она собой ни представляла, следует трактовать как постоянный параметр культурной функции и, следовательно, можно игнорировать при решении всех практических задач. Всем четырем основным моделям макровременных процессов присуща общая безличность, лишь изредка нарушаемая соображениями о человеческом организме как переменном факторе, содержащимися, например, в работах Эйсли (1958) и Энджела (1960).
Колебательная модель
Культурно организованные общества иногда сравнивали с организмами, имеющими наследственные предрасположения, живущими в воздействующей на них среде и проходящими в своем развитии через различные стадии – рождение, возмужание, зрелость, старение и смерть. Случайности, подстерегающие их на этом пути, трактуются как воспитание, воспроизводство, травма, болезнь, выздоровление и т. д. Хотя такое историографическое применение организмической аналогии, равно как и другие ее применения, уязвимо для критики, эта модель все-таки подвигла многих ученых к проведению и интерпретации эмпирических исследований. А потому можно сказать, что она удовлетворяла минимальному требованию, предъявляемому к добротной научной модели: требованию воодушевлять на исследования. Особенно горячий отклик модель жизненного цикла встретила среди тех гуманистически ориентированных антропологов, историков и философов, которые размышляли о росте, расцвете и упадке высоких цивилизаций классической древности; но в принципе она применима к любому обществу. Как правило, эта модель предполагает более или менее сложное колебание показателей культурной организации. По сути, именно представление о более или менее регулярном колебании в уровне культурной организации на больших или меньших отрезках времени является важной характерной особенностью этой модели; организмическая аналогия – всего лишь средство передачи идеи колебания.
Эволюционная модель частичного упорядочения
Этнологи девятнадцатого столетия считали, что очень большую долю этнографических данных можно организовать в частичные упорядочения, которые бы представили один эволюционный ряд. Термин «однолинейная эволюция», применяемый в отношении этих теорий, выводится из следствия, вытекающего из этой модели частичных упорядочений, состоящего в том, что любое общество, чтобы изменяться и переходить из одного состояния в другое, должно последовательно проходить через все промежуточные точки в определенной шкале состояний. Так, согласно этой модели, общества, пребывающие в состоянии i, должны были пройти в указанном порядке через состояния 1, 2… i-2, i-1. В этом смысле их эволюция и была однолинейной. Например, Тайлор (р. 20, 23–25) писал:
«В целом оказывается, что повсюду, где бы ни обнаруживались развитые искусства, тайные знания, сложные институты, наличествуют результаты постепенного развития от ранней, более простой и более грубой жизни. Ни одна стадия цивилизации не возникает сама собой, но вырастает или развивается из стадии, ей предшествующей. Это великий принцип, которого каждый ученый должен твердо придерживаться, если намеревается понять мир, в котором он живет, или историю прошлого… Человеческую жизнь можно условно разделить на три большие стадии: Дикую, Варварскую, Цивилизованную… Насколько позволяют судить факты, цивилизация в мире, по-видимому, и в самом деле развивалась через эти три стадии».
В ходе более подробного обсуждения Тайлор указывает, что варварскую или дикарскую родословную имеет не только цивилизация вообще, но и такие конкретные цивилизованные общества, как викторианская Англия, Древний Египет и Вавилон. Хотя позднее более релятивистски мыслящие антропологи признали, что по шкале располагается гораздо меньшее число культурных элементов и что многие из них располагаются по шкале только при особых значениях различных параметров – таких, как экологический и культурный ареал, – центральная идея об эволюции как частичном упорядочении, соотносимом со временем, продолжала пользоваться признанием. В новейших исследованиях Уайта и его коллег (см. особенно: Sahlins and Service, 1960) были выделены важные черты однолинейной точки зрения, во многом подпадающие под ту же критику, которая в прошлом была направлена против «эволюционизма». Было проведено различие между «специальной эволюцией» (историей филогенетических последовательностей) и «общей» эволюцией (частичным упорядочением первых проявлений основных культурных нововведений). Частичное упорядочение событий в общей эволюции не обязательно соответствует частичному упорядочению событий во всех, кроме одной, филогенетических последовательностях; кроме того, ввиду эффективности культурной диффузии каждая отдельная филогенетическая последовательность не обязательно должна быть локализована (и фактически не локализуется) в границах одной социальной или географической единицы.
Стохастическая эволюционная модель
В понятии частичного упорядочения имплицитно содержится представление о том, что система, находящаяся в состоянии i, может перейти в одно и только одно следующее состояние j. Это ограничение делает модель частичного упорядочения идеальной для предсказания направления изменения (хотя и не предсказывающей, произойдет или нет это изменение). При некоторых проблемах, однако, невозможно оправдать применение такой жесткой схемы; можно лишь желать установить вероятности движения системы, находящейся в состоянии i, в альтернативные состояния j1, j2…, jm. Такие вероятностные процессы иллюстрируются эволюцией систем родства (как в трактовке Мёрдока (1949)), и – хотя антропологи, как правило, этого не делают – их можно концептуализировать как эволюцию периодических и непериодических стохастических процессов (в частности, марковских). Стохастический процесс есть множество событий, связанных друг с другом таким образом, что вероятность появления в ряду любого события в качестве следующего обусловлена тождеством предыдущего события или событий. Мердок прежде всего эмпирически доказывает, что между категориями социальной структуры существуют некоторые значимые статистические взаимосвязи; в частности, некоторые характерные черты родства влекут за собой другие. Например, в обществах с экзогамными половинами дочь брата отца обычно обозначается тем же термином, что и жена брата жены, а в обществах, где экзогамные половины отсутствуют, – другим термином. Однако наряду с этими статическими связями существуют также динамические связи в форме правил, устанавливающих, в каком порядке изменяются три параметра социальной структуры – правила определения местожительства, тип наследования и тип терминологии родства – и каковы вероятности изменений в значениях этих трех параметров. Кроме того, Мердок неявно предполагает, что данные правила постоянны на больших промежутках времени и что, стало быть, процесс «неизменен». Из этого в свою очередь вытекает – через гипотезу последовательных состояний, – что независимо от того, какими были первоначальные частоты появления разных типов социальной организации, эти типы постепенно будут принимать достаточно фиксированную относительную частоту появления в человеческих культурах. Гипотеза последовательных состояний утверждает, что, как только устанавливается некоторый набор правил, универсум событий – независимо от первоначального распределения состояний – более или менее быстро (скорость зависит от законов статистического процесса и от частоты событий изменения) приходит к единому асимптотическому равновесному распределению состояний. Можно, разумеется, усомниться, действительно ли «законы», определяющие процесс, постоянны на сколь угодно большом промежутке времени; однако даже при условии лишь временного постоянства закона данная теория предполагает, что крупные изменения в распределении типов социальной организации во всемирном масштабе могут происходить в течение относительно небольшого отрезка времени.
Модель «эпоха-ареал»
Диффузию культурного содержания (с модификацией или без) из одного общества в другое, если рассматривать ее в самом широком плане, иногда удобно отнести к так называемой модели «эпоха-ареал». Для каждого отдельного элемента, а часто и комплекса элементов можно расположить данные на карте так, чтобы прорисовался центр диффузии, окруженный (по крайней мере, теоретически) концентрическими кругами, представляющими границы распространения данного элемента в последовательные промежутки времени. Очевидно, что итоговое концентрическое распределение будет упорядочено (опять-таки, упорядочено на самом деле частично) таким образом, что относительная древность существования элемента в том или ином ареале будет идеально коррелировать с ранговым порядком его географической удаленности от центра распространения.
Этот метод широко использовался в анализе распределения данных физическими антропологами, археологами и этнологами, применявшими его с целью реконструкции длительных исторических процессов и анализа межгрупповых связей (например, в дифференциалах «народный-городской»). В настоящее время он, однако, значительно менее популярен по сравнению с эволюционными, собственно историческими и микровременными моделями ввиду сложности отделения процессов, заключенных в самой «диффузии», от чисто картографических синтезов (см.: Hodgen, p. 116–121, где критически обсуждаются модель диффузии и модель «эпоха-ареал»).
Микровременные процессы
В исследованиях процессов изменения, охватывающих относительно небольшие промежутки времени – порядка нескольких (немногих числом) поколений или меньше, – удобнее пользоваться личностными конструктами. Не пытаясь разработать сложную типологию, мы рассмотрим только две категории таких процессов: процессы подвижного равновесия и процессы возрождения. Эти два типа важны для нас здесь постольку, поскольку их можно вывести из психологических рассуждений, представленных в последнем параграфе.
Процессы подвижного равновесия
О культуре при определенных условиях можно сказать, что она на протяжении некоторого периода времени является открытой системой, находящейся в состоянии стабильного, но подвижного равновесия: иначе говоря, она сохраняет свои очертания, принимает входы и производит выходы с примерно одинаковой скоростью и изменяется непрерывно, но постепенно в своей внутренней структуре. Входы в данном случае представляют собой принимаемые инновации, усваиваемые посредством нововведений, аккультурации или диффузии; выходы – отторгаемые элементы культуры. Степень организованности системы (являющаяся результатом ее сложности и упорядоченности) остается относительно постоянной либо медленно возрастает или понижается.
В условиях подвижного равновесия культурное изменение обладает рядом особенностей, некоторые из которых мы в этой главе уже обсудили. Прежде всего, ход изменения выглядит как последовательный ряд принятий и отторжений. Скорость его может быть относительно большой или малой, а сами изменения – крупными или незначительными; однако благодаря упорядоченной поступенчатой замене и перегруппировке частей происходит трансформация структуры. В силу феномена психологического экранирования и структуры функциональных интересов разные сегменты культуры будут обладать разной степенью восприимчивости к изменению. Вследствие этого будут возникать такие явления, как относительно частые изменения в областях так называемого культурного фокуса и относительно редкие изменения в областях культурного отставания. Кроме того, в силу наличия в любом обществе разных заинтересованных групп, реакции на любое предлагаемое нововведение будут различаться. Весьма обычным в отношении любых нововведений будет возникновение фракций принятия и отвержения. Те, кто обыкновенно благоволит нововведениям в «отстающих» областях культуры, будут характеризоваться как радикалы (утописты); те, кто противится нововведению даже в «фокусных» областях, будут характеризоваться как консерваторы. Совершенно очевидно, что чем сложнее культура, тем выше вероятность систематических интрасоциетальных различий в установках по отношению к предлагаемым нововведениям (даже в условиях равновесия), и тем труднее происходит общее принятие изменений. Эти трудности, в свою очередь, можно рассматривать как основную проблему политической организации в быстро изменяющихся сложных обществах. Для решения этой проблемы необходимы в той или иной форме конституционный демократический политический процесс и слаженное управленческое планирование: конституционный демократический процесс – для того, чтобы обеспечить адекватную коммуникацию, общественное доверие и приемлемый баланс выгод и ущербов для разных заинтересованных групп; а слаженное управленческое планирование – для того, чтобы не допустить крайних и неконтролируемых колебаний, непредвиденных функциональных блокировок и чрезмерной медленности или спорадичности изменения.
Процессы возрождения
В предшествующей дискуссии скрыто присутствовало допущение, что даже в периоды стабильного подвижного равновесия социокультурная система подвержена незаметным, но измеримым колебаниям в степени организации. Однако время от времени большинство обществ переживает и более неистовые флуктуации. Такие флуктуации особенно значимы в культурном изменении, поскольку часто находят кульминацию в сравнительно внезапном изменении всего культурного гештальта. Здесь мы обращаем свой взор к движениям возрождения, которые определяем как целенаправленные и организованные попытки некоторых членов общества сконструировать более удовлетворяющую их культуру посредством быстрого принятия образца (pattern) множественных нововведений (см.: Wallace, 1956с; Mead, 1956).
Серьезная дезорганизация социокультурной системы может быть вызвана воздействием любой силы или комбинации сил, которые выводят систему из равновесия. Некоторыми из этих сил являются: изменения климата или фауны, подрывающие экономическую основу ее существования; эпидемии, колоссально изменяющие структуру населения; войны, истощающие человеческие ресурсы общества или приводящие к поражению и вторжению врага; внутренний конфликт между заинтересованными группами, приводящий к тому, что по меньшей мере одна группа оказывается в крайне ущемленном положении; и, что очень типично, ощущение подчиненности и неполноценности в отношениях с соседним обществом. Последнее, в большей или меньшей степени используя принуждение (или даже вообще без принуждения, как, например, в таких ситуациях, когда сам пример доминантного общества вызывает завышенный уровень устремлений), побуждает к некоординированным культурным изменениям. В условиях дезорганизации система, по крайней мере с точки зрения некоторых ее членов, неспособна обеспечить возможность надежного соблюдения некоторых ценностей, считающихся существенно важными для сохранения благополучия и самоуважения. Лабиринтная структура разочаровавшегося в культуре человека представляет собой, соответственно, образ такого мира, который либо непредсказуем, либо убог в своей простоте, либо и то, и другое. Настроением такого человека (в зависимости от конкретной природы дезорганизации) будет паническая тревога, стыд, вина, депрессия или апатия.
Пример дезорганизации, о которой идет речь, показали две тысячи индейцев сенека, проживавших в конце XVIII в. на территории штата Нью-Йорк. У этого народа высшая ценность придавалась представлению об абсолютно свободном и автономном индивиде, неподвластном тяготам и невзгодам – как своим, так и чужим – и безразличном к ним. Такой индивид был способен полностью отдаваться эмоциональным порывам, но в момент кризиса добровольно подчинял собственные желания потребностям своего сообщества. Этот эго-идеал был центральным в организации личности, особенно у мужчин. Мужчины определяли роли, связанные с охотой, военным делом и политикой, как условия осуществления этой ценности; образами мужского успеха были, таким образом, стереотипы «хорошего охотника», «храброго воина» и «лесного вождя». Однако 43 года – прошедшие с 1754 г., когда началась французско-индейская война, до 1797 г., когда сенека продали свои последние охотничьи угодья и стали жить главным образом в границах крошечных обособленных резерваций, – принесли с собой такие изменения в их ситуации, которые сделали достижение этих идеалов практически невозможным. Хороший охотник не мог более охотиться: дичи было крайне мало, и было почти самоубийственно опасно уходить далеко за пределы резервации посреди многочисленных враждебно настроенных белых людей. Храбрый воин не мог более сражаться, лишенный нормального снабжения и брошенный на произвол судьбы своими союзниками; его женщинам и детям грозила растущая военная мощь Соединенных Штатов. Лесной вождь стал объектом презрения, и это разочарование было, возможно, самым разрушительным из всех. Ирокезским вождям почти столетие удавалось стравливать друг с другом англичан и французов, а затем американцев и англичан, вымогая у обеих сторон продовольствие и гарантии территориальной безопасности. Они поддерживали широкую систему альянсов и гегемонии с окружающими племенными группами. И вот они внезапно оказались лишены своего могущества. Белые люди не отзывались более с уважением о Лиге ирокезов; а их западные индейские вассалы и союзники считали их трусами за то, что они заключили мир с американцами.
Первая реакция сенека на прогрессирующую социокультурную дезорганизацию была квазипатологической: многие стали пьяницами; вырос страх перед колдунами; терзаемые раздорами фракции были неспособны выработать общую политику. Однако в 1799 г. набрало силу движение возрождения, базирующееся на религиозных откровениях, обнародованных одним из разочарованных лесных вождей, неким Благородным Озером, который проповедовал кодекс стандартизированной религиозно-культурной реформы. Распитие виски было объявлено вне закона; предполагалось искоренение колдовства; должны были быть отброшены прочь устаревшие ритуалы и преобладающие грехи. Вдобавок к тому, следовало осуществить разнообразные синкретические культурные реформы, равносильные переориентации социально-экономической системы, в том числе привлечь мужчин к занятию сельским хозяйством (которое было до той поры женским делом) и сконцентрировать родственные обязательства в пределах нуклеарной семьи (вместо клана и линиджа). Общее принятие Кодекса Благородного Озера, произошедшее в считанные годы, принесло чудесные на внешний взгляд перемены. Вместо деморализованных трущоб, затерянных посреди дикой природы, выросла группа трезвых, благочестивых, частично грамотных и технологически современных сельскохозяйственных сообществ.
Такие драматические трансформации, судя по историческим фактам, весьма типичны для человеческой истории и, вероятно, создавали условия не только для культурных изменений, но и для более медленных процессов равновесия. Кроме того, поскольку при этом такие широкие изменения образца втискиваются в столь короткий отрезок времени, зарегистрировать их несколько проще, нежели спокойные последовательные изменения в периоды равновесия. Как правило, процессы возрождения имеют общую процессуальную структуру, которую можно концептуально представить как модель темпорально накладывающихся друг на друга, но функционально отличных стадий:
I. УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ. Это период подвижного равновесия того типа, который был рассмотрен в предыдущем параграфе. Культурное изменение во время устойчивого состояния происходит, но является относительно медленным и постепенным. Уровни стресса различаются для разных заинтересованных групп, происходит некоторое колебание в уровне организации, однако дезорганизация и стресс остаются в терпимых для большинства индивидов границах. Отдельные инциденты нестерпимого стресса могут стимулировать ограниченную «коррекцию» системы; а редкие случаи индивидуальной заболеваемости и преступности воспринимаются как цена, которую общество должно заплатить.
II. ПЕРИОД ВОЗРАСТАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРЕССА. Социокультурная система все более «выводится» из равновесия ранее описанными силами: климатическими и биотическими изменениями, эпидемическими заболеваниями, войнами и завоеваниями, социальным подчинением, аккультурацией и т. д. В этих условиях неспособность системы наладить нормальное удовлетворение потребностей подвергает все большее число индивидов нестерпимому для них стрессу. По мере того как культура начинает восприниматься как дезорганизованная и неадекватная, получают широкое распространение аномия и разочарование; резко возрастает частота преступлений и болезней как индивидуалистических асоциальных реакций. Однако в целом ситуация пока еще определяется как ситуация колебания в пределах устойчивого состояния.
III. ПЕРИОД КУЛЬТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ. Некоторые члены общества предпринимают разрозненные и неэффективные попытки восстановить личностное равновесие посредством принятия для достижения этой цели социально дисфункциональных средств. Алкоголизм, продажность чиновников, «черный рынок», попрание половых и родовых нравов, безудержное накопительство, азартные игры, поиски «козлов отпущения» и аналогичные формы поведения, которые в предшествующий период еще определялись как индивидуальные отклонения, становятся в конце концов институционализированными попытками перехитрить дурные последствия «системы». Заинтересованные группы, теряя уверенность в преимуществах сохранения обоюдно приемлемых взаимоотношений, могут прибегать к насилию, дабы заставить других придерживаться поведения, односторонне выгодного для них. Культурные изменения, происходящие в этот период, в силу своей нескоординированности редко способны смягчить воздействие сил, выведших общество из равновесия, и фактически ведут к непрерывному падению уровня организации.
IV. ПЕРИОД ВОЗРОЖДЕНИЯ. Как только произошла серьезная культурная деформация, обществу становится трудно вернуться в устойчивое состояние, не инициировав в той или иной форме процесс возрождения. Более того, без возрождения общество как система оказывается под угрозой распада: население либо вымрет, либо расколется на автономные группы, либо будет абсорбировано в другое, более стабильное общество. Возрождение зависит от успешного осуществления следующих функций:
1. Формулировка кодекса. Индивид или группа индивидов выстраивают новый, утопический образ социокультурной организации. Эта модель представляет собой копию идеального общества, или «целевой культуры». Целевой культуре противопоставляется существующая культура, которая преподносится как в некоторых отношениях неадекватная или порочная. Связующим звеном между существующей и целевой культурой является переходная культура: это такая система действий, которая, при верном ее проведении, преобразит существующую культуру в целевую. Крушение попытки учредить переходные действия приведет, согласно этому кодексу, либо к увековечиванию существующей нищеты, либо к окончательному разрушению общества (если не всего мира). Нередко такой кодекс или его ядро формулируется каким-нибудь индивидом в процессе галлюцинаторного откровения; такие пророческие переживания обычно кладут начало религиозно ориентированным движениям, поскольку люди склонны считать источником откровения некое сверхъестественное существо. В политически ориентированных движениях обычно обнаруживаются негаллюцинаторные формулировки. В обоих случаях формулировка кодекса составляет реформулировку лабиринтной структуры его автора и часто приносит ему обновленную уверенность в будущем и уменьшение мучений, переживавшихся им раньше.
2. Сообщение. Авторы кодекса проповедуют его другим людям в евангелическом духе. Цель этого сообщения – обратить людей в новую веру. Кодекс преподносится как средство духовного спасения индивида и культурного спасения общества. Обещания благ, раздаваемые целевой группе населения, не обязательно должны быть непосредственными и материалистическими, ибо призыв, заключенный в кодексе, основан на привлекательности идентификации с более высокоорганизованной системой и со всем тем, что из этого вытекает в плане самоуважения. И в самом деле, ввиду широты ценностных изменений, нередко подразумеваемых в таких кодексах, апелляция к принятым ценностям часто была бы бессмысленной. Религиозные кодексы предлагают духовное спасение, отождествление с Богом, статус избранных; политические кодексы предлагают почести, славу, признательность общества за жертвы, принесенные во имя его интересов. Отказ же принять кодекс обычно определяется как действие, ставящее слушателя на грань непосредственного духовного и материального риска в отношении его существующих ценностей. В маленьких обществах целевой группой населения может быть все сообщество; в более сложных обществах посыл может быть направлен на определенные группы, считающиеся подходящими для участия в переходной и целевой культурах.
3. Организация. Кодекс притягивает новообращенных. Мотивации, находящие удовлетворение в обращении, и психодинамика переживания обращения как такового, вероятно, весьма различны и варьируют в диапазоне от ресинтеза лабиринтной структуры, характерного для пророка, и истерической убежденности «истинно верующего» до расчетливой беспринципности оппортуниста. По мере разрастания группы обращенных происходит ее дифференциация на две части: группу учеников и группу массовых последователей. Ученики все более превращаются в руководящую организацию, которая отвечает за осуществление программы благовестия, защиту автора кодекса, борьбу с ересью и т. д. Выполняя эту роль, ученики все более становятся штатными специалистами по выполнению работы своего движения. В этом их экономически поддерживают массовые последователи, которые продолжают играть свои роли в существующей культуре, одновременно посвящая движению часть своего времени и денег. Благодаря харизматическому имиджу автора кодекса трехстороннее отношение между авторами кодексов, учениками и массовыми последователями становится авторитарной структурой, пусть даже в ней и нет формальных черт прежних организаций. Автора считают человеком, на которого снизошли от некоего сверхъестественного существа или из какого-то иного источника мудрости, недоступного массам, высшее знание и высший авторитет, оправдывающие его притязания на беспрекословную веру и послушание последователей.
4. Адаптация. Движение, будучи революционной организацией (сколь бы благими и гуманными ни были высшие ценности, под которыми оно подписывается), ставит под угрозу интересы любой группы, которая получает выгоды – или считает, что получает выгоды – из сохранения или умеренного реформирования статус-кво. Кроме того, кодекс никогда не бывает завершенным; в существующей культуре постоянно обнаруживаются новые неадекватности, да и в самом кодексе открываются новые несоответствия, ошибочные предсказания и двусмысленности (на некоторые из последних указывает оппозиция). Авторы кодекса и ученики отвечают на это переработкой кодекса, а если необходимо, защитой движения – с помощью политического и дипломатического маневра и, в конечном счете, применения силы. Общая тенденция такова, что кодексы постепенно ужесточаются, а окраска движения становится все более нативистской и враждебной как по отношению к членам общества, не участвующим в движении, которые в конечном счете определяются как «предатели», так и по отношению к «национальным врагам».
5. Культурная трансформация. Если движению удается привлечь на свою сторону значительную часть местного населения, а также – в сложных обществах – аппарат, имеющий решающее функциональное значение (в т. ч. энергетические и коммуникационные сети, водоснабжение, транспортные системы и военный истеблишмент), то в этом случае может быть приведена в действие переходная культура, а в некоторых случаях даже и целевая. Возрождению, при условии его успеха, будут сопутствовать радикальное уменьшение квази-патологических индивидуальных симптомов аномии и исчезновение культурных деформаций. Однако чтобы такое возрождение осуществилось, движение должно суметь уберечь свои границы от вторжения извне, быть в состоянии достичь без деструктивного принуждения внутренней социальной конформности и иметь успешно работающую экономическую систему.
6. Рутинизация. Если вышеназванные функции удовлетворительным образом выполняются, функциональные причины существования движения как инновационной силы исчезают. Переходная (или целевая) культура начинает работать, причем непременно при участии большой доли населения сообщества. Хотя лидеры движения могут сопротивляться осознанию этого факта, функция движения переключается с роли нововведения на роль сохранения. Если движение было по своей ориентации преимущественно религиозным, в наследство от него остается культ церкви, которая оберегает и перерабатывает кодекс и поддерживает с помощью ритуала и мифа публичное понимание истории и ценностей, вызвавших к жизни новую культуру. Если движение было прежде всего политическим, его организация рутинизируется в различные стабильные функции, связанные с принятием решений и поддержанием морального духа и порядка (в число таких функций входят административные должности, полицейские и военные учреждения). Может в некоторой степени рутинизироваться и харизма, однако мощь ее ослабевает по мере все более очевидного устаревания ее функциональной необходимости.
V. НОВОЕ УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ. Когда движение рутинизируется, можно говорить о наличии нового устойчивого состояния. Процессы культурного изменения продолжаются в рамках устойчивого состояния; многие из них происходят в тех областях, где движение сделало вероятными дальнейшие изменения. В частности, перемены в ценностной структуре культуры могут закладывать основу для последующих долговременных изменений (например, длинной цепочки экономических и технологических последствий распространения протестантской этики после протестантской Реформации). Таким образом, в добавление к изменениям, которые движение производит в своей активной фазе, оно может также контролировать направление последующих равновесных процессов, изменяя ценности, определяющие культурный фокус. Документальная история самого движения подвергается с течением времени искажению и оседает в мифах и ритуалах, превозносящих произошедшие события и возводящих их героев в квазибожественный или даже в буквальном смысле божественный статус.
Особое значение в процессе возрождения играют, судя по всему, два психологических механизма: ресинтез лабиринтной структуры (Wallace, 1956а, 1956b) и истерическое обращение. Наиболее драматичный пример указанного ресинтеза дает карьера пророка, который формулирует новый религиозный кодекс в галлюцинаторном трансе. Как правило, такие лица, пережив катастрофическое падение самооценки вследствие собственной неадекватности для достижения идеальных стандартов культуры, доходят до такого уровня физического или наркотического истощения, при котором происходит ресинтез ценностей и верований. Этот ресинтез, подобно иным инновациям, представляет собой новую комбинацию ранее существовавших конфигураций; уникальность этого особого процесса состоит во внезапности убеждения, трансовом состоянии субъекта и эмоциональном сосредоточении на заново синтезированном содержании. Есть основания подозревать, что такие драматичные ресинтезы зависят от особой биохимической среды, сопровождающей «стадию истощения» в стрессовом синдроме (в том смысле, в каком употреблял этот термин Селье), или аналогичной среды, создаваемой наркотическими веществами. Однако в ряде случаев похожие ресинтезы происходят медленнее и без каталитического содействия крайнего стресса или наркотических препаратов. По всей видимости, такого рода ресинтез производит перманентное преобразование лабиринтной структуры: из материала прежних конфигураций, которые, будучи разобранными, уже не могут вновь с готовностью сложиться в старые формы, выстраивается новая устойчивая когнитивная конфигурация.
Истерическое обращение более типично для массового последователя, постоянно подвергаемого внушению со стороны харизматического лидера и возбужденной толпы. Новобранец этого типа может проявлять в процессе обращения различные виды диссоциативного поведения (ярость, несвязность речи, катание по земле, рыдания и т. д.). После обращения его внешнее поведение может находиться в полном согласии с тем кодексом, воздействию которого он подвергся. Однако изменение в его поведении произошло не в силу радикального ресинтеза, а в силу принятия им под влиянием внушения дополнительной социальной личности, которая временно замещает, но не разрушает старую. Он остается в некотором смысле множественной личностью и, стоит лишь изолировать его от воздействия подкрепительных символов, вновь превратится в прежнюю социальную личность. Известным примером этого типа обращенного является участник линчующей толпы или сторонник возрождения богослужений на открытом воздухе. Между тем, удерживать людей в состоянии истерического обращения можно месяцы и даже годы, если постоянно поддерживать «транс» символической средой (флагами, статуями, портретами, песнями и т. д.) и непрерывным внушением (речами, массовыми сборищами и т. д.). Наиболее знакомый пример из наших дней – немец времен правления Гитлера, который участвовал в нацистской программе геноцида, но вернулся к Gemutlichkeit12*, когда война закончилась. Разница между ресинтезированным человеком и обращенным кроется не в природе тех кодексов, под которыми они подписываются (они могут быть одними и теми же), а в податливости и готовности истерического обращенного вернуться в прежнее состояние, которая коренным образом отличается от почти параноидальной увлеченности и неподатливости ресинтезированного пророка. Благодаря своей способности непрерывно поддерживать внушение на протяжении многих лет успешное движение может сколь угодно долго удерживать истерического обращенного в своей власти и даже осуществить в нем реальный ресинтез, настойчиво заставляя его после истерического обращения переоценивать прежние ценности и представления и продвигаться к прочному ресинтезу иногда в условиях сильного стресса. Китайские коммунисты, например, явно разочаровались в истерических обращениях и использовали различные методы достижения надежного ресинтеза – частично принудительные, частично нет, – которые в западной литературе обычно смешиваются в кучу под рубрикой «промывки мозгов». Цель этих коммунистических методов, равно как и методов институционализированных религий, состоит в том, чтобы создать «нового человека», в буквальном смысле слова.
Значимость этих двух психологических процессов для культурного изменения переоценить невозможно, ибо именно они делают возможной быструю замену старого культурного гештальта новым, а, стало быть, и быструю культурную трансформацию целых народов. Без этого механизма не могло бы произойти ни культурного изменения коммунистами 600-миллионного народа Китая, ни коммунистического возрождения и экспансии СССР, ни американской революции, ни протестантской Реформации, ни роста и распространения христианства, мусульманства и буддизма. В письменной истории человечества движения возрождения начинаются с катастрофической, в конечном счете, попытки Эхнатона установить новую монотеистическую религию в Египте; они обнаруживают себя на всех континентах, в истории всех человеческих обществ, проявляясь с частотой, пропорциональной давлениям, которым подвергается общество. В малых племенных обществах, хронически находящихся в экстремальных ситуациях, такие движения могут вспыхивать каждые десять-пятнадцать лет; в стабильных сложных культурах движения, охватывающие собою все общество, могут проявляться раз в двести-триста лет.
Учитывая частоту и географический разброс движений возрождения, можно ожидать, что их содержание будет чрезвычайно изменчивым, соответственно разнообразию тех ситуационных контекстов и культурных условий, в которых они развиваются. Основные культурные ареалы на протяжении долгих периодов времени ассоциировались с особыми типами таких движений: Новая Гвинея и Меланезия во второй половине ХГХ и XX столетии были областью распространения широко известных «культов карго». Наиболее примечательной чертой этих культов является ожидание того, что в скором времени на пароходе, везущем груз белого человека, прибудут предки и возглавят нативистскую революцию, пиком которой станет изгнание европейских господ. Индейцы восточной половины Южной Америки еще столетия спустя после покорения континента европейцами уходили на поиски terre sans mal13*, где думали найти утопический образ жизни, без испанцев и португальцев; североамериканские индейцы XVIII–XIX вв. тяготели к таким движениям возрождения, как Танец Духов, приверженцы которого верили, что соблюдение надлежащего ритуала и избавление от грехов белого человека принесут возвращение Золотого века, который был до контакта с европейцами; Южная Африка была родиной сотен небольших воодушевленных сепаратистских церквей, вырвавшихся на свободу из уз миссионерских организаций. Как и можно было ожидать, существует явная конгруэнтность между культурным Anlage14* и содержанием движения, которая – вместе с процессами непосредственной и стимульной диффузии – объясняет тенденцию движений к распадению на ареальные типы.
Отторжение элементов культуры, культурная стабильность и реакция на культурную утрату
В представленном выше обсуждении нововведения, мы не обращались напрямую к процессу отторжения элементов культуры. В то время как инновационный процесс в значительной степени кумулятивен – в том смысле, что к существующему древу прирастают новые конфигурации, – обычно параллельно протекает и связанный с ним процесс удаления элементов: по мере добавления нового содержания старое отбрасывается. Там, где мотивом нововведения служит явно выраженное недовольство старой конфигурацией, оба процесса часто настолько тесно спаяны друг с другом, что связь между ними не представляется проблематичной. Так, например, в городских ареалах внедрение электрического освещения связано с отказом от керосиновых ламп. Однако время от времени антрополог сталкивается с такими случаями, когда общество отторгает культурные элементы или даже основные гештальты без принятия какой-либо зримо превосходящей их замены. Кроме того, он сталкивается с многочисленными обстоятельствами, в которых его изобретательность в области функционального анализа достигает своего предела – а то и вовсе оказывается бессильной – в деле объяснения того, почему люди отказываются отвергнуть некоторые компоненты их культурной системы, которые, с той или иной теоретической точки зрения, должны быть отброшены. Выходит, культуры обладают такой стабильностью, которую трудно объяснить простыми психологическими принципами вроде закона эффекта. И наконец, с тех пор как сформировался серьезный интерес к психологии аккультурации, антрополога интересовали психопатологические реакции людей на непредусмотренную и непреднамеренную культурную утрату. И действительно, как мы уже отмечали в предыдущей главе, теория культуры-и-личности питала нескрываемый интерес к разрушительному «влиянию» культурного изменения на структуру личности.
Классическими случаями отторжения элементов культуры должны, по-видимому, служить те необъяснимые периоды упадка, которые поразили такие великие цивилизации, как Римская империя, Греция и имперская Испания. Трудно объяснить такие явления функциональными аргументами, не постулировав при этом ущербность какого-нибудь компонента, неработоспособность которого приводит в движение цепочку функционально неизбежных катастроф, увенчивающихся в конце концов коллапсом системы. Но где искать эту ущербность? Здесь историки, предающиеся спекулятивным рассуждениям, могут ссылаться как на источник этой ущербности на все что угодно, от падения производства сена до равенства женщин и генетического инбридинга. Однако такие партикуляристские спекуляции часто убедительны не более, чем метафизические апелляции к закону энтропии или теории циклов. Не всегда возможно обнаружить в таких случаях и некое всеохватное внешнее вмешательство предполагаемого нами типа, которое стимулировало бы довозрожденческий упадок в организации. Фактически, нам остается подозревать (о чем уже говорилось при обсуждении «духа» культур), что не все функционирующие социокультурные системы находятся в состоянии стабильного равновесия и что некоторые из них – а именно их мы сейчас и обсуждаем – пребывают в состоянии постепенно нарастающих колебаний или движутся по экспоненте в отношении того или иного критического параметра; и неизбежным следствием непрерывного действия их внутренних законов становится их смерть. Это соображение побуждает нас высказать предположение, что не только цивилизации в целом, но и (причем, возможно, в большей степени) отдельные институты и обычаи управляются такими процессуальными законами, которые делают неизбежными их устаревание и отбрасывание. Другие подсистемы, особенно экономические, могут быть подчинены другим процессуальным принципам, которые делают их функционирование циклическим. Например, выпуск поощрительных торговых купонов для покупателей в любом отдельном штате США характеризуется цикличностью: сначала идет легализация, потом частичное принятие, затем всеобщее принятие (когда они становятся для всякого хозяина магазина пустой тратой денег, не приносящей никакой выгоды), а далее запрет – и новая легализация.
Однако с психологической точки зрения решающее значение имеет определение той точки в процессе нарастающей дисфункции, когда группа сбрасывает с себя дисфункциональное культурное оснащение. Обычно предполагается, что точка сбрасывания будет расположена где-то после той точки, в которой средний индивидуальный член группы будет осознавать, что сохранение данного института в ближайшем будущем будет стоить ему дороже, чем любая другая альтернатива. Действительное сбрасывание будет, вероятно, происходить по прохождении этой точки, после того, как уважаемые учреждения сообщества выступят с публичным предложением отказаться от соответствующего института. Из антропологической литературы можно почерпнуть такие примеры этого процесса, как отказ от соблюдения табу на Гавайях, предание забвению обременительных религиозных ритуалов потомками майя, проживающими в Гватемале, и искоренение практики пыток у ирокезов XVIII в. Тем не менее, эмоциональная цена отторжения элементов культуры исключительно высока, даже в присутствии их непосредственно узнаваемой функциональной замены. Есть подозрение, что именно высокие психологические издержки самого отвержения (а не продолжающееся закрепление) ответственны за некоторые из замечательных феноменов культурной стабильности. А потому давайте проанализируем эти издержки отбрасывания.
Наиболее драматичное доказательство психологической потребности в сохранении образа культурной преемственности дают поведенческие реакции на катастрофы. Как только происходит внезапное, неожиданное бедствие (например торнадо или атомный взрыв), причиняющее огромный материальный ущерб и влекущее за собой гибель и ранение многих людей, многие выжившие – как раненые, так и оставшиеся целыми и невредимыми – переживают состояние, называемое «синдромом катастрофы». Это такая последовательность поведения, которая может длиться у человека минуты, часы или дни, в зависимости от его конкретных обстоятельств. В первой фазе этого состояния индивид описывается как «ошеломленный», «оглушенный», «погруженный в апатию», «пассивный», «рассеянный». Он способен (в буквальном смысле) совсем не чувствовать боли, почти никак не сознавать свои ранения и серьезность ранений других людей, игнорировать масштабы видимого ущерба. Так, на первой стадии жертвы будут выполнять тривиальные действия, например, подметать крыльцо разрушенного до основания дома или покидать серьезно раненных родственников, чтобы поболтать с соседями. Во второй фазе индивид уже не ошеломлен; он преисполняется патетической энергии, дабы поддержать других и убедиться в том, что знакомые ему люди, строения и учреждения уцелели. Личные потери преуменьшаются; все заботы направлены на подтверждение того, что сообщество осталось в неприкосновенности. На этой стадии людей легко возглавить и сформировать в трудовые команды, однако сами они к руководству не способны. Третьей фазе свойствен несколько эйфорический альтруизм: индивид с энтузиазмом участвует в групповой деятельности, призванной восстановить и реабилитировать сообщество. Как отмечают наблюдатели, всюду, куда ни кинешь взгляд, видны высокий моральный дух и самозабвенная жертвенность. Наконец, когда эйфория проходит, наступает полное осознание долговременных последствий личных и общественных потерь. Жалобы и критика в адрес общественных служб, ссоры с соседями и растерянность перед лицом личной цены катастрофы доходят до полного осознания. Этот синдром постоянно отмечался в периоды, наступающие после природных и военных катаклизмов (Wallace, 1956d; Wolfenstein, 1957), а также в ответных реакциях целевых групп во время культурных кризисов (Reina, 1958).
Теоретическая значимость синдрома катастрофы состоит в том, что крупномасштабные физические катаклизмы представляют собой чистую, почти лабораторную ситуацию культурной утраты. Индивиды, только что надежно пребывавшие в статусе членов развивающегося сообщества с дееспособной культурой, в следующее мгновение лишаются значительной части осязаемых свидетельств существования этой культуры. По сообщению некоторых людей, переживших Вустерское торнадо, первоначально им показалось, что настал конец света. Такое впечатление не должно смутить своей странностью антрополога, ибо оно в некотором смысле достоверно: даже если полного физического разрушения не произошло, понесенный ущерб, выраженный в человеческих и материальных потерях, неизбежно должен, в силу принципа функциональной взаимозависимости, пошатнуть существующий гештальт.
Лишение индивида данностей, подтверждающих его психологический набор, или «лабиринтную структуру», пробуждает разрушительную тревогу, и вслед за тем идет отрицание: индивид виртуально уничтожает осознание повреждений и потерь. Это, по-видимому, сродни таким феноменам, как «отрицание» провоцирующей тревогу сенсорной изоляции с помощью галлюцинаций в широко известных психологических экспериментах; цепочки смятения и отрицания, вызываемые перцептуальным неподтверждением, или «когнитивным диссонансом», проанализированные психологами (Festinger, 1957); отказ смириться со смертью в процессе оплакивания умершего; и вообще невротические страхи перед отказом от не дающей удовлетворения реакции. Психологический принцип, стоящий за всеми этими внешними манифестациями, имеет основополагающее значение для любой теории культурной стабильности и культурного изменения. Можно назвать его Принципом Консервации Когнитивной Структуры: (1) никакое конкретное представление о реальности (в том числе, стало быть, и собственные культурно стандартизированные представления) не будет отброшено индивидом, даже перед лицом непосредственных доказательств его текущей бесполезности, если он не будет иметь возможности сконструировать новую лабиринтную структуру, содержащую или не содержащую представления-заместители, в которой неверное представление не является функционально необходимым компонентом; (2) первое столкновение со свидетельством бесполезности будет пробуждать в индивиде синдром отрицания тревоги, и эта реакция отрицания тревоги может продолжать существовать на протяжении значительного периода времени; (3) индивиду легче отбросить представление, когда предлагаются замещающие представления и модели новых лабиринтных структур, нежели когда отказываться от него приходится «вслепую», в ответ на осознание его бесполезности (см.: Wallace, 1957; Conant, 1951). Из этого принципа вытекает «дилемма неподвижности»: индивиды многие годы будут цепляться за пришедшую в негодность социокультурную систему – в которой события не следуют надежным образом за своими предполагаемыми антецедентами, чтобы не сталкиваться с тревогой, сопряженной с отторжением элементов культуры.
Особенно мучительна эта дилемма в ситуациях аккультурации, когда существует приемлемая альтернативная культурная система, которую группа готова принять, даже ценой отказа от обломков прежней культуры, но не может принять ввиду активного вмешательства «предубежденного» и дискриминационного доминирующего общества. Часто в таких ситуациях к душевным ранам добавляется оскорбление со стороны доминирующей группы, выражающей суровое презрение к неорганизованности подчиненной группы, даже если оно мешает достичь взамен чего-то лучшего. Эмоциональная дилемма индивида, брошенного в такую ситуацию, рождает сильную тревогу, а в придачу к тому еще и квазипатологические механизмы защиты. Он пойман в ловушку: с одной стороны его поджимают стыд за «собственную» изувеченную неупорядоченную систему и недостаточная уверенность в ней, с другой – страх перед тем, что если он отбросит части этой пусть даже и неадекватной культуры, то просто окажется заключенным в границах такого существования, которое не более упорядочено, чем раньше, но значительно для него теснее. Свидетельство ущерба для личности, вытекающего из ситуаций хронической коррозии этого типа, – одна из общих тем литературы по проблеме «культуры-и-личности». Наиболее известны, пожалуй, данные Халлоуэла о личности оджибве в условиях (запоздалой) аккультурации. В серии статей, посвященных сравнению относительно неаккультурированных оджибве, живущих в окрестностях озера Виннипег, с более аккультурированным населением северных районов штата Висконсин (Hallowell, 1955), автор, используя тесты Роршаха и общие поведенческие данные, обнаружил свидетельство того, что частично аккультурированная личность оджибве представляет собой «регрессивную» (т. е. квазипатологическую) версию неаккультурированной личности. Если принять во внимание экономическую неопределенность, в условиях которой протекает жизнь висконсинских оджибве, их относительно низкий социальный статус и присутствие у них стандартной дилеммы неподвижности-ненадежности существующей культуры и отсутствия приемлемой ее замены, то в этом свидетельстве повреждения личности нет ничего неожиданного. Аналогичные открытия были сделаны Кардинером и Оувси (Kardiner and Ovesey, 1951) в отношении американского негра, для которого проблемы культурной и этнической идентификации приобретают первостепенную значимость, даже в плоскости индивидуальной психодинамики. По сути дела, «маргинальный человек» – это идеальный тип, специально сконструированный для обозначения лиц, которые попали в круговорот таких дилемм, неспособны расстаться со старой культурой и вместе с тем, вследствие своего опыта существования в новой, неспособны быть счастливыми и в ней тоже.
Разрешение таких «дилемм неподвижности» в нормальном случае может, по всей видимости, происходить посредством любого сочетания трех процессов: (1) возрождения, (2) ассимиляции и (3) нативизма, или национализма. Мы уже обсудили достаточно подробно возрождение как преднамеренную синкретическую культурную реорганизацию в рамках строго ограниченной социальной группы. Ассимиляция и нативизм (или национализм) без возрождения (хотя движения возрождения могут быть нативистскими, или националистическими) чаще всего случаются в подчиненном обществе, находящемся в ситуации аккультурации. В случае ассимиляции подчиненная группа предпринимает попытку отказаться от своей существующей неадекватной культуры посредством растворения в обществе доминирующей группы и почти полного принятия ее культуры (сохраняя лишь символические остатки своих отличительных культурных черт). Этот курс действий был принят в США, особенно в последние годы, многими американскими неграми. Чистый нативизм, или национализм, не сопровождающийся попыткой возрождения (Ames, 1957), часто принимает воинственный характер и мотивируется желанием избавить группу от присутствия членов доминирующей группы, которые являются источником постоянных вызывающих стыд напоминаний о культурной неполноценности и к тому же производят практическое вмешательство. Примером служит так называемая война Черного Ястреба, произошедшая в 1832 г. в Иллинойсе и Висконсине. Группа согнанных со своих мест и униженных индейцев племен сак, фокс и киккапу под предводительством воина Черного Ястреба в ответ на законы о выселении предприняла попытку сохранить свои поселения на отданной белым территории к востоку от Миссисипи. Их действия были расценены Соединенными Штатами как военное нападение, и группа, состоявшая из тысячи мужчин, женщин и детей, была фактически истреблена. Однако в значительной своей части нативизм, или национализм, не имеет военного характера; он принимает форму упорного идеологического отрицания культурной неадекватности, сопровождаемого уходом и добровольным самозаточением, как это произошло, например, с такими религиозными группами, как аманиты и гуттериты.
Библиография
Ames M.M. 1957. Reaction to Stress: A Comparative Study of Nativism // Davidson Journal of Anthropology. Vol. 3. P. 17–30.
Angel J.L. 1960. Physical and Psychological Factors in Culture Growth // Wallace AF.C. (ed.). Selected Papers of the Fifth International Congress of Anthropological and Ethnological Siences. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Barnett H.G. 1953. Innovation: The Basis of Cultural Change. N. Y: McGraw-Hill.
Beaglehole E. 1949. Cultural Complexity and Psychological Problems // Mullahy P. (ed.). A Study of Interpersonal Relations. N. Y: Hermitage House.
Belo J. 1935. The Balinese Temper // Character and Personality. Vol. 4. P. 120–146.
Benedict R. 1934. Patterns of Culture. Boston: Houghton Mifflin.
Benedict R. 1938. Continuities and Discontinuities in Cultural Conditioning // Psychiatry. Vol. 1. P. 161–167.
Bury J.B. 1921. The Idea of Progress. L.: Macmillan.
Cassirer E. 1946. Language and Myth. N. Y: Dover.
Chomsky N. 1959. Review of VerbalBehaviorhy B. F Skinner // Language. Vol. 35. P. 26–58.
Conant J.B. 1951. On Understanding Science. N. Y: New American Library.
DuBois С. 1944. The People of Alor. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Eiseley L.C. 1958. Darwin's Century: Evolution and the Man Who Discovered It. N. Y: Doubleday.
Festinger L. 1957. ATheory of Cognitive Dissonance. Evanston, III: Row, Peterson.
Goodenough W.H. 1956. Componential Analysis and the Study of Meaning // Language. Vol. 32. P. 195–216.
Goodenough W.H. (n. d.) Cooperation in Change (готовится к изданию).
Gorer G., Rickman J. 1949. The People of Great Russia. L.: Cresset Press.
Hallowell A.I. 1955. Culture and Experience. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Henry J., Spiro M.E. 1953. Psychological Techniques: Projective Tests in Field Work // Kroeber A.L. (ed.) Anthropology Today. Chicago: University of Chicago Press.
Herskovits M. 1948. Man and His Works. N. Y: Knopf.
Hess E.H 1959. Imprinting // Science. Vol. 130. P. 133–141.
Hodgen M.T. 1952. Change and History. N. Y.: Wenner-Gren Foundation.
Honigmann J.J. 1954. Culture and Personality. N. Y: Harper.
Kardiner A. 1939. The Individual and His Society. N. Y: Columbia University Press.
Kardiner A. 1945a. The Psychological Frontiers of Society. (В сотрудничестве с Ральфом Линтоном, Корой Дюбуа и Джеймсом Вестом.) N. Y: Columbia University Press.
Kardiner A., Ovesey L. 1951. The Mark of Oppression: A Psychological Study of the American Negro. N. Y: Norton.
Klineberg O. 1938. Emotional Expression in Chinese Literature // Journal of Abnormal and Social Psychology. Vol. 33. P. 517–520.
Kluckhohn С. 1944. The Influence of Psychiatry on Anthropology in America during the Past One Hundred Years // Hall J.K., Zilboorg G., Bunker HA. (eds.). 1944. One Hundred Years of American Psychiatry. N. Y: Columbia University Press.
Kroeber A.L. 1939. Cultural and Natural Areas of Native North America. Berkeley; Los Angeles: University of California Press.
Kroeber A.L. 1944. Configurations of Culture Growth. Berkeley; Los Angeles: University of California Press. (Рус. пер.: Крёбер А.Л. Конфигурации культурного роста // Крёбер А.Л. Избранное: Природа культуры. М.: РОССПЭН, 2004. С. 7–800.)
Kroeber A.L. 1948. Anthropology. N. Y: Harcourt, Brace.
Linton R. 1936. The Study of Man. N. Y: D. Appleton-Century.
Linton R. 1945. The Cultural Background of Personality. N. Y: Appleton-Century-Crofts, Inc.
Linton R. 1947. The Change from Dry to Wet Rice Culture in Tanala-Betsileo // Newcomb T.M., Hartley E.L (eds.). Readings in Social Psychology. N. Y: Holt, Rinehart, Winston.
Lounsbury F.G. 1956. A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage // Language. Vol. 32. P. 158–194.
Lowith К. 1949. Meaning in History. Chicago: University of Chicago Press.
Mandelbaum D.G. (ed.). 1949. Selected Writings of Edward Sapir. Berkeley: University of California Press.
Mannheim К. 1936. Ideology and Utopia. N. Y: Harcourt, Brace. (Рус. пер.: Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 7–260.)
Mead M. 1947b. The Implications of Culture Change for Personality Development //American Journal of Orthopsychiatry. Vol. 17. P. 633–646.
Mead M. 1953. National Character // Kroeber A.L. (ed.) Anthropology Today. Chicago: University of Chicago Press.
Mead M. 1955. Cultural Patterns and Technical Change. N. Y: New American Library.
Mead M. 1956. New Lives for Old. N. Y: Morrow.
Mead M., Metraux R. (eds) 1953. The Study of Culture at a Distance / Chicago: University of Chicago Press.
Murdoch G.P. 1949. Social Structure. N. Y: Macmillan. (Рус. пер.: Мёрдок Дж. П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003.)
Opler M. 1945. Themes as Dynamic Forces in Culture // American Journal of Sociology. Vol. 51. P. 198–206.
Orlansky H. 1949. Infant Care and Personality // Psychological Bulletin. Vol. 46. P. 1–48.
Osgood Ch.E., Suchi G.J., Tannenbaum PH. 1957. The Measurement of Meaning. Urbana: University of Illinois Press.
Parsons Т., Shils E.A. (eds.). 1951. Toward a General Theory of Action. Cambridge: Harvard University Press.
Paul B.D. (ed.). 1955. Health, Culture, and Community: Case Studies of Public Reactions to Health Programs. N. Y: Russel Sage Foundation.
Pettitt G.A. 1946. Primitive Education in North America. Berkeley; Los Angeles: University of California Press.
Redfield R. 1952. The Primitive World View // Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. 96. P. 30–36.
Reina R. 1958. Political Crisis and Revitalization: The Guatemalan Case // Human Organization. Vol. 17. P. 14–18.
Riesman D. 1950. The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character. New Haven: Yale University Press.
Sahlins M.D., Service E.R. (ed.). 1960. Evolution and Culture. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Sargant W. 1957. Buttle for the Mind. N. Y: Doubleday.
Sewell W.H. 1952. Infant-Training and the Personality of the Child // American Journal of Sociology. Vol. 58. P. 150–159.
Spicer E.H. 1952. Human Problems in Technological Change. N. Y: Russel Sage Foundation.
Spindkr G.D. 1955. Sociocultural and Psychological Processes in Menominee Acculturation. Berkeley; Los Angeles: University of California Press.
Spiro M.E. 1951. Culture and Personality: The Natural History of a False Dichotomy// Psychiatry. Vol. 14. P. 19–46.
Tylor E.B. 1900. Anthropology. N. Y: Appleton-Century-Croft.
Wallace A.F.C. 1951. Some Psychological Determinants of Culture Change in an Iroquoian Community // Fenton W.N. (ed.). Symposium on Local Diversity in Iroquois Culture. Washington: Bulletin 149. Bureau of American Ethnology.
Wallace A.F.C. 1952a. The Modal Personality Structure of the Tuscarora Indians, as Revealed by the Rorschach Test. Wahington: Bulletin 150, Bureau of American Ethnology.
Wallace A.F.C. 1952b. Individual Differences and Cultural Uniformities // American Sociological Review. Vol. 17. P. 747–750.
Wallace A.F.C. 1956a. Mazeway Resynthesis: A Bio-Cultural Theory of Religious Inspiration // Transactions of the New York Academy of Science. Vol. 18. P. 626–638.
Wallace A.F.C. 1956b. Stress and Rapid Personality Changes // International Record of Medicine. Vol. 169. P. 761–774.
Wallace A.F.C. 1956c. Revitalization Movements // American Anthropologist. Vol. 58. P. 264–281.
Wallace A.F.C. 1956d. Tornado in Worcester: An Exploratory Study of Individual and Community Behavior in an Extreme Situation. Washington: National Academy of Science – National Research Council.
Wallace A.F.C. 1957. Mazeway Disintegration: The Individual's Perception of Socio-Cultural Disorganization // Human Organization. Vol. 16. P. 23–27.
Wallace A.F.C. 1958b. Dreams and the Wishes of the Soul: A Type of Psychoanalytic Theory Among the Seventeenth Century Iroquois //American Anthropologist. Vol. 60. P. 234–248.
Wallace A.F.C. 1961. The Psychic Unity of Human Groups // Kaplan B. (ed.). Studying Personality Cross-Culturally Evanston: Row, Peterson.
Wallace A.F.C, Atkins J. 1960. The Meaning of Kinship Terms // American Anthropologist. Vol. 62. P. 58–80.
Wallis W.D. 1930. Culture and Progress. N. Y: McGraw-Hill.
Weber M. 1930. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. N. Y: Scribner's. (Рус. пер.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 61–272.)
White L.A. 1949. The Science of Culture. N. Y: Farrar, Straus. (Рус. пер.: Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. М.: РОССПЭН. 2004. С. 5–462).
Whitehead A.N. 1930. Adventures of Ideas. Cambridge: At the University Press.
Whiting J.W.M. 1941. Becoming a Kwoma. New Haven: Yale University Press.
Whiting J.W.M., Child I. 1953. Child Training and Personality. New Haven: Yale University Press.
Whorf B.L. 1956. Language, Thought, and Reality. N. Y: Wiley.
Wolfenstein M. 1957. Disaster: A Psychological Essay. Glencoe, 111.: Free Press.
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: Wallace A. Culture and Personality. N. Y, 1969. P. 84–213.
1* Например, «американского» или «арабского».
2* К личности (лат.). Имеется в виду характерное для психоаналитических дискуссий привлечение аргументов, касающихся личности оппонента, для указания на бессознательное перенесение тех или иных его личных психологических «комплексов» в высказываемые им научные суждения, а тем самым для доказательства ошибочности и ангажированности последних.
3* Вампум – пояс или ожерелье из раковин у североамериканских индейцев.
4* не следует (лат.); типичная логическая ошибка в умозаключениях.
5* в целом, в массе (фр.).
6* Сокращен, от versus – против (лат.).
7* мировоззрение (нем.).
8* с отличием (лат.).
9* обряды перехода (фр.).
10* элементарное мышление (нем.).
11* сама по себе (лат.).
12* Данное немецкое слово не имеет точного аналога в русском языке; это нечто вроде общительности, добродушия, приветливости, сердечности и домашней уютности в общении.
13* земля, где нет зла (фр.).
14* Устройством, совокупностью задатков (нем.).
Перевод В. Г. НиколаеваЛинтон P. Культурные основания личности
3. Социальная структура и участие в культуре
В предыдущих главах было подчеркнуто, что не индивиды, а именно общества являются функциональными единицами в нашей видовой борьбе за существование и что именно общества как целостные образования являются носителями культур и увековечивающими их силами. Указывалось также, что ни один индивид никогда не бывает знаком со всей культурой своего общества полностью и что в еще меньшей степени от него требуется выражать все ее многочисленные образцы в своем внешнем поведении. Вместе с тем, участие любого данного индивида в культуре своего общества не является делом случая. Оно определяется прежде всего – и почти целиком, поскольку это касается внешней (overt) культуры, – его местом в обществе и той подготовкой, которую он получил в предвосхищении занятия этого места. Отсюда следует, что поведение индивида надлежит изучать не только в связи с целостной культурой его общества, но и в связи с теми конкретными культурными требованиями, которые предъявляет к нему общество в силу того места, которое он в нем занимает. Так, например, все общества ожидают разного поведения от мужчин и от женщин, и невозможно будет понять поведение того или иного конкретного мужчины или женщины, если мы не будем знать, каковы эти ожидания.
Большинство сегодняшних исследователей личности в полной мере сознают эти факты и всю желательность обретения ясной картины структуры общества в качестве предварительного шага к определению социально-культурных сред его членов. В то же время, на мой взгляд, будет справедливо сказать, что большинству исследователей оказывается трудно использовать для этой цели материал, предлагаемый преобладающей частью социологических исследований. В значительной степени это затруднение, по-видимому, обусловлено тем, что многие социологи не проводят ясного различия между обществом и его культурой. Общество – это организованная группа людей, совокупность индивидов, которые научились сотрудничать. Культура же представляет собой организованную группу поведенческих образцов и тому подобного. Хотя между обществом и его культурой существуют тесные и многочисленные связи, эти две вещи отличны друг от друга и представляют феномены разных порядков. Невзирая на это, многие социологи описывают общества в категориях институтов, а для обозначения взаимосвязей между институтами употребляют термин «социальная структура». На самом деле, институт – это некая конфигурация культурных образцов, которая как целостное образование выполняет определенные функции; взаимосвязи же таких конфигураций относятся прежде всего к областям культурной организации или интеграции. Институциональный подход к обществу, хотя и полезен для некоторых целей, как правило, игнорирует связь между институтами и индивидами. Во многих случаях по прочтении описаний, сделанных на основе этого подхода, невозможно сказать, что за люди участвуют в конкретном институте, определить, как тот или иной данный член общества с ним связан. Чтобы исследователи личности могли пользоваться формулировками социальной структуры, последние должны брать начало на другом полюсе социально-культурной конфигурации. Они должны показывать, каким образом индивиды, составляющие общество, классифицируются и организуются, ибо при помощи этих самых механизмов членам общества как индивидам приписываются их роли в корпоративном существовании общества.
Первый шаг в разработке таких формулировок социальной структуры, которые будут полезны в исследованиях личности, состоит в определении того, какого рода социальные единицы в первую очередь ответственны за установление участия индивида в культуре. Термин «общество» применялся в отношении множества самых разных человеческих группировок, начиная с обеденных клубов бизнесменов и заканчивая Американским Содружеством. Однако многие из таких организованных групп строго ограничены в своих целях и своих притязаниях на индивида. Хотя они и могут выполнять какую-то функцию, связанную с приведением в действие и увековечением отдельных элементов внутри культуры, они не приводят в действие культуры как целостные образования и не передают их. А потому мы ограничим нашу дискуссию только теми организованными группировками, которые могут функционировать в качестве независимых культуроносителей. Более того, наш анализ мы начнем с простейшей и самой универсальной формы таких культуроносных групп, так как именно в ней легче всего будет разглядеть принципы, лежащие в основе всей социальной структуры.
Все люди обычно живут как члены общества, которое состоит из индивидов обоих полов и всех возрастов и увековечивает себя, производя детей и подготавливая их далее к тому, чтобы они заняли свои места как функционирующие члены организации. Хотя другой тип организованной группировки – а именно, семья – является, может быть, еще более древним, такого рода общество определенно восходит к началу нашего существования как особого вида. Как общество, так и семья обнаруживаются всюду, где бы ни жили люди. Члены такого общества объединены многочисленными общими интересами и прочным сознанием рода, которое базируется на личном знакомстве и межличностном взаимодействии. Они выступают как единое целое на фоне аутсайдеров и распределяют между собой деятельности, необходимые для благосостояния группы, согласно определенному образцу. Этот образец гарантирует, что все члены группы будут вносить в качестве своей лепты какие-то услуги и получать взамен какие-то выгоды. Наконец, несмотря на различия в поведении, проистекающие из разности ролей, все члены общества разделяют друг с другом ряд общих культурных образцов, в особенности скрытых (covert), и признают общую ценностную систему. Именно передача этого, полностью разделяемого членами общества ядра культуры обеспечивает их общим пониманием и делает возможным сохранение общества как такового вопреки постоянному изменению его личного состава.
Чрезвычайно важен тот факт, что даже эти простейшие, первичные общества не являются по своей структуре совершенно аморфными. Они представляют собой конфигурации не только индивидов, но и меньших по размеру внутренне организованных групп индивидов. Видимо, люди испытывают настоятельную потребность в той эмоциональной безопасности, которую они черпают из тесных и экстенсивных приспособлений к немногочисленным другим индивидам. Кроме того, они обладают чрезвычайно развитой способностью к сотрудничеству, направленному на достижение ограниченных, конкретных целей, и к интегрированию самих себя в функциональные единицы. Даже в самых простых обществах мы обнаруживаем дружеские связи и трудовые группы, в них небольшие множества индивидов – обычно одного пола и примерно одного и того же возраста – выделяются из всего остального общества и между ними устанавливаются особого рода отношения. Мы находим также и семейные группировки, каждая из которых объединяет небольшой круг индивидов обоих полов и всех возрастов в плотно интегрированную единицу. Членство индивида в такой единице, особенно если речь идет о семейной группе, является важным фактором той ориентации, которую он приобретает по отношению к своему обществу и его культуре. Обеспечивая индивида особыми удовлетворениями, членство в семейной группе одновременно влечет за собой и особые обязательства как в плане совместной ответственности перед более широким обществом, так и в плане взаимных прав и обязанностей в отношениях между членами данной единицы. Так, например, человек черпает много личных преимуществ из заключения брака и создания собственной семьи, но в то же время принимает юридическую ответственность за долги своей жены и за ущерб, причиняемый его детьми, и берет на себя особые обязательства перед женой и детьми.
Этот образец того, что можно было бы назвать клеточной организацией, проявляет себя во всем спектре социальных интеграции. Каждое общество, от примитивной банды1* до современного государства, реально представляет собою агрегат меньших по размеру организованных групп. Так, например, банда – это конфигурация семейных, дружеских и трудовых группировок; племя – конфигурация банд; а государство в простейших его формах – конфигурация племен, которые были собраны воедино посредством завоевания, добровольного объединения и т. д. За исключением случающихся время от времени периодов дезинтеграции и смуты, этот принцип организации можно усмотреть даже в самых сложных современных обществах. Более того, такие периоды смуты всегда являются переходными. Так, например, в новообразованном военно-промышленном городе поначалу нет таких социальных конфигураций, которые служили бы опосредствующим звеном между рабочим-мигрантом и локальным обществом как целым, однако с течением времени такие конфигурации обязательно развиваются. Принадлежность к профессиональным союзам, ложам, церквям и т. д. будет служить выделению некоторого ряда индивидов из общества в целом, собиранию их воедино и предоставлению им возможностей интегрирования в функционирующие социальные единицы.
В более стабильных современных обществах функции простого первичного общества, связанные как с интеграцией индивидов, так и с передачей культуры, выполняются прежде всего локальными сообществами и социальными классами. Даже в таком обществе, как наше, не найдется двух сообществ, которые обладали бы полностью идентичными культурами. За поверхностным сходством, обусловленным массовым производством и такими посредниками, как кино и радио, нередко скрываются значимые различия в установках и ценностях. Социальные классы тоже могут функционировать в качестве первичных обществ в рамках более широкой конфигурации, особенно когда они давно сложились и имеют четко определенный членский состав. Обычно каждый класс развивает свой собственный набор разделяемых всеми его членами и передаваемых культурных образцов и устанавливает некоторые особые обязательства среди его членов. Обычно он закрепляет также за своими членами и определенные виды деятельности, необходимые для выживания более широкой конфигурации, и делает их составной частью своей отличительной культуры. Так, в европейских обществах от мужчин, принадлежащих к высшим классам, ожидается, что они будут брать на себя лидерство в войне, а животное малодушие порицается в них гораздо строже, нежели в мужчинах, принадлежащих к низшим классам.
Довольно любопытно, что существование первичных обществ, разграничиваемых на классовой основе, никоим образом не совместимо со сколь-нибудь значительной степенью индивидуальной мобильности в пределах классовой структуры. Основное требование устойчивости для классового общества2* состоит, по-видимому, в том, что оно должно обладать достаточной мерой внутренней организации и четко определенной, отличительной культурой. Во всех обществах первым шагом человека, стремящегося быть принятым в более высокий класс, становится усвоение внешних культурных образцов этого класса и отказ от соответствующих образцов своего класса. В Англии, которую кто-то назвал последним местом в мире, где слово «джентльмен» до сих пор означает нечто столь же конкретное, что и слово «сосиска», есть даже особые техники аккультурации лиц низкого классового происхождения к образцам высшего класса. Индивид, наживший достаточно большое состояние, чтобы претендовать на статус в высшем классе, часто не может достичь успеха в усвоении отличительных образцов высшего класса. Для этого он должен изменить даже свое языковое поведение. Вместе с тем, он может отдать своего сына в «публичную школу»3* (нечто совершенно отличное от того, что имеют в виду под этим словом американцы), из которой мальчик выйдет культурно неотличимым от других мальчиков, имеющих длинную череду предков, принадлежавших к высшему классу.
Все первичные общества независимо от того, стоят ли они особняком или функционируют как элементы более широких интеграции, обладают некоторыми общими особенностями организации. Все они подразделяют свой членский состав на разные категории, базирующиеся на возрастных и половых различиях. Все они дифференцируют определенных индивидов или определенные группы индивидов от всего остального общества на основе специализированных занятий. Все они включают в свою организацию меньшие по размеру, внутренне организованные единицы двух типов: (1) семейные группы, членство в которых устанавливается на основе биологических взаимоотношений, реальных или предполагаемых, и (2) ассоциационные группы, членство в которых устанавливается на основе конгениальности и/или общего интереса. И наконец, все общества обычно располагают как своих индивидуальных членов, так и единицы, установленные этими разнообразными системами организации, в ряды престижа, наделяя одни единицы в каждом ряду большей социальной значимостью и, следовательно, большим влиянием, чем другие. Некоторые первичные общества могут различным образом усложнять эти базисные системы организации. Так, например, большинство полинезийских групп наделяют высоким престижем детей-первенцев, независимо от их пола, и препоручают им особые социальные функции. Однако, как правило, организацию любого первичного общества можно проанализировать и описать в категориях только что перечисленных базисных структурных образцов.
В случае социальных конфигураций, включающих в себя несколько первичных обществ, структурирование становится более сложным, однако остаются в силе те же основополагающие принципы. Первичные общества сохраняют свои независимые структуры, однако поверх них накладываются новые структурные формы (patterns), ориентированные на более широкую конфигурацию. Членство в разных единицах, установленных этой всеобъемлющей организацией, накладывается на разграничения, создаваемые первичными обществами, а сами эти единицы принимают на себя интегративные функции по отношению к более широкой конфигурации в целом. Так, например, уже сам факт, что некая военная партия, секретное общество или расширенная родственная группа включает в себя индивидов из нескольких разных первичных обществ, служит сплочению этих обществ и помогает им функционировать в качестве интегральных частей более широкого целого.
В развитии всеобъемлющих образцов организации, по всей видимости, наличествует устойчивая тенденция проецирования организационных систем первичных обществ на более широкую группировку. В некоторых случаях – как, например, при создании Лиги Ирокезов – такое проецирование происходило, по-видимому, сознательно и намеренно. Однако в большинстве случаев, вероятно, имеет место бессознательная попытка применить знакомые образцы к ситуациям, напоминающим в некоторых чертах те, в отношении которых эти образцы использовались. Так, почти во всех случаях будет обнаруживаться, что клановая организация, накладывающаяся в пределах племени поверх разграничений, установленных первичным обществом, во многих своих характерных чертах соотносится с существующей в этих обществах семейной организацией. Критерии принадлежности к клану обычно будут представлять собой расширительные проекции тех понятий родства, которые являются основополагающими для членства в семье; по отношению к членам клана и членам семьи будут применяться – в известных пределах – одни и те же термины взаимоотношений; а взаимные права и обязанности членов клана будут сформированы (patterned) почти точь-в-точь по образцу прав и обязанностей членов семьи, хотя в первом случае обязательства будут несколько ослаблены. Все ассоциативные группировки, накладывающиеся поверх разграничений первичного общества, тоже в большинстве случаев будут обнаруживать в целях и образцах своей организации тесную согласованность с целями и образцами, существующими в первичных обществах. И наконец, разные сообщества или классы, инкорпорированные в более широкое общество, обычно будут размещены в ряду престижа и станут оказывать на определение политики общества большее или меньшее влияние, соответственно тем позициям, которые они в этом ряду занимают.
Если обратиться к тем характерным особенностям, которые всегда присутствуют в структуре первичных обществ, то наиболее важной особенностью для установления участия индивида в культуре является, по всей видимости, разделение членов общества на половозрастные категории. Практически во всех обществах подавляющее большинство деятельностей и занятий атрибутируются (ascribed4*) членам одной или нескольких, немногих числом, половозрастных категорий, тогда как членам других категорий они возбраняются. Даже тогда, когда речь идет о высокоспециализированных деятельностях, которые сами по себе могут использоваться в качестве базиса для вычленения некоторых групп индивидов из общества в целом, членство в особой половозрастной категории обычно является необходимым условием полноценного участия в таких деятельностях. Так, например, в сообществе, в котором прошло мое детство, только мужчин среднего и старшего возраста считали надежными врачами-практиками. На молодых докторов, только что окончивших медицинский институт, смотрели с подозрением, и они всегда старались выглядеть старше, чем были на самом деле. Один из моих знакомых, облысевший в возрасте немногим более двадцати лет, рассказал мне как-то о том, что это стало одним из наиболее ценных элементов в его профессиональной экипировке. Такие группы специалистов отличаются от соответствующих половозрастных категорий как своим техническим оснащением, так и гораздо более немногочисленным членским составом. Так, например, в нашем обществе все водопроводчики взрослые мужчины, но далеко не все взрослые мужчины – водопроводчики. Почти все стенографистки, за исключением судебных стенографистов, женщины, но отнюдь не все женщины стенографистки.
Вдобавок к предписыванию родов занятий и деятельностей, членство в конкретной половозрастной группе непосредственно обеспечивает индивида внушительным рядом образцов поведения, которых он должен придерживаться в своих отношениях с членами других половозрастных групп. Эти образцы остаются в силе независимо от того, знает он других индивидов, вовлеченных в эти отношения, или нет. Ему необходимо лишь распознать категорию, к которой принадлежит для него другой человек, чтобы знать, как вести себя по отношению к этому другому и какого рода поведения ожидать в ответ. И наконец, наличествует универсальная тенденция атрибутировать членам разных половозрастных категорий разное участие в скрытой культуре общества. От них ожидается, что они будут обладать не только разными родами знания, но и отличными друг от друга ценностно-установочными системами. Например, в нашем обществе предполагается, что мужчины больше осведомлены в технике, чем женщины, что является естественным следствием их обычной занятости в некоторых профессиях. Вместе с тем – по крайней мере в низших слоях нашего общества – от них также ожидается, что они будут лучше разбираться в мясе и лучше сумеют отобрать в мясной лавке превосходную вырезку или кусок мяса на жаркое. Здравый смысл подсказывает, что женщины, делающие большинство покупок, должны быть более способны разглядеть хорошее мясо, и, по всей видимости, эта аскрипция особого знания мужчинам является пережитком прежних сельских условий существования, когда мужчины на ферме сами занимались заготовкой мяса. Что касается ценностно-установочных систем, то мы имеем такие, например, вещи, как употребление слова «ребяческий» для обозначения некоторых интересов и некоторых образцов эмоционального реагирования, а также глубоко укорененное в нас убеждение, что женщины по природе своей мягче и менее агрессивны, нежели мужчины, хотя опыт часто свидетельствует о противоположном.
К разделению членов общества на половозрастные категории следует относиться прежде всего как к таксономическому средству.
Группировки, устанавливаемые этим разделением, ни в каком смысле не являются организованными, функциональными единицами, хотя члены той или иной конкретной категории и могут быть способны к совместному действию, когда сознают, что под угрозу поставлены их общие интересы. Большинство учителей и родителей легко смогут вспомнить примеры той групповой солидарности, на какую способны дети при определенных обстоятельствах. В связи с этим приходит также на ум «Лисистрата», однако те, кто помнит эту драму, вспомнят также и то, как быстро разрушилась эта категориальная организация, стоило лишь ей войти в конфликт с индивидуальными интересами членов группы.
Исходная точка половозрастной классификации и практическое ее обоснование заложены в различных потенциальных возможностях мужчин и женщин на разных возрастных уровнях. Очевидно, что средний мужчина сильнее среднего мальчика и может делать что-то такое, чего мальчик сделать не сможет. В равной степени ясно и то, что взрослая женщина обладает некоторыми потенциальными возможностями, связанными с произведением потомства и уходом за ребенком, которых не разделяют с ней члены никакой другой категории. Тем не менее мы обнаруживаем, что даже половозрастные категории, признаваемые всеми обществами, отражают в себе нечто большее, нежели просто биологию. Повсеместно признаются, как минимум, семь половозрастных категорий. Это: младенец, мальчик, девочка, взрослый мужчина, взрослая женщина, старик, старуха. На самом деле, мальчики и девочки, не достигшие пока еще половой зрелости, почти не отличаются друг от друга силой и активностью и вполне могли бы участвовать в почти одних и тех же культурных образцах (patterns). Различие, повсеместно проводимое между ними, обусловлено их ожидаемыми различиями во взрослом возрасте. Мальчика готовят к принятию роли мужчины, а девочку – к принятию роли женщины. Аналогичным образом, старики и старухи не очень-то отличаются друг от друга физическими возможностями. На самом деле, старые женщины чаще даже сильнее и активнее по сравнению с мужчинами, находящимися в том же возрасте. Однако каждый из полов провел всю свою жизнь в специальной подготовке и в осуществлении особых умений, предписанных ему в общественном разделении труда. Индивиды приучились действовать как мужчины или как женщины и продолжают действовать таким же образом до конца. В этой связи, быть может, стоит отметить, что есть много обществ, где различие между мужскими и женскими ролями становится менее выраженным для женщин после менопаузы. Старухам часто позволяется принимать активное участие в церемониях и религиозных практиках, которые прежде были для них табу, и занимать в семейных группах господствующие и контролирующие позиции, находящиеся в близком соответствии с теми, которые на низших возрастных уровнях занимают мужчины.
Хотя только что упомянутые семь категорий признаются всеми обществами, многие общества различными способами усложняют этот ряд. Каждая из основных категорий допускает многочисленные внутренние подразделения, а подростки могут как признаваться, так и не признаваться в качестве отдельной группы, обладающей правом на свои собственные культурные образцы. Некоторыми своими физиологическими особенностями подростки отличаются как от детей, так и от взрослых, и техники, разработанные различными обществами для обращения с этими особенностями, представляют значительный интерес для исследователей личности, особенно в свете почти полной безуспешности тех усилий, которые мы предпринимаем в этом направлении. В обществах, которые признают подростков как отдельную категорию и закрепляют за ними деятельности, приспособленные к их особым возрастным условиям, этот период проходит почти или совсем без стресса и переход от детских ролей к ролям взрослой жизни осуществляется с меньшим шоком для личности. Общества, предпочитающие игнорировать особые качества подросткового возраста, могут выбирать два способа справиться с этой ситуацией. Они могут либо расширить вверх детскую категорию, вместе с атрибутированными ей установками и образцами внешнего поведения, включив в нее подростков, либо спроецировать аналогичным образом вниз взрослые категории. В любом случае подросток становится проблемой для самого себя и для других. Если от него ожидают приверженности детским образцам послушания и зависимости, то он либо становится плохим ребенком, бунтующим против авторитетов, либо покоряется и закрепляет эти образцы в самом себе настолько прочно, что испытывает значительные трудности с принятием взрослой ответственности и инициативы, когда для этого приходит время. Если от него, начиная с момента достижения половой зрелости, ожидается следование взрослым образцам, то он оказывается вынужденным принять такие формы поведения, которые требуют максимального напряжения его способностей даже тогда, когда в этих формах нет ничего сверхсложного. Хотя общество может формально классифицировать его как мужчину, он на протяжении еще долгого времени остается мужчиной второсортным, низшим по сравнению с большинством других членов этой категории и, следовательно, уязвимым перед всеми типами фрустраций. По сравнению с любым из этих методов, хуже, возможно, то, что делаем мы, оставляя социальную роль подростков в неопределенности. Мы поочередно требуем от них то детского послушания и подчинения, то инициативы и принятия ответственности, приходящих вместе со статусом взрослого. Результаты этого непоследовательного обращения с подростками слишком хорошо известны исследователям психологии личности, чтобы их здесь обсуждать.
Аскрипция особых культурных образцов индивидам на основе их специализированных родов занятий, вообще говоря, имеет довольно ограниченный характер. Она не может сравниться по широте с той, которая основана на членстве в особых половозрастных группах, а образцы, атрибутируемые в этом случае, обычно представляют собой незначительные расширения, или усложнения, образцов, принадлежащих той половозрастной категории, с которой данный специализированный род занятий связан. Хотя такие профессиональные образцы непременно включают в себя навыки и знания, связанные с соответствующей специальностью, они не обязательно ими ограничиваются. Воспользуемся одним из наиболее часто приводимых примеров. Те, кто работает со сверхъестественным, обычно отличаются от всех остальных членов своей половозрастной категории предписанными образцами одежды и поведения, следование которым ожидается от них даже тогда, когда они не заняты своим особым родом занятий. Каждый в нашем обществе знает смысл стоячего воротничка5*, а большинство протестантских сект придерживается мнения, что пастору не подобает курить и употреблять спиртное, пусть даже в умеренных количествах или когда он не находится при исполнении своих обязанностей. Кроме того, индивидам на основании специфики рода их занятий могут атрибутироваться определенные установки и личностные характеристики. Такие аскрипции заложены в природе идеальных культурных образцов и могут иметь мало отношения к реальности, хотя часто находят отражение в поведении других по отношению к таким специалистам. Так, например, наши предки полагали, что все мясники – индивиды бессердечные и кровожадные, и во многих сообществах им, наряду с врачами, было запрещено заседать в суде присяжных в случае предполагаемого вынесения смертного приговора. Опять-таки, трусливость портных служит одним из сквозных мотивов североевропейского фольклора. Каждый из тех моих читателей, кто вырос на сказках братьев Гримм, порой довольно жестоких, вспомнит маленького портняжку из сказки «Семерых одним ударом».
Такие аскрипции имеют не слишком-то большое значение для изучения индивида в так называемых примитивных обществах. В этих обществах формы специализации немногочисленны, а число специалистов невелико. Однако по мере роста сложности культуры профессиональная специализация быстро возрастает, достигая своего пика в таких цивилизациях, как наша. В этих условиях поведенческие образцы и установки, атрибутируемые того или иного рода специалистам, могут играть важную роль при выборе индивидом для себя особого специализированного рода занятий. Это, разумеется, сопряжено со значительной свободой выбора родов занятий, которая также характерна в настоящее время для нашего общества. Мужчина, который чувствует, что получил бы наибольшее удовлетворение, если бы стал портовым грузчиком или бухгалтером, имеет превосходные шансы стать либо тем, либо другим. Однако в тех случаях, когда индивиду не позволено сделать такой выбор, поведение и установки, атрибутируемые членам той группы специалистов, в которую он попадает, могут совершенно ему не соответствовать и часто служат причиной плохого приспособления и психологического дискомфорта. Так, например, сын одного моего знакомого, видного профессора, когда его всеми правдами и неправдами заставили занять академическую должность, в конце концов нашел требования своего университетского положения настолько для себя угнетающими, что покинул университет уже в середине семестра.
Членство в семейных группировках обычно играет весьма скромную роль в детерминации родов занятий индивида, хотя нередко оказывается важным в случае некоторых ремесел, в особенности тех, которые доходны и заключают в себе цеховые секреты, передаваемые по семейной линии. Труд, предписываемый разным индивидам в рамках разделения деятельностей внутри семьи, в первую очередь контролируется, по-видимому, их возрастом и полом, а не их позицией в семейной структуре. Не играет большой роли семейное членство и в определении внешнего поведения членов семьи по отношению к лицам, находящимся вне группы, за исключением тех случаев, когда оно относится к конкретным индивидам или членам других семей, с которыми первая семья установила особые отношения дружбы или вражды. Между тем, принадлежность к семье закладывает основу для аскрипции определенных установок по отношению к аутсайдерам в целом, особенно установки считать их интересы второстепенными по сравнению с интересами членов семьи. И наконец, в обществах, обладающих образцами общей ответственности семьи за действия каждого из ее членов, семейное членство может навязывать индивиду особые формы поведения.
Все эти аспекты культурной аскрипции скорее второстепенны, когда речь идет о семейной организации. Основной аскриптивной функцией семьи является функция обеспечения индивида образцами поведения по отношению к другим индивидам внутри семейной группы. Эти другие индивиды формально классифицируются на основе их биологической или брачной связи с ним, и эта классификация сопровождается аскрипцией конкретных прав и обязанностей по отношению к членам каждого класса. Системы классификации и образцы поведения, предписываемые в отношении взаимодействия с членами каждого класса родственников, могут значительно варьировать от общества к обществу. Описание и классификация систем родственных отношений стали для антропологов одной из любимых забав еще со времен зарождения нашей науки, и накопившаяся литература по данной теме составляет гору томов. Однако различия между такими системами имеют скромное значение для нашей нынешней дискуссии. Для нас важно то, что многочисленные культурные образцы, относящиеся к социальному взаимодействию, атрибутируются индивиду на основе членства в семье и что конкретные индивиды, в отношении которых эти образцы должны применяться, ясно определяются на той же самой основе. Поскольку число индивидов, с которыми данный индивид состоит в том или ином родственном отношении, строго ограничено, а контакты с ними обычно являются тесными и частыми, то семейная ситуация такова, что в ней культурно атрибутируемые образцы особенно чувствительны к модификации посредством опыта. Иными словами, у индивида есть масса возможностей узнать своих родственников как людей и приспособить свое поведение по отношению к ним с учетом своей и их личности. Хотя это и нельзя доказать, опираясь на наши нынешние познания, представляется в высокой степени вероятным, что поведение, заключенное в реальных культурных образцах, соответствующих различным ситуациям родственных отношений, более изменчиво, нежели поведение по отношению к любым другим людям. Тем не менее, это также и одна из тех областей, где общества чаще всего развивают идеальные образцы и где публичное уклонение от этих образцов осуждается наиболее сурово. Отсюда следует, что при исследовании индивидуальных личностей и их социальных сред исследователь должен принимать во внимание как публичное, так и приватное поведение членов семьи по отношению друг к другу. Как часто мужчина, допустивший в обществе бестактность, проводит весь остаток вечера, съёживаясь от страха в ожидании того, что скажет ему его нарочито преданная и доброжелательная супруга, когда они вернутся домой!
Ассоциационные группы отличаются от семейных групп в двух важных аспектах. Их членский состав обычно ограничивается индивидами одного пола, а иной раз и примерно одинакового возраста, и вхождение в такие группы является более или менее добровольным. В самых разных обществах можно обнаружить исключения из обоих этих правил, однако в подавляющем большинстве случаев они остаются действенными. Такие группировки формируются на основе конгениальности или общего интереса, но, как правило, заключают в себе элементы и того, и другого. Так, даже в трудовых группах, официальные задачи которых сугубо практические и экономические, обычно будет проявляться некоторая забота о том, чтобы в них были включены только достаточно конгениальные индивиды, способные сотрудничать с минимальными трениями. К таким ассоциационным группам относятся единицы самых разных типов. К этому классу принадлежат дружеские компании и клики, а также трудовые группы, клубы и общества, в обыденном значении этого слова. Даже самые неформальные из таких группировок обладают некоторой степенью внутренней организации, а в некоторых обществах высокоорганизованными могут быть такого рода группы всех типов. Так, например, в Дагомее дружеское взаимоотношение подразумевает столь же конкретные права и обязанности, что и отношения, существующие между близкими родственниками того или иного типа, скажем, братьями. В случае более крупных группировок, таких, как клубы или тайные общества, может наличествовать детально проработанная формальная организация с должностными лицами и особыми ритуалами. Членство в такой единице всегда имеет результатом аскрипцию индивиду определенных образцов поведения по отношению к другим ее членам. Кроме того – особенно когда такая групповая единица выполняет определенные функции по отношению к обществу как целому, – оно может иметь результатом аскрипцию особого поведения по отношению к аутсайдерам. Такое поведение обычно имеет спорадический характер. От индивида ждут его соблюдения только тогда, когда ассоциационная группа вовлечена в свои церемонии или в выполнение своих особых функций. Так, например, от членов Общества Равнинных Индейских Мужчин ожидается, что они будут вести себя особым образом, когда данное общество будет представлять свой танец или осуществлять полицейские функции, но будут вести себя так же, как и все, в любое другое время.
И наконец, ранжирование индивидов и групп в ряду престижа тоже может быть сопряжено с формальной аскрипцией разных форм поведения лицам, занимающим в таком ряду разные позиции. Даже в тех обществах, где отсутствует в подлинном смысле слова классовая структура со связанными с ней различиями в культурных образцах, обычно присутствует ощущение того, что индивиды, занимающие высокое положение в ряду престижа, должны вести себя определенным образом. Это находит отражение в нашем известном выражении «Noblesse oblige»6*. От таких лиц обычно ожидают осмотрительности в осуществлении своей реальной власти и внимательности к нижестоящим, а неудачи в демонстрации этого оборачиваются потерей уважения. Даже в тех случаях, когда с позициями в престижном ряду не связаны никакие формальные образцы поведения, такие позиции неизбежно оказывают влияние на поведение индивидов в том диапазоне изменчивости, который устанавливается реальными культурными образцами. Каждый человек ведет себя немного по-разному по отношению к вышестоящим, равным и нижестоящим, и даже если внешнее поведение по отношению к некоторому лицу, находящемуся с ним в одном из этих взаимоотношений, такое же, как и нормальное поведение по отношению к лицам, находящимся с ним в ином взаимоотношении, производимые эффекты будут различными. Так, например, нижестоящему льстит, когда с ним обращаются как с равным, вышестоящего же это раздражает.
Таким образом, каждая из существующих внутри первичного общества систем классификации и организации атрибутирует индивиду определенные культурные образцы на основе его позиции в этой системе. Однако эти системы имеют в данном отношении разную значимость. Позиция индивида в половозрастной системе определяет его участие в культуре явно больше, чем любая другая. Далее по значимости идет его позиция в семейной системе, хотя главное ее назначение состоит в том, чтобы снабдить его образцами, которые управляли бы его отношениями с ограниченной, специфической группой других индивидов, а не с обществом как целым. Его позиции в системах специализированных деятельностей, ассоциационных группах и престижных рейтингах тоже осуществляют аскрипцию культурных образцов, однако в этом отношении ни одна из этих систем не может сравниться по значимости с двумя первыми. Исследователь, который сумеет установить место исследуемого им субъекта в половозрастных категориях и в семейной системе, сможет вывести из этого объем его культурного участия, по крайней мере на тот конкретный момент времени, когда проводится исследование. Более того, всегда можно будет установить группы индивидов, принадлежащих к одной половозрастной категории и занимающих аналогичные позиции в различных семейных единицах. Участие в культуре, общее для членов таких групп, дает нечто близкое к той стабильной рамке соотнесения, которая может быть обнаружена также в тех условиях, в которых исследования личности еще только должны быть проведены. В соотнесении с ней можно изучать и сравнивать индивидуальные вариации в поведении и реагировании, а также исследовать причины этих вариаций.
До сих пор мы рассматривали участие в культуре в общих, безличных категориях социальной структуры. Теперь нам надлежит обратиться к индивиду и к тому, как он связан с этой структурой и через нее – с культурой своего общества. На данный момент должно быть ясно, что структура даже самого простого первичного общества – например, примитивной деревни – никоим образом не проста и не гомогенна. Индивиды, составляющие такое общество, классифицируются и организуются одновременно несколькими разными способами. Каждая из этих систем имеет свои функции в связывании индивида с культурой, и в каждой из них он занимает какое-то место. Так, например, каждый член общества обладает местом в половозрастной системе, а также в престижном ряду. Он занимает некоторое место в системе специализированных родов занятий – либо как специалист, либо как член никому не предназначенной остаточной категории, которая в нашем обществе обозначается такими расплывчатыми терминами, как «подсобный рабочий» или «домохозяйка». И наконец, он всегда принадлежит к какой-то семейной единице и к одной или более ассоциационным группам. До тех пор, пока у него есть в обществе хотя бы один живой родственник, он обладает позицией в семейной системе; и даже если вся его родня покинула этот мир, он может вновь войти в эту систему посредством усыновления или заключения брака. Что касается членства в системе, базирующейся на ассоциации, то любой член первичного общества, если только он не психотик, вряд ли может избежать включения в дружеские компании и трудовые группы. Он может быть лишен права принадлежать к клубам или иным ассоциационным группировкам преимущественно формального характера, но даже в этом случае он занимает вполне определенное место в системе, частью которой такие группы являются. Он один из «аутсайдеров», и именно наличие этой группы дает «членам» наибольшую долю их эмоционального удовлетворения. Невозможно даже помыслить, чтобы тайное общество могло существовать без огромной аудитории не-членов, которые бы завидовали членам и предавались спекулятивным рассуждениям по поводу их секретов.
В прежних попытках прояснить связь индивида с этими множественными социальными системами два термина оказались настолько полезными, что будет, по-видимому, оправданным ввести их и здесь.
Мы попытались ясно показать, что в то время как индивиды, занимающие места в этих системах, могут приходить и уходить, сами эти системы продолжают существовать. Место в конкретной системе, которое некоторый индивид занимает в конкретный момент времени, будет называться его статусом по отношению к этой системе. Некоторые исследователи социальной структуры употребляли почти в том же самом значении термин «позиция», но без ясного осознания временного фактора и существования одновременных систем организации внутри общества. Термин «статус» долгое время использовался для обозначения позиции индивида в системе престижа своего общества. У нас он используется в более широком смысле и распространяется на позицию индивида в каждой из других систем. Второй термин, «роль», будет использоваться для обозначения общей суммы культурных образцов, связанных с конкретным статусом. Таким образом, в него включаются установки, ценности и поведение, атрибутируемые обществом любому и каждому лицу, занимающему этот статус. Данный термин можно было бы даже еще более расширить, включив в него легитимные ожидания таких лиц относительно поведения по отношению к ним других лиц, занимающих другие статусы в той же самой системе. Каждый статус соединен с особой ролью, однако эти две вещи никоим образом не одно и то же с точки зрения индивида. Его статусы атрибутируются ему на основе его возраста и пола, его рождения или брака в конкретной семейной единице, и т. д. Его роли изучаются на основе его статусов – либо текущих, либо ожидаемых. Постольку, поскольку роль представляет собой внешнее поведение, она есть динамический аспект статуса, а именно: то, что индивид должен делать для подтверждения того, что он занимает этот статус.
Конкретный статус в социальной системе может быть занят, а связанная с ним роль – быть известной и выполняться многими индивидами одновременно. В действительности, это нормальное положение дел. Так, например, каждое общество обыкновенно включает множество лиц, занимающих статус взрослого мужчины и придерживающихся роли взрослого мужчины. Аналогичным образом, оно включает множество лиц, занимающих статус отца в организациях тех конкретных семейных групп, к которым они принадлежат. И наоборот, один и тот же индивид может одновременно занимать и одновременно занимает целый ряд статусов, каждый из которых включен в одну из тех систем организации, в которых он участвует. Он не только занимает эти статусы, но также знает и связанные с ними роли. Однако он никогда не активизирует все эти роли одновременно. Такие роли являются постоянным элементом его участия в скрытой культуре своего общества; что же касается его участия во внешней (overt) культуре этого общества, то тут они функционируют попеременно. Иначе говоря, хотя он занимает статусы и знает роли все время, иногда он действует в рамках одного статуса и его роли, а иногда – в рамках другого. Статус, в рамках которого индивид действует в данный момент, есть его активный статус в этот конкретный момент времени. Другие его статусы остаются в это время латентными статусами. Роли, связанные с такими латентными статусами, временно удерживаются в бездействии, однако являются неотъемлемыми частями культурного оснащения индивида.
Эту формулировку можно пояснить с помощью примера. Допустим, некий мужчина проводит день, работая продавцом в магазине. Когда он стоит за прилавком, его активным статусом является статус продавца, установленный его позицией в системе специализированных родов занятий нашего общества. Роль, связанная с этим статусом, снабжает его образцами взаимоотношений с покупателями. Эти образцы будут хорошо известны как ему, так и клиентам и будут позволять им вести дела с минимумом задержки и взаимного недопонимания. Когда он удаляется на перекур в комнату отдыха и встречается там с другими служащими, его статус продавца становится латентным, и он принимает другой активный статус, базирующийся на его позиции в ассоциационной группе, состоящей из работников данного магазина в целом. В этом статусе его взаимоотношения с сослуживцами будут определяться иным набором культурных образцов, отличным от того, который используется в его отношениях с клиентами. Более того, поскольку он, вероятно, хорошо знаком с большинством сослуживцев, осуществление им этих культурных образцов будет модифицировано его личными симпатиями и антипатиями к тем или иным индивидам, а также соображениями, связанными с их и его соотносительными позициями в ряду престижа членов магазинной ассоциации. Когда наступает время закрывать магазин, он откладывает в сторону как свой статус продавца, так и статус в магазинной ассоциации и, направляясь домой, действует просто в рамках своего статуса в половозрастной системе общества. Так, например, если он молод, то будет по крайней мере чувствовать, что должен в транспорте подняться и уступить место женщине, а если он в преклонном возрасте, то может безо всякого дискомфорта сохранить это место за собой. Как только он приходит домой, сразу же активизируется новый набор статусов. Эти статусы проистекают из родственных уз, связывающих его с разными членами семейной группы. Исполняя роли, сопряженные с этими семейными статусами, он будет стараться быть сердечным со своей тещей, ласковым со своей женой и быть строгим блюстителем дисциплины для Мальца, в дневнике которого появилась новая порция плохих отметок. Если на этот день назначено вечернее собрание в ложе, то часам к восьми все его семейные статусы станут латентными. Как только он входит в зал собраний ложи и облачается в униформу Великой Имперской Ящерицы в Древнем Ордене Динозавров, он принимает новый статус – статус, который был латентным со времени последнего собрания ложи, – и ведет себя в рамках связанной с ним роли до тех пор, пока для него не наступит время снять униформу и идти домой.
То, что различные статусы индивида активизируются в разное время, предотвращает лобовое столкновение связанных с ними ролей. В крайнем случае, внешнее поведение, являющееся частью роли, связанной с одним статусом, может аннулировать результаты внешнего поведения, являющегося частью другой роли. Сами эти формы поведения не будут вступать в конфликт в силу разнесения их во времени. Более того, роли, связанные со статусами в пределах одной отдельной системы, обычно довольно хорошо подогнаны друг под друга и не порождают конфликтов до тех пор, пока индивид действует в рамках этой системы. Это касается также статусов, относящихся к разным системам, если только это такого рода статусы, которые обычно пересекаются в одних и тех же индивидах. Так, например, в любом обществе роли взрослого мужчины, отца, специалиста-ремесленника, друга и т. д. будут, как правило, взаимно приспособлены друг к другу, несмотря на разные системы, в которых они берут свое начало. Такие взаимоприспособления, разумеется, не являются результатом осознанного планирования. Они развились в опыте индивидов, которые одновременно занимали такие серии статусов и постепенно, методом проб и ошибок, устранили большинство конфликтов из их сочетания. Так, если из какого-то другого общества заимствуются образцы формальной дружбы, то такие образцы вскоре будут модифицированы таким образом, чтобы не было конфликта между ними и образцами, уже установленными локальной системой семейной организации.
В тех редких случаях, когда вследствие какой-то непредвиденной случайности в одном и том же индивиде сталкиваются статусы, роли которых фундаментально несовместимы, мы имеем материал для высокой трагедии. Хотя большинство обществ не испытывает особой симпатии к индивиду, пытающемуся избежать выполнения некоторых своих ролей, все они способны сочувственно отнестись к дилемме человека, который должен сделать выбор между в равной степени действенными статусами и ролями. В более сложных или интроспективных обществах такие дилеммы являются излюбленной темой литературы.
Трагедия семьи Эдипа и заключительные эпизоды «Песни о Нибелунгах» – классические тому примеры. На уровне более простого фольклора мы имеем шотландскую историю о том, как некий человек оказал гостеприимство убийце своего брата. В каждом из этих случаев индивид, в котором сходятся несовместимые роли, решает проблему с помощью знакомого образца действования в рамках разных статусов в разное время, даже если осознает при этом, что ассоциированные с ними роли будут в процессе их исполнения отрицать результаты друг друга. Так, в упомянутой выше шотландской истории брат, как хозяин, провожает убийцу целым и невредимым за пределы территории клана, а затем, как брат жертвы, вступает с ним в смертельную схватку.
Такие конфликты редко возникают в первичных обществах и даже в более крупных социальных группировках, существующих уже довольно долго и развивших хорошо интегрированные культуры. Однако они могут становиться довольно частыми в условиях, которые существуют в нашем нынешнем обществе. В условиях, когда необходима реорганизация нашей социальной структуры с целью приведения ее в соответствие с требованиями новой технологии и пространственной мобильности, не имеющими аналогов в человеческой истории, унаследованная нами система статусов и ролей рушится; новая же система, совместимая с актуальными условиями современной жизни, пока еще не появилась. Таким образом, индивид часто сталкивается с ситуациями, в которых он пребывает в неопределенности как относительно своих статусов и ролей, так и относительно статусов и ролей других. Он не только вынужден делать выбор, но и может не чувствовать никакой уверенности относительно того, что выбор был сделан правильно и что ответное поведение других будет таким, какого он ожидал от них исходя из тех статусов, которые, как он предполагал, они занимают. Результатом этого становятся многочисленные разочарования и фрустрации.
Перевод В.Г. Николаева под ред. Л.А. Мостовой5. Роль культуры в формировании личности
Одним из важнейших научных достижений нашего времени стало открытие культуры. Как уже говорилось, самое последнее, существование чего обычно будет открывать для себя обитатель глубоководного мира, – это вода. Он может осознать ее существование только в том случае, если какая-то непредвиденная случайность вынесет его на поверхность и познакомит с воздухом. На протяжении почти всей своей истории человек лишь очень смутно сознавал существование культуры и даже этим скудным осознанием был обязан контрастам, которые существовали между обычаями его общества и какого-нибудь другого общества, с которым ему случалось вступать в контакт. Способность видеть культуру своего общества как единое целое, оценивать ее образцы и подвергать оценке то, что из них вытекает, требует такой степени объективности, которая достигается редко, если достигается вообще. Не случайно понимание культуры современный ученый почерпнул главным образом из изучения неевропейских культур, где контрасты способствовали успешному наблюдению. Тот, кто не знает ни одной культуры, кроме своей собственной, не сможет познать и свою собственную культуру. Вплоть до последнего времени даже психологи не придавали должного значения тому, что все люди, в том числе и они сами, создают среду, по большей части культурно детерминированную, и именно в этой среде функционируют. До тех пор, пока они ограничивались в своих исследованиях индивидами, воспитанными в пределах одной отдельно взятой культуры, они просто не могли не прийти к далеким от истины представлениям о человеческой природе. Даже такой мастер, как Фрейд, часто предлагал объяснять инстинктами те реакции, которые, как мы теперь видим, напрямую связаны с культурным обусловливанием. С тем запасом знания о других обществах и культурах, которым мы в настоящее время располагаем, можно подойти к изучению личности с меньшим числом предпонятий и достичь большего приближения к истине.
Сразу же необходимо признать, что наблюдение и регистрация данных о личности в неевропейских обществах до сих пор сопряжены с огромными затруднениями. Довольно трудно получить надежный материал и в нашем собственном обществе. Развитие точных объективных методов исследования личности пребывает пока еще во младенческом состоянии. Такие средства, как тесты Роршаха и тесты тематической апперцепции Марри, подтвердили свою полезность, однако те, кому довелось с ними работать, первыми осознали и их ограниченность. При нынешнем состоянии нашего знания нам все еще приходится во многом полагаться на неформальные наблюдения и субъективные суждения наблюдателя. К этим проблемам добавляется еще и то, что большая часть информации, которой мы располагаем о личности в неевропейских обществах – хотя ни в коем случае и не вся, – была собрана антропологами, имевшими весьма поверхностное знакомство с психологией. Для таких наблюдателей, к числу которых я отношу и себя (в тот период времени, когда была выполнена большая часть моей антропологической полевой работы), становится серьезной помехой их неведение относительно того, что следует искать и что необходимо регистрировать. Более того, сравнительный материал о разных неевропейских обществах, которые становились объектом изучения, плачевно скуден. Стремительность, с какой на протяжении последнего столетия аккультурировались или стирались с лица земли примитивные общества, привела к развитию особого образца антропологического исследования. Поскольку обществ, доступных для изучения, всегда было гораздо больше, чем антропологов, способных их изучить, и поскольку большинство этих обществ приходилось либо исследовать непосредственно, либо не исследовать вообще, каждый исследователь подыскивал для себя новую и неизвестную группу. В итоге, большая часть информации, находящейся в нашем распоряжении, была собрана в таких условиях, когда на одно общество приходилось по одному исследователю. Недостатки такого положения дел очевидны в любом случае, однако особенно они очевидны в связи с исследованиями личности. В полевых условиях, где очень многое зависит от субъективного суждения наблюдателя и от тех конкретных членов общества, с которыми ему удалось установить тесные контакты, личность наблюдателя становится фактором в каждом исследовательском документе. Будем надеяться, что с возрастанием числа антропологов и уменьшением числа неисследованных обществ этот образец эксклюзивности будет отброшен и исследования личности извлекут из этого свою соответствующую пользу.
Несмотря на откровенное признание этих сложностей и ограничений, которые могут быть устранены только временем, некоторые факты, по-видимому, можно считать прочно установленными. Все антропологи, которым довелось близко познакомиться с членами неевропейских обществ, в некоторых моментах по существу согласны друг с другом. Эти моменты следующие: (1) Нормы личности в разных обществах различны. (2) Члены каждого общества всегда будут проявлять значительную индивидуальную изменчивость личности. (3) Во всех обществах будут обнаруживаться почти один и тот же диапазон изменчивости личности и почти одни и те же личностные типы. Хотя антропологи базируют эти выводы на неформальных наблюдениях, результаты некоторых объективных тестов, по-видимому, их подтверждают. Так, например, роршаховские ряды, полученные в разных обществах, обнаруживают разные нормы для таких рядов как целостностей. Они обнаруживают также широкий диапазон индивидуальной изменчивости в каждом ряду и значительное частичное совпадение между рядами. Но даже если бы не было этого доказательства, невозможно было бы беспечно обойти вниманием консенсус мнений, существующий среди тех, кто в силу своего положения должен разбираться в данных вопросах. В отсутствие более полной и точной информации представляется оправданным принять эти выводы как факты и взять их в качестве отправной точки для нашего исследования роли культуры в формировании личности.
То, что нормы личности в разных обществах различны, вряд ли будет поставлено под сомнение хоть кем-нибудь, кому довелось столкнуться с обществами, отличными от своего собственного. На самом деле, средний индивид склонен даже скорее преувеличивать такие различия, нежели их преуменьшать. Единственный вопрос, который в этой связи, вероятно, возникнет, заключается в том, следует ли мыслить некое данное общество как обладающее единственной личностной нормой или как обладающее целым рядом разных личностных норм, каждая из которых связана с особой статусной группой внутри общества. Всякие затруднения с примирением этих двух точек зрения тут же исчезнут, стоит лишь нам увидеть их в правильном свете. У членов любого общества всегда будет обнаруживаться значительный набор общих элементов личности. Это могут быть элементы любой степени специфичности: от элементарных внешних реакций наподобие тех, которые включаются в «манеры поведения за столом», до в высокой степени обобщенных установок. Реакции последнего типа могут лежать в основе широкого спектра более специфических реакций индивида. Аналогичным образом, ценностно-установочные системы, разделяемые членами общества, могут отражаться в разных формах внешнего поведения, связанного со статусом. Так, например, в том или ином обществе мужчины и женщины могут разделять друг с другом общие установки в отношении женской стыдливости или мужской храбрости, однако поведение, связанное с этими установками, будет для каждого пола с необходимостью различаться. У женщин общие установки стыдливости будут находить выражение в конкретных образцах одежды или поведения, у мужчин – в более обобщенных реакциях одобрения или осуждения по отношению к тем или иным костюмам или формам поведения. Эти общие личностные элементы образуют в совокупности довольно прочно интегрированную конфигурацию, которую можно назвать базисным типом личности данного общества в целом. Существование этой конфигурации обеспечивает членов общества общими пониманиями и ценностями и делает возможной единую эмоциональную реакцию членов общества на те ситуации, в которых их общие ценности оказываются затронутыми.
В каждом обществе будут также обнаруживаться дополнительные конфигурации реакций, которые связаны с определенными социально отграниченными группами, существующими внутри общества. Так, практически во всех случаях будут существовать разные конфигурации реакций, характеризующие мужчин и женщин, подростков и взрослых, и т. д. В стратифицированном обществе можно наблюдать аналогичные различия между реакциями, характерными для индивидов из разных социальных слоев, таких, как благородное сословие, простолюдины и рабы. Эти конфигурации реакций, связанные со статусом, можно назвать статусными личностями. Они исключительно важны для успешного функционирования общества, поскольку позволяют его членам успешно взаимодействовать уже на основе одних только статусных образцов. Так, например, даже во взаимодействиях между абсолютными чужаками уже простое взаимное признание этими двумя вовлеченными в него индивидами социальных позиций друг друга позволяет каждому из них предсказывать, каким образом будет реагировать другой на большинство ситуаций.
В любом обществе признаваемые статусные личности накладываются на его базисный тип личности и глубоко интегрируются с ним. Однако они отличаются от базисного типа личности заметным перевесом на стороне специфических внешних реакций. Этот перевес выражен настолько явно, что можно было бы даже усомниться в том, вправе ли мы говорить, что статусные личности включают в свой состав какие-либо ценностно-установочные системы, отличные от тех, которые входят в состав базисной личности. Я, со своей стороны, считаю правомерным провести различие между знанием конкретной ценностно-установочной системы и участием в такой системе. Статусная личность редко будет включать в себя какие-либо ценностно-установочные системы, которые не были бы известны членам других статусных групп, хотя и могла бы сформировать таковые в условиях крайней межгрупповой враждебности. С другой стороны, она вполне может включать такие ценностно-установочные системы, в которых члены других статусных групп не участвуют. Так, например, свободные люди могут знать и допускать установки рабов, но реально их не разделять. Во всяком случае, именно специфические внешние реакции придают статусным личностям наибольшую долю их социальной значимости. До тех пор, пока индивид развивает эти реакции, он может успешно функционировать в статусе независимо от того, разделяет он связанные с ним ценностно-установочные системы или не разделяет. Неформальное наблюдение склоняет нас ко мнению, что такие случаи встречаются довольно часто во всех обществах. Специфические образцы реакций статусной личности преподносятся индивиду в простых, конкретных понятиях, которые облегчают их усвоение. Постоянно оказывается социальное давление, побуждающее к принятию этих образцов, верность им социально вознаграждается, а отклонение от них наказывается. Даже внутренние конфликты, которые могут возникнуть в ходе принятия специфического образца реакции, входящего в противоречие с одной из ценностно-установочных систем индивида, не вызывают сильных потрясений. Они, хотя и могут поначалу протекать бурно, имеют тенденцию утихать и в конечном счете исчезать по мере того, как реакция становится автоматизированной и бессознательной.
Каждое общество имеет свой особый базисный тип личности и свой особый ряд статусных личностей, которые отличаются в некоторых аспектах от соответствующих личностей любого другого общества. Практически все общества молчаливо признают этот факт, а многие из них располагают и его объяснениями. Наше общество до самого последнего времени строило свои объяснения этого факта, опираясь на биологические факторы. Считалось, что различия в базисном типе личности обусловлены определенной связью между расой и личностью. Различия же статусных личностей относились на счет сексуальных факторов (в случае мужского и женского статусов) или наследственности. Последнее объяснение не очень знакомо американцам – поскольку одним из наших культурных образцов является игнорирование существования каких-либо статусных личностей, кроме связанных с полом, – но зато является неотъемлемой частью европейской культуры. Народные сказки, унаследованные со времен жестко стратифицированного общества, изобилуют примерами того, как ребенок благородного происхождения, воспитанный приемными родителями низкого ранга, немедленно узнается своими настоящими родителями на основе своей благородной личности. Эти биологические объяснения являются хорошим примером того культурно передаваемого «знания», о котором шла речь в предыдущей главе. В нашем обществе они передавались на протяжении многих поколений, и лишь совсем недавно мы набрались смелости, чтобы подвергнуть их проверке в научном исследовании. Такому исследованию реально приходится иметь дело с тремя разными проблемами: (1) В какой степени личность определяется физиологическими факторами? (2) В какой степени такие физиологические детерминанты являются наследственными? (3) Какова вероятность того, что такие наследственные детерминанты окажутся рассеянными в обществе достаточно широко, чтобы оказать влияние на его базисный тип личности или – в стратифицированных обществах – на его статусные личности?
Мы уже увидели, что личность есть прежде всего конфигурация реакций, сформированных индивидом в результате его опыта. Этот опыт он в свою очередь черпает из взаимодействия со своей средой. Врожденные качества индивида будут оказывать сильное влияние на то, какого рода опыт он будет получать из этого взаимодействия. Так, конкретная окружающая ситуация для физически крепкого ребенка может иметь результатом один род опыта, а для слабого – совершенно другой. Опять-таки, существует множество ситуаций, которые будут иметь результатом один род опыта для умного ребенка и другой – для глупого. Между тем, очевидно также и то, что два ребенка с одинаковым интеллектом или силой могут черпать совершенно разный опыт из разных ситуаций. Если один из них в семье самый умный, а другой самый глупый, то их опыт и итоговые конфигурации реакций будут совершенно различными. Иначе говоря, хотя врожденные качества индивида и оказывают влияние на развитие личности, то, какого рода влияния они будут оказывать, будет в значительной степени обусловлено факторами среды. Все, что мы знаем в настоящее время о процессах формирования личности, показывает, что старую формулу «природа или воспитание» мы должны заменить новой формулой «природа плюс или минус воспитание». По-видимому, в нашем распоряжении имеется более чем достаточно данных, которые доказывают, что ни врожденные способности, ни среда не могут считаться постоянной доминантой в формировании личности. Более того, нам представляется, что различные комбинации того и другого могут производить примерно одинаковые результаты, поскольку речь идет о развитой личности. Так, любая комбинация врожденных факторов и факторов среды, помещающая индивида в безопасную и доминантную позицию, будет приводить к развитию определенных базисных установок; любая комбинация, сталкивающая его с небезопасностью и подчиненным положением, будет приводить к развитию других установок.
По-видимому, у нас есть все основания заключить, что врожденные, биологически детерминированные факторы не могут быть использованы для объяснения личностных конфигураций в целом или различных образцов реагирования (response patterns), включенных в такие конфигурации. Они действуют в качестве всего лишь одного из нескольких наборов факторов, ответственных за их формирование. Между тем, конфигурация личности складывается не из одних только образцов реагирования. Она заключает в себе некоторые элементы целостной организации, для обозначения которых используется расплывчатое выражение «темперамент индивида». В текущих определениях данного термина предполагается, что эти элементы являются врожденными и физиологически детерминированными, однако до сих пор сохраняется неясность относительно того, насколько это на самом деле так. Нам, например, неизвестно, является ли в действительности такая черта, как нервная неустойчивость, врожденным качеством, результатом влияний среды или – что выглядит наиболее вероятным – продуктом взаимодействия врожденных факторов и факторов среды. До тех пор, пока мы не получили ответа на этот вопрос, представляется наиболее благоразумным вывести темперамент за пределы обсуждения, признавая в то же время, что такое выведение неизбежно обусловит неокончательность наших выводов.
Помимо образцов реагирования и факторов «темперамента», каждая личностная конфигурация включает в свой состав способность поддерживать различные психологические процессы. Возможно, правильнее было бы здесь говорить о способностях, поскольку множество данных свидетельствует о том, что способности индивида в отношении осуществления разных процессов могут заметно различаться. Например, низкий интеллект может сочетаться с необычайной способностью к некоторым формам обучения и памяти. То, что существуют также индивидуальные различия в развитии тех или иных способностей, никто под вопрос не ставит, хотя эти различия – скорее различия в степени, нежели по типу. Так, все индивиды в какой-то мере способны к обучению и мышлению, однако степень их способности к этим процессам сильно отличается. Хотя способность и можно повысить с помощью тренировки и практики, наблюдаемые различия представляются слишком большими, чтобы их можно было объяснить, опираясь на одно только это основание. Так, например, можно поставить под сомнение, что какая-либо тренировка позволит среднему индивиду запомнить целиком всю Библию или повторить многие из зарегистрированных подвигов молниеносного калькулятора. Мы вынуждены заключить, что есть ряд врожденных факторов, устанавливающих верхние границы возможного развития тех или иных психологических способностей, и что эти факторы варьируют от одного индивида к другому. Мы можем допустить также, что такие факторы имеют определенную физиологическую основу, хотя у нас пока нет ясного представления о том, какой эта основа могла бы быть.
Итак, оказывается, что физиологические факторы не могут считаться ответственными за развитие тех образцов реагирования, которые составляют большую часть личности, однако могут отчасти определять психологические способности индивида. А это сразу же подводит нас к второму вопросу: «В какой степени такие физиологические детерминанты являются наследственными?» К сожалению, мы не можем решить эту проблему на основе наших нынешних знаний и методов. Нет такого способа, с помощью которого можно бы было аналитически вычленить психологические способности индивида в «чистом» виде. Мы можем судить о них лишь по внешним проявлениям, а последние всегда находятся под влиянием прошлого опыта. Неудовлетворительные результаты, достигаемые нами даже в том случае, когда к группам с разными культурными основаниями применяются лучшие тесты измерения интеллекта, ясно это подтверждают. Все это делает невозможным описание врожденных способностей индивидов в таких категориях, которые необходимы для проведения реального генетического исследования. Мы никогда не можем сказать, в какой степени уровень развития интеллекта, внешне проявляющийся у того или иного индивида, предопределен наследственностью, а в какой степени – предоставленными ему возможностями. Если допустить, что психологические способности имеют физиологическую основу, то кажется в высокой степени вероятным, что по меньшей мере некоторые из задействованных физиологических факторов подвержены влиянию наследственности. В то же время данные, которыми мы располагаем, например, относительно проявления разных уровней психологической одаренности, по-видимому, указывают на то, что напрямую они не наследуются. Их проявление у индивидов с известной наследственностью невозможно предсказать в таких же простых математических категориях, как, скажем, появление того или иного цвета глаз. Учитывая почти бесконечный ряд индивидуальных градаций в проявлении этих способностей, было бы удивительно, если бы они наследовались напрямую. Наиболее вероятным будет, по-видимому, такое объяснение, что физиологические факторы, ответственные за конкретный уровень развития способности, являются следствием некоторых чрезвычайно сложных комбинаций генов и что в наследственности эти комбинации как целостные единицы не фигурируют.
Даже если это объяснение верно, оно не отвергает возможности того, что базисный тип личности того или иного общества может, в некоторых случаях, испытывать влияние наследственных факторов. Члены любого общества обычно предрасположены заключать браки друг с другом. Если общество способно на протяжении достаточно большого промежутка времени сохранять свою обособленность, то все его члены в итоге будут обладать почти одинаковой наследственностью. Временной промежуток, требуемый для достижения этого состояния, будет зависеть от размера той первоначальной группы, от которой происходят члены данного общества, а также от гомогенности предков этой группы. Чем крупнее первоначальная группа и чем более гетерогенны ее истоки, тем больший промежуток времени требуется для установления гомогенной наследственности у ее потомков. Когда гены, необходимые для образования некой особой комбинации, наличествуют у подавляющего большинства членов общества, шансы появления этой комбинации у их потомства колоссально возрастают. Стало быть, имеются все возможности для того, чтобы небольшая популяция, долгое время находившаяся в изоляции, стала включать в себя значительную долю индивидов, находящихся на особой ступени развития психологической одаренности. Даже в обществах, основанных на кровнородственных связях, всегда обнаруживается значительный диапазон индивидуальной изменчивости, так что самый глупый член умной группы вполне может быть умнее самого умного члена глупой группы. Так или иначе, базисный тип личности в любом обществе определяется средними величинами, а эти средние величины могут отличаться от общества к обществу в результате действия наследственных факторов. По указанным причинам такие наследственные различия в психологических способностях будут особенно часто проявляться в небольших «примитивных» обществах, которым по большей части посвящены антропологические исследования.
Может показаться, что предшествующее обсуждение возможности наследственных различий в психологических нормах разных обществ перегружено излишними деталями. Однако даже среди антропологов сохраняются значительные разногласия по этому вопросу. Одни принимают существенные различия во врожденных способностях большинства обществ как нечто само собой разумеющееся, другие категорически отрицают возможность самого существования таких различий. Похоже, что ни те, ни другие не потрудились проанализировать свою точку зрения в свете современных познаний в области генетики. Истина почти наверняка лежит где-то между этими двумя крайностями. Маленькие общества, пребывавшие в долгой изоляции, вероятно, и в самом деле отличаются от других врожденными психологическими задатками. С другой стороны, члены большинства крупных – и, по сути дела, всех цивилизованных – обществ настолько гетерогенны по своей наследственности, что любое физиологическое объяснение наблюдаемых различий в личностных нормах таких обществ будет совершенно несостоятельным. Например, генетические различия между французами и немцами настолько незначительны по сравнению с различиями в их личностных нормах, что просто смешно пытаться объяснить последние на основе генетики. Даже ярым немецким расистам пришлось ввести для поддержания своих представлений о расовом превосходстве мистическое понятие нордической души, способной к воплощению в средиземноморском или альпийском теле.
Одними из первых, кто признал неадекватность объяснения различия личностных норм в разных обществах наследственными психологическими факторами, были американские антропологи, возглавляемые покойным д-ром Боасом. Решительно поднявшись на борьбу с доктринами расового неравенства и руководствуясь стремлением доказать сущностное единство нашего вида, они, к сожалению, упустили один важный момент. Процессы научного развития, помимо простого сбора фактов, являются прежде всего процессами замещения. Когда накопление знания приводит к тому, что какое-то объяснение некоторого явления становится несостоятельным, должно быть разработано новое, лучшее, объяснение. Недостаточно простого указания на то, что принятое прежде объяснение было неверным. То, что личностные нормы в разных обществах различны, – это наблюдаемый факт. Но вместо того, чтобы чистосердечно признать его и попытаться объяснить, некоторые антропологи направили свои усилия на попытки преуменьшить степень и значимость таких различий. Они собрали много данных, свидетельствующих о том, что эти различия, охотно ими признаваемые, не могут быть обусловлены расовыми факторами, однако крайне мало сделали для того, чтобы сформулировать какое-либо лучшее объяснение. Мнение, будто различия в личностных нормах разных обществ обусловлены врожденными наследственными факторами, имеет глубокие корни в массовом мышлении. И искоренить его будет невозможно до тех пор, пока наука не будет готова предложить лучшее объяснение. Верить в то, что все человеческие группы обладают одними и теми же психологическими способностями, не предпринимая при этом никаких попыток объяснить их вполне очевидные различия, проявляющиеся во внешнем поведении и даже в ценностно-установочных системах, – для этого требуется такая степень веры в научный авторитет, к которой способны лишь очень немногие индивиды. Даже общие утверждения о том, что наблюдаемые различия обусловлены культурными факторами, остаются неубедительными до тех пор, пока не сопровождаются объяснениями того, что это за факторы и как они действуют.
Наше обсуждение возможной роли наследственных факторов в детерминации личностных норм разных обществ должно было ясно показать, что эти факторы совершенно неадекватны для объяснения многих наблюдаемых различий. Единственная альтернатива состоит в том, чтобы допустить, что такие различия можно отнести на счет влияния тех особых сред, в которых члены разных обществ воспитываются. Как уже ранее было отмечено, факторами среды, которые оказываются наиболее важными в связи с формированием личности, являются люди и вещи. Поведение членов любого общества и формы большинства объектов, которые ими используются, в значительной степени стереотипизированы и могут быть описаны в категориях культурных образцов. Когда мы говорим, что развивающаяся личность индивида формируется культурой, мы в действительности имеем в виду, что она формируется тем опытом, который он черпает из своего контакта с такими стереотипами. То, что она и в самом деле формируется в весьма значительной степени такими контактами, вряд ли будет оспорено хоть кем-то, кто знаком с фактическими данными; однако в литературе по этому вопросу был, на наш взгляд, почти полностью проигнорирован один важный аспект этого формообразующего процесса.
Влияния, оказываемые культурой на развивающуюся личность, бывают двух совершенно разных типов. С одной стороны, мы имеем влияния, проистекающие из сформированного по культурному образцу (culturally patterned) поведения других индивидов по отношению к ребенку. Они начинают действовать с момента рождения и имеют первостепенное значение в период младенчества. С другой стороны, мы имеем влияния, проистекающие из наблюдения индивидом образцов поведения, характерных для его общества, и его приучения к ним. Многие из этих образцов не воздействуют на него непосредственно, однако снабжают его моделями для развития собственных привычных реакций на разные ситуации. Эти влияния не играют сколь-нибудь значительной роли в раннем младенчестве, однако воздействие на индивида продолжается на протяжении всей его жизни. Неразличение этих двух типов культурного влияния привело к колоссальной путанице.
Необходимо сразу же признать, что эти два типа влияния частично накладываются друг на друга. Сформированное в соответствии с культурным образцом поведение, направленное на ребенка, может служить моделью для развития некоторых его собственных поведенческих образцов. Этот фактор начинает действовать сразу же, как только ребенок становится достаточно взрослым, чтобы наблюдать и запоминать, что делают другие люди. Когда он, став взрослым, сталкивается с бесчисленными проблемами, связанными с воспитанием уже собственных детей, он ищет руководства в этих детских воспоминаниях. Так, почти в любом американском сообществе мы находим родителей, которые отдают своих детей в воскресную школу в силу того, что и их самих когда-то отдавали в воскресную школу. Тот факт, что они, будучи взрослыми, безусловно предпочитают гольф посещению церкви, почти не ослабляет этот образец. Однако этот аспект образцов воспитания ребенка, свойственных любому обществу, является скорее второстепенным на фоне того влияния, которое оказывают такие образцы на формирование личности. Самое большее, он будет гарантировать, что дети, рождающиеся в том или ином обществе, будут из поколения в поколение воспитываться более или менее одинаково. Реальная значимость образцов ухода за младенцем и воспитания ребенка кроется в их воздействии на более глубокие уровни личностей тех индивидов, которые воспитываются в соответствии с ними.
Считается общепризнанным, что первые годы жизни индивида имеют решающее значение для складывания в высокой степени генерализованных ценностно-установочных систем, образующих глубинные уровни содержания личности. Первое осознание этого факта возникло при изучении атипичных индивидов в нашем собственном обществе и открытии того, что некоторые их особенности стабильно связаны с определенными видами нетипичных детских переживаний. Распространение исследований личности на другие общества, где нормальные образцы воспитания ребенка и нормальные конфигурации личности взрослых были отличными от наших, лишь подчеркнуло значимость самого раннего обусловливания. Многие «нормальные» аспекты европейских личностей, которые мы поначалу считали обусловленными инстинктивными факторами, ныне признаются следствием наших особых образцов ухода за детьми. Хотя изучение связей между принятыми в разных обществах методами воспитания и базисными типами личности их взрослых членов едва только началось, мы, по-видимому, уже достигли той стадии, когда можно разглядеть некоторые корреляции. Хотя в такой короткой дискуссии, как здесь, невозможно перечислить все эти корреляции, в качестве иллюстрации можно привести несколько примеров.
В обществах, где культурный образец предписывает ребенку абсолютное послушание по отношению к родителю как необходимое условие получения всякого рода вознаграждения, типичный взрослый обычно будет индивидом уступчивым, зависимым и лишенным инициативы. Хотя он в значительной степени забыл детские переживания, приведшие к утверждению у него этих установок, первой его реакцией на любую новую ситуацию будет обращение к какому-нибудь авторитетному лицу за поддержкой и руководством. В этой связи следует заметить, что существует много обществ, где образцы воспитания ребенка настолько действенно формируют взрослые личности этого типа, что развились даже специальные техники подготовки немногих избранных индивидов к лидерству. Так, например, у танала на Мадагаскаре со старшими сыновьями с самого рождения обращаются иначе, чем с младшими, и такое особое обращение нацелено на развитие у них инициативы и готовности к принятию ответственности, в то время как в отношении других детей систематически применяются дисциплинарное воздействие и подавление. Опять-таки, индивиды, воспитываемые в очень небольших семейных группах нашего типа, склонны сосредоточивать свои эмоции и предвосхищения вознаграждений и наказаний на немногих других индивидах. Тем самым они бессознательно возвращаются в детство, когда все удовлетворения и фрустрации исходили со стороны их отцов и матерей. В обществах, где ребенок воспитывается в расширенной семье, окруженный многочисленными взрослыми, каждый из которых может либо вознаградить, либо наказать, нормальная личность будет развиваться в противоположном направлении. В таких обществах средний индивид неспособен к прочным и долговременным чувствам привязанности или ненависти в отношении тех или иных конкретных лиц. Все личностные взаимодействия становятся воплощением бессознательной установки: «Ну и хорошо, другого найдем». Трудно даже помыслить, чтобы в культуре этих обществ могли воплотиться такие, например, образцы, как столь привычные для нас представления о романтической любви или о необходимости найти единственного спутника жизни, без которого жизнь была бы лишена всякого смысла.
Такие примеры можно было бы множить до бесконечности, однако и уже перечисленные выше показывают, какого рода корреляции мы получаем в настоящее время из исследований личности и культуры. В этих корреляциях отражаются сцепления простого и очевидного типа, и уже сейчас ясно, что такие однозначные причинно-следственные связи составляют меньшинство. В большинстве случаев нам приходится иметь дело со сложными конфигурациями образцов воспитания ребенка, которые в своей сумме производят личностные конфигурации взрослого. Тем не менее, никто из тех, кому известны уже достигнутые на данный момент результаты, не может сомневаться в том, что именно здесь лежит ключ к большинству тех различий в базисном типе личности, которые приписывались до сих пор воздействию наследственных факторов. Своими разными личностными конфигурациями «нормальные» члены разных обществ обязаны не столько генам, сколько в гораздо большей степени своим нянькам.
Притом что культура любого общества определяет глубинные слои личностей его членов посредством особых методов воспитания, которые применяются в ней по отношению к детям, ее влияние этим не исчерпывается. Она продолжает формировать и остальную часть их личностей, предоставляя модели для их специфических реакций. Последний процесс продолжается на протяжении всей человеческой жизни. По мере того как индивид достигает зрелости, а впоследствии стареет, он постоянно должен отучаться от старых образцов реагирования, перестающих быть эффективными, и усваивать новые, более подходящие для занимаемого им в данный момент места в обществе. На каждом этапе этого процесса проводником ему служит культура. Она не только дает ему образцы (models) для его изменяющихся ролей, но и гарантирует, что эти роли будут в целом совместимыми с его глубоко укорененными ценностно-установочными системами. Все образцы (patterns) в рамках одной отдельно взятой культуры обычно проявляют своего рода психологическую согласованность, причем совершенно независимо от их функциональных взаимосвязей. За редкими исключениями, «нормальный» индивид, который их придерживается, не должен будет делать ничего такого, что было бы несовместимым с более глубокими слоями его личностной структуры. Даже в том случае, когда одно общество будет заимствовать образцы поведения у другого, эти образцы обычно будут модифицироваться и перерабатываться до тех пор, пока не будут приведены в соответствие с базисным типом личности заимствующих. Нетипичного индивида культура может заставить придерживаться таких форм поведения, которые для него отвратительны, но когда такое поведение отвратительно для подавляющего большинства членов общества, культура должна уступить.
Обратимся к другой стороне медали. Усвоение новых образцов поведения, согласующихся с генерализованными ценностно установочными системами индивида, обычно укрепляет эти системы и с течением времени более прочно их утверждает. Индивид, проводящий всю свою жизнь в обществе с достаточно стабильной культурой, обнаруживает, что по мере того, как он становится старше, его личность становится все более прочно интегрированной. Его юношеские сомнения и вопрошания относительно имплицитных установок своей культуры исчезают по мере того, как он подкрепляет их своей приверженностью такому внешнему поведению, которое предписывается его культурой. Со временем он становится столпом общества, неспособным понять, как у кого-то вообще могут возникать такого рода сомнения. Хотя этот процесс может и не способствовать прогрессу, он определенно доставляет индивиду удовлетворение. Состояние такого человека – бесконечно более счастливое, нежели состояние того, кто оказывается вынужденным придерживаться образцов внешнего поведения, которые не согласуются с ценностно-установочными системами, сформированными его самым ранним опытом. Результат таких несоответствий можно наблюдать у многих индивидов, которым пришлось приспосабливаться к быстро изменяющимся культурным условиям, таким, например, какие присущи нашему обществу. И даже еще более это очевидно в случае тех людей, которые, начав свою жизнь в одной культуре, пытаются приспособиться к другой. Это «маргинальные люди», незавидное положение которых признается всеми, кому довелось работать с феноменом аккультурации. Установившиеся в раннем возрасте ценностно-установочные системы таких индивидов, не получая подкрепления от постоянного своего выражения во внешнем поведении, ослабевают и перекрываются. В то же самое время они, по-видимому, редко (если вообще) уничтожаются и еще реже заменяются новыми системами, согласующимися с тем культурным окружением, в котором индивид вынужден жить. Аккультурированный индивид может научиться действовать и даже мыслить в культурных категориях своего нового общества, но не может научиться в этих категориях чувствовать. Везде, где бы от него ни требовалось принятие решения, он оказывается плывущим без руля и ветрил и лишенным каких бы то ни было фиксированных точек опоры.
Итак, факт, что нормы личности в разных обществах различны, можно объяснить, исходя из различия опыта, который приобретается членами этих обществ из контакта со своими культурами. В случае немногочисленных маленьких обществ, члены которых имеют гомогенную наследственность, нельзя исключать роль физиологических факторов в определении психологических способностей большинства этих членов, однако число таких случаев явно невелико. Даже если общие наследственные факторы и присутствуют, они могут оказывать воздействие только на способности к реагированию. Сами по себе они никогда не бывают достаточными для объяснения разного содержания и разной организации, которые мы обнаруживаем в базисных типах личности разных обществ.
Ранее в этой главе я привел три вывода, к которым пришли антропологи в ходе исследования личности в самых разных обществах и культурах. То, что нормы личности в разных обществах различны, – только первый из них. Необходимо еще объяснить, почему члены любого общества всегда проявляют значительную индивидуальную изменчивость личности и почему во всех обществах присутствуют, по-видимому, почти один и тот же диапазон личностной изменчивости и почти одни и те же личностные типы. Первая из этих проблем не представляет больших затруднений. Никакие два индивида, даже идентичные близнецы, никогда не будут в точности одинаковыми. Члены любого общества – вне зависимости от того, насколько тесные кровнородственные связи их объединяют, – отличаются генетически заданными способностями к росту и развитию. Более того, на развертывание этих способностей оказывают влияние самые разные факторы среды. С момента своего рождения индивиды будут отличаться физическими размерами и силой; несколько позднее проявляются различия в интеллекте и в способности к обучению. Ранее уже говорилось, что процесс формирования личности, по-видимому, являет собою прежде всего процесс интеграции опыта. Этот опыт, в свою очередь, вытекает из взаимодействия индивида со своей средой. Отсюда следует, что даже идентичные среды, если такие вообще можно помыслить, будут снабжать разных индивидов разными переживаниями и иметь следствием развитие у них разных личностей.
В действительности ситуация гораздо сложнее. Даже в наибольшей степени интегрированные общество и культура дают индивидам, которые в них воспитываются, среды, далекие от единообразия. Культура дается индивиду в поведении других людей и в его контактах с объектами, которые члены его общества привычным образом изготавливают и используют. Последний аспект культурной среды может быть достаточно единообразным в некоторых простых обществах, где комбинация общей бедности и образцов распределения предотвращает развитие отчетливо выраженных различий в жизненных стандартах, однако такие общества определенно находятся в меньшинстве. В большинстве же сообществ различные семейно-домашние группы варьируют по степени своей оснащенности и тем самым обеспечивают детей, которые в них воспитываются, несколько разными физическими средами. Мы не знаем, насколько значимы такого рода различия для формирования личности, но всё говорит о том, что по своему значению они скорее второстепенны. Люди оказывают на развивающегося индивида бесконечно большее влияние, нежели вещи. В частности, тесный и постоянный контакт, который ребенок поддерживает с членами своей семьи, будь то родители или сиблинги, по-видимому, играет решающую роль в формировании его генерализованных ценностно-установочных систем. Не говоря уж о том, что опыт, который он может вынести из таких контактов, так же изменчив, как и индивиды, в него вовлеченные. Даже самые жесткие культурные образцы допускают некоторую меру гибкости в индивидуальном поведении, образцы же семейных отношений вообще не могут быть слишком жесткими на практике. Кто-то сказал однажды: «Ничто так не постоянно, как брак», – и можно бы было сказать то же самое об отношениях «родитель-ребенок». Повторяющиеся личностные взаимодействия приводят к развитию индивидуальных образцов поведения, диапазон изменчивости которых ограничивается лишь страхом перед тем, что могут сказать соседи. Даже действуя в пределах, навязанных культурой, родители в любом обществе могут быть любящими или равнодушными, строгими или снисходительными, источником помощи и безопасности во взаимодействиях ребенка с аутсайдерами либо дополнительной угрозой в и так насквозь враждебном мире. Индивидуальные различия и различия среды могут входить друг с другом в чуть ли не бесчисленные множества всевозможных перестановок и сочетаний, и в равной степени изменчив тот опыт, который разные индивиды могут из них почерпнуть. Этого факта вполне достаточно для объяснения различий в содержании личности, которые обнаруживаются среди членов любого общества.
Вопрос о том, почему во всех обществах присутствуют, по-видимому, почти один и тот же диапазон личностной изменчивости и почти одни и те же личностные типы, – более сложный. Здесь среди антропологов гораздо меньше единодушия, чем по предыдущим вопросам. Большинство антропологов, которым довелось иметь тесные контакты с несколькими разными обществами, считают, что так оно и есть, однако подлинное доказательство или опровержение этого тезиса должно подождать, пока будут разработаны более совершенные методики диагностики личности. Необходимо также понять: когда антропологи говорят, что, по-видимому, во всех обществах, несмотря на заметные различия в частоте своего проявления, присутствуют приблизительно одни и те же личностные типы, термин «личность» используется в особом смысле. Большинство специфических реакций индивидов всегда укладывается в границы, установленные культурой, и было бы излишним ожидать обнаружения их дублирования у членов разных обществ. Что антрополог имеет в виду, так это то, что когда вы достаточно познакомитесь с чужой культурой и с индивидами, которые ее разделяют, вы обнаружите, что эти индивиды в основе своей такие же, как и различные люди, с которыми вы были знакомы в своем обществе. Если специфические, сформированные по культурному образцу реакции двух индивидов будут различными, то их способности и базисные ценностно-установочные системы будут во многом одинаковыми. Этот род соизмерения не требует какой-либо проработанной типизации личностей в технических терминах. Он требует только близкого и сочувственного знания соответствующих индивидов и культур. Необходимо досконально ознакомиться с культурой другой группы, прежде чем различия между индивидуальными нормами поведения и культурными нормами станут достаточно очевидными для того, чтобы стать руководством в суждениях о глубинных уровнях индивидуальных личностей.
Сходства в уровнях способностей членов разных обществ объяснить несложно. В конце концов, все люди члены одного вида, а раз так, то для всех обществ потенциальный диапазон изменчивости должен быть почти одинаковым. Сложнее объяснить сходства в генерализованных ценностно-установочных системах индивидов, воспитанных в разных культурных средах. Между тем, не может быть никаких сомнений в том, что они проявляются. В свете нашего нынешнего знания наиболее убедительным, по-видимому, будет объяснение, что они являются прежде всего результатом сходных семейных ситуаций, воздействующих на индивидов, обладающих сходным уровнем способностей. Ранее уже отмечалось, что культурные образцы взаимодействий между членами семьи всегда допускают значительный диапазон индивидуальной изменчивости. Во всех обществах личности, вовлеченные в семейные ситуации, имеют тенденцию располагаться в примерно одинаковые порядки доминирования и развивать примерно одинаковые образцы приватного, неформального взаимодействия. Так, даже в самых суровых патриархальных обществах можно встретить поразительно много семей, в которых доминирует жена и мать. На публике она может выказывать преувеличенное почтение к своему мужу, однако ни у него, ни у детей не будет никаких сомнений относительно того, в чьих руках находится реальная власть. Опять-таки, существует внушительный ряд биологически обусловленных ситуаций, которые повторяются повсюду, независимо от культурного окружения. В каждом обществе будут дети старшие и младшие, единственные и те, кого воспитывают как членов широкой сиблинговой группы, дети слабые, болезненные и сильные, энергичные. То же касается и различного рода взаимоотношений «родитель-ребенок». Среди детей есть любимчики, дети желанные и нежеланные, примерные сыновья и негодники, за которыми приходится постоянно следить и которых нужно постоянно воспитывать. Даже действуя в культурно установленных границах родительского авторитета, одни родители могут быть любящими и снисходительными, другие же – находить садистское наслаждение в осуществлении на полную мощь своих дисциплинарных функций. Каждая из этих ситуаций будет создавать для индивида особый род раннего опыта. Когда сходные в существенных чертах индивиды попадают в разных обществах в сходные семейные ситуации, результатом становится заметное сходство в глубинных уровнях их личностных конфигураций.
Хотя только что рассмотренные семейные ситуации функционируют, так сказать, на суб-культурном уровне, на частоту, с которой в конкретном обществе будет возникать та или иная ситуация, будут оказывать влияние культурные факторы. Так, например, в суровом патриархальном обществе жене гораздо сложнее установить свой контроль, чем в матриархальном. В первом случае она должна действовать вопреки принятым правилам супружеских взаимоотношений и храбро противостоять всевозможного рода социальным давлениям. Только женщина с очень сильным характером или с очень слабым мужем будет способна установить свое господство. Во втором случае любая женщина с обыкновенной силой характера может с помощью социальных давлений доминировать в семейно-домашней группе. В каждом обществе в подавляющем большинстве семей межличностные отношения между их членами будут приближаться к установленным данной культурой нормам. Отсюда следует, что большинство детей, воспитанных в конкретном обществе, будут попадать в сходные семейные ситуации и обладать многими общими элементами даже на глубинных уровнях своих личностей. Изучение широкого спектра обществ, судя по всему, подтверждает этот вывод. В каждом случае удается установить многочисленные корреляции между культурными образцами семейной организации и воспитания и базисным типом личности взрослых членов общества.
Итак, культуру следует рассматривать как доминирующий фактор в установлении базисных типов личности разных обществ, а также ряда статусных личностей, характерных для каждого общества. Необходимо помнить, что базисные типы личности и статусные личности как образцы культурных конструктов (culture construct patterns)7* представляют собой модели, располагающиеся в некоторых границах изменчивости. Сомнительно, чтобы действительная личность какого-либо индивида соответствовала когда-нибудь во всех своих аспектах любой из этих абстракций. Что касается формирования индивидуальных личностей, то культура действует в качестве одного из его факторов, наряду с другими, в число которые входят также физиологически заданные способности индивида и его взаимоотношения с другими индивидами. Можно почти не сомневаться в том, что в некоторых случаях за формирование той или иной конкретной личностной конфигурации будут в первую очередь отвечать не культурные, а другие факторы. Однако, по-видимому, в большинстве случаев культурные факторы являются доминантными. Мы находим, что во всех обществах личности «средних», «нормальных» индивидов, удерживающие общество на его привычных путях, могут быть объяснены в категориях культуры. В то же время мы обнаруживаем, что все общества включают нетипичных индивидов, чьи личности выпадают из нормального диапазона изменчивости, существующего для данного общества. Причины появления таких отклоняющихся личностей пока еще не вполне понятны. Безусловно, отчасти они складываются под влиянием случайностей среды и опыта на ранних стадиях развития. Насколько могут быть причастны к этому другие, генетически детерминированные факторы, мы пока не можем сказать.
Подводя дискуссию к концу, я остро сознаю, как много было проблем, на которые я только указал, не будучи способным дать их решение. Сознаю я также и то, в какой степени мне пришлось положиться на методы, которые покажутся ненаучными тем, кто считает науку нераздельно связанной с лабораторией и логарифмической линейкой. Исследователи, изучающие культуру, общество и индивида, а также сложные взаимосвязи между этими феноменами, являются первопроходцами и, подобно иным первопроходцам, вынуждены довольствоваться грубыми и готовыми методами. Они несут свою вахту на уединенных сторожевых постах, возведенных наукой на границах нового континента. Даже самые долгие их экспедиции в неведомое были всего лишь скромными вылазками, после которых оставались неразведанными огромные районы. Те, кто придет им на смену, смогут нарисовать карты, отвечающие требованиям точной науки, и освоить недра. Первопроходцы могут лишь продвигаться вперед, поддерживаемые верой в то, что где-то на этой обширной территории сокрыто знание, которое вооружит человека для его величайшей победы – покорения самого себя.
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: Linton R. The Cultural Background of Personality. N. Y: Appleton, 1945. P. 55–82, 125–153.
1* В антропологии термин «банда» (англ. band) обозначает не «преступную группировку», как в обыденном русском словоупотреблении, а небольшую организованную социальную группу, как правило кочевую, обладающую высокой степенью внутренней интеграции.
2* Здесь Линтон употребляет понятие «классовое общество» в специфическом, несколько непривычном смысле: имеется в виду не общество, разделенное на классы, а общество некоторого класса как особая партикулярная группировка в пределах более широкого общества, которая может выполнять роль «первичного общества» и именно в этом смысле обладать особой «культурой» как совокупностью отличающих ее «образцов» (особых форм поведения, ценностей, установок и т. п.).
3* В Англии публичная школа (public school) – привилегированное частное учебное заведение, готовящее к поступлению в университет детей состоятельных родителей, в Америке – бесплатная общеобразовательная школа.
4* В социологии и социокультурной антропологии, главным образом американской, при описании характеристик, которыми индивидуум наделяется исходя из его природных параметров (пола, возраста и т. д.). используется термин «аскрипция» (от лат. ascriptio – приписывание) При этом «аскрипция» (прежде всего в теории Парсонса) противопоставляется «достижению», а «аскриптивные» качества, которыми индивид наделяется помимо своей воли, независимо от выбора, решений и т. д., – «достигаемым» качествам, которые индивид приобретает благодаря личным усилиям. Часто используемая в отечественной литературе трактовка ascription как «предписания», a ascribed как «предписанного» не всегда правильно передает смысл термина и порой всерьез его искажает. Правильнее говорить здесь о «приписывании» или «атрибуции» (см.: Новый Большой англо-русский словарь. В 3-х т. / Апресян Ю.Д. и др. М.: Русский язык, 1993 Т. 1. С. 147.
5* Стоячий воротничок (reversed collar), белый с черной вставкой спереди, является отличительным атрибутом одежды протестантских пасторов.
6* Положение обязывает (фр.).
7* Это понятие рассматривается Линтоном в главе 2 данной работы. По сути, речь идет об «идеально-типическом» характере понятий «базисный тип личности» и «статусная личность».
Перевод В.Г. НиколаеваХаллоуэл А. И. Культура, личность и общество
Если подходить исторически, то специальный интерес к проблемам области, наиболее известной как «личность и культура», и систематическое исследование этих проблем в антропологии получили развитие в XX в.1 Хотя эту область в значительной степени присвоили себе американские антропологи, в Англии связь антропологии с психологией еще в 1923 г. стала темой президентского обращения Ч. Дж. Селигмена к Королевскому Антропологическому Институту2, а Леви-Строс во введении к посмертному переизданию статей Марселя Мосса (1950) привлек внимание к тому, насколько тот примерно тогда же предвосхитил, как кажется, некоторые позднейшие направления развития рассматриваемой области.
Несмотря на то, что дихотомия3, предполагаемая самим выражением «культура и личность», в некоторой степени вводит нас в заблуждение, нельзя упускать из виду важный исторический факт. Дифференциация предметов исследования и точек зрения, начавшаяся в эпоху Просвещения и приведшая впоследствии к кристаллизации отдельных дисциплин и дисциплинарных подразделов, известных нам в настоящее время под именем социальных и психологических наук, хотя и способствовала прогрессу познания в высокоспециализированных областях, никоим образом не давала всех конечных ответов на множество вечных вопросов, касающихся природы и поведения человека. Некоторые из этих вопросов неизбежно остаются в общем ведении нескольких дисциплин, а потому их взаимное плодотворное сотрудничество не только неизбежно, но и может стать крайне полезным. Фрейдовская концепция человеческой природы, особенно его модель теории личности, оказавшая в нашем столетии колоссальное воздействие на психологические и социальные дисциплины, разрабатывалась независимо не только от экспериментальной психологии, но и от понятия культуры, развиваемого в антропологии. Следовательно, само соединение терминов «личность» и «культура» дает скрытый ключ к одной из основных особенностей тех исследований, которые проводятся под этой рубрикой. Их достижение состоит в том, что они переключили внимание на проблемы, имеющие фундаментальное значение для более глубокого понимания природы человека, его поведения, а также первичной значимости культуры, на более широком (inclusive) уровне интеграции. А это, принимая во внимание существующую ныне организацию знания, с необходимостью предполагает междисциплинарную перспективу.
Теорию научения, которую независимо от психоаналитических и психиатрических теорий личности разрабатывали в последние десятилетия психологи, можно привести как еще один пример специализированного знания, которое становится все более подходящим для антропологии на этом уровне междисциплинарной интеграции. Хотя еще со времен классического определения Тайлора культура понималась как явление, базирующееся на процессе научения, без интенсивных психологических исследований в нашей дисциплине невозможно продвинуться дальше простейших гипотез. Лишь несколько лет прошло с тех пор, как профессор Крёбер, обсуждая вопрос о том, «что такое культура», а также употребление таких терминов, как «социальная наследственность» и «социальная традиция», весьма уместно заметил (1948, р. 253), что «культуру в большей степени характеризует, быть может, не то, что она собой представляет, а то, как она складывается». Именно на вопросы «как» по большей части и нацелено изучение личности и культуры. Углубленное познание того, как человек подготовляется к такому типу взрослой жизни и социального участия, который подготавливает его к одному виду культуры, а не к другому, а также к передаче его другим людям, необходимо требует – наряду с оценкой задействованных в этом процессе культурных детерминант – теории научения, а также теории личности. Проработанная теория научения имеет непосредственное значение для прогресса в познании целостного процесса передачи культуры, а также процессов, заключенных в аккультурации и культурном изменении. Интегрированное знание такого рода вряд ли может остаться без внимания со стороны всех социальных наук. В конечном счете именно оно должно проложить дорогу к формулировкам, имеющим большую предсказательную силу, нежели утверждения, что «культура всегда приобретается человеческими индивидами» или что культура есть наше «социальное наследие», передаваемое из поколения в поколение благодаря процессу обусловливания, в отличие от нашей биологической наследственности, передаваемой через «зародышевую плазму». Сегодня последний термин выглядит устаревшим вследствие нашего возросшего знания о генах и о том, как они функционируют. Вместе с тем, мы до сих пор гораздо меньше знаем о том, как в действительности передается культура. Нельзя не напомнить в этой связи об одной из центральных проблем антропологии, как ее понимал Боас. Согласно Бенедикт4, «сам он часто говорил, что этой проблемой является связь между объективным миром и субъективным миром человека в той форме, которую она принимает в различных культурах». Действительные процессы и механизмы человеческого приспособления, которые делают возможной для нашего биологического вида эту уникальную взаимосвязь, предполагают знание, выходящее за пределы описательных фактов культуры.
Сегодня наметились многочисленные точки соприкосновения интересов антропологов и ученых, работающих в психологических дисциплинах (психоаналитиков, психиатров, специалистов в области теории научения, теории восприятия и социальной психологии, и т. д.), а также социологов и представителей других социальных наук. И эти связи, в особенности с представителями первой группы, сформировались не на основе какого-либо существующего в настоящее время корпуса организованного знания и теории, а главным образом на почве тех потенциальных возможностей, которые были усмотрены в исследованиях личности и культуры. Представляется вероятным, что эти области взаимного интереса будут и далее развиваться и интенсифицироваться. Именно из такого взаимообмена может родиться прочное ядро знания и теории, непосредственно релевантное для всех дисциплин, которые в настоящее время занимаются человеческим поведением, личностью и социальными отношениями5.
Все социальные и психологические дисциплины должны принимать те или иные допущения относительно природы человека, общества, культуры и личности6, независимо от того, о каких областях специализированного исследования идет речь. Помимо всего прочего, они должны принимать определенную установку относительно положения человека в природном универсуме, а также необходимых и достаточных условий7, или предпосылок, человеческого существования, в противоположность дочеловеческому существованию. Именно отсутствие такого ядра общепринятого знания и общей теории до сих пор делает во многих отношениях затруднительной кроссдисциплинарную референцию. В силу того, что антропология всегда удерживала перспективу рассмотрения, имевшую дело, с одной стороны, с эволюционными фактами, касающимися нашего вида, а с другой стороны, – с постоянствами и широкой изменчивостью культурных данностей, она должна и далее сохранять свое место в ряду дисциплин, вносящих ключевой вклад в развивающуюся науку о человеке.
Общество, культуру и личность, безусловно, можно концептуально разграничить ради специализированных типов анализа и исследования8. Но, с другой стороны, приходит все более ясное осознание того, что общество, культуру и личность нельзя постулировать как совершенно независимые друг от друга переменные9. Человек как органический вид, произошедший от предков-приматов, составляет нашу базисную рамку соотнесения, и мы, выступая в качестве наблюдателей, сталкиваемся со сложными аспектами человеческой ситуации, ставшими результатом этого процесса. Здесь я хочу рассмотреть человека как динамический центр характерных способов и процессов приспособления, занимающих центральное место в человеческом существовании, дабы подчеркнуть интегральную реальность общества, культуры и структуры личности как человеческих феноменов. Именно эта интегральная реальность образует человеческую ситуацию, которая является нашим особым предметом изучения. Наши абстракции и конструкты, которые можно упорядочивать разными способами и исходя из разных целей и которые могут варьировать в своей эвристической ценности, выводятся из наблюдений одного и того же интегрального порядка явлений. И именно к нему должны в конечном счете относиться некоторые из наших обобщений. Таким образом, вместо того, чтобы заниматься определениями и расхождениями в точках зрения, я попытаюсь выделить основные проблемы и указать, на какого рода допущения и обобщения резонно ориентироваться, если рассматривать психологические данные в совокупности с данными социокультурными.
Если рассматривать конституцию человека в чисто материальном аспекте, то она не содержит никаких химических элементов, которые не обнаруживались бы в других животных, в горных породах и даже в далеких туманностях10. В биологическом плане человек также связан неразрывной преемственностью с другими живыми существами в природе. В то же время он морфологически отличается от своих ближайших животных родственников. Однако человеческий способ существования определяется не только этим. Если посмотреть в эволюционной перспективе, то уровень функционирования, свойственный человеческому организму, воплощает в себе новые возможности адаптации. В их число входят врожденные потенциальные способности психологического порядка, имеющие, возможно, первостепенное значение11. Вместе с тем, реализация этих возможностей зависит от тех внешних условий, в которых находится организм. Одним из необходимых условий психологической структурализации является ассоциация человеческого индивида с другими членами своего вида. Физическая, социальная и сенсорная изоляция делает невозможным полное осуществление этих прирожденных способностей. Иначе говоря, развитие отличительно человеческой психологической структуры (разума или личности) основополагающим образом зависит от социально опосредствованного опыта, получаемого из взаимодействия с другими людьми. В этом же условии кроется и сопутствующее развитие человеческого социального порядка и культурного наследия. Человеческое общество, согласно минимальному его определению, требует не просто агрегации людей12, а организованных отношений, дифференцированных ролей13 и образцов (patterns) социального взаимодействия. Поскольку структура, представляемая организованными отношениями между образующими ее индивидами, является функцией их способности к социальному приспособлению посредством научения, даже поверхностный анализ показывает, что человеческое общество зависит от психологических процессов. Поскольку устойчивость любого человеческого социального порядка на значительных промежутках времени предполагает смену его личного состава, решающее значение психологических процессов является очевидным. Поддержание любой конкретной формы человеческой социальной организации требует не только обеспечения притока новых индивидов посредством их воспроизводства, но также способов и средств такой структурализации психологического поля индивида, которая побуждала бы его действовать определенными предсказуемыми способами. Под каким бы углом зрения мы ни рассматривали эту ситуацию, психологические способности человека оказываются необходимыми для поддержания социального порядка. Невозможно провести какую бы то ни было естественную границу между индивидом и обществом, когда последнее концептуализируется как узнаваемая единица с сохраняющейся во времени наблюдаемой структурой.
Рассматриваемый с позиции индивида, процесс социализации представляет собой психологическое сопровождение процесса физического созревания, с которым он различными способами интегрируется14. В момент своего рождения человеческий индивид подготовлен лишь к очень ограниченной сфере действия, поскольку новорожденный неразвит и зависим от других. Психологическое созревание зависит от организации врожденных способностей, позволяющей индивиду подготовиться к автономному действию в более широкой сфере, которая включает в себя гораздо больше, чем роли и образцы социального взаимодействия, характерные для его общества. Процесс социализации можно функционально рассматривать как необходимое условие преемственности социальной структуры. Однако эта структура есть абстракция от более широкой реальности. Человеческое общество требует такого непрерывно мотивируемого поведения людей в культурно-конституированной поведенческой среде, которое бы когнитивно структурировалось как в соотнесении с природой космоса, так и в соотнесении с человеческим Я, в последнем жизненно важную роль в организации потребностей и целей играют традиционные значения и ценности, а также потенциально присутствуют реорганизация и переориентация опыта, находящие выражение в открытии, изобретении и культурном изменении. Психологическое ядро человеческого бытия заключает в себе такой уровень интеграции, который предполагает гораздо больше, нежели некий набор ролей и привычных образцов, сколь бы последние ни были важны.
Хотя шимпанзе и может научиться гонять на велосипеде, все мотивации, связанные с таким поведенческим исполнением, а также потребности и цели, которые могут быть с ним связаны, являются для него фактами иного порядка, нежели для человека. Даже в качестве объекта эта вещь не может быть для него велосипедом. Несмотря на то, что шимпанзе может достичь высокого мастерства исполнения и адекватно откликаться на властные распоряжения человека, сам факт, что он научился ездить на велосипеде, не делает его членом человеческого общества. Все, чему он научился, – это некоторые знаки и навыки. Уровень психологической организации, характерный для шимпанзе, позволяет ему научиться многому, однако ни при каких мыслимых обстоятельствах невозможно, чтобы шимпанзе сам изобрел велосипед15. Люди же при определенных мотивационных условиях и технологических знаниях оказались способны не только ездить на велосипедах, но также и изобрести их. Одно из основных условий, типичное для процесса социализации человека и являющееся его решающим орудием, – это новое средство коммуникации. Ни человеческое общество, ни человеческую личность нельзя понять в функциональных категориях в отрыве от систем символической коммуникации.
«На уровне человеческого приспособления репрезентация всевозможного рода объектов и событий играет в человеческом поведении в целом такую же характерную роль, какую играет непосредственное представление (presentation) объектов и событий в восприятии. Таким образом, умение манипулировать символами непосредственно причастно к развитию мыслительных и творческих способностей человека. Однако аналогичным образом символизация включена и во все другие психические функции – внимание, восприятие, интерес, память, сновидения, воображение и т. д. Процессы репрезентации лежат в самих основаниях способности человека обращаться с абстрактными качествами объектов и событий, его способности обращаться с возможным или умопостижимым, иметь дело как с актуальным, так и с идеальным, как с осязаемым, так и с неосязаемым, как с присутствующим объектом или событием, так и с отсутствующим, как с реальностью, так и с фантазией. Каждая культура, а равно и личное приспособление каждого индивида, дает свидетельство этого – как на уровне сознательных процессов, так и на уровне бессознательного. Кроме того, символические формы и процессы характерным образом окрашивают мотивации человека, его цели и аффективную жизнь. Они одинаково релевантны для понимания как психопатологического, так и нормального его поведения»16.
Символическая коммуникация – это фундамент, на основе которого в человеческих обществах устанавливается и передается общий мир значений и ценностей. Коммуникация на этом новом уровне есть необходимое условие функционирования человеческих обществ в их характерной форме.
Поскольку даже самый высокоразвитый примат наподобие шимпанзе не может овладеть человеческим языком, и нет никаких свидетельств того, чтобы на каком-либо дочеловеческом уровне существовали графические и пластические искусства, то внешние символические системы, служащие средствами коммуникации, являют собою сугубо человеческое творение. Они дают человеку основное средство, используемое им для выстраивания собственных культурно-конституированных способов существования. Передача культуры, будь то в родовом или специфическом ее аспекте, есть всеохватный объединяющий фактор временной преемственности человека, проходящей сквозь череду поколений. И поскольку человек вместо того, чтобы адаптироваться к некоторой данной реальности, существующей в «объективном» смысле, оказался способен развить разные образы природы окружающего мира и самого себя, жить в соответствии с этими образами и их передавать, отличительным атрибутом дискретных человеческих обществ становится отличительная культурная традиция.
Следовательно, с точки зрения динамики человеческого приспособления, не может быть никакой естественной пропасти между психологической организацией индивида, культурой и обществом. Хотя человеческий разум и принято было долгое время считать необходимым психологическим субстратом человеческого существования и – имплицитно, если уж не эксплицитно – культуры, а Дьюи еще много лет назад указывал на то, что необходимым условием развития у индивида человеческого разума является «социальное» существование17, сегодня уже более не является достаточным говорить о человеческих обществах, что они состоят из индивидов, наделенных человеческим разумом, и останавливаться на этом. Нам нужно знать, какие интегральные связи существуют между разумом, обществом и культурой. Однако нашему мышлению мешают эти известные категорические термины; особенно это связано с тем, что разуму, обществу и культуре, которые традиционно ассоциировались с дисциплинами, подходящими к изучению человека с разных точек зрения, из раза в раз давалось субстантивное определение.
С психологической точки зрения, понятие «личностная структура» предстает как обозначение концептуального перехода от раннего периода жизни к сейчас. Это понятие и стоящие за ним теоретические конструкты заставляют нас мыслить с точки зрения того, каким специфическим образом человеческий индивид организуется в плане психодинамики. Оно направляет наше внимание на те условия, при которых происходит психологическая структурализация, а также на связи между различиями в личностной организации и поведенческими различиями. Фрейдовская модель структуры личности и производные от нее формулировки дали нам конструкты, до сих пор остающиеся наиболее полезными, но необязательно окончательными18.
В историческом ракурсе здесь можно усмотреть некоторую аналогию с ситуацией в физике в конце XIX в. До тех пор физика вполне обходилась допущением, что атом представляет собой нечто очень маленькое, твердое, возможно, обладающее сферической формой и более или менее однородное по своему составу. Короче говоря, атом по сути понимался как конечная частица материи. Совершенно не предполагалось, что он имеет свою особую структуру и что более глубокое познание этой структуры может привести к революции в нашем представлении о материи.
Родовое понятие «разум», когда его применяли к «индивидам» как «единицам» «общества» и «носителям» «культуры», может быть, и было полезно в прошлом применительно к некоторым порядкам абстракции, но теперь мы можем яснее увидеть ограничения, устанавливаемые такого рода концептуализацией.
Кроме того, во многих областях социологического анализа на место старого понятия «общество» пришли структурные понятия. И наиболее очевидной культурной аналогией стало понятие «образец» (pattern) (см.: Weakland, p. 59). К той же тенденции в понятийной сфере относится и понятие личностной структуры. В отличие от понятия «разум», принадлежащего прежней традиции, понятие личностной структуры предполагает наличие некоторой социокультурной матрицы в качестве необходимого условия онтогенетического развития. Это требует систематического исследования влияния релевантных факторов, конституирующих эту матрицу, которые рассматриваются как независимые переменные по отношению к тому типу личностной структуры, который ими производится и с которым связаны характерные образцы поведения, рассматриваемые в качестве зависимых переменных. В рамках такой парадигмы структура личности понимается как нечто, частично укорененное в организованной системе промежуточных переменных19.
Говорить, что культура, рассматриваемая в качестве независимой переменной по отношению к человеческому организму, «определяет» или «обусловливает» поведение – значит понимать проблему слишком узко, а то и вообще неадекватно. Хотя усвоение моторных навыков и других привычек подобного рода действительно может быть довольно простым образом связано с культурой, на многих психологов большее впечатление произвели демонстрируемые антропологией связи между культурной изменчивостью и мотивационными системами человеческих индивидов, т. е. той изменчивой организацией влечений, потребностей, эмоций, установок и т. д., которая составляет ядро относительно устойчивых диспозиций к предсказуемому действованию. Эльза Френкель-Брюнсвик выразила эту идею следующим образом (Adorno, Frenkel-Brunswik, et al, p. 5 и далее):
«Личность есть более или менее устойчивая организация действующих внутри индивида сил. Эти постоянно действующие силы личности участвуют в определении реакции на различные ситуации, а потому постоянство поведения – вербального или физического – следует отнести прежде всего на их счет. Однако сколь бы устойчивым ни было поведение, оно не то же самое, что и личность; личность кроется за поведением и заложена внутри индивида. Силы личности – это не реакции, а готовность к реакции; выразится ли такая готовность во внешней экспрессии или нет, зависит не только от существующей в данный момент ситуации, но и от того, какая другая готовность ей противостоит. Личностные силы, претерпевающие торможение, располагаются на более глубоком уровне, нежели те, которые непосредственно и постоянно выражают себя во внешнем поведении…
Хотя личность и является продуктом прежней социальной среды20, она, стоит лишь ей развиться, перестает быть просто объектом текущей среды. То, что в данном случае развилось, – это некая структура внутри индивидуального нечто, способного по собственной инициативе оказывать воздействие на социальную среду и осуществлять отбор поступающих к нему извне изменчивых стимулов; и хотя это нечто всегда подвержено некоторому видоизменению, оно зачастую весьма упорно сопротивляется радикальному изменению. Данная концепция необходима для того, чтобы объяснить согласованность поведения в чрезвычайно изменчивых ситуациях, объяснить устойчивость идеологических тенденций перед лицом противоречащих им фактов и радикально меняющихся социальных условий, объяснить, почему люди в одной и той же социологической ситуации имеют разные или даже противоречащие друг другу воззрения на социальные проблемы и почему люди, поведение которых было изменено посредством психологического манипулирования, возвращаются к своим старым способам поведения, как только факторы манипулирования перестают действовать. Концепция личностной структуры – лучшая защита от склонности приписывать устойчивые тенденции индивида чему бы то ни было «врожденному», «базисному» или «расовому» внутри него».
Понятие личностной структуры оказалось особенно полезно тем, что дало не только эффективное интеллектуальное средство для изучения факторов, лежащих в основе психодинамики индивидуального приспособления, но и возможность выразить в более или менее эквивалентных терминах основные тенденции, характеризующие группы индивидов, принадлежащих к одному обществу, племенной группе или нации21. Это, конечно, не означает, что в личностной структуре такого рода индивидов нет идиосинкратических вариаций. Напротив, наличие таковых следует ожидать. Предполагается лишь, что членство в данной социокультурной системе или подсистеме подчиняет людей некоторому общему набору условий, значимых для личностной организации этих индивидов. Как пишут в этой связи Клакхон и Маррей (1948, р. 39):
«Члены любой организованной устойчивой группы склонны к проявлению некоторых личностных черт чаще, чем члены других групп. Насколько велики или малы будут подвергаемые сравнению группировки, зависит от наличной проблемы. В общем и целом, мотивационные структуры и образцы действия западноевропейцев кажутся сходными, если сопоставить их с соответствующими структурами и образцами жителей Ближнего Востока или Восточной Азии. Большинство белых граждан Соединенных Штатов, несмотря на региональные, этнические и классовые различия, обладают такими чертами личности, которые отличают их от англичан, австралийцев или новозеландцев. При вычленении детерминант группового членства обычно необходимо принимать во внимание концентрический порядок социальных групп, к которым принадлежит индивид: от крупных национальных или интернациональных групп до небольших локальных единиц. Кроме того, необходимо знать иерархический класс – политический или социальный, – к которому индивид принадлежит в каждой из этих групп. Насколько вместительной будет общность, которую будет принимать во внимание исследователь, говоря о детерминантах группового членства, зависит исключительно от того уровня абстракции, на котором он в данный момент работает».
В связи с этим возникает еще один вопрос: к какой культурной единице следует относить личностные данные? Вправе ли мы предположить, что наши культурные классификации (например, твердо установленные территориальные различия) с необходимостью соответствуют один к одному различиям в модальном типе личности? Деверо (1951, р. 38) утверждал, что «во многих отношениях тот сегмент, или аспект, базисной личности, который определяется ареальным этосом, является, по крайней мере функционально, гораздо более важным компонентом целостной личности данного индейца равнин, нежели тот сегмент, который определяется культурным образцом его конкретного племени. И в самом деле, можно было бы даже утверждать, что то, чем конкретно индеец-кроу отличается, например, от индейца-чейенна, совершенно отлично от того, чем конкретно каждый из них отличается от индейца-пуэбло, и что эти два отличительных типа внутриареальных – и соответственно межареальных – различий тоже определяются в первую очередь тем влиянием, которое оказывают на личность индейца равнин и на личность индейца-пуэбло соответствующие ареальные этосы».
На основе наблюдений, содержащихся в документах XVII и XVIII вв., автор данной статьи вывел обобщенную констелляцию психологических характеристик, которая относится к индейцам всего ареала Истерн Вудленд, несмотря на широко известные языковые и культурные различия между алгонкинскими народами и ирокезами (Hallowell, 1946). Позднее и Фентон (1948, р. 505–510) выразил принципиальное согласие с тем, что большинство этих черт, судя по всему, резонно отнести и к современным ирокезам. Уоллес (работа сдана в печать), опираясь на выборку протоколов по тестам Роршаха, представлявших весьма аккультурированное тускарорское[1] сообщество, показал наличие как общего ядра личностных характеристик, присущих этому народу и оджибве, так и различий, соответствующих, судя по всему, культурным различиям.
С другой стороны, данные по тестам Роршаха (неопубликованные), полученные для народностей хопи, навахо, зуньи и папаго, указывают на вполне отчетливые племенные различия в плане психологического приспособления. Однако никто так до сих пор и не изучил этот материал с целью определения как сходств, так и различий. Вместе с тем Крёбер (1947), анализируя материал автобиографий и сновидений, был прямо-таки поражен «разительным сходством простодушного, неконтролируемого самоописания отдельного навахо и отдельного валапаи» и поднял вопрос о том, является ли это сходство «случайным совпадением», во что, по его словам, он не верит, «или же оно главным образом обусловлено региональным сверхплеменным сходством культуры; или, быть может, его вообще следует ожидать в народных культурах как некий повторяющийся тип, определимый в социопсихологических терминах, хотя и несколько изменчивый в своих внешних культурных одеяниях».
Может быть, в настоящее время пока невозможно дать окончательные ответы на эти вопросы, а можно рассматривать их лишь как исследовательские проблемы, все еще ждущие своего изучения. Сюда тесно примыкает вопрос о том, существуют или нет такие поддающиеся определению психологические характеристики, которые – скажем, в Северной Америке – могли бы даже пересекать границы тех культурных ареалов, которые были определены и типологизированы как «индейцы», в противоположность, например, европейцам или меланезийцам (см.: Kroeber, 1948, р. 587).
Еще один вопрос – иного рода – был поднят Крёбером (ibid., р. 597, примечание; ср.: р. 587), а именно вопрос о «возможности того, чтобы культуры с непохожим содержанием были психологически подобны друг другу; или возможности того, чтобы их содержание было подобным, тогда как психология – несхожей». Что касается первой возможности, то тут наиболее впечатляющая психологическая аналогия была проведена Голдшмидтом22 между юрок-хупа, с одной стороны, и зарождающейся капиталистической Европой, – с другой, т. е. между двумя пространственно удаленными и исторически не связанными друг с другом народами. Основная идея Голдшмидта состоит в том, что в обоих случаях «структурный характер общества вознаграждает определенные личностные конфигурации, вследствие чего они главенствуют и устанавливают образцы на социальной сцене. Кроме того, он создает некоторую конфигурацию требований и напряжений, которая передается через воспитание детей последующим поколениям». Голдшмидт подчеркивает наличие таких типовых личностных характеристик, как «принудительная значимость, придаваемая аскетизму и трудолюбию, образцы (patterns) личной вины, а также предрасположенность к враждебности, конкуренции и одиночеству».
Какие специфические факторы, или образцы (patterns) детерминант, имеют решающее значение для структурирования личности, каким образом, когда и благодаря каким средствам они становятся психологически действенными в социализации индивида – все это стало предметом специальных исследований в области изучения культуры и личности.
Сравнительное этнографическое знание о народах всего мира, в том числе о наблюдаемых различиях в способах воспитания детей, ценностных системах и целях, в совокупности с традиционным подчеркиванием того факта, что культура индивидом приобретается, побуждало антропологов разрабатывать гипотезы о связи личностной структуры с культурными переменными с тех пор, как некоторые из них впервые узнали о новейших достижениях в области теории личности. Помимо этого антропологи, в отличие от представителей других социальных наук и психологов, привыкли к ведению полевой работы в других культурах, благодаря чему обладали возможностью проверять гипотезы в полевых условиях, а вместе с тем и пользоваться важными кросс-культурными данными. На мой взгляд, мы вправе сказать, что общая гипотеза, лежащая в основе исследований культуры и личности, подтвердилась. Спорные моменты – касающиеся, например, того, насколько рано устанавливается личностная структура, какая ее реорганизация возможна после первых лет детства и какие из определяющих факторов, здесь действующих, наиболее важны, – затрагивают скорее саму теорию личности, нежели эту основополагающую гипотезу23. То, что структура человеческой личности есть результат опыта, получаемого в процессе социализации, и что складывающаяся в итоге структура изменяется вместе с природой и условиями такого опыта, вряд ли может быть поставлено под сомнение24.
В настоящее время новое подтверждение этой гипотезы приходит со стороны психологов, среди которых вновь возрос интерес к изучению восприятия. Хотя на протяжении долгого времени восприятие определялось как базисная функция «разума» и исследовалось в основном на психофизическом уровне, новейшие исследования в этой области ясно показали необходимость принятия в расчет личностных переменных25. В психологии быстро становится общим местом, что от людей, воспитанных в разных условиях, можно ожидать различий в перцептуальном опыте, функционально связанных с потребностями, которые, в свою очередь, частично определяются тем порядком реальности, который конституируется культурой. Свойства универсального объективного порядка реальности, считавшиеся некогда непосредственно данными нам через когнитивные процессы, ныне признаются заключающими в себе более сложные детерминанты и промежуточные переменные, связанные с некогнитивными переживаниями человеческого организма26.
Важность этой гипотезы для более глубокого понимания природы неразрывных связей между личностью, культурой и обществом трудно переоценить. Поскольку восприятие играет основополагающую роль во всяком человеческом приспособлении в том смысле, что ложится в основу суждения, решения и действия, переживание мира в общих перцептуальных рамках необходимо рассматривать как первичный объединяющий фактор интеграции культуры, общества и функционирующей личности. И в самом деле, благодаря функционированию проистекающих из культуры конституирующих элементов человеческое восприятие приобрело, так сказать, наложившуюся на него социальную функцию. Помимо всего прочего оно становится одним из основных психологических средств, благодаря которым в опыте индивидов может получить субстанциальную опору вера в реифицированные образы и понятия, являющиеся неотъемлемой частью культурно-конституированной реальности27. Разные мировоззрения, которые описываются в наших этнографических монографиях, приобретают более глубокую значимость, если рассматривать их в связи с функционированием восприятия у человека. Мы стоим на пути к лучшему постижению значимости культуры как того, что переживается, а не описывается28.
Как антропологи, мы можем обрести очень подробное и основательное знание о системе представлений, социальной организации и всех других аспектах культуры. Мы можем научиться действовать с соблюдением правил приличия, спеть пару песен, станцевать или натянуть лук. Нас может прямо-таки распирать от эмпатии. Мы можем даже научиться говорить на чужом языке. Мы можем осознать культурные образцы и неуловимые связи, ускользающие от сознания самих людей, которых мы изучаем. Однако культура, которую мы изучаем, не является частью нас самих. Наши восприятия не структурированы по тому же шаблону. Уже само то, что наш подход объективен и мы хотим постичь культуру во всей ее целостности, служит показателем того, что мы к ней не принадлежим. У нас нет мотивов изучать другую культуру для того, чтобы ею жить; мы мотивированы на то, чтобы говорить или писать о ней, описывать ее, анализировать ее, выяснять ее историю. Смысл культуры, предстающий перед нами, является функцией нашего личностного фона, наших интересов и целей. С точки зрения такого подхода, почти неизбежны субстантивные концептуализации культуры, но никак не психологические или функциональные. Между тем, культура может также пониматься не как абстракция аутсайдера, а как нечто, наделенное смыслом с точки зрения психологического приспособления человека к своему миру действия и конкретной жизни. Психологический подход к культуре – в том смысле, что мы желали бы выяснить структурную основу разных способов, с помощью которых человек выстраивает для себя отличительные образы жизни, – проливает свет не только на природу человека и необходимые условия человеческого существования, но также и на субстрат описательно обобщенных конкретных культур.
До недавнего времени психологический субстрат культуры отчасти был окутан завесой тумана, ибо не только отсутствовали действенные теории структуры, развития и функционирования личности, но и не получили достаточного развития теории научения, соответствующие задаче обсуждения этого сложного процесса на человеческом уровне. До некоторой степени таково положение дел до сих пор. Лишь несколько лет назад Хильгард указал на то, что иногда психологи создавали впечатление, будто «между научением у низших животных и приматов, в том числе у человека, нет никаких различий, кроме количественных». Он, однако, прибавляет, что, «хотя это положение чаще подразумевается, нежели открыто формулируется, странно, что противоположная точка зрения – о том, что на человеческом уровне появились такие способности к сохранению, реорганизации и предвидению переживаний, которых даже близко не было у низших животных, включая других приматов, – выражается не более часто. Никто всерьез не предполагал, будто животные могут развить набор идеалов, который бы регулировал их поведение исходя из долгосрочных планов, или что они способны изобрести математику, дабы та помогала им отслеживать их опыт. Из того, что дрессированная собака проявляет некоторые внешние признаки стыда, шимпанзе – определенные знаки сотрудничества, а крыса – зарождающееся понятие о треугольности, вовсе не следует, что эти низшие организмы, сколь бы умными они ни были, обладают всем богатством человеческой мыслительной деятельности»29.
В прошлом процесс научения, когда его рассматривали в связи с культурой, концептуализировали зачастую слишком упрощенно – помимо всего прочего еще и потому, что при этом не принималась во внимание его связь с развитием личностной структуры, а также со способностями к новому приспособлению и творчеству, которые допускает этот уровень психологической организации человека при условии надлежащей мотивации.
Теперь мы знаем, что говорить всего лишь о том, что индивид усваивает культуру посредством научения в процессе социализации, – значит не более чем признаться в своем невежестве относительно того, что этот процесс действительно в себе заключает. По крайней мере мы знаем, что культура, какой ее систематически описывает и тематически организует этнограф, – это не то, что дано индивиду непосредственно и к чему он в каждое мгновение этого процесса приучается. Мы знаем, что процесс социализации с самого начала опосредствован тесными личностными связями ребенка со взрослыми и что в него включены важные аффективные компоненты. Мы знаем, что определенную роль здесь играет посредничество символических способов коммуникации. Мы знаем, что индивид, изначально находящийся в состоянии зависимости, должен приобрести способность к независимому и автономному действию. Мы знаем, что индивид должен достичь некоторой интеграции, сформированной по образцу (patterned integration), которую мы называем «личностной структурой». Мы знаем, что, хотя эта структура и может принимать различные формы, наряду с этим существуют постоянные элементы, характерные для человеческой личностной структуры в родовом смысле этого термина. Мы знаем, что культура, если рассматривать ее конкретно, становится частью индивида. Не будь этого, он не мог бы жить ею и передавать ее другим30. Представления, абстрактно рассматриваемые как часть объективно описываемой культуры, становятся его представлениями; ценности инкорпорируются в его мотивационную систему; его потребности и цели, хотя и устанавливаются культурой, функционируют как его личные потребности и цели. Культуру, в которой живут, нельзя отделить от индивидов, живущих ею, или от социальной организации, посредством которой функционирует групповая жизнь; она отдельна от них не более, чем характерные морфологические особенности животного – от генной системы, являющейся их субстратом. Живая, функционирующая культура зависит в своем существовании не от абстрактно рассматриваемой группы взаимодействующих человеческих существ, а от того, как психологически структурированы такие индивиды. Можно сказать, что культура в такой же мере является выражением их модели человеческого психодинамического приспособления, в какой и условием воспитания последующих поколений индивидов в рамках этой модели.
Фромм (1949, р. 5–6, 10) отмечал:
«Современное индустриальное общество, например, не смогло бы достичь своих целей, если бы не обуздало в беспрецедентной степени энергию свободных людей и не направило ее на труд. Человек должен был быть отлит в такую личность, которая бы страстно стремилась расходовать большую часть своей энергии на трудовую задачу и которая приобрела бы внутреннюю дисциплину, особенно организованность и пунктуальность, в степени, дотоле неведомой большинству других культур. Если бы каждому индивиду приходилось ежедневно сознательно настраивать себя на то, что он хочет работать, хочет все успеть и т. д., то этого было бы еще недостаточно, поскольку каждое такое сознательное размышление производило бы гораздо больше исключений, нежели может себе позволить ровно функционирующее общество. Ни угроза, ни применение силы не были бы достаточными стимулами к труду, так как в высокой степени дифференцированный труд в современном индустриальном обществе может быть только трудом свободных людей, но никак не принудительным трудом. Внешняя необходимость труда, пунктуальности и организованности должна была быть превращена во внутреннее побуждение к этим качествам. А это значит, что общество должно было создать такой социальный характер, которому бы эти устремления были внутренне присущи».
Иначе говоря, люди должны быть психологически структурированы таким образом, чтобы «желать действовать так, как они должны действовать [курсив автора], и в то же время находить удовлетворение в том, что они действуют согласно требованиям культуры». По мнению Фромма, в структуре характера должно существовать ядро, «общее для большинства членов одной культуры», т. е. «социальный характер», функционирование которого имеет основополагающее значение для функционирования культуры как работающего предприятия31. Воспитание и обучение ребенка, рассматриваемое в контексте социальной структуры, есть «один из ключевых механизмов перевода социальных потребностей в черты характера» [курсив автора].
Поведенческие проявления, от которых мы зависим, конструируя наши действительные картины культуры, всегда укоренены в личностной структуре индивидов. Единственный способ, с помощью которого культура, так сказать, саму себя увековечивает, – это характерная психологическая структурализация группы индивидов. Лишь в организованных личностях, но никак не через «индивидов» и не через «разумы», человеческие общества и культура обретают живую реальность. Поскольку культура в любом смысле может мыслиться абстрактно, постольку это наша абстракция, удобство, адаптированное к тому типу анализа, которому мы хотим подвергнуть изучаемые проблемы. Но вряд ли культура может быть абстракцией для тех, для кого она остается интеллектуально не проанализированным образом жизни. Люди жертвовали жизнью, отстаивая конкретные представления, которые можно было бы, при абстрактном рассмотрении, охарактеризовать как часть их культуры; однако рассматриваемые с психологической точки зрения, они приобретают в некотором роде осязаемую реальность, которая мотивирует реальное поведение. Я подозреваю, что в душах некоторых, возможно, до сих пор сохранилась тусклая аура былых времен, когда под психологией подразумевались психофизика, приоритетное изучение механизмов поведения или исследование свойств разума в самом общем и абстрактном смысле, но едва ли более того. В противоположность этому, богатое и изменчивое содержание культур оказалось находящимся в ином феноменальном измерении. Сегодня в некоторых областях социальной антропологии внимание уделяется прежде всего абстрактным отношениям и образцам. С другой стороны, поскольку мы ищем понимания личностной структуры, ее развития и связи с типично человеческим способом существования, нам нельзя более игнорировать культурное содержание во всем его многообразии и глубине.
Хотя ребенку и нужна социализация, чтобы достичь психологического статуса, который бы пометил его как человека, нет никакой необходимости в том, чтобы у него непременно развилась конкретная личностная структура, характеризующая общества А, С или N; функционально эквивалентные необходимые условия будут обеспечиваться также обществами В, D или Z. Мы вынуждены предположить – и эмпирические данные это подтверждают, – что существуют как родовые атрибуты человеческой личности, так и периферийные и изменчивые типы организации. Здесь имеется очевидная аналогия с человеческой речью. Необходимым условием человеческой социализации является обучение языку и его употребление. Однако разные языки в этом отношении эквивалентны: один язык сопоставим с другим, поскольку человеческая речь имеет ряд общих знаменателей.
Следовательно, в то время как за счет своих врожденных органических способностей человеческий индивид может приспосабливаться к жизни в самых разных условиях, конкретная культура – постольку, поскольку мы допускаем ее зависимость от характерной психологической организации группы индивидов – не может поддерживать свое существование в том случае, когда это условие не выполняется32. С точки зрения этой гипотезы, способности человека к переприспособлению и творчеству резко выделяются на окружающем фоне как постоянные человеческие феномены. Конкретные культуры могут возникать, расцветать и исчезать, но на смену им приходят другие. Рассматривая индивидов в определенной обстановке и ограниченной временной перспективе, мы, быть может, и адекватно говорим о них как о «носителях» или «творениях» культуры, однако при этом мы не принимаем в расчет всего, что знаем о природе человека. Если не придать должный вес потенциалу человека как творца и воссоздателя того рода жизни, который является его наиболее отличительным атрибутом, то как тогда, в первую очередь, объяснить возникновение культурного способа существования?" Разумеется, мы должны допустить, что именно благодаря развитию своих изначально заданных способностей человек сделал мир умопостижимым для себя в жизнеспособных категориях. Какую бы форму ни принимали эти образы, они появились из человеческого опыта, преображенного в символически артикулированные категории. Исходя из того, что творчество у человеческого индивида – поскольку мы о нем вообще что-то знаем – заключает в себе бессознательные процессы, мы можем допустить, что на протяжении всей человеческой истории действовали, среди прочих, и эквивалентные факторы. Таким образом, если мы будем изучать связь между индивидом и культурой только с точки зрения того, каким образом он становится участником определенного и преемственного образа жизни, мы, конечно, сможем избежать более запутанных проблем, которые возникают, если мы постоянно имеем в виду человека как целое, но при этом мы никогда их не решим. И тогда на передний план выходят культурное изменение, аккультурация и личностное переприспособление.
О психологических последствиях аккультурации мы до сих пор знаем слишком мало, чтобы решиться на сколь-нибудь широкие обобщения. Однако мы полагаем, что изменения в любом установленном образе жизни, увековечивающие себя в новых или изменившихся культурных образцах, предполагают реорганизацию привычек, установок и целей затронутых ими индивидов, что такие процессы приспособительной реорганизации должны быть мотивированы и что в них включен процесс научения34. Решающее значение имеет психологическая глубина таких реорганизаций, которая в свою очередь зависит от нескольких ситуационных переменных: временно́й протяженности процесса, темпов аккультурации, способа структурирования отношений между индивидами, принадлежащими к взаимодействующим группам, качественных факторов, и т. д. Все заключенные здесь процессы социального взаимодействия согласовываются в своей комплексности процессами, имеющими психологическую природу35. Мы определенно не можем предполагать – даже в такой аккультурационной ситуации, когда одна группа доминирует над другой и оказывает на подчиненную группу мощное давление, – что последняя может приобрести новую личностную структуру посредством того же процесса или на основе тех же мотиваций, которые приводят к усвоению новых орудий, типов жилища или нового языка. В своих исследованиях индейцев оджибве я, как мне представляется, привел достаточно данных, чтобы продемонстрировать, что значительная аккультурация может произойти и без сколь-нибудь глубокого воздействия на «модальные», или «общие», аспекты личности. С другой стороны, те же данные показывают, что по крайней мере в одной группе присутствуют такие условия, которые в огромной степени ускорили разрушение аборигенной личностной структуры, сохранившейся, несмотря на значительную степень аккультурации, в других группах36.
Если мы хотим лучше понять способности людей к психологической реорганизации и реконструкции своей культуры, то здесь для нас будет плодотворным подробное исследование того, что происходит при различных условиях аккультурации. Действительно, в некоторых ситуациях вся группа индивидов в целом может быть, так сказать, загнана в оборонительную психологическую позицию. Однако было бы любопытно побольше узнать о тех условиях, при которых может происходить позитивная психологическая реорганизация. Хотелось бы узнать, какие факторы вносят наиболее важный вклад в последний результат. Я думаю, что решающей переменной в данном случае будет, возможно, особый тип личностной структуры, свойственный тому народу, который переживает аккультурацию.
Тут, на мой взгляд, мы сталкиваемся с одним из решающих – с точки зрения групповой жизни человека и увековечения особой культурной традиции – моментов человеческого приспособления. Тип личностной структуры, подготавливающий индивида к групповой жизни в одном наборе культурных условий, не готовит его к успешному приспособлению к жизни в любом другом наборе культурных условий. Тем не менее, члены одного общества могут обладать такой личностной организацией, которая – при заданных условиях – будет позволять им легче, нежели членам какого-либо другого общества, приспосабливаться к новому образу жизни. Для полного понимания динамики аккультурации необходимо принимать во внимание как культурные, так и психологические факты.
Изменения в культурном паттернировании существования (cultural patterning of existence) всегда остаются возможными для человека до тех пор, пока наличествуют общие психологические условия, являющиеся предпосылкой поддержания всякого человеческого общества вообще. Например, Эванс-Причард (1951), обсуждая содержание понятия «социальная структура», отмечает: «Вполне очевидно, что в социальной жизни должны существовать единообразия и регулярности, что общество должно обладать того или иного рода порядком, иначе его члены не могли бы жить вместе». И продолжает: «Лишь благодаря тому, что люди знают, какого рода поведение ожидается от них и какого рода поведения им следует ожидать от других в различных условиях социальной жизни, и координируют свои деятельности, подчиняя их правилам и ценностным ориентирам, – лишь благодаря тому любой и каждый способен делать свои дела. Люди могут делать предсказания, предвидеть события и жить в гармонии со своими собратьями благодаря тому, что каждое общество имеет некоторую форму или образец (pattern), позволяющий нам говорить о нем как о системе, или структуре, в рамках и в соответствии с которой ведут свою жизнь его члены». Из этой цитаты видно, что ее автор исходит из допущения, что человеческий индивид способен к самосознанию, осознает отношения «Я—другой» и сознательно связывает свое поведение с традиционными ценностями. Здесь без объяснения допускается некоторый уровень психологического функционирования, для которого характерно самосознание – один из основных аспектов человеческой природы и человеческой личности (Hallowell, 1950a). Человеческое Я и общество можно рассматривать как аспекты единого целого. Коттрел (1945) назвал это целое системой «Я—другой». При такой формулировке Я открыто признается как постоянно действующий фактор человеческой личностной структуры, неотрывный от функционирования человеческих обществ и всех ситуаций социального взаимодействия.
Свойство самосознания, предполагающее способность человека выделять себя как объект из мира объектов, отличных от него, имеет первостепенное значение для нашего понимания предпосылок социального и культурного способа приспособления человека, а также психодинамики индивида. Человеческий социальный порядок предполагает такой способ существования, который наделен для индивида смыслом на уровне самосознания. Например, человеческий социальный порядок – это всегда моральный порядок. Каким образом мог бы вообще функционировать в человеческих условиях моральный порядок, если бы индивид был лишен способности идентифицировать поведение, являющееся его собственным, и посредством саморефлексии оценивать его в соотнесении с ценностями и социальными санкциями? Откуда возьмутся чувства вины и стыда, если я не могу принять моральную ответственность за свое поведение? Какой может быть конфликт между импульсом и стандартами, если я не сознаю ценности или санкции? Именно человеческая способность к самосознанию и развитие самосознания делают адаптационно значимыми для индивида такие бессознательные психологические механизмы, как вытеснение, рационализация и т. д. Без него они попросту не работали бы. Именно эти механизмы позволяют индивиду функционировать без полного самоосознания. И именно они позволяют ему функционировать в моральном порядке на чуть ли не идеальном среднем уровне.
Подобно гравитации, самосознание, прежде чем его подвергли генетическому и функциональному анализу, долгое время принималось как нечто само собой разумеющееся. Теперь мы знаем, что это один из атрибутов родовой личностной структуры, которая должна быть в процессе социализации выстроена в индивиде в каждом человеческом обществе. Открытие этого – одна из заслуг современной психологии личности. Из антропологии же нам известно, что в разных обществах существуют разные традиционные представления о Я, которые должны вносить свою лепту в формирование Я-образа индивида. В какой степени переменные, включенные в Я-концепции, связаны с различиями в потребностях и целях индивида и, следовательно, с поведенческими различиями, – это еще необходимо изучить37. Однако и родовые, и специфические аспекты Я – особенно в их связи с изменчивостью содержания, получаемого личностью из культуры, и с различиями в организации целостной личности – относятся к числу тем, нуждающихся в дальнейшем прояснении, если социальная антропология желает обрести прочные психологические основания. Самосознание – такая же неотрывная часть человеческой ситуации, как и социальная структура и культура.
Человек, в отличие от своих животных родственников, действует в таком мире, который он сам открыл и сделал для себя умопостижимым как организм, способный не только к сознанию, но также самосознанию и рефлективному мышлению. Но это стало возможно лишь благодаря использованию речи и других внешних символических средств, приведших к артикуляции, сообщению и передаче культурно-конституированных миров значений и ценностей. Организованная социальная жизнь человека – поскольку она выходит за пределы чисто биологических и географических детерминант – не может функционировать отдельно от общепризнанных значений и ценностей и той психологической структурализации индивидов, которая делает эти значения и ценности их собственными. Усвоение культуры и ролей, на которых зиждутся устойчивые образцы (patterns) социальной структуры, не то же самое, что изучение набора привычек или навыков, но влечет за собой более высокий порядок психологической интеграции. Для того, чтобы у человека сложился этот уникальный уровень интеграции, в процесс социализации неотъемлемым образом включаются такие бессознательные механизмы, как конфликт, вытеснение, идентификация и т. д., которые, таким образом, становятся составной частью психодинамики человеческого приспособления. Они так же неотъемлемы от возникновения и функционирования человеческих обществ, как и важны для полного понимания того, чем личностная структура индивидов, помещенных в данную культурную ситуацию, отличается от личностной структуры иного набора индивидов или имеет с ней сходство.
Личность, культура и общество образуют системы связей, которые функционируют как неразделимые целостности в более широком мире иной-нежели-человеческая реальности. Рассматриваемые с интегральной точки зрения, они не имеют самостоятельного существования вне социального приспособления индивидов и такой организации человеческого опыта, которая является типичной для человеческой ситуации. Дальнейшую разработку этой темы можно будет найти в моей статье «Я и его поведенческая среда», которая готовится к публикации в «Psychoanalysis and the Social Sciences», Vol. IV.
Библиография
Aberle D.F.
1951. The Psychosocial Analysis of a Hopi Life-History// Comparative Psychological Monographs. Vol. XXI. № 107.
Aberle D.F., Cohen A.K., Davis A.K., Levy M.J.Jr., Sutton F.X.
1950. The Functional Prerequisites of a Society // Ethics. Vol. LX. P. 100–111.
Adams, Richard N.
1951. Personnel in Culture Change: A Test of a Hipothesis // Social Forces. Vol. XXX. P. 185–189.
Adorno T.W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D.J., Sanford R.N.
1950. The Authoritarian Personality. N. Y: Harper & Bros. (Сокр. рус. пер.: Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001.)
Barnett H.G.
1941. Personal Conflicts and Culture Change // Social Forces. Vol. XX. P. 160–171. 1937. Psychological Methods and Anthropological Problems // Africa. Vol. X. № 4. P. 401–419.
Bateson G.
1942. Social Planning and the Concept of 'Deutero-Learning // Bryson L., Finkelstein L. (eds.). Science, Philosophy, and Religion: Second Symposium.
N. Y. P. 81–97. (Рус. пер.: Бейтсон Г. Социальное планирование и концепция вторичного обучения // Бейтсон Г. Экология разума. М., 2000. С. 189–204.)
1944. Cultural Determinants of Personality // Hunt J. McV. (ed.). Personality and the Behavior Disorders. Vol. II. N. Y: Ronald Press Co. P. 714–735.
Berndt R.M., Berndt C.H.
1951. Sexual Behavior in Western Arnhem Island // Viking Fund Publications in Anthropology. № 16. N. Y.
Bidney D.
1947. Human Nature and the Cultural Process // American Anthropologist. Vol.
XLIX P. 375–399. 1949. The Concept of Meta-anthropology and Its Significance for Contemporary Anthropological Science // Northrop F.S.C. (ed.). Ideological Differences and World Order. New Haven: Yale University Press. P. 323–355.
Blake R.R., Ramsey G.W. (eds.).
1951. Perception: An Approach to Personality. N. Y: Ronald Press Co.
Bronfenbrenner U.
1951. Toward an Integrated Theory of Personality // Blake R.R., Ramsey G.W. (eds.). 1951. Perception: An Approach to Personality. N. Y: Ronald Press Co. P. 206–257.
Brown G.G.
1951. Culture, Society, and Personality: A Restatement // American Journal of Psychiatry. Vol. СVIII. P. 173–175.
Cassirer E.
1944. An Essay on Man. New Haven: Yale University Press.
Cottrell L.S., Jr. 1942. The Analysis of Situational Fields in Social Psychology // American Sociological Review. Vol. VII. P. 370–382.
Dennis W.
1951. Cultural and Developmental Factors in Perception // Blake R.R., Ramsey G.W.
(eds.). 1951. Perception: An Approach to Personality. N. Y: Ronald Press Co. P. 148–169.
Devereaux G.
1951. Reality and Dream: Psychotherapy of a Plains Indian. N. Y: International Universities Press.
Dewey J.
1917. The Need for a Social Psychology // Psychological Review. Vol. XXIV. P. 266–277.
Dollard J., Miller N.
1950. Personality and Psychotherapy: An Analysis in Terms of Learning, Thinking, and Culture. N. Y: McGraw-Hill Book Co., Inc.
Du Bois С.
1944. The People of Alor. Minneapolis: University of Minnesota Press.
DykW.
1947. A Navaho Autobiography // Viking Fund Publications in Anthropology. № 8. N. Y.
Erikson E.H.
1950. Childhood and Society. N. Y: W. W. Norton & Co., Inc. (Рус. пер.: Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб.: Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 1996.)
Evans-Pritchard E.E.
1951. Social Anthropology. L.: Cohen & West, Ltd.
Fenton W.N.
1948. The Present Status of Anthropology in Northeastern North America: A Review Article // American Anthropologist. Vol. L. P. 494–515.
Ford C.S., Beach FA.
1951. Patterns of Sexual Behavior. N. Y: Harper & Bros.; Paul B. Hoeber.
1941. Escape from Freedom. N. Y: Farrar & Rinehart. (Рус. пер.: Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1995.)
1947. Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics. N. Y: Rinehart & Co. (Рус. пер.: Фромм Э. Человек для себя. Минск, 1991.)
1949. Psychoanalytic Characterology and Its Application to the Understanding of Culture // Sargent S.S., Smith M.W. (eds.). Culture and Personality. N. Y: Viking Fund. P. 1–12.
Frank L.K.
1949. Society as the Patient. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press.
1951. Nature and Human Nature. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press.
Gibson J.J.
1950a. The Perception of the Visual World. Boston: Houghton Mifflin Co.
1950b. The Implications of Learning Theory for Social Psychology // Miller J.G. (ed.). Experiments in Social Process: A Symposium on Social Psychology. N. Y: McGraw-Hill Book Co., Inc.
Goldschmidt W.
1951. Ethics and the Structure of Society: An Ethnological Contribution to the Sociology of Knowledge //American Anthropologist. Vol. LIII. P. 506–524.
Hall J.K., Zilboorg G., Bunker HA. (eds.).
1944. One Hundred Years of American Psychiatry. N. Y: Columbia University Press.
Hallowell A.I.
1945. Sociopsychological Aspects of Acculturation // Linton R. (ed.). The Science of Man in the World Crisis. N. Y: Columbia University Press. P. 171–200.
1946. Some Psychological Characteristics of the Northeastern Indians //Johnson F. (ed.). Man in Northeastern North America. (Papers of the R. S. Peabody Foundation for Archeology. Vol. III.) Andover, Mass.. P. 195–225.
1950a. Personality Structure and the Evolution of Man // American Anthropologist. Vol. LII, p. 159–173.
1950b. Values, Acculturation, and Mental Health // American Journal of Orthopsychiatry. Vol. XX, p. 732–743.
1951a. Cultural Factors in the Structuralization of Perception // Rohrer J.H., Sherif M. (eds.). Social Psychology at the Crossroads. N. Y: Harper & Bros. P. 164–195.
1951b. The Use of Projective Techniques in the Study of Sociopsychological Aspects of Acculturation // Journal of Projective Techniques. Vol. XV P. 26–44.
Haring D.G. (ed.)
1949. Personal Character and Cultural Milieu: A Collection of Readings. Rev. ed. Syracuse, N. Y: Syracuse University Press.
Harris Z.S.
1951. Review of Selected Writings of Edward Sapir//Language. Vol. XXVII. P. 288–333.
Hayes С.
1951. The Ape in Our House. N. Y: Harper & Bros.
Hilgard E.R.
1948. Theories of Learning. N. Y: Appleton-Century.
Hoch RH, Zubin J.
1949. Psychosexual Development in Health and Disease: Proceedings of the 38th Annual Meeting of the American Psychopathological Association, 1948. N. Y: Grune & Stratton.
Honigmann J.J.
1949. Culture and Ethos of Kaska Society. (Yale University Publications in Anthropology. N. 40.) New Haven: Yale University Press.
Hunt J. McV (ed.).
1944. Personality and the Behavior Disorders. 2 vols. N. Y: Ronald Press Co.
Jennings H.S.
1942. The Transition from the Individual to the Social Level // Redfleld R. (ed.). Levels of Integration in Biological and Social Systems. (Biological Symposia. Vol. III.) Lancaster, Pa.: Jaques Cattell Press. P. 105–119.
Kardiner A.
1939. The Individual and His Society. N. Y: Columbia University Press.
1945a. The Psychological Frontiers of Society. N. Y: Columbia University Press.
1945b. The Concept of Basic Personality Structure as an Operational Tool in the Social Sciences // Linton R. (ed.). The Science of Man in the World Crisis. N. Y: Columbia University Press. P. 107–122. (Рус. пер.: Кардинер А. Понятие базисной структуры личности как операциональный инструмент анализа в социальных науках//Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 1998. № 1. С. 151–170.)
Kardiner A., Ovesey L.
1951. The Mark of Oppression: A Psychological Study of the American Negro. N. Y: W. W. Norton & Co.
Klineberg O.
1950. Tensions Affecting International Understanding: A Survey of Research. (Social Science Research Council Bull. 62.) N. Y: Social Science Research Council.
Kluckhohn С.
1944. The Influence of Psychiatry on Anthropology in America during the Past One Hundred Years // Hall J.K., Zilboorg G., Bunker H.A. (eds.). 1944. One Hundred Years of American Psychiatry. N. Y: Columbia University Press.
1949. Mirror for Man. N. Y: McGraw-Hill Book Co., Inc. (Рус. пер.: Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб.: Евразия, 1998.)
Kluckhohn С, Mowrer O.H.
1944. Culture and Personality: A Conceptual Scheme // American Anthropologist. Vol. XLVL P. 1–29.
Kluckhohn C, Murray НА. (eds.).
1948. Personality in Nature, Society, and Culture. N. Y: Alfred A. Knopf.
Kroeber A.L.
1947. A Southwestern Personality Type // Southwestern Journal of Anthropology. Vol. III. P. 108–113.
1948. Anthropology. N. Y: Harcourt, Brace & Co. Kroeber A.L., Benedict R., Emeneau M.B., Murray В., et al.
1943. Franz Boas, 1858–1942 //American Anthropologist. Vol. XLV № 3. Part II. Leighton A., Leighton Б.С.(При участии Катерины Оплер.)
1949. Gregorio, the Hand-Trembler: A Psychobiological Personality Study of a Navaho Indian. (Papers of the Peabody Museum of American Archeology and Ethnology, Harvard University. Vol. XL. № 1.) Boston.
Lewin K.
1948. Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group Dynamics. N. Y: Harper & Bros.
Linton R.
1945. The Cultural Background of Personality. N. Y: Appleton-Century-Crofts, Inc.
Lowie R.H.
1937. The History of Ethnological Theory. N. Y: Farrar & Rinehart.
Mandelbaum D.G. (ed.)
1949. Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture, and Personality. Berkeley; Los Angeles: University of California Press.
Mauss M.
1950. Sociologie et anthropologie. Paris: Presses Universitaires de France. (Рус. пер.: Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература, 1996.)
Mead M.
1937. Cooperation and Competition among Primitive Peoples. N. Y; L: McGraw-Hill Book Co., Inc.
1949. Male and Female. N. Y: William Morrow & Co. (Рус. пер.: Mud М. Мужское и женское: исследование полового вопроса в меняющемся мире. М.: РОССПЭН, 2004.)
1951. Soviet Attitudes toward Authority. N. Y: McGraw-Hill Book Co., Inc.
Mead M., Macgregor EC.
1951. Growth and Culture. N. Y: G.P. Putnam's Sons.
Meggers B.J.
1946. Recent Trends in American Ethnology // American Anthropologist. Vol. XLVTII. P. 176–214.
Miller D.K., Hutt M.L.
1949. Value Interiorization and Personality Development // Journal of Social Issues. Vol. V. P. 2–30.
Miller N, Dollard J.
1941. Social Learning and Imitation. New Haven: Yale University Press.
Mowrer O.H., Kluckhohn С.
1944. Dynamic Theory of Personality // Hunt J. McV. (ed.). Personality and the Behavior Disorders. 2 vols. N. Y: Ronald Press Co. P. 69—135.
Mullahy P.
1948. Oedipus: Myth and Complex: A Review of Psychoanalytic Theory. N. Y: Heritage Press.
Murdock G.P.
1949. The Science of Human Learning, Society, Culture, and Personality // Scientific Monthly. Vol. LXIX. P. 377–381.
Murphy G.
1947. Personality: A Biosocial Approach to Origins and Structure. N. Y: Harper & Bros.
Murray H.A.
1938. Exploration in Personality. N. Y: Oxford University Press.
Nadel S.F.
1937a. The Typological Approach to Culture // Character and Personality (в настоящее время Journal of Personality). Vol. V. P. 267–284.
1937b. Experiments on Culture Psychology//Africa. Vol. X. P. 421–435.
1937c. A Field Experiment in Racial Psychology // British Journal of Psychology. Vol. XXVIII. P. 195–211.
1951. The Foundations of Social Anthropology. Glencoe, 111.: Free Press.
Newcomb Th.M.
1950. Social Psychology. N. Y: Dryden Press.
Newcomb Th.M., Hartley E.L., et al. (eds.).
1947. Readings in Social Psychology. N. Y: Henry Holt & со.
Nissen H.W.
1951. Phylogenetic Comparisons // Stevens S.S. (ed.). Handbook of Experimental Psychology. N. Y: John Wiley & Sons. Chapter X.
Orlansky H.
1949. Infant Care and Personality // Psychological Bulletin. Vol. XLVL P. 1-48.
Parsons Т., Shils E.A. (eds.).
1951. Toward a General Theory of Action. Cambridge: Harvard University Press.
Randall J.H., Jr.
1944. Epilogue: The Nature of Naturalism // Krikorian Y. H. (ed.). Naturalism and the Human Spirit. N. Y: Columbia University Press. P. 354–382.
Roheim G.
1943. The Origins and Function of Culture. (Nervous and Mental Disease Monograph Series. № 63.) N. Y.
1950. Psychoanalysis and Anthropology: Culture, Personality, and the Unconscious. N. Y: International Universities Press.
Rohrer J.H., SherifM. (eds.)
1951. Social Psychology at the Crossroads. N. Y: Harper & Bros.
Sapir E.
См.: Mandelbaum и Harris.
Sargent S.S., Smith M.W. (eds.)
1949. Culture and Personality: Proceedings of an Interdisciplinary Conference Held under the Auspices of the Viking Fund, November 7–8, 1947. N. Y: Viking Fund.
Schneiria T.C.
1951. The 'Levels' Concept in the Study of Social Organization in Animals // Rohrer J.H., SherifM. (eds.). Social Psychology at the Crossroads. N. Y: Harper & Bros. P. 83–120.
Seligman C.G.
1924. Anthropology and Psychology//Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol. LIV P. 13–46.
1928. Lhe Unconscious in Relation to Anthropology // British Journal of Psychology. Vol. XVIII. P. 374–387.
1929. Lemperament, Conflict and Psychosis in a Stone-Age Population // British Journal of Medical Psychology. Vol. IX. P. 187–202.
1932. Anthropological Perspective and Psychological Lheory (Huxley Memorial Lecture, 1932) // Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol. LXII. P. 193–228.
1936. Introduction // Lincoln J. S. The Dream in Primitive Cultures. L.: Cresset Press; n. d., Baltimore: Williams & Wilkins.
Shapley H.
1930. Flights from Chaos. N. Y: McGraw-Hill Book Co., Inc.
Slotkin J.S.
1951. Personality Development. N. Y: Harper & Bros.
Spindler G., Goldschmidt W.
1952. Experimental Design in the Study of Culture Change // Southwestern Journal of Anthropology. Vol. VIII. P. 68–83.
Spiro M.E.
1951. Culture and Personality: The Natural History of a False Dichotomy // Psychiatry. Vol. ХГУ. P. 19–46.
Stevens S.S. (ed.).
1951. Handbook of Experimental Psychology. N. Y: John Wiley & Sons.
Sullivan H.S.
1947. Conception of Modern Psychiatry. Washington, D. C: William Alanson White Psychiatric Foundation.
Volkart E.H. (ed.)
1951. Social Behavior and Personality. (Contributions of W I. Thomas to Theory and Social Research.) N. Y: Social Science Research Council.
Wallace A. EC.
1952. The Modal Personality Structure of the Tuscarora Indians, as Revealed by the Rorschach Test. (Bureau of American Ethnology Bull. № 150.)
Weakland J.H.
1951. Method in Cultural Anthropology // Philosophy of Science. Vol. XVIII. P. 55–69.
White L.A.
1925. Personality and Culture // Open Court. Vol. XXXIX. P. 145–149.
1947. The Locus of Mathematical Reality: An Anthropological Footnote // Philosophy of Science. Vol. XIV P. 289–303. (Рус. пер.: Уайт Л. Место математической реальности // Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. М.: РОССПЭН, 2004. С. 306–326.)
Whitehead A.N.
1930. Adventures of Ideas. Cambridge: At the University Press.®
Whiting J.W.M.
1941. Becoming a Kwoma: Teaching and Learning in a New Guinea Tribe. New Haven: Yale University Press.
Wilbur G.B., Muensterberger W (eds.)
1951. Psychoanalysis and Culture: Essays in Honor of Geza Roheim. N. Y: International Universities Press, Inc.
Примечания
1 Ввиду того, что основные источники – а именно книги, публикации в периодических изданиях и два сборника переизданных статей – легко доступны, в этом примечании будет предложен краткий, но достаточно полный путеводитель по данной литературе. Кроме того, поскольку рассматривать в ограниченном пространстве статьи весь спектр конкретных трудов представляется непрактичным, а сам наш симпозиум посвящен целостному и совокупному взгляду на антропологию, основное внимание здесь уделяется более широким импликациям исследований личности и культуры, а также их связи с интересами общей антропологии и тесно связанных с нею дисциплин.
За исторической перспективой можно обратиться к книгам Лоуи (1937, «Ретроспектива и перспектива»), Фолькарта (1951, где приводится «Проект программы изучения личности и культуры», подготовленный У.А. Томасом и представленный в 1933 г. на рассмотрение в Совет по социально-научным исследованиям), Маргарет Мид (1937, введение), Бетти Дж. Меггере (1946, где приводится довольно скучный обзор новейших тенденций), Клайда Клакхона (1944, о влиянии психиатрии на антропологию в Америке), К. Клакхона и Генри Э. Мюррея (1948, введение).
Переиздания двух серий избранных статей в области исследований культуры и личности, содержащих как огромный массив конкретных данных, так и теоретический анализ, можно найти в книгах Клакхона и Мюррея (1948) и Хэринга (1949, rev. ed.). В последней из них можно также найти обширную библиографию, составленную в алфавитном порядке, которая в совокупности с библиографическими ссылками, содержащимися в книге Клакхона и Мюррея, выводит непосредственно на источники. Поскольку в книге Хэринга работы Бейтсона, Бенедикт, Дюбуа, Эриксона, Фромма, Джиллина, Горера, Халлоуэла, Хенри, Кардинера, Клакхона, Ла Барре, Линтона, Мид, Рохейма, Сепира, Салливана и других авторов уже перечислены, то, наверное, нет необходимости повторять весь их перечень в библиографии, прилагаемой к данной статье. Вместе с тем, можно обратить внимание на публикацию в 1949 г. тома «Избранных работ Эдварда Сепира» под редакцией Д. Мандельбаума. Позднее вышла в свет большая и исключительно полезная обзорная статья З.С. Харриса (1951), в которой в систематической форме были изложены взгляды Сепира. В журнале «Psychiatry» (Vol. X. 1947, p. 117–120) можно найти библиографию работ Маргарет Мид. Позже Мид опубликовала книги: «Мужское и женское» (1949), «Советские установки по отношению к власти» (1951) и «Рост и культура» (Mead and Macgregor, 1951). Среди книг, не включенных в библиографию Хэринга или опубликованных позднее, особого внимания заслуживают следующие: «Материалы междисциплинарной конференции по проблемам культуры и личности» под редакцией Сарджента и Смита (1949; конференция была проведена в 1947 г. под эгидой «Viking Fund»); обзор исследований личности и культуры с психоаналитической точки зрения, составленный Рохеймом (1950), издаваемый (с 1947 г.) под его редакцией ежегодник «Психоанализ и социальные науки», а также сборник под названием «Психоанализ и культура», посвященный Рохейму, под ред. Уилбера и Мюнстербергера (1951); «Детство и общество» Эрика Г. Эриксона (1950); «Труды Американской ассоциации психопатологов» (1948), посвященные общей теме «Психосексуальное развитие в условиях здоровья и болезни», под ред. Хоха и Зубина (1949), куда включены статьи Форда, Халлоуэла, Хенри, Мид и Мёрдока; общий обзор сексуальных образцов человеческого поведения, составленный Фордом и Бичем (1951), а также монография Берндтов об австралийцах (1951); исследования Дайка (1947) и Лейтонов (1949) об индивиде племени навахо, Аберле – о хопи (1951) и Деверо (1951), Л.К. Фрэнка (1951) и Хонигмана (1949) – об индейцах равнин.
2 Seligman, 1924. Последующие статьи, опубликованные в 1928, 1929 и 1932 гг., демонстрируют его неослабевающий интерес к этой теме. В 1936 г. во введении к книге Дж. С. Линкольна «Сновидение в примитивной культуре» Селигмен писал: «В наши дни антрополог должен знать современную психологическую теорию; он должен решить для себя, насколько его исследования должны ею направляться, и понять, на каком классе материала он должен особенно сосредоточить свое внимание, дабы не только проверить теории психологов, но и продвинуть вперед собственную науку. Короче говоря: как в настоящее время можно установить обоюдовыгодную взаимосвязь между психологией и антропологией?
Это проблема, которой автор настоящего Введения посвятил много размышлений в последние годы. Будучи воспитанным главным образом в традициях Тайлоровской (сравнительной) Школы Антропологии, приобретя впоследствии некоторые познания в Исторической Школе Риверса и дав им применение, а в последние годы наблюдая развитие функционального метода, автор пришел к убеждению, что наиболее плодотворный путь развития – и, возможно, единственный, который способен дать социальной антропологии ее законный статус особой отрасли науки и в то же время полновесную значимость в человеческих делах, на которую она вправе претендовать, – это все большее прояснение всех вопросов в полевых условиях и интеграция в антропологию психологического знания. То, что мы не достигли большего, чем имеем на самом деле, вероятно, лишь частично обусловлено относительной скудностью имеющегося в нашем распоряжении материала и всевозможного рода трудностями, с которыми сталкиваются антропологи при обращении с ним. Автор надеется, что не является несправедливым к своим коллегам, однако не может не высказать своего мнения, что в гораздо большей степени эта неудача обусловлена недостатком эклектизма, установкой каждого защитника и приверженца той или иной школы проявлять мало интереса к методу и заключениям других».
Кроме интереса к психологии, проявленного С.Ф. Нэделом, отдающим должное вкладу гештальт-психологов (Foundations [1951], Vol. VI), отношения между психологией и антропологией, которые предвидел Селигмен, в действительности так, по-видимому, и не сложились, несмотря на то, что сэр Ф.К. Бартлет (1937, р. 419), со стороны психологии, высказал предположение, что «если бы антрополог энергичнее взялся за работу и придал ей более определенную направленность посредством законного применения психологических методов, а психолог, со своей стороны, научился гуманизировать свои эксперименты с помощью изучения антропологического материала, то это, надо полагать, привело бы к быстрому и подлинному прогрессу обеих наук».
3 Клакхон и Мюррей, например, характеризуют «противопоставление «личности и куль туры» как ложное или, по крайней мере в некоторых важных смыслах, вводящее в заблуждение» (1948, p. xi); ср.: Spiro. Были и другие дихотомии («дух – материя», «природа – человек», «тело – разум», «индивид – общество»), которые следовало бы переупорядочить, соотнеся с некоторым более широким (inclusive) единством.
4 Речь идет о книге: Kroeber A., Benedict R. et al. Franz Boas (1943).
5 Ср.: Мёрдок (1949), «с долей лукавства» запустивший в оборот слово «наобкулития» (образованное от начальных букв в словах «научение», «общество», «культура», «личность», «теория»), отмечает, что «по сей день так и не удалось достичь согласия относи тельно подходящего названия для нарождающейся единой науки. Такие термины, как „изучение человеческих отношений“ или „исследование социальных отношений“, пренебрегают психологическими составляющими и, с точки зрения некоторых ученых, предполагают прикладное, а не теоретическое знание. Выражение „наука о человеческом поведении“ имеет слишком явную коннотацию с бихевиоризмом и почти совсем не указывает на важные социальные и культурные факторы. Общеупотребляемый термин „социальная наука“, по-видимому, исключает психологию». См. также: Parsons and Shils (1951).
6 Дж. Гордон Браун в недавно опубликованной статье (1951) отказывается от термина «культура» «в интересах ясности». Он говорит: «Я вовсе не жду, что коллеги-антропологи согласятся с таким пренебрежением к одному из самых священных наших терминов, но лично я нашел для себя полезным обойтись в размышлениях без него».
7 Ср. с замечаниями Дж Х. Рэндалла-младшего (1944, р. 355 и дальше). Уайтхед (1930, р. 99) утверждал: «Думать о Природе и Человеке – ложная дихотомия. Род человеческий есть тот фактор в Природе, который проявляет в наиболее интенсивной форме пластичность Природы. Пластичность есть введение нового закона. Доктрина Единообразия Природы должна быть поставлена в один ряд с противоположной ей доктриной Магии и Чуда, являясь выражением частичной истины, необоснованной и не согласующейся с беспредельностью Универсума. Границы того, что мы можем делать с этим миром, определяются нашими интерпретациями опыта».
8 Нэдел (1951, р. 79 и далее) прямо ссылается на понятийные различия между «обществом» и «культурой», которые выносились на передний план разными антропологами. «В антропологической литературе последнего времени, – отмечает он, – термины «общество» и «культура» принимаются как обозначения несколько разных вещей или, точнее говоря, разных способов рассмотрения одного и того же».
9 Ср.: Parsons and Shils (1951, p. 22): «Культурные образцы, будучи интернализированными, становятся составными элементами личностей и социальных систем. Все конкретные системы действия в одно и то же время имеют культурную систему и представляют собой некоторый набор личностей (или их секторов), а также социальную систему, или подсистему. Тем не менее, все три системы являются концептуально независимыми организациями элементов действия».
10 См. книгу Шепли (1930), в которой дается очерк космических исследований известного нам материального мира. «Наши исследования космоса, – говорит он, – доказывают единообразие его химического строения и в целом его физических законов. Мы коллоиды. Сами тела наши состоят из тех же химических элементов, которые обнаруживаются в самых далеких туманностях, а наша деятельность управляется теми же универсальными законами. Проведенный недавно анализ химического состава человека, животного, горной породы и звезды пролил свет на замечательное единообразие их химических компонентов. Сколь бы ни были малы мы, люди, и сколь бы ни было мимолетно наше существование во времени и пространстве, химические элементы, из которых мы состоим, являются также преобладающими элементами в земной коре и важными составными частями в строении огненных и газообразных звезд. С химической точки зрения, в нас нет ничего необычайного или экзотического».
11 Шнейрла противопоставляет «психосоциальный» уровень адаптации, существующий в человеческих обществах, «биосоциальному» уровню, свойственному сообществам насекомых. «Индивидуальная способность к научению у насекомых, сколь бы стереотип ной и ситуационно-ограниченной она ни была, играет подчиненную (вспомогательную) роль в индивидуальной социализации и демонстрирует свою наибольшую сложность в акте поиска продовольствия (т. е. поиске его вне гнезда). Различные индивиды вносят репродуктивный или продовольственный вклад в благосостояние колонии, и индивидуальное научение никогда не приводит к устойчивым изменениям в стандартном видовом образце. Общество биосоциально в том смысле, что оно есть совокупный результат соединения индивидуальных биологических характеристик, довлеющих над групповым поведением.
Человеческие общества, напротив, можно назвать психосоциальными в том смысле, что в них доминируют культурные процессы, которые являют собою кумулятивные и негенетически передаваемые результаты опыта и научения, которые переменным образом взаимодействуют под влиянием человеческих потребностей и желаний с процедурами труда или конфликта, размышления или рутины».
12 Аберле, Коэнидругие(1950,р. 101) определяют общество как «группу людей, сообща участвующих в некоторой самодостаточной системе действия, способной существовать дольше, нежели протяженность жизни индивида, при том что пополнение состава группы по крайней мере частично осуществляется за счет полового размножения ее членов». В качестве функциональных предпосылок существования общества – т. е. того, что должно быть сделано, а не того, как это должно быть сделано, – авторы перечисляют следующие условия: (а) обеспечение адекватной связи со средой и сексуального рекрутирования членов группы, (б) ролевая дифференциация и распределение ролей, (в) коммуникация, (г) общая когнитивная ориентация, (д) общепринятый артикулированный набор целей, (е) нормативная регуляция средств, (ж) регуляция аффективного самовыражения, (з) социализация, (и) действенный контроль над разрушительными формами поведения.
Хотя это прямо и не касается эксплицитных связей между обществом, культурой и личностной структурой, на мой взгляд, очевидно, что здесь в ответе на вопрос «Как связываются друг с другом эти функциональные предпосылки?» необходимо присутствует допущение, что индивидуальные члены общества должны быть психологически структурированы таким способом, который будет поддерживать социокультурную систему и в то же время обеспечивать удовлетворительное личное приспособление к жизни.
13 См.: Parsons and Sliils (1951), где говорится о роли как элементе социальных систем. Х.С Дженнингс, обсуждая отличительные свойства социальной организации у животных, стоящих ниже уровня человека, пишет: «… социальная организация существует лишь при условии, что индивиды играют разные функциональные роли» (1942, р. 105).
14 См. работу Маргарет Мид (1951), где приводится «исследование того, каким образом в человеческих культурах ритмы человеческого развития упорядочиваются в соответствии с определенными образцами (are patterned)». Определяются три области исследования:
«(1) природа процесса человеческого развития, (2) степень индивидуальности, присутствующая в процессе человеческого развития, и (3) способ, посредством которого эти процессы – человеческие вообще и идиосинкратические – взаимно переплетаются в процессе обучения тому, как быть человеком в данной культуре» (р. 14).
15 Удивительно красочное описание шимпанзе Вики, которую взяли к себе в дом и воспитали д-р Хейс и миссис Хейс (см.: Hayes, 1951), драматически показывает, как действовали врожденные психобиологические ограничения, присущие шимпанзе, в оптимальных условиях систематической мотивации, проводившейся с младенческого возраста и нацеленной на развитие у шимпанзе всех ее потенциальных способностей с целью последующего ее сравнения с детьми, воспитываемыми в аналогичных обстоятельствах. Спектр подражательных реакций шимпанзе во всех сферах, за исключением языка, никогда более не демонстрировался так ярко. За три года Вики стала «социализированной» в человеческом смысле слова; ее реакции стали надлежащим образом приспособленными к культурно определенным ситуациям; даже ее привычки питания не были «свободны от культуры»; она стала «носителем» культуры – но и не более того.
16 Hallowell (1950a, р. 165–166). Ср.: Cassirer (1944). Ниссен (1951) рассматривает символизацию в филогенетической перспективе, как некую новую инструментальность, имеющую особую значимость для человеческого примата.
17 Дьюи (1917) обратил внимание на одну мысль Габриэля Тарда, с его точки зрения очень плодотворную и намного опередившую свое время. Это, пишет Дьюи, была идея о том, что «все психологические явления можно разделить на физиологические и социальные, и если элементарное ощущение и аппетит мы относим к первой категории, то все остающееся после этого от нашей душевной жизни – наши верования, идеи и желания – попадает в ведение социальной психологии». Последние достижения, про должает Дьюи, дали «неожиданное подтверждение открытию Тарда, что нечто, называемое нами „разумом“, по существу означает работу определенных представлений и желаний и что в конкретном своем проявлении – а лишь в этом смысле и можно говорить о существовании разума – они суть функции ассоциированного поведения, которые изменяются вместе со структурой и деятельностью социальных групп». Таким образом, «разум» рассматривается не как «заранее данная и готовая вещь», а как «ре организация прирожденных деятельностей в процессе их осуществления в данной среде. Это не данность, а процесс формирования, становящийся продуктом и причиной только тогда, когда он уже завершен. Стало быть, в теоретическом плане возможно, чтобы реорганизация прирожденных деятельностей, конституирующая разум, происходила в ходе их выполнения в чисто физической среде. Эмпирически, однако, это совершенно невероятно. Если принять во внимание, что у младенца организация врожденных деятельностей в интеллект зависит от присутствия других людей, от его участия в совместных деятельностях и от языка, то становится очевидным, что разум, способный развиться в процессе функционирования врожденного оснащения в несоциальной среде, есть разум идиотического порядка, и практически, если уж не теоретически, им можно пренебречь». То, что Дьюи не пользуется ни термином «культура», ни термином «личность», делает ясность его суждений в высшей степени интересной и значимой в исторической перспективе.
18 См.: Mullahy (1948), где излагаются психоаналитические теории личности и приводится соответствующая литература. Ср.: Bronfenbrenner (1951), а также материалы Симпозиума по теоретическим моделям и теории личности в Journal of Personality. Vol. XX. № 1 (1951); в этом симпозиуме участвовали главным образом психологи.
19 Простую схему, представляющую мотивы, установки и т. д. в качестве промежуточных переменных, можно найти в работе Ньюкомба (1950, р. 31). Э. Ч. Толмен предлагает модель, в которой промежуточные переменные образуют конструкт, имеющий ключевое значение в работе Парсонсаи Шилза (1951, часть 3).
20 Здесь можно бы было поставить и слово «культурной».
21 Хотя применяемая терминология несколько варьировала как с точки зрения семантического содержания, так и в языковом выражении, в центр внимания выносились аналогичные явления; например, в том, что определялось как «базисная структура личности» (Kardiner, 1939, 1945а), «модальная структура личности» (Du Bois, 1944), «общественные аспекты личности» (Kluckhohn, Mowrer, 1944), «социальный характер» (Fromm, 1941) и «национальный характер» (см. обзор литературы: Клайнберга, 1950). Ср. таблицу «не которых понятий этоса», составленную Хонигманом (1949, Приложение В, р. 357–359).
22 1951, р. 521–522. Э.Е. Эриксон, изучивший под углом зрения воспитания детей мате риал о народности юрок, разработал несколько иную интерпретацию ее культуры.
23 См. критические замечания у Орланского (1949).
24 Весьма показательный пример, в котором ясно сформулированы принятая концептуальная схема соотнесения и используемая гипотеза, предлагается работой Дюбуа (1944).
25 См.: Blake, Ramsey (1951). Хильгард посвятил этой теме главу «Роль обучения в восприятии»; Брунер обсуждает «Динамику личности и процесс восприятия»; у Миллера исследуются «Бессознательные процессы и восприятие»; и т. д.
26 Это никоим образом не предполагает «абсолютного» релятивизма в восприятии. При знание этого факта всего лишь помогает определить реальную проблему. Полностью релятивистская гипотеза была бы столь же неадекватной, сколь и чисто абсолютистская (см.: Gibson, 1950a).
27 См.: Hallowell (1951a); в книге Блейкаи Рамсея (1951) имеется близкая по теме глава, написанная Деннисом.
28 Левин (1948) отмечал, что «эксперименты, в которых исследовались память и групповое давление на индивида, показывают, что то, что существует для индивида в качестве „реальности“, определяется в значительной степени тем, что социально принимается как реальность. Это верно даже тогда, когда речь идет о физическом факте: для обита теля южных морей мир может быть плоским; для европейца он круглый. Следовательно, „реальность“ – не абсолют. Она отличается в зависимости от группы, к которой при надлежит индивид.
Эта зависимость индивида от группы в определении того, что является "реальностью" и что ею не является, будет не столь удивительна, если вспомнить, что личный опыт индивида с необходимостью ограничен. Иначе говоря, вероятность того, что его суждение будет правильным, повышается, если индивид с большим доверием относится к опыту группы, независимо от того, совпадает или нет этот групповой опыт с его собственным. Это одна из причин принятия группового суждения, но есть еще и другая. В любой сфере поведения и представлений группа оказывает мощное давление на своих индивидуальных членов, требуя от них согласия с ней. Мы подвержены этому давлению во всех областях – политической, религиозной, социальной, – включая и нашу веру в то, что есть истина и что есть ложь, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно, что реально и что нереально. В таком случае нетрудно понять, почему общее принятие факта или мнения может быть той самой причиной, которая не допускает постановки этого мнения или факта под вопрос».
29 Ernest R. Hilgard (1948, p. 329–330). Ср.: МШег, Dollard (1941), а также Gibson (1950b). У Гибсона приводится набросок того, что является, по его разумению, желанными очертаниями теории социального научения у человека. Уайтинг (1941), используя модель теории научения, предложенную Халлом, систематически анализирует усвоение ребенком культуры квома; особый интерес для нас представляет глава «Внушение сверхъестественных верований».
30 Толмен (см.: Parsons, Sliils, 1951. P. 359) отмечал, что «психология в значительной мере представляет собой изучение интернализации общества и культуры индивидуальным человеческим актором»; Ньюкомб (Newcomb, 1950. Р. 6) говорит о том, что индивид «каким-то образом обретает общество внутри самого себя. Способы действования общества становятся его собственными». Ср.: Миллер и Хатт (1949); они указывают, что «интериоризация социальных ценностей лишь относительно недавно стала предметом специального изучения».
Такие утверждения, исходящие, в частности, от психологов, очень важны для культурной антропологии. То, что некоторые антропологи полагали – хотя далеко не всегда отстаивали эту точку зрения систематически, – будто культура в основе своей должна рассматриваться не как неотъемлемая часть индивида, а как нечто отдельное от него или внешнее по отношению к нему, подразумевала некую базисную дихотомию личности и культуры. Крайняя формулировка этой позиции получила воплощение в замечании Уайта (1947) о том, что «наиболее эффективный способ научного изучения культуры в действительности состоит в том, чтобы действовать таким образом, как если бы человеческого рода не существовало вовсе». Спиро сосредоточил внимание на этой проблеме в своей статье 1951 г. Он говорит: «Чего не удалось осознать культур-реалистам, так это того, что как только организм чему-то научается, это нечто перестает быть по отношению к нему чем-то внешним и оказывается "внутри" организма; но как только оно оказывается "внутри", организм становится биосоциальным организмом, определяющим свое поведение как следствие тех модификаций, которые он претерпел в процессе научения. Между тем, принятая реалистами дихотомия индивид-культура мешает им увидеть этот элементарнейший факт, и, как следствие этого, они мыслят категориями сверхорганической культуры, определяющей поведение органического взрослого человека».
31 Ср. утверждение Годдшмидта (Op. cit, p. 522): «Индивидуализированный образец социального действия, интернализированные требования личного успеха, возможность которого теоретически открыта для всех, отсутствие неподвижной фиксации социального положения и связанных с ней гарантий групповой солидарности, значимость собственности для социального успеха и, следовательно, для удовлетворения эго – все это в сумме поддерживает такие черты характера, как агрессивность, враждебность, дух соперничества, одиночество и скупость. И в самом деле, трудно даже представить, каким образом хула или юрок могли бы эффективно функционировать без этих черт в своем обществе» (курсив наш).
32 Ньюкомб (1950, р. 448) обобщил этот тезис, подчеркнув значимость переживаний детства как «существенного звена» временной преемственности: «Детские переживания образуют существенное звено в той цепи, которой культура любого общества и общие личностные характеристики его членов связываются и продолжают связываться воедино в череде следующих друг за другом поколений… Без общих детских переживаний не было бы ни общих личностных характеристик в обществе, ни преемственной культуры».
33 Видней (1947, р. 395) постулирует наличие некой «человеческой природы», которая «логически и генетически предшествует культуре, ибо мы должны постулировать существование таких человеческих агентов, наделенных психологическими способностями и импульсами, которые могут породить культурный процесс как средство приспособления к своей среде и как форму символического выражения. Иначе говоря, установленная природа человека функционально проявляется через культуру, но к ней не сводима».
В другой статье (1949, р. 347) он указывает: «В развитии современной культурной антропологии можно выделить две основные «темы». С одной стороны, – тему, вытекающую из натуралистической, позитивистской, эволюционной традиции XIX столетия, в соответствии с которой культурная реальность представляет собой автономный, сверхорганический, сверхпсихический уровень реальности, подчиненный своим собственным законам и стадиям развития, или эволюции. С другой стороны, – постоянную тему, восходящую к гуманистической традиции эпохи Возрождения и рационализму философов Просвещения XVIII века, согласно которой человеческая культура является продуктом человеческих открытий и творчества и подчинена человеческому контролю».
34 См.: Hallowell (1945), где дается предварительный обзор данной проблемы.
35 См., в частности, у Спиндлера и Годдшмидта (1952). Их исследование «нацелено на понимание процессов изменения, происходящих в обществе [индейцев меномини, живущих в штате Висконсин] под воздействием современной американской цивилизации, особенно того, как принятие внешних проявлений культурного и социального поведения связано с изменениями в индивидуальных личностных характеристиках личного состава этого общества; при этом мы временно воздерживаемся от трактовки тех или других как независимой переменной в данной ситуации». Результаты этого конкретного исследования готовятся к публикации Джорджем Спиндлером. Адаме (1951), опираясь на собственные данные, обсудил гипотезу, выдвинутую в работе Х.Дж. Барнета «Личностные конфликты и культурное изменение» (1941).
36 Обобщение данных и выводов можно найти в: Hallowell (195 lb). Ср.: Hallowell (1950b) и краткий обзор в [сборнике] «Аккультурация в Америках: Материалы и избранные труды XXIX Международного конгресса американистов», под ред. Сола Такса (1952).
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: Hallowell A.I. Culture, Personality and Society // Anthropology Today. Chicago, 1953. P. 597–615.
Перевод В.Г. НиколаеваБейтсон Г. Бали: ценностная система устойчивого состояния1
«Этос» и «схизмогенез»
Если уж не ложью, то во всяком случае чрезмерным упрощением было бы сказать, будто наука непременно движется вперед путем построения и эмпирической проверки последовательной серии рабочих гипотез. Среди физиков и химиков еще можно найти таких, кто и в самом деле действует таким ортодоксальным способом, но среди социальных ученых таких, по-видимому, нет. Нашим понятиям даются произвольные определения (они нечто вроде смутно проступающих очертаний еще не проведенных четких линий), а наши гипотезы до сих пор остаются настолько туманными, что мы редко можем даже в воображении представить себе какой-нибудь случай, исследование которого обеспечило бы их решающую проверку.
Настоящая статья представляет собой попытку более четко сформулировать идею, высказанную мною в 1936 г.2 и с тех пор основательно переработанную. Понятие этоса оказалось для меня полезным концептуальным инструментом, и с его помощью мне удалось добиться более ясного понимания культуры ятмуль. Однако этот опыт никоим образом не доказывал, что данный инструмент обязательно будет полезным, если окажется в других руках или будет применен в анализе других культур. Самый общий вывод, который я мог из этого извлечь, заключался в том, что определенными характерными особенностями обладают мои ментальные процессы, что определенными характерными особенностями обладают высказывания, действия и организация ятмуль и что абстракция «этос» сыграла какую-то роль – возможно, роль катализатора – в облегчении установления связи между этими двумя специфичностями: моим разумом и данными, которые я самостоятельно собрал.
Сразу по завершении рукописи «Навена» я отбыл на Бали, с тем чтобы испытать этот инструмент, разработанный для анализа ятмуль, на балийских данных. Однако по ряду причин я этого не сделал: отчасти потому, что на Бали мы с Маргарет Мид были заняты разработкой других инструментов исследования – фотографических методов регистрации и описания данных, – отчасти потому, что я учился применять к культурным данным методики генетической психологии, но более всего потому, что на некотором, не выразимом словами уровне я чувствовал, что для решения этой новой задачи указанный инструмент исследования непригоден.
Не то чтобы «этос» в каком-то смысле был опровергнут; на самом деле, инструмент исследования, или метод, вряд ли вообще может быть опровергнут и признан ложным. Можно продемонстрировать лишь его бесполезность, в данном же случае отсутствовала даже ясная демонстрация его бесполезности. Метод остался почти неопробованным, и самое большее, что я мог сказать, заключалось в том, что после капитуляции перед данными, сбор которых является первым этапом всякого антропологического исследования, этологический анализ уже не представлялся мне именно тем, что должно было далее последовать.
Теперь открылась возможность показать на балийских данных, какие именно особенности этой культуры могли повлиять на меня и заставить отказаться от этологического анализа, и демонстрация этого выведет нас на более высокое обобщение такой абстракции, как «этос». По ходу дела мы совершим определенный эвристический прогресс, который может привести нас к получению более строгих описательных процедур для работы с другими культурами.
(1) Анализ ятмульских данных привел нас к определению этоса как «выражения культурно стандартизированной системы организации инстинктов и эмоций индивидов»3.
(2) Анализ ятмульского этоса – заключавшийся в таком упорядочении данных, которое высвечивало некоторые регулярно повторяющиеся «акценты» или «темы», – привел нас к открытию схизмогенеза. Оказалось, что функционирование ятмульского общества заключало в себе inter alia1* два класса регенеративных4, или «порочных», кругов. Оба они представляли собой такие последовательности социального взаимодействия, в которых действия А были стимулами для действий В, становившихся, в свою очередь, стимулами для более интенсивного действия со стороны А, и т. п.; А и В здесь были лицами, действующими в качестве индивидов или членов группы.
(3) Эти схизмогенические последовательности можно разделить на два класса: (а) симметричный схизмогенез, в котором взаимно стимулирующие друг друга действия А и В в основе своей одинаковы, например, в случае конкуренции, вражды и т. п.; и (б) комплементарный схизмогенез, в котором взаимно стимулирующие друг друга действия по существу различны, но находятся во взаимном соответствии, например, в случае господства-подчинения, опеки-зависимости, эксгибиционизма-вуайеризма и т. п.
(4) В 1939 г. был сделан значительный шаг вперед в определении формальных связей между понятиями симметричного и комплементарного схизмогенеза. Он стал результатом попытки представить схизмогеническую теорию в форме уравнений Ричардсона, разработанных для международной гонки вооружений5. Уравнения для вражды очевидным образом давали нам первое приближение к тому, что я называл «симметричным схизмогенезом». Эти уравнения предполагают, что интенсивность действий А (в случае, рассмотренном Ричардсоном, это была скорость его вооружения) прямо пропорциональна сумме опережения, достигнутого В над А. Фактически, стимулирующим условием является разность (В-А), и, когда этот показатель положителен, ожидается, что А предпримет усилия по наращиванию своего военного арсенала. Второе уравнение Ричардсона устанавливает аналогичное допущение, mutatis mutandis2*, в отношении действий В. Эти уравнения навели нас на мысль, что и другие феномены состязательного, или конкурентного характера – например, хвастовство, – хотя и не поддаются столь простому измерению, как финансовые расходы на вооружение, могут быть тем не менее сведены, если удастся в конце концов их измерить, к аналогичной простой системе отношений.
В случае комплементарного схизмогенеза, однако, не было такой ясности. Уравнения Ричардсона для «подчинения» определяют феномен, явно несколько отличающийся от прогрессивного комплементарного взаимоотношения, а формой его уравнений описывается действие фактора «смирения», замедляющего милитаристские усилия и в конечном счете изменяющего их арифметический знак. Для описания комплементарного схизмогенеза, между тем, требовалась такая форма уравнения, которая давала бы четкое и прерывное обращение знака. Такая форма уравнения была получена нами при помощи предположения, что действия А в комплементарном отношении пропорциональны стимулирующему условию типа (А-В). Эта форма обладает также и тем преимуществом, что автоматически определяет действия одного из участников как негативные и тем самым обеспечивает своего рода математический аналог очевидной психологической связанности господства с подчинением, эксгибиционизма с вуайеризмом, опеки с зависимостью и т. п.
Примечательно, что эта формулировка сама по себе есть негатив формулировки враждебности, т. к. стимулирующим в ней является противоположное условие. Согласно нашим наблюдениям, симметричные последовательности действий имеют явно выраженную тенденцию снимать напряжение, создаваемое избыточно комплементарными отношениями между лицами или группами6. Есть соблазн приписать этот эффект некоторой гипотезе, которая бы сделала два типа схизмогенеза в некоторой степени психологически несовместимыми, как это было сделано вышеприведенной формулировкой.
(5) Любопытно заметить, что все модели поведения, связанные с эрогенными зонами7, хотя и не поддаются строгой квантификации, задают темы для комплементарного отношения.
(6) Связь между эрогенными зонами, предположенная выше (5), показывает, что нам, возможно, не следует представлять дело в виде простой восходящей экспоненциальной кривой интенсивности, ограничиваемой, как предполагается в уравнениях Ричардсона, лишь факторами, аналогичными усталости; скорее, нам следует ожидать, что такие кривые будут ограничиваться явлениями, сопоставимыми с оргазмом, т. е. ожидать, что за достижением определенной степени телесного или нервного вовлечения, или интенсивности, может последовать разрядка схизмогенического напряжения. И действительно, все, что мы знаем о людях, участвующих в различного рода простых состязаниях, по-видимому, указывает на то, что дело обстоит именно так и что сознательное или бессознательное желание такого рода разрядки является важным фактором, который увлекает участников и не позволяет им просто так отказаться от состязаний, которые в противном случае не прельстили бы их с точки зрения «здравого смысла». Если и есть какое-то основополагающее человеческое качество, делающее человека склонным к борьбе, то им, по-видимому, как раз и является эта надежда на освобождение от напряжения через тотальное вовлечение. В случае войны этот фактор, несомненно, часто является очень могущественным. (Реальная истина – состоящая в том, что в современной войне лишь очень немногие из участников достигнут такой климактической разрядки, – видимо, не в силах противостоять коварному мифу о «тотальной» войне.)
(7) В 1936 г. было выдвинуто предположение, что феномен «влюбления» можно сопоставить со схизмогенезом с обратными знаками и что даже в том случае, «если бы маршрут подлинной любви пролегал ровно, ему соответствовала бы экспоненциальная кривая»8. С тех пор Ричардсон независимо от нас высказал ту же самую идею в более формальных категориях9. Выше, в параграфе 6, ясно указывается, что «экспоненциальные кривые» должны уступить место какому-то другому типу кривых, которые бы не возвышались до бесконечности, а, достигнув кульминационной точки, далее поворачивали вниз. Между тем, что касается всего остального, то очевидная связь этих интеракционных феноменов с климаксом и оргазмом значительно укрепляет основания считать схизмогенез и те кумулятивные последовательности взаимодействия, которые приводят к рождению любви, как зачастую психологически эквивалентные. (Обратите внимание на курьезное смешение драки и любовного акта, символические идентификации оргазма со смертью, регулярное использование млекопитающими своих органов нападения как украшения – для сексуальной привлекательности и т. п.)
(8) На Бали схизмогенические последовательности не были обнаружены. Это негативное утверждение имеет настолько большое значение и вступает в конфликт со столь многими теориями социальной оппозиции и Марксовым детерминизмом, что мне необходимо, дабы добиться доверия к нему, схематично описать здесь процесс формирования характера, балийскую структуру характера, складывающуюся в результате него, случаи-исключения, в которых можно распознать тот или иной род кумулятивного взаимодействия, и методы, используемые балийцами для улаживания ссор и обращения со статусной дифференциацией. (Воспроизвести подробный анализ различных положений и поддерживающие их данные здесь не представляется возможным; однако будут даны ссылки на публикации, в которых эти данные можно найти10.)
Балийский характер
(а) Наиболее важное исключение из вышеприведенного обобщения встречается во взаимоотношениях между взрослыми (особенно родителями) и детьми. Как правило, мать будет инициировать легкий флирт с ребенком, подергивая его за пенис или иным образом побуждая его к межличностной активности. Это возбуждает ребенка, и на некоторое время устанавливается кумулятивное взаимодействие. Затем, как только ребенок при приближении к своего рода маленькому оргазму обвивает руками шею матери, ее внимание рассеивается. В этот момент ребенок, как правило, начинает альтернативное кумулятивное взаимодействие, нацеленное на активизацию настроения. Мать или выполняет роль наблюдателя, наслаждаясь всплеском эмоций у ребенка, или, если тот и в самом деле действует наступательно, отражает его атаку, но без всякого проявления гнева. Эти последовательности можно рассматривать либо как выражение материнского недовольства такого рода личностным вовлечением, либо как тот контекст, в котором ребенок приобретает глубокое недоверие к такому вовлечению. Тенденция к кумулятивному личностному взаимодействию (быть может, фундаментально присущая человеку), таким образом, приглушается11. Возможно, что по мере того, как ребенок все более полно приспосабливается к балийской жизни, оргазм заменяется своего рода непрерывной по интенсивности стадией плато. В настоящий момент не представляется возможным четко зарегистрировать это применительно к сексуальным отношениям, однако имеются признаки того, что платообразный тип последовательности протекания событий характерен для транса и для ссор (см. пункт d ниже).
(b) Аналогичные последовательности имеют результатом ослабление у ребенка склонностей к состязательному и конкурентному поведению. Например, мать будет дразнить ребенка, давая сосать свою грудь ребенку какой-нибудь другой женщины, и будет наслаждаться попытками своего ребенка оттеснить вероломного пришельца от груди12.
(c) В целом, для балийской музыки, драмы и других форм искусства характерно отсутствие высших кульминаций. Музыка обычно содержит в себе прогрессию, вытекающую из логики ее формальной структуры, и модификации интенсивности, определяемые продолжительностью разработки этих формальных соотношений и ее развитием. В ней нет того возрастания интенсивности и той климактической структуры, которые характерны для западной музыки; скорее, только формальная прогрессия13.
(d) Балийская культура содержит определенные техники улаживания ссор. Два человека, которым случилось повздорить, официально отправляются в кабинет местного представителя Раджи и там регистрируют свою ссору, договариваясь, что тот из них, кто первый заговорит с другим, должен будет уплатить штраф либо принести жертву богам. Позднее, когда ссора прекращается, этот договор может быть официально аннулирован. Практикуются также меньшие – хотя и аналогичные – избегания (пвик), которые используются в ссорах даже маленькими детьми. Быть может, замечательно здесь именно то, что данная процедура не является попыткой повлиять на протагонистов, отговорить их от враждебности и склонить к дружелюбию. Скорее, это формальное признание определенного состояния их взаимного отношения и, возможно, в некотором роде приколачивание их взаимоотношения к этому состоянию. Если такая интерпретация верна, то указанный метод улаживания ссор будет соответствовать замене оргазма состоянием плато.
(e) Что касается военных действий, то современные сведения о старых войнах между Раджами показывают, что в тот период, когда были собраны эти документы (1936–1939), война мыслилась как нечто, содержащее в себе значительные элементы взаимного избегания. Деревня Байонг Геде была обнесена старым валом и окружена рвом. Функции этих фортификационных сооружений люди объясняли следующими словами: «Если ты и я поссорились, то ты должен пойти и вырыть ров вокруг своего дома. Позднее я приду, чтобы сразиться с тобой, но обнаружу ров, и тогда никакого сражения не будет». Это что-то вроде психологии взаимной линии Мажино. Аналогичным образом, границами между соседствующими королевствами, как правило, были пустынные ничейные земли, населенные лишь бродягами и изгнанниками. (Совершенно иная психология войны, бесспорно, получила развитие, когда в начале восемнадцатого века королевство Карангасем предприняло попытку завоевать соседний остров Ломбок. Психология этого милитаризма еще не исследована, но есть основания считать, что временная перспектива балийских колонистов на Ломбоке сегодня значительно отличается от временной перспективы балийцев, живущих на Бали14.)
(f) Формальные техники социального влияния – ораторские и т. п. – в балийской культуре почти начисто отсутствуют. Требовать от индивида непрерывного внимания или оказывать эмоциональное воздействие на группу считается дурным тоном и практически невозможно, так как внимание жертвы в такого рода обстоятельствах быстро угасает. Даже такая продолжительная речь, какая в большинстве культур могла бы быть использована для рассказывания историй, на Бали не встречается. Как правило, рассказчик после одного-двух предложений выдерживает паузу и ждет, пока кто-нибудь из членов аудитории не задаст ему конкретный вопрос о той или иной подробности поведанного. Тогда он отвечает на вопрос и возобновляет свое повествование. Эта процедура разрушает кумулятивное напряжение при помощи не релевантного взаимодействия.
(g) Основные иерархические структуры в обществе – кастовая система и иерархия полноправных граждан, входящих в совет деревни, – отличается жесткостью. Не существует таких контекстов, в которых бы один индивид мог открыто состязаться с другим за положение в одной из этих систем. Индивид может по причине тех или иных поступков утратить членство в этой иерархии, но его место в ней измениться не может. Если он впоследствии вернется к ортодоксии и будет принят обратно, он возвратится в то же самое положение, которое он занимал по отношению к другим членам раньше15.
Все вышеприведенные дескриптивные обобщения дают частичные ответы на негативный вопрос: «Почему балийское общество несхизмогенично?» – и из комбинации этих обобщений складывается картина общества, которое весьма заметно отличается от нашего общества, от общества ятмуль, от систем социальной оппозиции, проанализированных Радклифф-Брауном, и от любой социальной структуры, постулируемой марксистским анализом.
Мы начинали с гипотезы, что люди имеют склонность вовлекаться в последовательности кумулятивного взаимодействия, и эта гипотеза все еще остается целой и невредимой. По крайней мере, младенцы у балийцев к этому предрасположены. Однако ради социологической обоснованности эту гипотезу необходимо теперь снабдить оговоркой, что эти тенденции становятся действующими факторами в динамике общества лишь при условии, что воспитание ребенка не препятствует их проявлению во взрослой жизни.
Продемонстрировав, что тенденции к кумулятивному взаимодействию поддаются определенного рода модификации, разобусловливанию и торможению, мы сделали шаг вперед в познании границ формирования человеческого характера16. И этот шаг очень важен. Мы знаем, отчего балийцы несхизмогеничны, и знаем, каким образом их неприязнь к схизмогеническим паттернам выражается в различных деталях социальной организации – жестких иерархиях, институтах улаживания ссор и т. д., – однако пока еще ничего не знаем о позитивной динамике данного общества. Мы ответили только на негативный вопрос.
Балийский этос
Следующим шагом, следовательно, будет вопрос о балийском этосе. Каковы на самом деле те мотивы и ценности, которые сопровождают сложную и богатую культурную деятельность балийцев? Что, если не состязательные и подобные им типы кумулятивного взаимодействия, заставляет балийцев придерживаться своих сложных жизненных паттернов?
(1) Любому человеку, приехавшему на Бали, сразу же становится ясно, что движущей силой культурной деятельности здесь является не жажда наживы и не грубая физиологическая потребность. Балийцы, особенно живущие на равнинах, не страдают от голода и не погрязли в нищете. У них достаточно пищи, и весьма значительная часть их деятельности направляется на абсолютно непродуктивные дела художественного или ритуального характера, в которых щедро растрачиваются пища и богатство. По существу, мы скорее имеем дело с экономикой изобилия, чем с экономикой нужды. Некоторые люди, правда, оцениваются окружающими как «бедные», но никому из этих бедняков не грозит настоящий голод, а сообщения о том, что в крупных западных городах люди действительно могут находиться на грани голодной смерти, воспринимались балийцами с неописуемым изумлением.
(2) В своих экономических трансакциях балийцы демонстрируют исключительную осмотрительность, даже если речь идет о самых не значительных сделках. Они «крохоборы». С другой стороны, эта щепетильность в мелочах уравновешивается периодически проявляющейся «расточительностью», когда они расходуют большие суммы денег на церемонии и другие формы расточительного потребления. Найдется крайне мало балийцев, которым бы была близка идея неуклонного преумножения своего богатства и собственности; этих немногих либо не любят, либо считают чудаками. Для подавляющего большинства «сбережение грошей» сопряжено с ограниченной временной перспективой и ограниченным уровнем устремлений. Они экономят до тех пор, пока не накопят достаточно средств для того, чтобы как следует раскошелиться на какой-нибудь церемониал. Балийскую экономику невозможно описать в категориях индивидуального стремления к максимизации стоимости; скорее, ее следует сравнить с расслабленными колебаниями из области физиологии или инженерии, памятуя о том, что последовательности их трансакций не просто описываются этой аналогией, но что и для них самих эти последовательности выглядят естественным образом облеченными примерно в такую форму.
(3) Балийцы находятся в заметной зависимости от пространственной ориентации. Чтобы быть способными хотя бы к каким-то действиям, они должны знать свое положение в системе координат, и если балийца прокатить на автомобиле по петляющим дорогам так, чтобы он потерял чувство направления, то он может оказаться окончательно дезориентированным и неспособным действовать (например, танцор может утратить способность танцевать) до тех пор, пока к нему не возвратится это чувство, например, пока он не увидит какие-нибудь важные ориентиры на ландшафте, скажем, центральную гору острова, вокруг которой выстраиваются его опорные точки координат. Существует аналогичная зависимость и от социальной ориентации, но со следующим различием: если пространственная ориентация локализована в горизонтальной плоскости, то социальная ориентация ощущается как преимущественно вертикальная. Когда встречаются два чужака, они, прежде чем начать более или менее свободно разговаривать друг с другом, обязательно должны выяснить свои соотносительные кастовые позиции. Один из них спрашивает другого: «Где ты сидишь?», – а это метафора касты. По сути дела задается вопрос: «Высоко или низко ты сидишь?» Когда каждый узнаёт кастовую принадлежность другого, он узнаёт тем самым, какие правила этикета и языковые нормы ему следует соблюдать; тогда разговор может продолжаться дальше. При отсутствии такой ориентации балиец держит свой язык на замке.
(4) Сплошь и рядом обнаруживается, что деятельность (отличная от вышеупомянутого «крохоборства») вместо того, чтобы быть целеориентированной, т. е. направленной на какую-то запланированную цель, ценится сама по себе. Артист, танцор, музыкант и священник могут получать за свою профессиональную деятельность денежное вознаграждение, но лишь в очень редких случаях это вознаграждение бывает адекватным даже для того, чтобы возместить артисту расходы, связанные с затратой времени и содержанием реквизита. Вознаграждение – это символ оценки, определение того контекста, в котором работает театральная труппа, но никак не экономическая опора ее существования. Заработки труппы могут откладываться на покупку новых костюмов, однако когда новые костюмы наконец покупаются, каждому члену труппы, как правило, приходится внести значительную долю в общую кассу, чтобы оплатить данную покупку. Аналогичным образом, и на жертвоприношениях, устраиваемых по случаю каждого храмового праздника, нет никакого дальнего прицела в этом выходящем за всякие границы расходовании артистической работы и реального богатства. Бог не принесет никаких выгод за то, что ты сделал замечательную композицию из цветов и фруктов по случаю календарного празднества в его храме, и не отомстит за уклонение от участия в нем. Вместо какой-то дальней цели имеет место непосредственное и имманентное удовольствие от участия наряду с другими в красивом действе – таком, каким ему надлежит быть в каждом конкретном контексте.
(5) В целом очевидна радость, испытываемая от деловитого совместного делания в большом скоплении других людей17. И наоборот, в потере групповой принадлежности кроется такая беда, что сама угроза такой потери служит в этой культуре одной из самых серьезных санкций.
(6) Очень любопытно отметить, что многие балийские действия открыто объясняются в социологических категориях, а не в категориях индивидуальных целей или ценностей18.
Более всего это бросается в глаза во всех действиях, связанных с функционированием совета деревни, т. е. иерархии, включающей в себя всех полноправных ее членов. Этот орган в мирских делах именуется И Деса (буквально «Господин Деревня»), а многочисленные правила и процедуры рационализированы в соотнесении с этим абстрактным персонажем. Аналогичным образом, в сакральных делах деревня обожествляется как Бетара Деса (Бог Деревня), в честь которого возводятся храмы и приносятся жертвы. (Можно предположить, что Дюркгеймов анализ, должно быть, показался бы балийцам очевидным и правильным подходом к пониманию значительной части их публичной культуры.)
В частности, все денежные трансакции, в которые оказывается вовлечена деревенская казна, подчинены обобщению: «Деревня не теряет» (Десанне синг дади потжол). Это обобщение применяется, например, во всех случаях, когда продается животное из деревенского стада. Деревня ни при каких обстоятельствах не может согласиться с ценой, меньшей, нежели та, которая реально или номинально уплачивается. (Важно отметить, что это правило принимает форму фиксации нижнего предела и не является директивой к максимизации притока денег в деревенскую казну.)
Специфическое понимание природы социальных процессов очевидно, например, в таких случаях, как следующий. Бедный человек собирался пройти через один из важных и дорогостоящих rites de passage3*, необходимых для людей, когда они приближаются к вершине иерархии деревенского совета. Мы спросили, что случилось бы, откажись он от столь больших расходов. Первый ответ состоял в том, что, если он очень беден, И Деса даст ему денег взаймы. В ответ на дальнейшие расспросы относительно того, что бы произошло, если бы он и в самом деле отказался, нам было сказано, что до сих пор еще никто не отказывался, но если бы кто-то так поступил, то никто больше не стал бы проходить через эту церемонию. В этом ответе и в самом факте, что никто никогда не отказывается, скрывается допущение, что ценностью наделен сам непрерывный культурный процесс.
(7) Действия, являющиеся в соответствии с культурными представлениями правильными (патоет), пользуются признанием и наделяются эстетической ценностью. Действия позволительные (дади) оцениваются более или менее нейтрально; действия недопустимые (синг дади) вызывают резкое осуждение и избегаются. Эти обобщения, представленные в форме перевода, бесспорно, истинны для многих культур, однако важно иметь ясное понимание того, чту именно имеют в виду под дади балийцы. Эти понятия нельзя приравнять к нашим понятиям «этикета» или «закона», поскольку каждое из них предполагает ценностное суждение со стороны какого-нибудь другого человека или социологической единицы. На Бали начисто отсутствует представление о том, чтобы действия были или могли быть категоризированы как дади или синг дади какой-нибудь человеческой или сверхъестественной властью. Скорее, суждение о том, что такое-то и такое-то действие есть дади, – это абсолютное обобщение того факта, что в данных обстоятельствах такое действие регулярно происходит19. Неправильно, когда лишенное кастовой принадлежности лицо обращается к принцу не на «изысканном языке»; неправильно, когда женщина во время месячных входит в храм. Принц или божество могут выразить досаду, однако не чувствуется, чтобы принц, божество или бескастовый человек создавали правила. Нарушение воспринимается как нечто, направленное против порядка и естественной структуры мироздания, а не против того реального человека, которого оно коснулось. Нарушителя, даже в таких серьезных вопросах, как инцест (за который его могут изгнать из общества20), порицают не более чем за глупость и неотесанность. Скорее, он «человек неудачливый» (анак латджоер), а неудача может нагрянуть на каждого из нас, когда «подойдет наша очередь». Далее необходимо подчеркнуть, что эти паттерны, определяющие правильное и дозволяемое поведение, чрезвычайно сложны (особенно правила языка) и что балиец (в какой-то мере даже в кругу семьи) испытывает постоянную тревогу по поводу того, как бы не совершить какую-нибудь ошибку. Более того, эти правила не такого рода, чтобы их можно было свести к какому-нибудь простому рецепту или эмоциональной установке. Этикет нельзя дедуцировать из какого-нибудь емкого суждения о чувствах другого человека или из уважения к вышестоящим. Детали слишком сложны и разнообразны для этого, а потому индивид на Бали всегда осторожно прокладывает свой путь, подобно канатоходцу, опасаясь в любой момент сделать неверный шаг.
(8) Метафора телесного равновесия, использованная в предыдущем абзаце, наглядно проявляется во многих контекстах балийской культуры:
(a) Боязнь потерять поддержку – важная тема балийского детства21.
(b) Превознесение (с сопутствующими ему проблемами физического и метафорического равновесия) – пассивное дополнение к уважению22.
(c) Балийского ребенка превозносят, подобно вышестоящему лицу или богу23.
(d) В случаях действительного физического поднятия24 обязанность поддержания системы в равновесии ложится на нижерасположенное поддерживающее лицо, но контроль направления, в котором будет двигаться система, находится в руках поднятого наверх. Маленькая девочка на рисунке, стоящая в трансе на плечах мужчины, может заставить свою опору пойти туда, куда бы она ни пожелала, просто склонившись в этом направлении. Мужчина же должен далее двигаться в этом направлении, чтобы сохранить равновесие системы.
(e) Значительная часть собранной нами коллекции балийских орнаментов, насчитывающей 1200 произведений искусства, демонстрирует озабоченность художника проблемами равновесия25.
(f) Колдун, представляющий собой персонификацию страха, часто использует жест, называемый капар, который описывается как жест человека, падающего с кокосовой пальмы, неожиданно увидев змею. В этом жесте руки раскидываются в стороны, несколько возвышаясь над головой.
(g) Обычный балийский термин, используемый для обозначения периода до пришествия белого человека, – «когда мир был устойчи вым» (доегас гоэмине энтег).
Применение фон-ноймановской игры
Даже этого очень краткого перечня некоторых элементов балийского этоса достаточно, чтобы указать на теоретические вопросы первостепенной важности. Давайте рассмотрим проблему в абстрактных терминах. Одна из гипотез, составляющих фундамент социологии, заключается в том, что динамику социального механизма можно описать при помощи допущения, согласно которому индивиды, образующие этот механизм, мотивированы на максимизацию некоторых переменных. В общепринятой экономической теории предполагается, что индивиды будут максимизировать стоимость, в то время как в схизмогенетической теории молчаливо предполагается, что индивиды будут максимизировать неосязаемые, но тем не менее простые переменные, такие как престиж, самооценка или даже покорность. Балийцы, однако, не максимизируют ни одной из таких простых переменных.
Чтобы определить тип того контраста, который существует между балийской системой и любой состязательной системой, давайте для начала рассмотрим исходные посылки строго состязательной фон-ноймановской игры, а далее посмотрим, какие изменения можно внести в эти посылки, дабы максимально приблизиться к балийской системе.
(1) Игроки в фон-ноймановской игре, согласно принятой гипотезе, мотивированы лишь в рамках одной-единственной линейной шкалы ценностей (в данном случае денежной). Их стратегии определяются (а) правилами гипотетической игры и (b) их интеллектом, которого, согласно гипотезе, достаточно для решения всех создаваемых игрой проблем. Фон Нойман показывает, что при некоторых поддающихся определению условиях, зависящих от числа игроков и правил, игроки будут создавать различного рода коалиции; фактически, фон-ноймановский анализ сосредоточен главным образом на структуре этих коалиций и распределении стоимости между членами. Сравнивая эти игры с человеческими обществами, мы будем рассматривать социальные организации как аналог систем коалиций26.
(2) Фон-ноймановские системы отличаются от человеческих обществ в следующих аспектах:
(a) «Игроки» в них с самого начала полностью разумны, в то время как люди проходят через процесс обучения. Что касается людей, то мы должны ожидать, что правила игры и договоренности, связанные с каждым конкретным набором коалиций, будут инкорпорироваться в структуры характера индивидуальных игроков.
(b) Шкала ценностей у млекопитающих не является простой и монотонной, но может быть исключительно сложной. Мы знаем, что даже на физиологическом уровне кальций не заменяет витаминов, а аминокислота не заменяет кислорода. Кроме того, нам известно, что животное не стремится к максимизации своего обеспечения какими-либо из этих различных благ; скорее, от него требуется поддерживать свое обеспечение каждым из них в пределах терпимого. Переизбыток может быть столь же вреден, как и недостаток. К тому же, сомнительно, чтобы предпочтения у млекопитающих всегда были транзитивными.
(c) В фон-ноймановской системе число ходов в данном «раунде» игры предполагается конечным. Стратегические проблемы индивидов разрешимы постольку, поскольку индивид может действовать в ограниченной временной перспективе. Ему необходимо всего лишь смотреть вперед и видеть конечное расстояние до завершения игры, когда будут подсчитаны выигрыши и проигрыши и каждый начнет снова с состояния tabula rasa4*. В человеческом обществе жизнь таким образом не пунктуирована, и каждый индивид в конце концов сталкивается с непостижимыми факторами, число которых в будущем возрастает (вероятно, по экспоненте).
(d) Фон-ноймановские игроки, согласно гипотезе, неподвластны экономической смерти и не ведают скуки. Проигравшие могут продолжать проигрывать до бесконечности, и ни один из игроков не может бросить игру, даже если исход каждой игры можно с определенностью предсказать в терминах вероятности.
(3) Из этих различий между фон-ноймановской и человеческой системами нас интересуют здесь лишь различия в ценностных шкалах и возможность «смерти». Ради простоты предположим, что другие различия, пусть даже очень глубокие, можно в данный момент проигнорировать.
(4) Любопытно заметить, что, хотя люди являются млекопитающими и, следовательно, обладают многомерной и немаксимизируемой первичной ценностной системой, эти существа могут помещаться в такие контексты, в которых они будут стремиться максимизировать одну или несколько простых переменных (деньги, престиж, власть и т. п.).
(5) Ввиду того, что многомерная ценностная система, по-видимому, первична, проблема, представляемая, скажем, социальной организацией ятмуль, заключается не только в том, чтобы объяснить поведение ятмульских индивидов путем привлечения (или абстрагирования) их системы ценностей; мы должны также задать вопрос о том, как такая ценностная система навязывается млекопитающим индивидам той социальной организацией, в которой они оказываются. В антропологии принято подходить к этому вопросу через призму генетической психологии. Мы пытаемся собрать данные, чтобы показать, как ценностная система, имплицитно заложенная в социальной организации, встраивается в годы детства в структуру характера индивидов. Существует, однако, альтернативный подход, который на какое-то время игнорирует, как это делает фон Нойман, феномены научения и рассматривает просто-напросто стратегические импликации тех контекстов, которые должны проявиться в соответствии с данными «правилами» и системой коалиций. В этой связи важно отметить, что состязательные контексты – при условии, что индивидов можно заставить осознать эти контексты как состязательные, – неизбежно редуцируют сложную гамму ценностей до весьма простых и даже линейных и монотонных категорий27. Такого рода соображений плюс описания регулярностей, присущих процессу формирования характера будет, вероятно, достаточно для того, чтобы описать, как навязываются млекопитающим индивидам простые ценностные шкалы в состязательных обществах, будь то ятмульское общество или американское общество двадцатого столетия.
(6) С другой стороны, в балийском обществе мы обнаруживаем совершенно иное положение дел. Ни индивид, ни деревня не проявляют интереса к максимизации каких бы то ни было простых переменных. Скорее, они как будто бы озабочены максимизацией чего-то такого, что мы можем назвать стабильностью, используя этот термин, быть может, в весьма метафорическом смысле. (Фактически, есть одна простая количественная переменная, которая оказывается здесь максимизируемой. Этой переменной является сумма штрафа, накладываемого деревней. Когда такие штрафы налагаются впервые, они по большей части очень невелики, но если уплата их откладывается, то сумма штрафа резко возрастает, а если обнаруживается хотя бы малейший намек на то, что нарушитель отказывается платить – «противопоставляет себя деревне», – то штраф моментально взлетает до фантастических размеров, и нарушителя лишают членства в сообществе до тех пор, пока он не пожелает покончить с этим противостоянием. Тогда часть штрафа ему могут простить.)
(7) Теперь давайте рассмотрим гипотетическую систему, состоящую из некоторого числа идентичных игроков и третейского судьи, отвечающего за поддержание стабильности в среде игроков. Предположим также, что игроки подвержены экономической смерти, что наш судья внимательно следит за тем, чтобы этого не произошло, и что судья облечен властью вносить некоторые изменения в правила игры и в вероятности, связанные со случайными ходами. Очевидно, что этот судья будет находиться в более или менее постоянном конфликте с игроками. Он стремится сохранить динамическое равновесие, или устойчивое состояние, и это мы можем иначе описать как попытку максимизировать шансы против максимизации какой бы то ни было отдельной простой переменной.
(8) Эшби в строгих категориях указал на то, что устойчивое состояние и преемственное существование сложных интерактивных систем зависят от недопущения максимизации какой бы то ни было переменной, а любой непрерывный рост в какой-нибудь переменной неизбежно будет иметь результатом необратимые изменения в системе и будет ими ограничиваться. Также он указал, что в таких системах очень важно позволить некоторым переменным чередоваться28. Устойчивое состояние паровой машины с терморегулятором вряд ли будет сохраняться, если положение шариков регулятора будет зафиксировано. Аналогичным образом канатоходец с балансировочным шестом не будет способен сохранить равновесие иначе, как путем варьирования сил, прилагаемых к шесту.
(9) Возвращаясь к концептуальной модели, предложенной в параграфе 7, давайте предпримем еще один шаг, дабы сделать эту модель сопоставимой с балийским обществом. Давайте заменим третейского судью деревенским советом, состоящим из всех игроков. Теперь мы имеем систему, в нескольких отношениях аналогичную нашему балансирующему акробату. Когда игроки выступают в качестве членов совета деревни, они, согласно гипотезе, заинтересованы в поддержании устойчивого состояния системы, т. е. в недопущении максимизации той или иной простой переменной, чрезмерное возрастание которой привело бы к необратимым изменениям. В своей повседневной жизни, однако, они все еще остаются вовлеченными в простые состязательные стратегии.
(10) Следующим шагом в направлении еще большего уподобления нашей модели балийскому обществу будет, очевидно, постулирование наличия в структуре характера индивидов и/или в контекстах их по вседневной жизни тех факторов, которые будут мотивировать их на поддержание устойчивого состояния не только тогда, когда они вы ступают на совете, но также и в других их межличностных отношениях. Эти факторы действительно обнаруживаются на Бали и были пере числены выше. В нашем анализе того, почему балийское общество несхизмогенично, мы отметили, что балийский ребенок приучается избегать кумулятивного взаимодействия, т. е. максимизации некоторых простых переменных, и что социальная организация и контексты повседневной жизни сконструированы таким образом, чтобы не до пускать состязательного взаимодействия. Кроме того, в нашем анализе балийского этоса мы отметили регулярное наделение ценностью (а) ясного и статичного определения статуса и пространственной ориентации и (b) равновесия и такого движения, которое удерживает равновесие.
Итак, судя по всему, балийцы распространяют на человеческие взаимоотношения установки, базирующиеся на равновесии тела, и обобщают идею о том, что существенным компонентом равновесия является движение. Последнее замечание, на мой взгляд, дает нам частичный ответ на вопрос о том, почему данное общество не просто продолжает функционировать, а функционирует быстро и деловито, постоянно затевая церемониальные и художественные мероприятия, не детерминированные ни экономически, ни состязательно. Такое устойчивое состояние поддерживается постоянным непрогрессивным изменением.
Схизмогеническая система versus5* устойчивое состояние
Я обсудил два типа социальной системы в таких схематичных очертаниях, которые позволяют четко установить контраст между ними. Системы обоих типов в силу своей способности поддерживать себя без прогрессивного и необратимого изменения приходят к устойчивому состоянию. Между ними существует, однако, глубокое различие в том, каким способом регулируется это устойчивое состояние.
Система ятмуль, используемая здесь в качестве прототипа схизмогенических систем, включает в себя несколько регенеративных причинных цепочек, или порочных кругов. Каждая такая цепочка состоит из двух или более индивидов (или групп индивидов), которые участвуют в потенциально кумулятивном взаимодействии. Каждый человеческий индивид является источником энергии, или «реле», так что энергия, используемая в его реакциях, проистекает не из стимулов, а из его собственных метаболических процессов. Отсюда, стало быть, следует, что такая схизмогеническая система – если ее не контролировать – подвержена чрезмерному возрастанию тех актов, которые характеризуют схизмогенез. Антрополог, даже в том случае, когда он пытается дать качественное описание такой системы, должен, следовательно, определить: (1) индивидов и группы, которые вовлечены в схизмогенез, и маршруты коммуникации между ними; (2) категории действий и контекстов, характерных для схизмогенеза; (3) процессы, посредством которых индивиды становятся психологически способными к совершению этих действий, и/или природу контекстов, навязывающих им эти действия; а также, наконец, (4) он должен определить механизмы, или факторы, контролирующие схизмогенез. Эти контролирующие факторы могут быть по крайней мере трех разных типов: (а) на схизмогенез могут накладываться дегенеративные каузальные петли, когда при достижении схизмогенезом определенной степени интенсивности применяется та или иная форма ограничения – как происходит, например, в западных системах, когда государство принудительно ограничивает экономическую конкуренцию; (b) помимо уже рассмотренного схизмогенеза, могут существовать и другие кумулятивные взаимодействия, действующие в противоположном направлении и способствующие не распаду, а социальной интеграции; (с) рост схизмогенеза может ограничиваться факторами, являющимися для элементов схизмогенической цепи частью внутренней или внешней среды. Такие факторы, оказывающие лишь незначительное ограничивающее воздействие при низкой интенсивности схизмогенеза, могут усиливаться вместе с возрастанием его интенсивности. Примерами таких факторов являются трение, усталость и недостаток энергоснабжения.
В противоположность этим схизмогеническим системам, балийское общество представляет собой механизм совершенно иного типа, и при его описании антрополог должен придерживаться совершенно других процедур, правила которых установить пока еще не представляется возможным. Поскольку классу «несхизмогенических» социальных систем дано лишь негативное определение, мы не можем выдвинуть предположение, что члены этого класса обладают общими характеристиками. Между тем, при анализе балийской системы были предприняты следующие шаги, некоторые из которых по крайней мере, возможно, могут быть использованы и для анализа других культур этого класса: (1) в наблюдении было выявлено, что схизмогенические последовательности редко встречаются на Бали; (2) были исследованы исключительные случаи, в которых такие последовательности проявляются; (3) из этого исследования выяснилось, (а) что контексты, регулярные для балийской социальной жизни, как правило, предотвращают кумулятивное взаимодействие и (b) что детский опыт отучает ребенка от поисков кульминационного накала в личностных взаимодействиях; (4) было показано, что некоторые позитивные ценности – связанные с равновесием – регулярно проявляются в культуре и инкорпорируются в годы детства в структуру характера и что эти ценности, кроме того, можно особым образом связать с устойчивым состоянием; (5) теперь требуется более подробное исследование, дабы прийти к систематическому суждению относительно самокоррекционных характеристик этой системы. Ясно, что одного этоса для поддержания устойчивого состояния недостаточно. Время от времени деревня или какая-нибудь другая коллективная единица предпринимает усилия, направленные на исправление нарушений. Природу таких случаев функционирования корректировочного механизма необходимо изучить; однако очевидно, что этот периодически включающийся механизм сильно отличается от постоянно действующих ограничений, которые обязательно присутствуют во всех схизмогенических системах.
Примечания
1 Этот очерк впервые был опубликован в книге: Social Structure: Presented to A.R. Radcliffe-Brown / Ed. by M. Fortes. 1949. Он быт перепечатан с разрешения Clarendon Press. Подготовка его была осуществлена при финансовой поддержке Guggenheim Fellowship.
2 Bateson G. Naven. Cambridge: Cambridge University Press, 1936.
3 Bateson G. Naven. P. 118.
4 Термины «регенеративный» и «дегенеративный» позаимствованы из коммуникационной инженерии. Регенеративный, или «порочный», круг – это цепочка переменных общего типа: усиление в А вызывает усиление в В; усиление в В вызывает усиление в С…; усиление в N вызывает усиление в А. Будучи обеспеченной необходимыми источниками энергии и при условии, что ее работе не препятствуют внешние факторы, такая система явным образом будет функционировать со все большей скоростью или на все более и более вы соком уровне интенсивности. «Дегенеративный», или «самокорректирующийся», круг отличается от регенеративного тем, что содержит хотя бы одно звено следующего типа «усиление в N вызывает ослабление в М». Примерами таких самокорректирующихся систем служат домашний термостат и паровая машина с терморегулятором. Следует заметить, что во многих случаях одна и та же материальная система может быть либо регенеративной, либо дегенеративной в зависимости от величины загрузки, частоты передающихся по цепи импульсов и временных параметров прохождения полного круга.
5 Richardson L.F. Generalized Foreign Politics // British Journal of Psychology. Monograph Supplement XXIII, 1939.
6 Bateson G. Naven. P. 173.
7 Homburger E.H. Configurations in Play: Psychological Notes // Psychoanalytical Quarterly Vol. VI. 1937. P. 138–214. В этой статье, одной из наиболее важных в литературе, где присутствует попытка сформулировать психоаналитические гипотезы в более строгих категориях, рассматриваются «модели», соответствующие различным эрогенным зонам (проникновению, поглощению, удержанию и т. п.), и показывается, как эти модели могут переноситься с одной зоны на другую. Это приводит автора к построению диаграммы возможных преобразований и сочетаний таких перенесенных модальностей. Эта диаграмма дает точные средства для описания хода развития самых разнообразных типов структуры характера (например, встречающихся в разных культурах).
8 Bateson G. Naven, p. 197.
9 Richardson L.F. Op. cit., 1939.
10 См. в особенности: Bateson G., Mead M. Balinese Character: A Photographic Analysis. N. Y, 1942. Поскольку этот фотографический отчет общедоступен, в данную статью фотографии включены не будут.
11 Bateson G, Mead M. Balinese Character: A Photographic Analysis. PI. 47. P. 32–36.
12 Ibid. Pis. 49, 52, 53, 69–72.
13 См.: McPhee С The Absolute Music of Bali // Modern Music, 1935; McPhee С A House in Bali. London, Gollancz, 1947.
14 См.: Bateson G. An Old Temple and a New Myth // Djawa. Vol. XVII. Batavia, 1937.
15 См.: Mead M. Public Opinion Mechanisms among Primitive Peoples // Public Opinion Quarterly. Vol. I. 1937. P. 5–16.
16 Как это обычно и бывает в антропологии, эти данные не настолько точны, чтобы дать нам хоть какой-нибудь ключ к природе задействованных здесь процессов научения. Антропология способна, в лучшем случае, лишь поднять проблемы такого порядка. Следующий шаг следует оставить на долю лабораторного эксперимента.
17 Bateson G., Mead M. Op. cit. PI. 5.
18 См.: Bateson G. Naven. P. 250 ff, где было предположено, что нам следует ожидать обнаружение того, что некоторые народы мира будут соотносить свои действия с социологической рамкой.
19 Слово дади используется также как связка, обозначающая изменения в социальном статусе. «И Аноэ дади Коебаджан» означает «тот-то и тот-то стал деревенским чинов ником».
20 Mead M. Public Opinion Mechanisms among Primitive Peoples.
21 Bateson G., Mead M. Op. cit. Pis. 17, 67, 79.
22 Ibid. Pis. 10–14.
23 Ibid. PI. 45.
24 Ibid. PI. 10, fig. 3.
25 В настоящее время не представляется возможным дать это утверждение в строго определенных количественных терминах, а имеющиеся на этот счет суждения субъективны и не касаются существа дела.
26 В качестве альтернативы мы могли бы воспользоваться этой аналогией и по-другому. Социальная система, как указывают Фон Нойман и Моргенштерн, сравнима с игрой с ненулевой суммой, в которой одна или несколько коалиций людей играют друг против друга и против природы. Специфика ненулевой суммы базируется на том факте, что из природной среды постоянно извлекается стоимость. Поскольку балийское общество эксплуатирует природу, то тотальная сущность, объединяющая природную среду и людей, явно сопоставима с игрой, требующей коалиции между людьми. Возможно, однако, что подразделение этой тотальной игры, охватывающее только людей, могло бы быть таким, что образование внутри него коалиций не было бы существенным; иначе говоря, балийское общество может отличаться от большинства других обществ тем, что «правила» взаимоотношений между людьми определяют «игру» того типа, который Фон Нойман назвал бы «несущественным». Эта возможность здесь специально не рассматривается. (См.: Von Neumann, Morgenstern. Op. cit.)
27 Frank L.K. The Cost of Competition // Plan Age. Vol. VI. 1940. P. 314–324.
28 Ashby W.R. Effect of Controls on Stability// Nature. Vol. CLV № 3930. February 24, 1945. P. 242–243.
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: G. Bateson. Bali: The Value System of a Steady State // Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. N. Y, 1972. P. 107–127.
1* среди прочего (лат.)
2* с соответствующими изменениями (лат.)
3* обрядов перехода (фр.)
4* чистая доска (лат.)
5* против (лат.)
Перевод В.Г. НиколаеваСимволическое поле культуры
Уайт Л.А. Символ: начало и основа человеческого поведения
«В Слове было Начало… начало Человека и Культуры»
I
В июле 1939 г. в университете Леланда в Стэнфорде было устроено празднование в память о столетнем юбилее открытия того, что клетка является основной единицей всякой живой ткани. Ныне мы начинаем осознавать и оценивать тот факт, что символ является основной единицей всякого человеческого поведения и цивилизации.
Все человеческое поведение начинается с использования символов. Именно символ преобразовал наших человекообразных предков в людей и очеловечил их. Все цивилизации порождены и сохраняются только посредством использования символов. Именно символ преобразует младенца Homo sapiens в человеческое существо; глухонемые, вырастающие без использования символов, не могут считаться человеческими существами. Все человеческое поведение состоит в пользовании символами или зависит от него. Человеческое поведение – это символическое поведение; символическое поведение – это человеческое поведение. Символ – это вселенная человеческого.
II
Великий Дарвин в «Происхождении человека» заявил, что «нет фундаментального различия между человеком и высшими млекопитающими в их психических способностях», что различие между ними состоит «единственно в его [человека] почти бесконечно большей силе связывать вместе самые разнообразные звуки и идеи… психические способности (mental powers) высших животных не отличаются от соответствующих способностей человека по природе, хотя значительно отличаются от них по степени» (Chs. 3, 18; курсив наш).
Этой точки зрения придерживаются ныне многие ученые. Так, Ф.Х. Хэнкинс, видный социолог, утверждает, что «несмотря на то, что у человека большой мозг, нельзя сказать, что человек имеет какие-либо психические особенности, присущие исключительно ему… Все эти человеческое превосходства лишь относительны или суть различия по степени». Профессор Ральф Линтон, антрополог, пишет в «Изучении человека»: «Различия между людьми и животными во всех этих отношениях [в поведении] огромны, но они, похоже, скорее являются различиями в количестве, нежели в качестве». «Можно показать, что человеческое и животное поведение имеет столь много общего, – замечает Линтон, – что расхождение [между ними] утрачивает большое значение». Доктор Александр Гольденвейзер, тоже антрополог, полагает, что «с точки зрения чистой психологии, разума как такового, человек в конечном счете есть не более чем талантливое животное» и что «различие между психическим складом, обнаруживаемым здесь [лошадью и шимпанзе], и психическим складом человека – просто различие в степени»1.
Совершенно очевидно, что наблюдается многообразное и впечатляющее сходство между поведением человека и обезьяны; вполне возможно, что шимпанзе и гориллы в зоопарках уже отметили и оценили его. Совершенно очевидно и сходство поведения человека с поведением представителей многих других видов животных. Почти столь же очевидно, но нелегко поддается определению то различие в поведении, которое отличает человека от всех прочих живых существ. Я говорю «очевидно», потому что для обыкновенного человека совершенно ясно, что те нечеловекоподобные животные, которые ему знакомы, не вступают и не могут вступить в тот мир, в котором он живет как человеческое существо, не причастны этому миру. Для собаки, лошади, птицы или даже обезьяны невозможно никакое понимание значения знака креста для христианина или того факта, что черный (у китайцев белый) цвет – это цвет траура. Ни шимпанзе, ни лабораторная крыса не смогут понять различия между святой водой и дистиллированной или уловить смысл того, что такое «четверг, третье число» или «грех». Ни одно животное, кроме человека, не может отличить кузена от дяди или кросс-кузена от параллельного кузена. Только человек может совершить такое преступление, как инцест или супружеская измена; только он может помнить Субботу и почитать ее священной. Дело, как мы хорошо знаем, обстоит не так, что низшие животные могут проделывать подобное лишь в меньшей степени, нежели мы сами; они вовсе не могут осуществить эти акты оценки и различения. Дело, как давным-давно сказал Декарт, «не в том только, что животные обладают меньшим разумом, чем человек, но в том, что они вовсе не обладают им»2.
Однако, когда ученый пытается определить психическое различие между человеком и прочими животными, он сталкивается порой с трудностями, которые не может преодолеть, и вследствие этого заключает, будто различие состоит только в степени: человек имеет больший ум, «большую силу ассоциации», более широкий спектр видов деятельности, etc. Мы имеем хороший пример тому в лице видного психолога Антона Дж. Карлсона. Отметив «современные достижения человека в науке, искусствах (включая красноречие), в области политических и социальных институтов» и замечая «в то же время явный недостаток такого поведения у прочих животных», он, как и обыкновенный человек, «испытывает искушение заключить, что по крайней мере в этих способностях человек имеет качественное превосходство над прочими млекопитающими». Однако, поскольку как ученый профессор Карлсон не может определить это качественное различие между человеком и прочими животными, поскольку как психолог он не может его объяснить, он отказывается его признать: «…психолог не принимает замечательное развитие артикулируемой речи у человека как нечто качественно новое…» – и беспомощно предполагает, что в один прекрасный день мы сможем найти в человеческом мозге какой-нибудь новый «строительный материал», «дополнительный липоид, фосфатид или ион», который объяснит его, и заключает, говоря, что различие между умом человека и умом не-человека – это «вероятно, только различие в степени»3.
Тезис, который мы выдвинем и будем отстаивать здесь, состоит в том, что между умом человека и не-человека имеется фундаментальное различие. Это различие касается природы (king), а не степени. И пропасть между этими двумя типами имеет огромное значение – по крайней мере, для науки о сравнительном поведении. Человек использует символы; ни одно другое живое существо этого не делает. Организм или обладает способностью символизировать (to symbol), или не обладает; никаких промежуточных ступеней здесь нет.
III
Символ можно определить как вещь, ценность, или значение, которой придается ей тем, кто ею пользуется. Я говорю «вещь», потому что символ может иметь физическую форму любого рода: он может иметь форму некоторого материального объекта, цвета, звука, запаха, движения объекта, вкуса.
Значение, или ценность, символа ни в каком случае нельзя извлечь из свойств, присущих его физической форме, или определить посредством этих свойств: цветом, соответствующим трауру, может быть желтый, зеленый или любой другой; цвет королевской власти не обязательно пурпур; у китайских правителей Манчу таковым был желтый. Значение слова «видеть» не присуще его фонетическим (или зрительным) свойствам. «Грызть ноготь на»1* кого-либо может означать все что угодно. Значения символов порождаются и детерминируются теми организмами, которые их используют; человеческие организмы придают смысл физическим вещам и событиям, которые тем самым становятся символами. Символы, говоря словами Локка, «получают свое значение через произвольное навязывание его людьми»4.
Все символы должны иметь физическую форму, иначе они не были бы доступны нашему опыту. Это утверждение остается твердым безотносительно к нашей теории эксперимента. Даже сторонники «сверхчувственного восприятия», бросившие вызов словам Локка о том, что «знание существования всякой иной вещи [кроме нас самих и Бога] мы можем иметь лишь посредством ощущения»5, были принуждены работать с формами скорее физическими, чем эфирными. Но значение символа не может быть обнаружено путем простого наблюдения его физической формы с помощью органов чувств. Глядя на х в алгебраическом уравнении, нельзя сказать, что́ он значит; одними только ушами нельзя удостовериться в символической значимости фонетического сочетания si; просто взвесив свинью, нельзя сказать, сколько золота на нее можно обменять; исходя из длины волны цвета, невозможно сказать, означает ли он храбрость или трусость, «стойте» или «идите»; точно так же посредством суммы физических или химических наблюдений нельзя обнаружить дух в фетише. Смысл символа можно постичь только несенсорными, символическими средствами.
Природу символического опыта легко проиллюстрировать. Когда испанцы впервые встретились с ацтеками, ни одна сторона не говорила на языке другой. Как могли индейцы распознать смысл слова «santo» или смысл распятия? Как могли испанцы узнать о значении слова «calli» или постичь Тлалока2*? С этими смыслами и ценностями нельзя вступить в контакт с помощью одного только чувственного опыта физических свойств. Самые замечательные уши не сообщат вам, означает ли слово santo «святой» или «голодный». Самые прекрасные органы чувств не смогут уловить, в чем заключается ценность святой воды. Однако, всем нам известно, и испанцы, и ацтеки действительно смогли обнаружить смыслы другой стороны и постигли ее ценности. Но не с помощью чувственных средств. Каждый оказался способен проникнуть в мир другого только благодаря той способности, для которой у нас нет лучшего названия, чем «символическая».
Однако вещь, в одном контексте являющаяся символом, в другом контексте является не символом, а знаком. Так, слово есть символ только тогда, когда имеют дело с различением между его значением и его физической формой. Это различение должно быть сделано, когда придают смысл комбинации звуков или когда прежде приданная значимость распознается впервые; оно может быть сделано в других случаях для определенных целей. Но после того, как значимость придана слову или в нем распознана, его значение отождествляется в употреблении с его физической формой. Тогда слово функционирует скорее как знак, нежели как символ. В этом случае его значение схватывается чувствами.
Мы определяем знак как физическую вещь или событие, функция которого – указывать на какую-либо другую вещь или событие. Значение знака может заключаться в его физической форме и его контексте, как в случае с высотой ртутного столба в термометре как указания на температуру или с весенним возвращением малиновки. Или значение знака может просто отождествляться с его физической формой, как в случае с сигналом, оповещающим о приближении урагана, или карантинным флагом. Однако в любом случае значение знака может быть удостоверено посредством ощущений. Тот факт, что какая-то вещь может быть как символом (в одном контексте), так и знаком (в другом контексте), привел к путанице и непониманию.
Так, Дарвин говорит: «Не понимание артикулируемых звуков отличает человека от низших животных, ибо, как известно всякому, собаки понимают многие слова и предложения» (гл. III, «Происхождение человека»).
Разумеется, совершенно верно, что собак, обезьян, лошадей, птиц и, вероятно, даже создания, находящиеся еще ниже на эволюционной лестнице, можно научить особым образом отвечать на голосовые команды. Малыш Гуа, детеныш шимпанзе в опыте Келлога, в продолжение некоторого времени «значительно превосходил ребенка в реагировании на человеческие слова»6. Но отсюда вовсе не следует, что между значением этих «слов и предложений» для человека и для обезьяны или собаки не существует никакого различия. Для человека слова – это и знаки, и символы; для собаки они просто знаки. Проанализируем ситуацию голосового стимула и реакции.
Собаку можно научить переворачиваться по команде «Перевернись!». Человека можно научить останавливаться по команде «Halt!». Тот факт, что собаку можно научить переворачиваться по команде на китайском языке или что ее можно научить «приносить» по команде «Перевернись!» (то же, разумеется, верно и для человека), показывает, что нет никакого необходимой и неизменной связи между определенной комбинацией звуков и особой реакцией на нее. Собаку или человека можно научить отвечать определенным образом на любую произвольно избранную комбинацию звуков, например, на группу бессмысленных слогов, случайно соединенных друг с другом. С другой стороны, какой-то один из великого множества и разнообразия ответов может стать тем, который вызывается данным стимулом. Итак, что касается происхождения связи между голосовым стимулом и реакцией, природа этой связи, т. е. значение стимула, не определяется теми свойствами, которые внутренне присущи стимулу.
Однако как только между голосовым стимулом и реакцией установлена связь, значение стимула становится тождественным звукам; т. е. дело обстоит так, как если бы значение было присуще самим звукам. Так, «стоять» («halt») имеет не то же значение, что «hilt» или «malt», и эти стимулы отличаемы друг от друга с помощью механизма слуха. Собаку можно поставить в такие условия, при которых она будет определенным образом отвечать на звук данной длины волны. Достаточно изменить высоту звука, и реакция перестанет повторяться. Значение стимула отождествилось с его физической формой; его значимость оценивается с помощью ощущений.
Итак, в знаковом поведении мы видим, что при установлении связи между стимулом и реакцией свойства, присущие стимулу, не определяют характера реакции. Однако после того как связь установлена, значение стимула таково, как если бы оно было свойственно его физической форме. Безразлично, какую фонетическую комбинацию мы избираем для того, чтобы вызывать в ответ прекращение самопередвижения. Мы можем научить собаку, лошадь или человека останавливаться по любой голосовой команде, какую мы пожелаем выбрать или изобрести. Но как только между звуком и реакцией установилась связь, значение стимула отождествляется с его физической формой и, следовательно, становится доступным для восприятия с помощью чувств.
До сих пор мы не обнаружили никакого различия между собакой и человеком; кажется, что они в точности подобны друг другу. Так и есть до того момента, к которому мы теперь подошли. Однако история еще не окончена. Нельзя обнаружить никакого различия между собакой и человеком до тех пор, пока дело касается обучения тому, как соответствующим образом отвечать на голосовой стимул. Но мы не должны позволить впечатляющему сходству скрыть от нас одно важное различие. Ведь дельфин все-таки не рыба.
Человек отличается от собаки – и от всех прочих живых существ – тем, что он может играть и действительно играет активную роль в определении того, какую значимость должен иметь голосовой стимул, а собака не может. Собака не играет и не может играть активной роли в определении значимости голосового стимула. Должна ли она в ответ на данный стимул переворачиваться или приносить то, за чем ее послали; является ли стимулом для переворачивания та или другая комбинация звуков – все это вопросы, в которых собаке нечего «сказать». Она играет чисто пассивную роль и не может делать ничего другого. Она научается значению голосовой команды точно так же, как ее слюнные железы могут научиться реагировать на звук колокольчика. Но человек играет активную роль и становится, таким образом, творцом: пусть х будет равняться трем фунтам угля – и вот он действительно равен трем фунтам угля; пусть снятие шляпы в доме хозяина указывает на уважение – и становится так. Эта творческая способность, способность свободно, активно и произвольно придавать значимость вещам – одна из наиболее общепризнанных и вместе с тем одна из наиболее важных характеристик человека. Дети свободно пользуются ею в своих играх: «Притворимся, что эта кочка – волк».
Различие между поведением человека и прочих животных состоит, следовательно, в том, что низшие животные могут получать новые смыслы, могут обретать новые значения, но не могут их творить и придавать. Это может делать только человек. Используя приблизительную аналогию, можно уподобить низших животных человеку, имеющему только приемное устройство для получения радиограмм: он может получать сообщения, но не может их посылать. Человек может делать и то, и другое. И это различие относится к самой природе, а не к степени: живое существо либо может «произвольно навязывать значение», либо может творить и придавать смыслы, либо нет. Нет никаких промежуточных ступеней. Это различие может показаться незначительным, но, как сказал однажды Уильяму Джемсу плотник, обсуждавший с ним различия между людьми, «это очень важно». Все человеческое существование зависит от этого и только от этого.
Нетрудно понять, почему возникает путаница в связи с тем, что представляют собой природа слов и их значения для человека и низших животных. Она возникает прежде всего из-за неспособности различить два совершенно разных контекста, в которых слово функционирует. Утверждения «значение слова не может быть воспринято с помощью органов чувств» и «значение слова может быть воспринято с помощью органов чувств», хотя и противоречат друг другу, тем не менее одинаково истинны. В символическом контексте значение не может быть воспринято органами чувств; в знаковом контексте – может. Это сбивает с толку. Однако ситуация усугубляется еще и тем, что слова «символ» и «знак» применяются здесь для того, чтобы обозначить не разные контексты, а одну и ту же вещь – слово. Итак, слово – это одновременно символ и знак, две разные вещи. Подобно этому, можно сказать, что ваза – это и doli, и капа, две разные вещи, потому что она может рассматриваться в двух контекстах – эстетическом и коммерческом.
IV
То, что человек в отношении своих психических способностей уникален среди животных видов; то, что фундаментальное различие в природе – а не в степени – отделяет человека от всех прочих животных, есть факт, который на протяжении долгого времени признавался, хотя Дарвин и утверждал противоположное. Давным-давно Декарт в своем «Рассуждении о методе» указал, что «нет людей столь тупых и глупых, которые были бы неспособны связать несколько слов… с другой стороны, нет ни одного животного, каким бы совершенным оно ни было, которое могло бы сделать нечто подобное». Джон Локк также ясно видел, что «в них [т. е. в животных] вовсе нет способности к абстрагированию, и именно обладание общими представлениями и является тем, что четко разграничивает человека и животных. Именно эта способность и является тем превосходным качеством, которое животные никоим образом не могут приобрести… они не умеют пользоваться словами или какими-либо другими общими знаками»7. Великий английский антрополог Э.Б. Тайлор обратил внимание на «ту интеллектуальную пропасть, которая отделяет самого низкоразвитого дикаря от самой высокоразвитой обезьяны… Маленький ребенок может понять то, относительно чего нельзя с достоверностью утверждать, что оно когда-либо проникало в ум самой смышленой собаки, слона или обезьяны»8. И, разумеется, многие ныне осознают эту «интеллектуальную пропасть» между человеком и прочими видами.
Итак, на протяжении более чем столетия мы имели две традиции в сравнительной психологии, существовавшие бок о бок. Одна провозгласила, что по своим психическим способностям человек не отличается от животного ничем, кроме степени. Сторонники другой традиции ясно осознавали, что человек уникален по меньшей мере в одном отношении, – в том, что он обладает такой способностью, которой не имеет ни одно другое животное. Трудность адекватного определения этого различия оставляла вопрос открытым до сегодняшнего дня. Различение знакового поведения и символического поведения, подобное выдвигаемому здесь, может, мы надеемся, внести вклад в разрешение этой проблемы раз и навсегда.
V
В действительности очень мало известно об органической основе символической способности: мы почти ничего не знаем о нейрологии «символизации». И похоже, что очень немногие ученые – анатомы, неврологи или физические антропологи – интересуются данным предметом. В самом деле, некоторые, видимо, даже не осведомлены о существовании подобной проблемы. Однако долг и задача объяснения нервной основы «символизации» не входят в сферу деятельности социолога или культурного антрополога. Напротив, ему надлежит тщательно исключать их из нее как не соответствующие его проблемам и интересам; столкновение с ними привело бы его только к поражению. Для социолога или культурного антрополога достаточно принять как данность ту способность пользоваться символами, которой обладает только человек. На употребление, какое он находит этому факту, ни в коей мере не влияет неспособность его самого или анатома описать символический процесс в нейрологических терминах. Однако для представителей общественных наук полезно ознакомиться с тем немногим, что неврологи и анатомы действительно знают о структурной основе символизации. Дадим поэтому здесь краткий обзор соответствующих главных фактов.
Анатомы долго не могли обнаружить, почему люди могут использовать символы, а обезьяны нет. Насколько известно, единственное различие между мозгом человека и мозгом обезьяны – количественное: «…у человека нет никаких новых мозговых клеток или межклеточных связей», – как отметил А.Дж. Карлсон. Равным образом человек как существо, отличное от прочих животных, не обладает каким-либо специализированным «символическим механизмом». Так называемые речевые участки мозга не следует отождествлять с символизированием. Представление о том, что символизация тождественна способности издавать артикулируемые звуки или зависима от нее, не является чем-то необычным. Так, Л.Л. Бернар перечисляет как «четвертое великое органическое качество человека… его голосовой аппарат… характерный только для него одного». Однако эта концепция ошибочна. Большие обезьяны имеют механизм, необходимый для произведения артикулируемых звуков. «На первый взгляд, твердо установлено, – пишут P.M. и А.В. Йеркс в книге "Большие обезьяны", – что моторный механизм голоса у этой обезьяны [шимпанзе] пригоден не только для произведения значительного разнообразия звуков, но также для определенных артикуляций, сходных с человеческими». Физический антрополог Е.А. Хутон также утверждает, что «все человекообразные обезьяны снабжены такими голосовыми и мышечными приспособлениями, что могли бы иметь артикулированную речь, обладай они достаточным интеллектом». Более того, как уже давно указывали Декарт и Локк, есть птицы, которые действительно произносят артикулируемые звуки, воспроизводящие звуки человеческой речи, но которые, конечно, совершенно неспособны к символизации. «Речевые участки» мозга – просто участки, связанные с мышцами языка, с гортанью и т. д. Но, как мы знаем, символизация не ограничивается использованием этих органов. Можно образовывать символы с помощью любой части тела, которой человек в состоянии двигать по своей воле9.
Конечно, символическая способность возникла в естественном процессе органической эволюции. Мы также имеем основания полагать, что средоточие, если не местопребывание, этой способности находится в мозге, в особенности в лобной доле. Человеческий мозг как абсолютно, так и относительно гораздо больше мозга обезьяны. Мозг среднего взрослого мужчины составляет около 1500 см3 в размере; мозг гориллы редко превышает 500 см3. Соответственно, человеческий мозг весит около 1/50 общего веса тела, в то время как вес мозга гориллы колеблется между 1/150 и 1/200 частью от общего веса10. При этом лобная доля у человека особенно велика в сравнении с обезьяньей. Ныне мы знаем, что во многих случаях количественные изменения ведут к качественным различиям. Вода преобразуется в пар дополнительным количеством тепла. Дополнительные сила и скорость отрывают выруливающий аэроплан от земли и преобразуют наземное движение в полет. Различие между древесным и пшеничным спиртом есть качественное выражение количественного различия в пропорциях углерода и водорода. Таким образом, заметное увеличение объема мозга у человека должно привести к появлению новой разновидности функции.
VI
Вся культура (цивилизация) находится в зависимости от символа. Именно использование способности к символизации и привело к возникновению культуры, и именно использование символов делает возможным непрерывное сохранение культуры. Без символа не было бы культуры, а человек был бы просто животным, а не человеческим существом.
Артикулируемая речь – важнейшая форма символического выражения. Но если устранить из культуры речь, что останется? Посмотрим.
Без артикулируемой речи мы не имели бы человеческой социальной организации. Семьи мы могли бы иметь, но эта форма социальной организации не является особенностью человека; она не есть per se (no сути) человеческая. Однако у нас не было бы никаких запретов на инцест, никаких правил, предписывающих экзогамию и эндогамию, полигамию или моногамию. Как при отсутствии артикулируемой речи можно было бы предписывать брак с кросс-кузеном и запрещать брак с параллельными кузенами? Как могли бы существовать при отсутствии артикулируемой речи правила, запрещающие иметь многих сожителей или сожительниц одновременно, но разрешающие иметь их последовательно, обладая только одним или одной в течение некоторого промежутка времени?
Без речи мы не имели бы никакой политической, экономической, церковной или военной организации; никаких этикетных и моральных кодексов; никаких законов; никакой науки, богословия или литературы; никаких игр или музыки, за исключением тех, которые имеются на уровне обезьяны. Без артикулируемой речи ритуалы и церемониальное убранство были бы лишены смысла. В самом деле, без артикулируемой речи все мы были бы лишены орудий: мы имели бы лишь случайное и незначительное использование орудия, какое мы находим сегодня у высших обезьян, ибо именно артикулируемая речь преобразовала непрогрессивное использование орудий обезьяной в прогрессивное, кумулятивное использование орудий человеком, человеческим существом.
Одним словом, без символической коммуникации в той или иной форме мы не имели бы культуры. «В Слове было начало» культуры – а также и ее продолжение.
Действительно, со всей своей культурой человек все еще животное и стремится к тем же целям, к которым стремятся все прочие живые создания: к сохранению индивида и к продолжению рода. Говоря конкретно, эти цели суть пища, убежище от стихий, защита от врагов, здоровье и потомство. Тот факт, что человек, точно так же, как все прочие животные, стремится к этим целям, несомненно, и побудил многих провозгласить, что «нет фундаментального различия между поведением человека и прочих живых существ». Однако человек в действительности отличается от них, не в своих целях, но в средствах. Человеческие средства – это культурные средства: культура есть просто способ жизни такого животного, как человек. И так как эти средства, культура, зависят от той способности, которой обладает только человек, – от способности использовать символы, то различие между поведением человека и всех прочих живых существ не просто велико, но является основополагающим и фундаментальным.
VII
Поведение человека бывает двух различных родов – символическим и несимволическим. Человек зевает, потягивается, кашляет, почесывается, кричит от боли, вздрагивает от испуга, «ощетинивается» от гнева, и так далее. Несимволическое поведение такого рода не является особенностью человека; он разделяет его не только с прочими приматами, но также и со многими другими животными видами. Однако человек общается со своими приятелями посредством артикулируемой речи, пользуется амулетами, исповедует грехи, устанавливает законы, соблюдает требования этикета, истолковывает свои сны, классифицирует своих сородичей по определенным категориям, и так далее. Этот род поведения уникален; только человек к нему способен; он является особенностью человека, потому что состоит в пользовании символами или находится в зависимости от последнего. Несимволическое поведение Homo sapiens – это поведение человека-животного; символическое поведение – это поведение человека как человеческого существа. Именно символ превратил человека из простого животного в человеческое существо.
Так как человеческое поведение есть символическое поведение и поскольку поведение дочеловеческих видов – несимволическое, то отсюда следует, что о человеческом поведении мы ничего не можем узнать из наблюдений и экспериментов над низшими животными. Эксперименты с крысами и обезьянами действительно многое прояснили. Они пролили свет на механизмы и процессы поведения млекопитающих или высших позвоночных. Однако они не внесли никакого вклада в постижение человеческого поведения, потому что символический механизм и все его следствия целиком отсутствуют у низших видов. Что касается неврозов у крыс, то, конечно, любопытно узнать, что крыс можно сделать невротиками. Однако наука, по-видимому, обладала гораздо большим пониманием психопатического поведения человеческих существ до того, как неврозы были экспериментальным путем вызваны у крыс, нежели имеющееся у нее теперь понимание неврозов крыс. Наше понимание человеческих неврозов помогло нам понять неврозы крыс; фактически мы проинтерпретировали последние в терминах человеческой патологии. Но что-то я не вижу, чтобы лабораторные крысы-невротики послужили углублению или возрастанию нашего понимания человеческого поведения.
Подобно тому как именно символ очеловечил человечество, так же очеловечил он и каждого представителя данного вида. Младенец не является человеческим существом до тех пор, пока не начинает образовывать символы. Как показало исследование «Обезьяна и ребенок», до тех пор пока ребенок не начинает говорить, нет ничего, что качественно отличало бы его поведение от поведения очень молодой обезьяны. На самом деле одним из впечатляющих результатов этого восхитительного эксперимента, проведенного профессором Келлоггом и миссис Келлогг, была демонстрация того, сколь обезьяноподобным является дитя Homo sapiens до того, когда оно начинает говорить. Младенец-мальчик приобретал исключительные навыки в лазании совместно с шимпанзе и даже приобрел ее «food bark»! Келлогги говорят о том, как маленькая обезьяна за время своего пребывания в их доме «очеловечилась». Но вот что на самом деле столь убедительно продемонстрировал данный эксперимент, так это полную неспособность обезьяны научиться говорить и или даже сделать хотя бы какое-то движение в этом направлении – одним словом ее неспособность к «очеловечиванию» вообще.
Детеныш вида Homo sapiens очеловечивается только тогда, когда он развивает свою символическую способность. Только при посредстве артикулируемой речи – не обязательно произносимой вслух – он может вступить в мир человеческих существ и принять участие в их делах. Можно повторить вопрос, уже заданный ранее. Как мог бы взрослеющий ребенок узнать и представить себе такие вещи, как социальная организация, этика, этикет, ритуал, наука, религия, искусство и игры без символической коммуникации? Разумеется, ответ состоит в том, что он ничего не мог бы знать о подобных вещах и вовсе не имел бы представления о них.
Здесь уместен вопрос о «волчьих детях». Вера в то, что бывают такие случаи, когда человеческие детеныши воспитываются волками или другими животными, процветала еще со времени мифа о Ромуле и Реме – и задолго до этого времени. Несмотря на тот факт, что еще с тех пор, как Блуменбах обнаружил, что так называемый «Дикий Петер» – всего лишь полоумный мальчик, изгнанный из дома по настоянию его новой мачехи, было многократно показано, что сообщения о «волчьих детях» ошибочны или не подтверждены соответствующими доказательствами, эта достойная сожаления сказка все еще процветает в некоторых «научных» кругах. Однако ряд социологов и психологов находит всем этим волчьим питомцам и «диким людям» то применение, которое следует считать верным, – а именно рассматривает их как свидетельство того, что представитель вида Homo sapiens, живущий в мире без символов, – не человеческое существо, а зверь. Перефразируя Вольтера, можно было бы сказать: если бы даже «волчьих детей» не существовало, «общественным наукам» следовало бы их выдумать.
В этом отношении в высшей степени показательны дети, на годы оторванные от человеческого общения из-за слепоты и глухоты, но время от времени осуществляющие со своими товарищами коммуникацию на символическом уровне. Особенно поучителен случай Элен Келлер, хотя случаи Лоры Бриджмен, Мэри Хертин и других также весьма ценны11.
Элен Келлер в очень раннем возрасте ослепла и оглохла в результате болезни. Она достигла детского возраста, не вступая в символические контакты с кем-либо. Описания ее в возрасте семи лет, относящиеся к тому времени, когда ее учительница, мисс Салливан, пришла к ней домой, вообще не обнаруживают в поведении Элен никаких человеческих свойств. Она была прямоходящим, недисциплинированным и непокорным маленьким животным12.
В течение одного-двух дней после своего прибытия в дом Келлеров мисс Салливан обучала Элен ее первому слову, начертывая слово на ее ладони. Однако это слово было только знаком, а не символом. Неделю спустя Элен знала несколько слов, но, как сообщает мисс Салливан, у нее не было «ни малейшего понятия о том, как ими пользоваться и о том, что все имеет какое-нибудь имя». В течение трех недель Элен узнала восемнадцать существительных и три глагола. Однако она по-прежнему оставалась на уровне знаков; она по-прежнему не имела никакого понятия о том, что «все имеет какое-нибудь имя».
Элен столкнулась с трудностями при освоении словесных знаков для слов «кружка» и «вода», видимо, потому, что оба ассоциировались с питьем. Мисс Салливан сделала несколько попыток рассеять это затруднение, но безуспешно. Однако как-то утром, спустя примерно месяц после приезда мисс Салливан, они вдвоем вышли в сад к водокачке. То, что произошло далее, лучше всего рассказать ее собственными словами: «Я заставила Элен подставить свою кружку под струю, пока я качала. Как только холодная вода хлынула, наполняя кружку я написала на свободной ладони Элен «в-о-д-а». Слово, последовавшее так скоро за ощущением холодной воды, омывающей ее руки, кажется, поразило ее. Она выронила кружку и стояла словно в трансе. Лицо ее просветлело. Она написала "вода" несколько раз. Затем она упала на землю и спросила, как называется это, показала на водокачку и на решетку и, внезапно обернувшись ко мне, она спросила, как мое имя… Через нескольких часов она добавила в свой словарь тридцать новых слов». Однако эти слова были уже не простыми знаками, каковы они для собаки и каковыми они были для Элен до того момента. Они были символами. Элен наконец нащупала и повернула тот ключ, который впервые открыл для нее вход в новую вселенную: в мир человеческих существ. Этот изумительный опыт описывает сама Элен: «Мы шли по тропке к колодцу, привлеченные ароматом жимолости, которой он был окружен. Кто-то качал воду, и моя учительница подставила мою руку под струю. Как только холодная вода хлынула на одну мою руку, она написала на другой слово „вода“, сначала медленно, затем быстро. Я стояла не двигаясь, все мое внимание было сосредоточено на движении ее пальцев. Внезапно я ощутила смутное сознание словно бы чего-то забытого – трепет возвращающейся мысли; и мне каким-то образом открылась тайна языка. Я знала, что «вода» означает чудесную прохладу чего-то льющегося на мою ладонь. Это живое слово пробудило мою душу, подарило ей свет, надежду, радость, освободило ее!»
И тут наступило преображение. Мисс Салливан удалось затронуть символический механизм Элен и привести его в движение. Элен, со своей стороны, восприняла внешнее слово посредством механизма, который оставался недвижным и бездействовал все эти годы, заключенный в темное и безмолвное уединение невидящими глазами и неслышащими ушами. Но теперь она пересекла границу и вступила в новую землю. С этого момента ее прогресс должен был быть быстрым.
«Я ушла от колодца, – рассказывает Элен, – переполненная желанием учиться. У всего было имя, и каждое имя рождало новую мысль. Когда мы возвратились к дому, каждый предмет, к которому я прикасалась, казался мне трепещущим как живой. Так было оттого, что я видела все пришедшим ко мне странным новым зрением».
Элен быстро очеловечилась. «Я вижу у Элен улучшение день ото дня, – писала мисс Салливан в своем дневнике, – почти час от часу. Теперь все должно иметь имя… Она бросает те знаки и пантомимы, которыми пользовалась прежде, как только у нее появляется слово, могущее занять их место. Мы замечаем, что с каждым днем ее лицо становится все выразительнее…»
Более красноречивое и убедительное свидетельство важности символов и той огромной пропасти, что разделяет человеческое сознание и сознание, лишенное символов, трудно себе представить.
VIII
Резюме. Естественный процесс биологической эволюции привел к существованию у человека, и только у человека, новой и отличительной способности – способности пользоваться символами. Важнейшей формой символического выражения является артикулируемая речь. Артикулируемая речь подразумевает обмен мыслями; коммуникация подразумевает сохранение – традицию, а сохранение означает аккумуляцию и прогресс. Возникновение способности к символизации имело своим результатом появление нового порядка феноменов – экстрасоматического, культурного, порядка. Все цивилизации родились из использования символов и благодаря этому сохраняются. Культура, или цивилизация, есть лишь особый вид той формы, которую приобретает биологическая, направленная на поддержание жизни деятельность особого животного – человека. Человеческое поведение – это символическое поведение; если оно не символическое, то оно и не является человеческим. Детеныш рода Homo sapiens становится человеческим существом лишь постольку, поскольку вводится в тот порядок феноменов, каким является культура, и участвует в нем. Ключ к этому миру и средство соучастия в нем – символ.
Примечания
1 Hankins F.H. An Introduction to the Study of Society, N. Y, 1928. P. 56, 327; Linton R. The Study of Man. N. Y, 1936. P. 79, 68, 60; Goldenweiser A. Anthropology. N. Y, 1937. P. 39.
2 Descartes R. Discourse on Method. N. Y, 1901. P. 189.
3 Carlson A.J. P. 477–479.
4 Locke J. An Essay Concerning the Human Understanding. L., 1894. Book III. Ch. 11.
5 Ibid. Book IV. Ch. 11.
6 Kellogg W.N. and L.A. The Ape and the child. N. Y, 1933. P. 289.
7 Locke J. Op. cit. Book III, Ch. 11.
8 Tylor E.B. Anthropology. L., 1881. P. 54, 123.
9 Carlson A.J. P. 477; Bernard L.L. The Psychological Foundations of Society. 1927. P. 399. Yerkes R.M. and A.W. The Great Apes. New Haven. 1929. P. 301; Hooton E.A. Up From the Ape. N. Y, 1931. P. 167.
10 Hooton E.A. Op. cit. P. 153.
11 Ср.: Thomas W.L. Primitive behavior. N. Y, 1937. P. 50–54, 776–777.
12 Keller H. The Story of My Life. N. Y, 1903. P. 23–24, 303–317.
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: White L. Symbol: The Origin and the Basis of Human Behavior // The Science of Culture. N. Y, 1949. P. 22–39.
1* «He на нас ли вы грызете свой ноготь, сэр?» (Ромео и Джульетта. Акт I, сц. 1). (Прим. ред.)
2* Ацтекский бог.
Перевод П.В. РезвыхУайт Л.А. Глава десятая Место математической реальности
«Ему снится сон! – сказал Траляля. – И как по-твоему, что ему снится?
– Не знаю, – ответила Алиса. – Этого никто сказать не может.
– Ему снишься ты! – закричал Траляля и радостно захлопал в ладоши. – Если б он не видел тебя во сне, где бы ты, интересно, была?
– Там, где я есть, конечно, – сказала Алиса.
– А вот и ошибаешься! – возразил с презрением Траляля. – Тебя бы тогда вообще не было. Ты просто снишься ему во сне.
– Если этот вот Король вдруг проснется, – подтвердил Труляля, – ты сразу же – фьють! – погаснешь как свеча!
– Ну, нет! – вознегодовала Алиса. – И вовсе я не потухну! К тому же если я только сон, то кто же тогда вы, хотела бы я знать?
– То же самое, – сказал Труляля.
– Самое, самое, – подтвердил Траляля.
Он так громко прокричал эти слова, что Алиса испугалась.
– Ш-ш-ш, – прошептала она. – Не кричите, а то вы его разбудите!
– Тебе-то что об этом думать? – сказал Труляля. – Все равно ты ему только снишься. Ты ведь не настоящая!
– Нет, настоящая! – крикнула Алиса и залилась слезами.
– Слезами делу не поможешь, – заметил Траляля. – О чем тут плакать?
– Если бы я была не настоящая, я бы не плакала, – сказала Алиса, улыбаясь сквозь слезы: все это было так глупо.
– Надеюсь, ты не думаешь, что это настоящие слезы? – спросил Труляля с презрением».
(Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье / Пер. Н.М. Демуровой)Пребывают ли математические истины во внешнем мире, где их открывает человек, или же они суть человеческие изобретения? Имеет ли математическая реальность существование и действительность, независимые от человеческого рода, или она лишь функция человеческой нервной системы?
Мнения по этому вопросу, как прежде, так и ныне, разделяются. Миссис Мэри Соммервилль (1780–1872), англичанка, состоявшая в знакомстве или в переписке с такими людьми, как сэр Джон Гершель, Лаплас, Гей-Люссак, У. Уивелл, Джон Стюарт Милль, барон фон Гумбольдт, Фарадей, Кювье и Де Кэндолл и сама бывшая одаренным ученым, выразила широко поддерживаемый взгляд, сказав: «Ничто не доставило мне более убедительных доказательств единства Божества, чем те чисто умозрительные понятия числовых и математических наук, постепенно предоставленные человеку и все еще пополняемые в последнее время Дифференциальным Исчислением, вытесненным ныне Высшей Алгеброй, которые все должны были от вечности существовать в этом возвышенно всеведущем Уме»1.
Чтобы не возникло мысли, будто миссис Соммервилль, придерживаясь подобного взгляда, мыслила скорее теологически, чем научно, стоит заметить, что за свою поддержку науки она была персонально и публично отлучена от кафедры деканом Йоркского собора Кокберном2. В Америке Эдвард Эверетт (1794–1865), видный ученый (первый американец, получивший докторскую степень в Геттингене) отразил просвещенные взгляды своего времени, заявив: «В чистой математике мы созерцаем абсолютные истины, существовавшие в божественном уме прежде, чем воссияли утренние звезды, и которые будут продолжать существовать и тогда, когда последняя из их сияющего сонма падет с небес»3.
В наши дни выдающийся британский математик Дж. Х. Харди выразил в «Математической апологии» тот же взгляд, облеченный, однако, в выражения скорее технические, чем риторические: «Я полагаю, что математическая реальность находится вне нас, и что наша функция – открывать или наблюдать ее, и что теоремы, которые мы доказываем и которые высокопарно описываем как наши "творения" – лишь наши заметки о наших наблюдениях»4.
Противоположную точку зрения отстаивает видный физик П.У. Бриджмен, который утверждает, что «простым трюизмом, непосредственно очевидным для непредвзятого наблюдения, является то, что математика есть человеческое изобретение»5.
Эдвард Казнер и Джеймс Ньюмен утверждают, что «мы преодолели представление, будто математические истины имеют существование, независимое и отдельное от нашего собственного сознания. Нам даже кажется странным, что подобное представление когда-либо могло существовать»6.
С психологической и антропологической точки зрения эта последняя концепция – единственная, которая научно верна и обоснованна. Оснований полагать, что математические реальности обладают существованием, независимым от человеческого сознания, не больше, чем полагать, что мифологические реальности могут иметь бытие отдельно от человека. Квадратный корень из отрицательного числа реален. Таковы же были Вотан и Озирис. Таковы же боги и духи, в которых верят сегодня первобытные люди. Однако нас здесь интересует не вопрос «Реальны ли эти вещи?», а вопрос «Где место их реальности?» Ошибочно отождествлять реальность только с внешним миром. Нет ничего более реального, чем галлюцинация. Наша задача, однако, не сводится к тому, чтобы установить один взгляд на математическую реальность как верный, а другой – как иллюзорный. Мы предлагаем сделать иначе – представить феномен математического поведения таким образом, чтобы, с одной стороны, прояснить, почему вера в независимое существование математических истин на протяжении столь многих веков казалась такой правдоподобной и убедительной, а с другой, – показать, что все, из чего состоит математика, – не что иное, как особый род поведения приматов. Многие без колебаний подписались бы под предложением, гласящим, что «математическая реальность должна лежать либо внутри нас, либо вне нас». Разве не существуют только эти две возможности? Как однажды заметил Декарт, обсуждая существование Бога, «невозможно, чтобы мы могли иметь идею или представление чего бы то ни было, если бы где-то, либо в нас, либо вне нас, не имелось бы некого оригинала, который содержится в реальности»7 (курсив автора). Однако сколь бы неотразимым ни казалось это рассуждение, для нашей теперешней проблемы оно ошибочно или, во всяком случае, предательски вводит нас в заблуждение. Следующие предложения, хотя на первый взгляд и противоположны друг другу, все же одинаково верны; одно столь же истинно, как и другое: 1) «Математические истины имеют существование и действительность, независимые от человеческого ума», и 2) «Математические истины не имеют существования или действительности отдельно от человеческого ума». Фактически эти предложения, сформулированные в том виде, как они приведены, вводят в заблуждение потому, что термин «человеческий ум» употребляется в двух разных смыслах. В первом утверждении выражение «человеческий ум» относится к индивидуальному организму; во втором – к человеческому роду. Таким образом, оба предложения могут быть истинными и действительно истинны. Математические истины существуют в культурной традиции, в которую, едва родившись, включается индивид, и, таким образом, вступают в его сознание извне. Однако отдельно от культурной традиции математические понятия не имеют ни существования, ни значения, а культурная традиция, разумеется, не существует отдельно от человеческого рода. Математические реальности, таким образом, обладают существованием, независимым от индивидуального сознания, но полностью зависимы от сознания рода. Или, переводя это на язык антропологических терминов: математика в ее целом, ее «истины» и ее «реальности» – часть человеческой культуры, и ничего более. Каждый индивид, родившись, включается в культуру, уже существовавшую прежде и независимую от него.
Культурные особенности обладают существованием вне индивидуального сознания и независимо от него. Индивид приобретает свою культуру, научаясь обрядам, верованиям, техническим навыкам своей группы. Но сама культура не имеет и не может иметь существования отдельно от человеческого рода. Следовательно, математика, подобно языку, общественным установлениям, орудиям, искусствам и т. д., есть совокупный продукт многовековых усилий человеческого рода.
Великий французский ученый Эмиль Дюркгейм был одним из первых, кто это выяснил. Он обсуждает эту тему на первых страницах «Элементарных форм религиозной жизни». Он также – в «Правилах социологического метода» – специально разработал учение о природе культуры и ее отношении к человеческому сознанию. Конечно, отношение между человеком и культурой обсуждали и другие, но формулировки Дюркгейма особенно подходят для данной нашей дискуссии, и мы время от времени будем к нему обращаться8.
Конечно, математика есть часть культуры. Все люди наследуют от своих предшественников или окружающих современников, наряду со способами приготовления пищи, брачного поведения, религиозного поклонения и т. д., способы счета, вычислений и всего прочего, что делает математика. Математика есть, фактически, форма поведения: ответы принадлежащего к определенному виду приматов организма на ряд стимулов. Считают ли люди пятерками, десятками, дюжинами или двадцатками; отсутствуют ли у них слова для количественных числительных больше пяти или они обладают самыми современными и высокоразвитыми математическими понятиями, их математическое поведение определяется той математической культурой, которая завладевает ими.
Мы можем теперь видеть, как возникла и достигла расцвета вера в то, что математические истины и реальности находятся вне человеческого сознания. Они вступают в индивидуальное сознание, как говорит Дюркгейм, извне. Они вторгаются в его организм, снова процитируем Дюркгейма, подобно космическим силам. Любой математик, наблюдая за самим собой и за другими, может убедиться в том, что это так. Математику не выделяют, как желчь; ее пьют, как вино. Мальчики-готтентоты, как в отношении математики, так и во всех прочих отношениях, вырастают в повиновении и ведут себя в соответствии с математическими и другими особенностями своей культуры. Английские или американские юноши так же ведут себя в своих культурах. Нет ни малейших анатомических или психологических свидетельств, указывающих на наличие каких-либо врожденных, биологических расовых различий, столь же значительных, как различия, касающиеся математического или какого-либо другого рода поведения. Родись Ньютон в культуре готтентотов, он делал бы вычисления как готтентот. Люди, подобные Дж. Х. Харди, знающие как из собственного опыта, так и из наблюдений над другими, что математические понятия входят в их сознание извне, вполне понятно – однако ошибочно – заключают, что их источник и место находится во внешнем мире, независимом от человека.
Ошибочно, потому что альтернативой тому, что находится «вне человеческого сознания», служит не «внешний мир, независимый от человека», но культура, тело традиционного мышления и поведения человеческого рода.
Культура часто дурачит нас и искажает наше мышление. Мы склонны находить в культуре прямое выражение «человеческой природы», с одной стороны, и внешнего мира, – с другой. Таким образом, каждый народ расположен верить, что его собственные обычаи и верования суть прямое и верное выражение природы человека. Такова «человеческая природа»: жить в моногамии, ревновать свою жену, хоронить мертвых, пить молоко, появляться в обществе только одетым, называть детей брата своей матери словом «кузен», пользоваться исключительным правом на плоды собственного труда и т. д. – думают люди, если у них оказались именно эти обычаи. Однако этнография говорит нам, что среди народов мира имеется широчайшее разнообразие обычаев: есть народы, которые питают отвращение к молоку, практикуют полиандрию, одалживают своих жен в знак гостеприимства, с ужасом воспринимают погребение, появляются в обществе без одежды, нисколько этого не стыдясь, называют детей брата своей матери «сын» или «дочь» и совершенно свободно отдают всю продукцию своего труда или ее значительную часть в распоряжение своих соплеменников. Не существует обычая или верования, о котором можно было бы сказать, что оно выражает «человеческую» природу больше, чем любые другие.
Сходным образом полагали, что определенные понятия о внешнем мире были столь просты и фундаментальны, что непосредственно и верно выразили его структуру и природу. Всякий склонен думать, что желтое, голубое и зеленое – это свойства внешнего мира, которые различил бы всякий нормальный человек, пока не узнаёт, что греки и индейцы натчес не отличали желтое от голубого и имели для обоих только один термин. Подобным же образом чоктау, туника, индейцы кересан из Пуэбло и многие другие народы не делают терминологического различия между голубым и зеленым9. Великий Ньютон тоже был обманут своей культурой. Он счел доказанным, что понятие абсолютного пространства прямо и непосредственно соответствует чему-то во внешнем мире; пространство, думал он, есть нечто, существующее независимо от человеческого сознания (mind). «Я не ограничиваюсь гипотезами», – говорил он. Однако понятие пространства есть творение интеллекта, как и прочие понятия. Конечно, Ньютон не сам сотворил гипотезу абсолютного пространства. Она пришла к нему извне, как верно указывает Дюркгейм. Однако хотя она вторгается в организм comme les forces cosmiques1*, у нее другой источник: не космос, а человеческая культура. Веками думали, что теоремы Евклида – просто, так сказать, понятийные фотографии внешнего мира; что их достоверность совершенно независима от человеческого сознания; что в них есть нечто необходимое и неизбежное. Изобретение Лобачевским, Риманом и другими неевклидовых геометрий полностью рассеяло этот взгляд. Сегодня совершенно ясно, что такие понятия, как пространство, прямая, плоскость и т. д., не более необходимы и неизбежны как следствия структуры внешнего мира, чем понятия зеленого и желтого или термины родства, с помощью которых вы обозначаете, например, брата вашей матери.
Процитируем Эйнштейна:
«Теперь мы подходим к следующему вопросу: "Что определено и необходимо a priori в отношении геометрии (доктрины пространства) или ее оснований?" Прежде мы думали – все, сегодня мы думаем – ничего. Уже само понятие расстояния логически произвольно; нет необходимости в таких вещах, которые бы ему соответствовали – хотя бы приблизительно»10.
Казнер и Ньюмен говорят, что «неевклидовы геометрии являются доказательством того, что математика… есть создание человека, предмет, простирающийся лишь до тех пределов, которые ставят ему законы мышления»11.
Отнюдь не существуя и не имея никакого значения в отрыве от человеческого рода, все математические понятия суть – пользуясь словами, которыми Эйнштейн характеризует понятия и фундаментальные принципы физики, – «свободные изобретения человеческого интеллекта». Но так как математические и научные понятия всегда проникают в каждое индивидуальное сознание извне, до недавнего времени считалось, что они пришли из внешнего мира, а не из созданной человеком культуры. Однако само понятие культуры как научное понятие – всего лишь недавнее изобретение.
Понятие о культурной природе наших научных понятий и представлений со всей ясностью выражено в следующих словах нобелевского лауреата по физике Эрвина Шрёдингера: «Откуда возникает широко распространенное представление о том, что поведение молекул определяется абсолютной причинностью, откуда возникает убеждение в том, что противоположное немыслимо! Просто из унаследованного в течение тысячелетий обычая мыслить причинно, из-за которого идея недетерминированного события или абсолютной, первичной беспричинности кажется полной бессмыслицей, логическим абсурдом»12 (курсив Шрёдингера).
Подобно Шрёдингеру, Анри Пуанкаре утверждает, что аксиомы геометрии – просто «конвенции», т. е. обычаи: они «не есть ни синтетические суждения a priori, ни экспериментальные факты. Они – соглашения»13.
Обратимся теперь к другому аспекту математики, на который проливает свет понятие культуры. Генрих Герц, первооткрыватель электромагнитных волн, однажды сказал: «Нельзя избавиться от ощущения, что эти математические формулы имеют независимое существование и свой собственный ум, что они мудрее нас, мудрее даже тех, кто их открывает [sic], что мы извлекаем из них больше, чем в них было заложено изначально»14.
Здесь мы вновь встречаемся с мнением, что математические формулы имеют «свое собственное» (т. е. независимое от человеческого рода) существование, что они скорее «открыты», чем созданы человеком. Понятие культуры целиком проясняет ситуацию. Математические формулы, как и другие аспекты культуры, действительно имеют в некотором смысле «независимое существование и собственный ум». Английский язык имеет, в известном смысле, «собственное, независимое существование». Конечно, не независимое от человеческого рода, но независимое от какого-либо индивида или группы индивидов, расы или нации. Он имеет, в известном смысле, «собственный ум». То есть он ведет себя, растет и изменяется в соответствии с принципами, которые присущи самому языку, а не человеческому сознанию. Когда человек осознает себя в своем отношении к языку и когда возникает наука филология, открываются принципы лингвистического поведения и формулируются его законы.
Так же обстоит дело с математическими и научными понятиями. В весьма реальном смысле они имеют собственную жизнь. Эта жизнь – жизнь культуры, культурной традиции. Дюркгейм выражает это так:
«Коллективные способы действования и мышления имеют реальность вне индивидов, в каждый момент времени приспосабливающихся к ним. Эти способы мышления и действования существуют по своим собственным законам»15. Вполне можно было бы полно и адекватно описать эволюцию математики, физики, денег, архитектуры, топоров, плугов, языка и любого другого аспекта культуры, не ссылаясь на человеческий род или какую-либо его часть. Фактически наиболее эффективный способ научного изучения культуры – рассматривать ее так, как если бы человеческого рода не существовало. Конечно, зачастую приятно упомянуть нацию, которая первой стала чеканить монеты, или человека, который изобрел счисление или хлопковый подъемник. Но это вовсе не необходимо и, строго говоря, не соответствует основной задаче. Фонетические изменения в индоевропейских языках, суммированные в законе Гримма, относятся исключительно к лингвистическим феноменам, к звукам и их преобразованиям, комбинациям и взаимодействиям. С ними вполне можно иметь дело, не обращаясь к анатомическим, физиологическим или психологическим характеристикам производящих их приматов. Так же и с математикой и физикой. Понятия имеют собственную жизнь. Вновь процитируем Дюркгейма: «Однажды родившись, [они] повинуются собственным законам. Они друг к другу притягиваются, друг от друга отталкиваются, объединяются, делятся и размножаются…»16. Идеи, как и другие культурные особенности, взаимодействуют друг с другом, образуя новые синтезы и комбинации. Две или три идеи, сойдясь вместе, могут образовать новое понятие или синтез. Законы движения, связанные с Ньютоном, были синтезом понятий, связанных с Галилеем, Кеплером и другими. Определенные идеи относительно электрических феноменов прошли путь, так сказать, от «стадии Фарадея» до стадии Дж. К. Максвелла, Г. Герца, Маркони и современных радаров. «Приложение механики Ньютона к постоянно распределяемым массам, – говорит Эйнштейн, – неизбежно привело к открытию и приложению дифференциальных уравнений в частных производных, которые в свою очередь впервые предоставили язык для формулирования законов теории поля» (курсив наш). Теория относительности была, как показывает Эйнштейн, «не революционным событием, а естественным продолжением линии, которую можно прочертить через века». Более непосредственно, «теория Клерка Максвелла и Лоренца неизбежно вела к специальной теории относительности»17. Итак, мы видим, не только то, что любая данная система мышления есть результат предшествующего опыта, но определенные идеи неизбежно ведут к новым понятиям и новым системам. Любое орудие, машина, верование, философия, обычай или общественное установление – это не что иное, как результат предшествующих культурных черт. А если так, то благодаря пониманию природы культуры становится понятно, проясняет, почему Герц ощущал, что «математические формулы существуют независимо и обладают своим собственный сознанием».
Его ощущение, что «мы извлекаем из них больше, чем в них было заложено изначально», проистекает из того факта, что при взаимодействии культурных черт образуются новые синтезы, не предполагаемые «теми, кто их открывает» и содержащие следствия, которые не были усмотрены или восприняты до тех пор, пока дальнейшее развитие не сделало их более очевидными. Иногда новизна вновь образованного синтеза не видна даже тому, в чьей нервной системе этот синтез имеет место. Так, Жак Адамар сообщает нам о множестве случаев, когда он совершенно не видел вещей, которые «должны были бы поразить… [его] даже если бы [он] был слеп»18. Он приводит множество примеров, когда он не видел очевидных и непосредственных следствий тех идей, которые содержались в его работе, которой он был занят, оставляя им возможность быть впоследствии «открытыми» другими.
Противоречие между взглядом, разделяемым Герцем, Харди и другими, будто математические истины скорее открываются, чем создаются человеком, и противоположным, разрешается, таким образом, с помощью понятия культуры. Верно и то и другое: их открывают, но вместе с тем они – создание человека. Они – продукт сознания человеческого рода. Однако каждый индивид сталкивается с ними или открывает их в той математической культуре, в которой он вырастает. Процесс математического роста – это, как мы указали, процесс взаимодействия математических элементов друг с другом. Для этого процесса, конечно, необходима основа – мозг человека, так же, как для телефонного разговора требуются провода, телефоны, микрофоны и т. д. Но брать в расчет мозги людей при объяснении математического развития и изобретения надо не более, чем размышлять над телефонными проводами, стремясь объяснить передаваемый ими разговор.
Доказательством этому служит факт наличия многочисленных изобретений (или «открытий») в математике, сделанных одновременно двумя или несколькими людьми, работавшими независимо друг от друга. Если бы эти открытия действительно были обусловлены или определены индивидуальными сознаниями, нам следовало бы объяснить их как совпадения. По законам случая эти многочисленные и повторяющиеся совпадения были бы не иначе как чудом. Однако культурологическое объяснение мгновенно проясняет ситуацию. Все население определенного региона охватывается каким-то типом культуры.
Каждый индивид, рождаясь, включается в предсуществующую организацию верований, орудий, обычаев и общественных установлений. Эти особенности культуры образуют и оформляют жизнь каждого человека, дают ей содержание и направление. Математика есть, разумеется, одно из течений в этой целостной культуре. Она в разной степени воздействует на индивидов, а они реагируют на это в соответствии со своей конституцией. Математика – это психосоматическая реакция на математическую культуру.
Однако мы уже заметили, что в пределах комплекса математической культуры имеются отношения воздействия и реакции между различными элементами. Понятия реагируют на понятия; идеи смешиваются, сплавляются друг с другом, образуя новые синтезы. Этот процесс происходит в культуре на всем ее протяжении, хотя в одних областях (обычно в центре) он идет быстрее и интенсивнее, чем в других (на периферии). Когда этот процесс взаимодействия и развития достигает определенной точки, новые синтезы образуются сами собой. Эти синтезы фактически представляют собой реальные события, имеют место в пространстве и локализованы во времени. Места, занимаемые ими в пространстве, – это, конечно, мозги людей. Так как культурный процесс протекал более или менее единообразно на широкой территории, охватывающей широкое население, то новый синтез имеет место одновременно в нескольких мозгах. Имея привычку мыслить антропоцентрически, мы склонны говорить, что такие-то люди сделали такие-то открытия. Действительно, в некотором смысле, в биологическом смысле, так оно и есть.
Однако если мы хотим объяснить открытие как событие в развитии математики, мы должны полностью исключить индивида. С этой точки зрения индивид вовсе не сделал открытия. Последнее было чем-то, что с ним произошло. Он был лишь местом, в которое ударила молния. Одновременное «открытие», сделанное тремя людьми, работавшими «независимо друг от друга», просто означает, что культурно-математическая молния может ударить и действительно ударяет в одно и то же время более чем в одно место. В процессе культурного роста (growth) индивид, посредством открытия или изобретения, просто становится нервным locus2*, в котором происходит продвижение. Человеческий мозг – просто, так сказать, катализатор в культурном процессе. Этот процесс не может существовать независимо от нервной ткани, но функция человеческой нервной системы состоит лишь в том, чтобы сделать возможным процесс взаимодействия и осуществить синтезы культурных элементов.
В действительности индивиды различаются так же, как различаются катализаторы, громоотводы или другие опосредствующие звенья. Один человек, одно строение мозга могут оказаться лучшим посредником для роста математической культуры, чем другие. Нервная система одного человека может быть лучшим катализатором культурного процесса, чем нервная система другого. Математический культурный процесс, следовательно, с большей вероятностью избирает в качестве средства своего выражения одно строение мозга, нежели другое. Однако легко преувеличить роль относительно более развитого мозга в культурном продвижении. Имеет значение не просто превосходство мозга. Должно быть некое соприкосновение этого мозга со своеобразной культурной традицией. Если соответствующие культурные элементы отсутствуют, относительно высокоразвитый мозг окажется бесполезен.
Мозги столь же хорошие, как и мозг Ньютона, были в Англии за 10 тысяч лет до Рождества Христова, в эпоху норманнского завоевания, или в любой другой период английской истории. Все, что мы знаем о древнем человеке, о предыстории Англии и о нейроанатомии Homo sapiens, подтвердит это. Мозги столь же хорошие, как и мозг Ньютона, были среди аборигенов Америки или Центральной Африки. Однако в эти другие времена и в этих других местах счисление не было изобретено, потому что отсутствовали необходимые для этого культурные элементы.
Наоборот, когда культурные элементы в наличии, открытие или изобретение становится столь неизбежным, что оно происходит независимо и сразу в двух или трех нервных системах. Если бы Ньютона воспитали пастухом овец, математическая культура Англии нашла бы другой мозг, чтобы в нем достигнуть своего нового синтеза. У одного человека мозг может быть лучше, чем у другого, точно так же, как его слух может быть более тонким, а нога – большего размера. Но как «блистательным» называют генерала, чьи армии побеждают, так гением, математическим или каким-либо иным, следует назвать того, в чьей нервной системе совершается важный культурный синтез; он нервный locus эпохального события в культурной истории.
Природу культурного процесса и его отношения к сознаниям отдельных людей хорошо иллюстрирует история эволюционной теории в биологии. Как известно, эта теория вовсе не ведет свое начало от Дарвина. Мы находим ее в нервных реакциях многих других людей, живших задолго до того, как родился Дарвин: Бюффона, Ламарка, Эразма Дарвина3* и прочих. Фактически все те идеи, совокупность которых мы называем дарвинизмом, можно найти в трудах английского физика и антрополога Дж. К. Причарда (1786–1848). Эти разнообразные понятия взаимодействовали друг с другом и с современными им теологическими представлениями, конкурировали, вступали в борьбу, модифицировались, сочетались, воссоединялись и т. д. в течение десятилетий. Наконец, настало время, т. е. была достигнута та ступень развития, когда рухнули богословские системы и прилив научных интерпретаций затопил землю.
Здесь новый синтез понятий тоже нашел выражение одновременно в нервных системах двух людей, работавших независимо друг от друга: А.Р. Уоллеса и Чарлза Дарвина. Это событие должно было произойти именно тогда, когда произошло. Если бы Дарвин умер во младенчестве, культурный процесс нашел бы посредника для выражения в другой нервной системе. Эта иллюстрация особенно интересна тем, что у нас есть яркий отчет самого Дарвина о том, как произошел это синтез идей:
«В октябре 1838 г., – писал Дарвин в автобиографическом отрывке, – то есть пятнадцать месяцев спустя после того, как я начал мои систематические исследования, я случайно ради развлечения прочел книгу «Мальтус о народонаселении», и, так как продолжительным наблюдением за повадками животных и свойствами растений я был подготовлен к восприятию происходящей повсюду борьбы за существование, меня внезапно осенило, что в этих обстоятельствах удачные вариации имели бы тенденцию к сохранению, а неудачные были бы уничтожены. Результатом всего этого было бы происхождение нового вида. Так я нашел, наконец, теорию, над которой мне следовало работать…» (курсив автора).
Это исключительно интересное признание. Во время чтения Мальтуса сознание Дарвина было полно разнообразными идеями (т. е. он был сформирован, воодушевлен и оснащен культурным окружением, в котором случайно родился и был воспитан – значительным аспектом которого было обладание свободными денежными средствами; будь он вынужден зарабатывать себе на жизнь в какой-нибудь бухгалтерии, мы, возможно, вместо дарвинизма имели бы сегодня «хадсонизм»). Эти идеи реагировали друг на друга, соперничая, уничтожая одна другую, усиливаясь, сочетаясь. По случайности в ситуацию вводится особая комбинация культурных элементов (идей), носящая имя Мальтуса. Мгновенно происходит реакция, образуется новый синтез – он «нашел, наконец, теорию, над которой… следовало работать». Нервная система Дарвина была просто тем местом, где культурные элементы встретились и образовали новый синтез.
Это было скорее нечто, случившееся с Дарвином, нежели нечто им сделанное.
Этот отчет об изобретении в области биологии вызывает в памяти широко известный случай математического изобретения, живо описанный Анри Пуанкаре. Однажды вечером, после тяжелой и безуспешной работы над какой-то проблемой, он пишет: «…вопреки обыкновению, я выпил черного кофе и не мог заснуть. Идеи роились в моем уме; я чувствовал, как они сталкиваются друг с другом до тех пор, пока не сцепляются в пары, так сказать, не образуют устойчивую комбинацию. На следующее утро я установил существование одного класса функций Фукса… мне нужно было лишь записать результаты, что заняло всего несколько часов»19.
Далее Пуанкаре иллюстрирует процесс культурного изменения и развития в его субъективном (т. е. неврологическом) аспекте, прибегая к аналогии. Он представляет себе математические идеи чем-то похожими на «крючковатые атомы Эпикура. Пока ум находится в полном покое, эти атомы неподвижны, они, так сказать, прикреплены крючками к стене». Никаких сочетаний не образуется. Но во время умственной деятельности, даже бессознательной, определенные атомы отрываются со стены и приводят в движение. «Они мечутся в пространстве во всех направлениях… подобно молекулам газа… Тогда их взаимные столкновения могут произвести новые комбинации»20. Это просто описание субъективного аспекта культурного процесса, который антрополог описал бы объективно (т. е. без ссылки на нервную систему). Он сказал бы, что в культурных системах различного рода черты действуют и реагируют друг на друга, уничтожая одни, усиливая другие, образуя новые сочетания и синтезы. С точки зрения антрополога значимым для места изобретений и открытий является не качество мозга, но его относительное местонахождение в сфере культуры: изобретения и открытия скорее всего происходят в культурных центрах, там, где существует интенсивное культурное взаимодействие, чем на периферии, в отдаленных или изолированных регионах.
Преобладающее влияние внешней культурной традиции на индивидуальное сознание иногда ощущается очень ясно, но его редко принимают за то, че́м оно в действительности является. Так, Гёте провозглашал, что:
«Всякая производительность высшего порядка, всякая значительная теория, всякое открытие, всякая великая мысль, приносящая плоды… никому не подвластны и находятся по ту сторону от всякой земной власти. Подобные вещи следует рассматривать как нежданные дары свыше, как сугубо божественные творения»21.
Братья Гонкуры говорят о «неведомой силе, высшей воле, своего рода принуждении писать, которое управляет работой и водит пером; и это проявляется в такой степени, что временами книга, выходящая из ваших рук, кажется родившейся сама собою…»22. Джордж Элиот также заявляла, что во всех ее сочинениях, которые она считает лучшими, был некто, «не она сама», кто овладевал ею и вызывал в ней чувство, что «ее собственная личность – просто инструмент, с помощью которого этот дух действовал»23.
Конечно, есть «нечто вне нас самих», некая сила, мощь, оказывающая влияние на человека и принуждающая его делать что-то так или иначе. Но в этом нет ничего таинственного или мистического. Это не что-то неземное или божественное, как полагал Гёте. Это просто великая традиция культуры, сжимающая каждого из нас в своих мощных объятиях. Когда, словно в реке, нас охватывает быстрое течение либо нас несет стремнина культурных перемен, или нас уносит водоворот культурного синтеза, нам не остается ничего, кроме как полностью этому отдаться. Тогда мы действительно чувствуем в себе дух и силу, которые, как мы хорошо знаем, не являются нашими. Но мы знаем, откуда это приходит и какова природа этого. Это – великий и совокупный поток человеческой культуры, изливающийся к нам из источников древности, несущий нас в своем лоне, питающий и поддерживающий нас, использующий нас (впрочем, скорее сохраняя, чем поглощая) для будущей культуры и для поколений, которые еще придут.
Если математические истины приходят в сознание отдельного математика извне, из того потока культуры, в котором он был рожден и воспитан, то возникает вопрос: «Откуда первоначально взялась культура вообще и математическая культура в частности? Как она возникла и обрела свое содержание?»
Конечно, не стоит и говорить, что математика не была порождена Евклидом и Пифагором или даже мыслителями Древнего Египта и Месопотамии. Математика есть развитие мышления, возникшего вместе с человеком и культурой миллион или более лет назад. Разумеется, на протяжении сотен тысяч лет ее успехи были незначительными. Даже и сегодня мы находим в математике такие системы и понятия, которые были выработаны примитивными и дописьменными народами каменного века и пережитки которых можно ныне найти у современных диких племен. Десятичная система исчисления возникла из использования для счета пальцев обеих рук. Двадцатиричная система астрономов майя выросла из пользования для той же цели пальцев как рук, так и ног.
Глагол «вычислять» (to calculate) означает «считать с помощью calculi, т. е. галечных камней». Прямая линия (straight line) прежде была натянутой льняной нитью (stretched linen cord), и т. д.
Конечно, первые математические идеи из всех, какие существуют, вошли в бытие через нервные системы отдельных человеческих существ[2]. Однако они были в высшей степени простыми и рудиментарными. Не будь человеческой способности давать этим идеям внешнее выражение в символической форме, сообщать их друг другу таким образом, чтобы образовывались новые комбинации и эти новые синтезы переходили от одного поколения к другому в непрерывном процессе взаимодействия и накопления, то человеческий род не добился бы никакого прогресса в математике за пределами ее первоначальной стадии.
Это положение подтверждается нашими исследованиями человекообразных обезьян. Они чрезвычайно умны и многосторонне развиты. Они прекрасно воспринимают геометрические формы, решают проблемы с помощью воображения и интуиции и обладают немалой оригинальностью. Но они не могут выразить свои нервно-сенсорно-мышечные представления во внешней символической форме. Они не могут сообщать свои идеи друг другу иначе, нежели жестами, т. е. скорее знаками, чем символами. Следовательно, в их нервных системах идеи не могут реагировать друг на друга так, чтобы образовывать новые синтезы. Равным образом эти идеи не могут путем накопления передаваться от одного поколения к другому. Следовательно, каждое поколение обезьян начинает с того же, с чего начинало предыдущее. Нет ни накопления, ни прогресса.
Благодаря артикулируемой речи человеческий род достигает гораздо большего. Идеи переводятся в символическую форму и получают внешнее выражение. Таким образом, общение облегчается и становится многосторонним. Теперь идеи вторгаются в нервные системы извне. Эти идеи реагируют друг на друга внутри этих нервных систем. Одни уничтожаются; другие усиливаются. Образуются новые комбинации, достигаются новые синтезы. Эти достижения, в свою очередь, сообщаются кому-то другому, передаются из поколения в поколение. В относительно короткое время накопление математических идей далеко превзошло уровень творческих способностей (creative range) нервной системы человеческого индивида без содействия культурной традиции. С этого момента математический прогресс осуществляется скорее посредством взаимодействия уже существующих идей, чем посредством формирования новых понятий одной только человеческой нервной системой. На протяжении веков до изобретения письменности индивиды во всех культурах находились в зависимости от тех математических идей, которые наличествовали в их культурах. Так, математическое поведение индейца племени апачи является его ответом на стимулы, исходящие от математических идей, имеющихся в его культуре. То же верно и для неандертальца, и для жителей Древнего Египта, Месопотамии и Греции. Верно это и сегодня для представителей современных наций.
Итак, мы видим, что изначально математические идеи были порождены человеческой нервной системой миллион лет назад, когда человек впервые стал человеком. Эти понятия были чрезвычайно рудиментарными, и человеческая нервная система без содействия культурной традиции никогда бы не смогла выйти за их пределы вне зависимости от количества живущих и умирающих поколений. Прогресс стал возможен именно благодаря формированию культурной традиции. Благодаря передаче идей от человека к человеку, передаче понятий от поколения к поколению в сознании людей, нервные системы которых стимулировались, закрепились такие идеи, которые в результате взаимодействия образовали новые синтезы, которые, в свою очередь были переданы другим.
Вернемся теперь, в заключение, к некоторым наблюдениям Г.Х. Харди, чтобы показать, что его понимание математической реальности и математического поведения согласуется с предложенной нами здесь теорией культуры и, фактически, находит в ней свое объяснение.
«Я полагаю, что математическая реальность находится вне нас»24, – говорит он. Если, говоря «нас», он разумеет «нас, математиков, индивидуально», то он совершенно прав. Они [математические идеи] действительно находятся вне каждого из нас; они – часть культуры, в которой мы рождены. Харди чувствует, что «в каком-то смысле математическая истина есть часть объективной реальности»25 (курсив автора). Однако он также отличает «математическую реальность» от «физической реальности» и настаивает на том, что «чистая геометрия – это не картинка… пространственно-временной реальности физического мира». Какова же в таком случае природа математической реальности? Харди заявляет, что в этом вопросе «нет никакого согласия… ни среди математиков, ни среди философов»26. Решение предлагается нашей интерпретацией. Математика действительно имеет объективную реальность. И эта реальность, как настаивает Харди, не является реальностью физического мира. Однако в этом нет никакой тайны. Это – культурная реальность: тот род реальности, которым обладают правила этикета, правила дорожного движения, бейсбольные правила, английский язык или грамматические нормы. Итак, мы видим, что в математической реальности нет никакой тайны. Нам вовсе не нужно искать математические «истины» в божественном уме или в структуре Вселенной. Математика – это такой же вид поведения приматов, как и языки, музыкальные системы и уголовные кодексы. Математические понятия так же созданы человеком, как этические ценности, правила дорожного движения и клетки для птиц. Однако это вовсе не отменяет представления о том, что математические положения находятся вне нас и обладают объективной реальностью. Они действительно находятся вне нас. Они существовали до нашего рождения. Взрослея, мы находим их в окружающем нас мире. Однако эта объективность существует только для индивидов. Место математической реальности – культурная традиция, т. е. континуум символического поведения. Вместе с тем эта теория проливает свет на феномен новаций и прогресса в математике. Идеи взаимодействуют друг с другом в нервных системах людей и образуют таким образом новые синтезы. Если обладатели этих нервных систем отдают себе отчет в том, что произошло, то они называют это изобретением, как Адамар4*, или «творением», пользуясь термином Пуанкаре. Если же они не понимают случившегося, то они называют его «открытием» и полагают, что отыскали нечто во внешнем мире. Математические понятия независимы от индивидуального сознания, но целиком находятся в пределах сознания рода, т. е. в пределах культуры. Математическое изобретение и открытие – это всего лишь два аспекта того события, которое совершается одновременно в культурной традиции и в одной или нескольких нервных системах. Из этих двух факторов более значимой является культура; детерминанты математической эволюции находятся именно здесь. Человеческая нервная система – это всего лишь катализатор, делающий возможным культурный процесс.
Примечания
1* космические силы (фр.).
2* местом (лат.)
3* Эразм Дарвин (1731–1802) – английский врач, натуралист и поэт, дед Чарльза Дарвина. (Прим. ред.)
4* Адамар (1865–1963) – выдающийся французский математик. (Прим. ред.)
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: White L. The Locus of Mathematical Reality // The Science of Culture. P. 282–303.
1 Somerville M. Personal Recollection of Mary Somerville. Boston, 1874. P. 140–141.
2 Somerville M. Op. cit. P. 375; White A.D. A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. N. Y, 1896. Vol. I. P. 225.
3 Quored by Bell, 1931. P. 20.
4 Hardy G.H. A mathematician's Apology. Cambridge, 1941. P. 63–64.
5 Bridgman. P. 60.
6 Kasner Edw. and Newman J. Mathematics and Imagination. N. Y, 1940. P. 359.
7 Descartes R. Discourse on method. N. Y, 1901. P. 308.
8 N. Altshiller-Court refers to Durkheim's treatment of this point in «Geometry and Experience», (Scientific Monthly, January, 1945).
11 White L.A. Keresan Indian Color Terms (P-MA, 28: 559–563), 1943.
10 Einstein A. Space – Time, 1929.
11 Kasner Edw. and Newman J. Mathematics and Imagination. N. Y, 1940. P. 359.
12 Schrodinger E. Science and the Human Temperament. N. Y, 1935. P. 143.
13 «On the Nature of axioms». – Science and Hypothesis, Poincare. 1913.
14 Quored by Bell, 1937. P. 16.
15 Durkheim E. The Division of Labor in Society. N. Y, 1938. P. Ivi.
16 Durkheim E. La Prohibition de LTnceste et ses Origines. 1915. P. 424; see, also, 1938.
17 Einstein A. The World as I see It. N. Y. P. 58, 69, 57.
18 Hadamard J. The Psychology of Invention in the mathematical Field. Princeton, 1945. P. 50.
19 «Mathematical Creation». – Science and Method. Poincare. 1913. P. 387.
20 Ibid. P. 393.
21 Quored by Leuba. P. 240.
22 Goncourt Jornals. L. Galantiere, ed. Garden City. N. Y, 1937. P. 98.
23 Leuba J.N. The Psychology of Religions Mysticism. London, 1925. P. 241.
24 Hardy G.H. A Mathematician's Apology. Cambridge, 1941. P. 63.
25 Hardy G.H. «Mathematical Proof», (Mind, 38:1=25) 1929. P. 4.
26 Hardy G.H. Op. cit. P. 62–63, 65.
Перевод П.В. РезвыхУайт Л.А. Наука есть научная деятельность
«Наука есть разновидность человеческого поведения»
Наука не просто собрание фактов и формул. Это – превосходящий все остальные способ освоения опыта. Данное слово может соответствующим образом использоваться как глагол: некто осуществляет научную деятельность1*, т. е. осваивает опыт в соответствии с определенными допущениями и методиками. Наука – один из двух базовых способов освоения опыта. Второй – искусство. И это слово также может соответственно употребляться как глагол: художественную деятельность можно осуществлять точно так же, как и деятельность научную (one may art as well as science). Цель у науки и искусства одна: сделать опыт понятным, т. е. помочь человеку приспособиться к своей окружающей среде, чтобы он мог существовать. Однако несмотря на то, что наука и искусство упорно движутся к одной и той же цели, подходят они к ней с противоположных сторон. Наука имеет дело с частностями через посредство универсалий: дядя Том исчезает в массе негров-рабов. Искусство же имеет дело с универсалиями через посредство частностей: вся гамма негритянского рабства встает перед нами в лице дяди Тома. Искусство и наука, таким образом, охватывают общий опыт, или действительность, при помощи противоположных, но нераздельных полюсов.
Употребление слова «наука» в качестве существительного, однако, не является неоправданным. Слова «химия», «физиология», «история», «социология» и т. п. и правильны, и полезны. Как категории они происходят из двух источников. С одной стороны, они отражают различия, которые могут быть аналитически выявлены в пределах области реального: эрозия, дыхание, истерия, голосование и т. д. являются фазами или сегментами опыта, находящими свое отражение в категориях, соответственно, геологии, физиологии, психологии и политической науки. С другой стороны, разделение труда в обществе, существенное для нового времени, также находит свое отражение в тех же самых или сходных категориях. Это факт, который часто игнорируется. Психология – это категория, которая в такой же мере является отражением деления общества на резко различающиеся по своим занятиям группы, в какой она является выражением различий, которые могут быть аналитически установлены в ходе самого опыта («предмет изучения»). «Психология – это то, что делают психологи (т. е. гильдия работников, помеченных ярлыком «психолог»)»; такое определение столь же правомерно, как и формула «психология есть изучение сознания или поведения». Первое определение выражает социальную реальность, второе вытекает из природы данного предмета изучения.
Эта двойственная природа категорий становится очевидной при периодически повторяющемся протесте против разделения науки на «водонепроницаемые» отсеки, при невозможности сказать, является ли данное исследование историческим, социологическим или психологическим. К чему относится история «восстания» Джона Брауна: к психологии, социологии, экономике, политологии или истории? Ясно, что в равной степени к каждой из этих дисциплин. Точно так же различие между неживой природой, биологическим миром и культурой не может противоречить процессу деления на категории, заложенному в общественном разделении труда. Когда Харлоу Шепли изучает реакцию муравьев на различное количество тепла, поступающего от солнца1, кто он при этом – астроном или энтомолог? Ясно, что он способствует лучшему пониманию и насекомых, и звезд; данный термодинамический процесс имеет как энтомологический, так и астрономический аспекты. Д-р А.Э. Дугласе, астроном из университета Аризоны, установив взаимосвязь между количеством осадков и ростом деревьев на Юго-западе США, дал в руки археологам наиболее точный из всех имеющихся методов датировки доисторических находок в условиях отсутствия письменных свидетельств2. В этом случае «астроном» – через посредство климатологии и ботаники – превратился в археолога. Однако обычно «астрономом» считается любой член определенной (официальной или неофициальной) группы научных работников, возникшей в силу общественного разделения труда, даже если он способствует пониманию насекомых, роста лесов или смены индейских культур в той же степени, как и нашему знанию о небесных телах. Строго говоря, астрономия есть научное объяснение поведения небесных тел вне зависимости от профессиональной принадлежности того, кто этим занимается.
Привычка смотреть на науку как на обширную область, поделенную на ряд «полей», из которых каждое возделывается особой гильдией, имеющей соответствующее название, находит определенное обоснование в том, что это практично и удобно. Но такой подход приводит к затушевыванию сущности науки как способа объяснения реальности и к распространению путаницы в среде ученых, равно как и неспециалистов. Использование слова «наука» в качестве существительного ведет не только к спорам о сферах компетенции (например, в чьем ведении находится изучение правонарушений среди несовершеннолетних: социологии или психологии? кто должен изучать ископаемые окаменелости: геология или биология?), но и к таким вопросам, как: «является ли история наукой?», «является ли социология наукой?». Существует тенденция отождествлять «науку» с некоторыми из ее приемов. Например, в области химии можно проводить эксперимент, а в области астрономии делать точные прогнозы. Химия и астрономия – это «науки». В социологии же экспериментирование крайне ограничено, а в истории прогнозы встречаются реже, чем догадки. Поэтому принято говорить, что «история и социология – это не науки». Несмотря на то, что большая часть геологии более исторична, чем некоторые исследования в области человеческой культуры, имеет место готовность одну называть «наукой», а другой отказывать в этом статусе.
Коме того, проводится различие между естественными науками (часто называемыми лестным термином «точные науки») и «общественными науками». В таком различении содержится допущение, что между природой физической реальности и природой социальной реальности, присущей человеку, существует принципиальная разница. Это допущение ведет и к другому предположению (если только не содержит его косвенно): что данные о человеческом обществе, будучи существенно отличны ли от данных физики («точной науки»), действительно не поддаются научному осмыслению; следовательно, общественные науки и в самом деле вовсе не науки[3]; они не являются «научными» и не могут ими быть. Те же соображения, хотя и с меньшей резкостью, высказываются в отношении биологии: «Биология менее научна, чем физика, но более научна, чем социология». Приведенные допущения не только запутывают дело; они непозволительны. Основные допущения и приемы, заключающие в себе научный способ объяснения реальности, одинаково приложимы ко всем ее аспектам: и социально-человеческому, или культурному, и к биологическому, и к физическому. Это означает, что мы должны перестать смотреть на науку как на целостность, которую можно подразделить на несколько качественно разных частей: одни из них вполне научны («точные науки»), другие квазинаучны, а третьи лишь псевдонаучны. Мы должны перестать отождествлять науку с теми или иными ее приемами, такими как экспериментирование. Короче говоря, мы должны рассматривать науку скорее как способ поведения, способ объяснения реальности, чем как целостность самому по себе, как сегмент упомянутой реальности.
Наука различает живые, чувствующие существа, с одной стороны, и внешний мир, независимый от чувствующих организмов – с другой[4]. Реальность в этом контексте представляет собой взаимодействие организмов с внешним миром. Как таковой он может рассматриваться как единичный или как множественный. Его можно понимать как целокупность взаимодействия, или как опыт организма, а можно видеть в нем совокупность составляющих его частей. На уровне восприятия реальность распадается на чувственные впечатления: запах, вкус, цвет, звук и т. д. На понятийном уровне она анализируется с помощью символических инструментов – слов, математических знаков и т. д. Материя, энергия, время, пространство, движение и т. д. суть понятийные средства, при помощи которых мы анализируем действительность и посредством которых мы к ней приспосабливаемся. Поэтому материя, энергия, время, движение и т. д. являются не дискретными целостностями, а отдельными аспектами, или сторонами общей реальности. Мы можем также разделять всю сумму реальности (в той мере, в какой способны воспринять ее в опыте) на равноценные составные части, или «единицы», которые можно назвать явлениями. Опыт поэтому воспринимается нами, с одной стороны, как единое, целостность, а с другой стороны – как бесконечное число частей, или явлений.
«Целое и части» означает отношение. «Отношение» является еще одним понятийным средством, символическим инструментом, с помощью которого мы делаем опыт до известной степени понятным, и посредством которого наше приспособление к окружающей среде делается более эффективным. Явления соотносятся друг с другом. Но как?
«Любое явление, происходящее в мире, обусловливается пространственными координатами х, у, z и временно́й координатой t»3 Основная связь, или «интервал», между явлениями носит пространственно-временной характер. Если прежде пространство и время рассматривались как не зависящие друг от друга свойства внешнего мира, то теперь в них видят всего лишь аспекты базового и первейшего свойства – свойства пространства-времени. Как сказал Минковски, «те понятия пространства и времени, которые я желаю вам представить, возникли на почве экспериментальной физики, и именно там они сильны. Они фундаментальны. А дальше уже пространство как таковое и время как таковое обречены на постепенный уход в тень, и лишь своего рода союз двух названных начал, как правило, сохраняет самостоятельную сущность»4. Итак, реальность, выражаясь современным языком, предстает перед нами в виде четырехмерного континуума; реальность как процесс, в котором имеют место явления, носит пространственно-временной (или формально-временной) характер.
Таким образом, первостепенная и фундаментальная связь между явлениями – пространственно-временная. Но чисто логически мы можем отличать временной аспект данного процесса от пространственного; несмотря на то, что в действительности они неразделимы, мы способны заниматься любым из них в отдельности. Итак, мы можем различать три вида процессов: один основной (формально-временной) и два вторичных и производных (с одной стороны – временной, с другой стороны – пространственный, или формальный). В первом случае мы имеем дело с явлениями, которые связаны друг с другом пространственно-временными интервалами. Что касается двух других случаев, то в одном из них мы будем рассматривать интервал (или связь) исключительно во временном аспекте, во втором же – в аспекте исключительно пространственном, или формальном.
Научная деятельность должна приспособиться к структуре реальности; инструментарий науки должен иметь такую форму, а методы должны быть такими, чтобы эффективно осваивать реальность и делать ее понятной. Это означает, следовательно, что существует три способа научной деятельности: один из них охватывает пространственно-временное свойство реальности во всей полноте, а два дополнительных и производных способа связаны каждый с одним из двух аспектов данного свойства, а именно – с пространством и временем. Все в «науке», или научной деятельности, оказывается приписано к той или иной из перечисленных трех категорий; и нет никакого иного способа научной деятельности помимо этих трех.
«История» есть такой тип научной деятельности, при котором явления связаны друг с другом исключительно посредством временных отношений. Каждое явление уникально. Единственное, чего история никогда не делает, – она не повторяется: Линкольна убивают только один раз. Разумеется, сами по себе явления, составляющие историю, связаны друг с другом не только временными отношениями. Это с неизбежностью должно быть так, поскольку все виды отношений равным образом характеризуют единую для всех реальность. Однако в ходе «исторического исследования» мы произвольно избираем для рассмотрения соединительную ткань времени, и столь же произвольно игнорируем пространственную связь[5].
Данный процесс, сводящий конкретный опыт к искусственным абстракциям, или, говоря точнее, действие, замещающее конкретный опыт чувств понятиями, «свободными изобретениями человеческого интеллекта» (по выражению Эйнштейна)5, – не просто неизбежен, но в нем заключается самая суть научной деятельности.
«История», или временной аспект опыта, имеет единую протяженность с реальностью; это свойство является общим для явлений неживой природы, биологии и культуры. Звезды, Солнечная система, Земля, реки, свинец, гранит, растения и животные, биологические виды и отдельные особи, обычаи и институты – каждое из этого имеет собственную историю. Поэтому астрономия, физика, геология, биология, психология, социология и антропология являются, по крайней мере отчасти, историческими «науками». Между историей и наукой не существует ни антагонизма, ни даже различия: просто история является одним из способов научной деятельности вне зависимости от того, где он находит применение – в геологии или социологии. Если мы откажемся принять этот вывод, то вынуждены будем признать противоположное: «Астроном является ученым, если имеет дело с вневременным повторяющимся процессом, но если он занимается хронологической последовательностью явлений (например, историей солнечной системы), то больше не является ученым».
Явления связаны друг с другом пространственно, и мы можем воспринимать реальность через пространственные, или формальные, связи, игнорируя аспект времени.
Пространственные связи между явлениями могут рассматриваться либо как постоянные, либо как изменчивые. Явления или материальные объекты, взаимные пространственные связи которых рассматриваются как постоянные, составляют структуру. Данное свойство характерно для всех областей реальности. На уровнях неживой природы, биологии и культуры оно проявляется в таких формах, как атомы, молекулы, звезды, созвездия, планеты, орбиты, геологические пласты, элементы; скелеты, кости, мышцы, органы, тела, конечности; семьи, кланы, общества, грамматики, своды законов. Если же пространственные отношения, связующие ряд явлений или материальных объектов, рассматриваются как изменчивые, то мы говорим о функции. Данное свойство точно так же проявляется на всех уровнях реальности: в поведении атомов, молекул, атмосферы, небесных тел; в физиологических и психологических процессах, а также на супра-биологическом уровне – в культурных процессах. Таким образом, физик, химик, астроном, геолог, зоолог, ботаник, физиолог, психолог, социолог, лингвист, культурный антрополог и т. д. – все они имеют дело с пространственным, или формальным[6] (не-временным), аспектом реальности в виде структуры, функции или того и другого вместе.
Теперь мы подходим к третьему виду связи, или процесса, – пространственно-временному Он подобен двум предшествующим процессам, но отличается от каждого в отдельности. Как мы уже отмечали, все три вида связи всегда присущи любому ряду действительных явлений в любой области реальности. Временно́й процесс (или «история») – это селективный отбор явлений в соответствии с принципом времени. Пространственные связи, несмотря на их фактическое присутствие в данных явлениях, во внимание не принимаются: для истории развития мысли несущественно, где именно размышлял Ньютон – под яблоней или у себя в ванне. Точно так же, когда встает вопрос о пространственных связях, т. е. о структуре и функциях, – временные связи, которые в объективной реальности неотделимы от указанных явлений, в этом случае изымаются из них логическим способом: структуру кристалла, ржавление железа, дыхание, трусость, тайные общества – все это можно изучать без оглядки на часы или календари.
Но в пространственно-временном процессе одновременно важны как временные, так и пространственные связи. И когда говорится: «…[вышли] с Юга на рассвете… а Шеридан в двадцати милях», – то речь идет не о времени и пространстве. Обычный историк хочет знать не только о том, что Наполеон давал сражения, но и о том, где он их давал. Зоолог и этнолог интересуются не только распространением видов и культурных черт, но и их историей. Это примеры одновременного интереса и к временным, и к пространственным связям. Однако это не примеры пространственно-временных связей как таковых. Водород + кислород = водород + кислород; t + s = t + s. Но водород × кислород = вода (Н2O); t × s = ts. Так что пространственно-временно́й процесс не равнозначен пространственной и временной организации явления; это не сумма указанных факторов, а их произведение.
Стоит отметить, кстати, что во многих случаях, когда предполагаются как временные, так и пространственные связи, одни из них имеют значение только через посредство других. Например, толщина геологического пласта, измеренная в футах, указывает на его возраст, измеряемый в годах. Сходным образом распространение растительного или животного вида может указывать на его возраст: чем шире распространение, тем старше вид. А антрополог, используя тот же самый принцип, во многих случаях оказывается в состоянии реконструировать историю какого-нибудь орудия, мифа, обычая или института, исходя из его географического распространения6. И, конечно, наши часы измеряют время – посредством повторяющегося движения механизма в пространстве.
Но формально-временно́й процесс – это больше, нежели просто временные и формальные связи, взятые каждая в отдельности или одна через посредство другой. Это процесс, в котором как время, так и пространство (форма) имеют значение; процесс, в котором оба они интегрированы в одном неразделимом явлении.
Формально-временно́й процесс есть процесс эволюции, или развития. Он отличается от временного процесса, с одной стороны, и от формального – с другой. Этот процесс, как и остальные, присущ всему опыту и проявляется во всех сферах реальности: в неживой и живой природе, а также в культуре. Существует, например, эволюция звезд и космоса, эволюция живой природы и культуры. Этот эволюционный процесс отличается от временного и формального процессов тем, что в нем время и пространство заключены вместе, они слитны и нераздельны. Эволюция есть временно́е-изменение-форм. Сравнение этих трех процессов сделает каждый из них более выпуклым.
Временно́й процесс – процесс неповторяющийся. В последовательности, или процессе, временного (и только временного) характера каждое явление уникально; оно случается лишь однажды. Лишь однажды сформировались Скалистые горы; было только одно вюрмское оледенение; каждая капля дождя уникальна, каждое движение всякого живого существа отличается от любого другого его движения[7]; Джон Браун был казнен лишь однажды; каждое занятие женщин на курсах кройки и шитья – уникальное событие. Пространственный, или функциональный, процесс, будучи не-временным, является повторяющимся; горные системы могут сформироваться повторно, одно оледенение может следовать за другим, капли дождя падают снова и снова, вода замерзает, лед тает, и вода замерзает вновь, металл может быть расплавлен и переплавлен, обезьяны чихают, люди умирают, мятежников казнят, цены растут и падают и вырастают вновь, общества и клубы организуются в каждом веке. Эволюционный процесс, который носит отчасти временной характер, тоже является неповторяющимся[8]; рептилия становится млекопитающим лишь однажды, радий распадается лишь однажды, звезды «умирают» лишь однажды[9]. Рост также является пространственно-временным процессом; однако данный термин обычно применяется по отношению к индивидам, а не к классам. Рост – неповторяющийся процесс: человек бывает ребенком лишь один раз, второе детство – это уже нонсенс.
Для большей ясности стоило бы – даже ценой повторения – еще раз подчеркнуть существо только что сформулированных различий. Фактически каждое явление четырехмерно и занимает свое место в четырехмерном пространственно-временном континууме. Например, дождевая капля есть явление в процессе космической эволюции, и мы именно так можем ее рассматривать. Но мы можем также рассматривать ее и в других контекстах: в чисто временно́м контексте или в полностью вневременном контексте (в котором мы рассматриваем только изменение пространственных связей между дождевой каплей, землей, облаками и т. п.). Данные контексты, разумеется, суть нами же разработанные средства. Они произвольно выбранные точки зрения, исходя из которых мы наблюдаем и анализируем действительность; они те формы, те, так сказать, каналы, в рамках которых мы осуществляем научную деятельность.
Формальный процесс обратим, а также повторяем. Вода замерзает, лед тает; железо ржавеет, окисел железа разлагается; сено становится мясом; мясо может вновь стать сеном; революция и реакция – это циклические и противоположные процессы в обществе; цены растут и падают, и т. д. Однако временной порядок явлений остается неизменным; его нельзя обратить вспять. Это только в «Зазеркалье» королева пронзительно кричит, прежде чем уколет себе пальцы, а Алиса раздает пирог до того, как его разрежет. Эволюционный процесс, будучи временным, равно как и формальным, точно так же является и необратимым. Однажды выбросив энергию, звезды не поглощают ее вновь; млекопитающие не возвращаются к состоянию рептилий, время расцвета рыцарства никогда не сможет вернуться; а просьба «сделай меня опять ребенком хоть на вечер» невыполнима.
Исторический процесс и процесс эволюционный сходны в том, что являются временными, т. е. неповторяемыми и необратимыми. Но в то время как исторический процесс – просто временной, эволюционный процесс является еще и формальным: это временна́я-последовательность-форм. Исторически Эли Уитни и изобретение хлопкоочистительной машины – явления неразделимые, с точки зрения хронологической последовательности. Но если бы Уитни умер еще в колыбели, эволюционный процесс, выражающийся в технологии, все равно произвел бы на свет машину для очистки хлопка. Точно так же, несмотря на то, что с освобождением рабов исторически связывают Линкольна, а с формулированием определенных биологических принципов – Дарвина, процессы эволюции все равно бы развивались, но один, политико-экономический, – без Линкольна, а другой, процесс эволюции мысли, – без Дарвина. Изобретение математического исчисления, совершённое почти одновременно и независимо друг от друга Ньютоном и Лейбницем, было естественным выражением процесса развития, т. е. то было возникновение новой математической формы из предшествующих ей форм. И как не зависело изобретение исчисления исключительно либо от Ньютона, либо от Лейбница так, не зависело оно непременно и от них обоих вместе; оно случилось бы в конце концов, даже если бы и Ньютон, и Лейбниц умерли еще в детском возрасте. Развитие математики, как и развитие техники или медицины, – это эволюционный процесс[10]: новые формы вырастают из предшествующих форм. Но в чьем лице и в чьих работах должна появиться новая форма, а также где и когда она должна появиться, – это вопрос, относящийся исключительно к историческому контексту. С точки зрения эволюционного процесса любое историческое явление случайно и в определенном смысле непредсказуемо. Мы можем предсказать, что способ лечения рака будет найден, но предсказать, кто и когда сделает это открытие, невозможно. То, что европейские государства в недалеком будущем будут снова втянуты в большую войну, является максимально надежным предсказанием: развитие технических, экономических, политических и военных сил делает новую войну неизбежной. Но кто высечет искру, которая разожжет большой пожар, а также когда и где это случится (какой эрцгерцог или какое должностное лицо будет застрелено, когда, где и кем) совершенно невозможно сказать. Прохождение звезды, вытягивающей из солнца гигантскую раскаленную нить, из которой сформировались (если это так) планеты нашей солнечной системы, является историческим фактом; процесс этот – исторический, в нем специфические и особо уникальные явления имеют место в чисто временном контексте. Но это совершенно иной процесс, отличный от космической или галактической эволюции, иллюстрируемой, например, равномерным распределением энергии или превращением материи в энергию, или угасанием звезды. Точно так же в сфере биологии: рассказ о конкретных странствиях различных биологических видов и человеческих рас по поверхности земли, о борениях, взаимных смешениях, превратностях судьбы и т. д. – это совершенно иная история, отличающаяся от сухого описания эволюционного развития.
До сих пор мы говорили о неорганической, органической и надорганической сферах, или уровнях, реальности, так, как если бы эти различия считались само собой разумеющимися. Однако ради полноты и ясности желательно сказать на этот счет несколько слов.
Различия между данными уровнями, или стратами, реальности действительны и представляют собой фундамент науки. Феномены указанных трех уровней отличаются друг от друга не тем, что одни составлены из элементарной субстанции одного вида, а другие – из субстанции другого вида. Они различаются в зависимости от того, каким образом их составные части организованы в соответствующие модели, или формы. В основе своей всю реальность можно представить как состоящую из общего вещества; различия разнообразных проявлений реальности обусловлены различием форм, в которых реальность предстает перед нами. Среди бесконечного ряда конкретных вариантов форм существуют их классы, или виды. «Физическое», «биологическое» и «культурное» – это метки для трех качественно различных и научно значимых классов форм реальности.
Категория «физического» состоит из неживых явлений или систем; категория «биологического» – из живых организмов. Категория, или порядок, «культурных» феноменов составлена из явлений, основывающихся на особенности, присущей человеческому виду, а именно на способности использовать символы. Эти явления суть идеи, верования, языки, орудия, утварь, обычаи, чувства и институты, которые и составляют цивилизацию, или – если использовать антропологический термин – культуру любого народа, независимо от времени, места или уровня его развития. Культура переходит от одного поколения к другому или свободно заимствуется одним племенем у другого. Ее элементы взаимодействуют друг с другом в соответствии с присущими ей принципами. Культура, таким образом, представляет собой надбиологический, или внетелесный, класс явлений, процесс sui generis. Более подробно мы проанализируем данную категорию явлений в следующей главе «Символ».
Даже поверхностное рассмотрение трех выделенных нами категорий выявляет тот факт, что биологический и культурный феномены – всего лишь специфический вид организации явлений, соответствующий, с одной стороны, неживой, а с другой – биологической вкупе с физической категориям. Например, растение или животное – всего лишь особая форма организации углерода, кислорода, кальция и т. п. Точно так же культурный феномен – это всего лишь проявление того, как специфическим образом организованы биологические (человеческие существа) и неживые феномены. Таким образом, явления биологического уровня (поскольку уровни, или страты, – это то, чем упомянутые категории являются в реальности) можно рассматривать в понятиях феноменов неживой природы: растение или животное – это столько-то углерода, азота, водорода; оно имеет вес, падает, как камень, может быть заморожено, видоизменено под действием огня и т. д. Сходным образом культурное явление – например, присягу, даваемую христианином при вступлении в должность – можно рассматривать, исходя из жестикуляции и произносимых слов, а это в свою очередь вместе с книгой, на которой дается клятва, трактовать с точки зрения акустики, механики, физических и химических свойств Библии, и т. д.
Но тот факт, что феномены одной категории (исключая, разумеется, первую, т. е. неживую природу) могут быть «сведены» к феномену или феноменам другой, стоящей ниже, не разрушает категорий как таковых, и даже не уменьшает их определенности. Метеоры, пули, птеродактили, птицы, белки, рыбы, летучие мыши, пчелы и самолеты «летают» по воздуху. Физик мог бы каждое из этого рассматривать как материальное тело – с точки зрения массы, количества движения, ускорения, атмосферного сопротивления и т. д. Если рассматривать их просто как материальные тела, то тот факт, что одни из них живые, а другие нет, безусловно, не имеет значения. Но из одного того, что данное различие не является значимым для физика, еще не следует, что оно не имеет значения для остальных разделов науки. Напротив, организацию явлений невозможно понять в полной мере до тех пор, пока они интерпретируются на уровне их собственной организации. Известно, разумеется, что пчелы, пули и летучие мыши состоят из атомов и молекул, и данный факт имеет определенное значение. Но мы не в состоянии оценить различие между пчелами и пулями, с одной стороны, или пчелами и летучими мышами – с другой, исключительно на основании их физической организации. Живые организмы создают особый порядок материальных систем и должны рассматриваться с этой точки зрения. Культурные системы состоят из психофизических явлений, но мы не можем понять такую вещь, как принесение присяги должностным лицом, и не можем отличить ее от пользования рецептом приготовления пива – если ограничиваемся знанием, что и то, и другое состоит из нейро-сенсорно-мышечных реакций, а они в свою очередь – из молекулярных и атомных частиц и процессов. Как бы ни помогало уяснению сути сведение систем одного уровня к явлениям более низкого уровня (что, безусловно, ценно), всякий порядок явлений, всякий вид систем должен быть понят также и на своем собственном уровне.
Таким образом, мы видим, что есть три качественно разных уровня, или три страты, феноменов: культурный, характеризуемый наличием символов; биологический, характеризуемый клеткой; и физический, характеризуемый атомом, протоном, электроном, волной или какой-либо еще единицей или единицами, которыми оперирует физик.
Существуют, однако, случаи, когда нам мало установить различия между тремя упомянутыми уровнями. Мы можем захотеть выяснить, как соотносятся между собой один и другой уровень. Нет нужды говорить, что исследования такого рода так же правомерны и потенциально полезны, как и любые иные. Например, биохимия исследует связи между живой и неживой природой. Сходного рода поиски направлены на соотношение между уровнем биологии и уровнем культуры. Взять, к примеру, эдипов комплекс в психоанализе. Любовь мальчика к своей матери, ненависть или враждебность к отцу, конечно, суть реакции его организма. Но эти отношения, помимо прочего, являются функцией культуры, в которой он родился. Его культура не только задает направление выражению указанных эмоций, но и играет определенную роль в их появлении. Отношение мальчика к родителям не бывает одинаковым в патриархальном обществе и обществе, организованном матрилинейно, или в таком обществе, которое в равной мере признает обе линии наследования. Таким образом, Эдипов комплекс или комплекс Электры, как и все другие примеры человеческого поведения (т. е. человеческого в отличие от не-человеческого, или до-человеческого; в чихании, например, нет ничего специфически человеческого), состоят из элементов, почерпнутых из двух разных категорий: биологической и культурной. Формула человеческого поведения такова: Человеческий организм × Культурные стимулы → Человеческое поведение.
Изучение эрозии почвы может выявить связь между такими вещами, как приемы обработки земли или выпаса скота, заготовка древесины, це́ны на строительные материалы, восстановление лесных массивов, количество и частота выпадения осадков, естественные и искусственные дренажные системы, ветры и законодательство. Поиски средства, призванного уничтожать вредителей растений или животных, могут затронуть связи между всеми тремя уровнями: ценой самого средства, биологическими организмами и химикатами, способными их убить.
Здесь вновь – рассматриваем ли мы реальный мир с точки зрения отдельных категорий феноменов (уровней феноменов) или же с точки зрения отношений между этими категориями – все зависит от наших намерений и целей. Оба подхода одинаково оправданны и потенциально плодотворны.
Суммируя сказанное, мы видим, что перед нами две классификации реального мира, пересекающиеся под прямым углом: одна имеет отношение к структуре (атом, клетка, символ), другая – к процессу (временному формальному и формально-временному). Это дает нам девять категорий, на которые – как показывает приводимая ниже схема – весь реальный мир и все способы научной деятельности могут быть логично и последовательно поделены.
На уровне неживой природы находятся история космоса и история галактики (такие, какие они есть или какими могли быть), история нашей Солнечной системы, история Земли, континента, горной цепи, история реки или даже снежинки, заключенные в чисто временной контекст. В формально-функциональном контексте находятся вневременные и повторяющиеся, структурные и функциональные аспекты астрономии, геологии, химии и физики. А в главнейшей, формально-временной, категории, по отношению к которой остальные две являются всего лишь аспектами, мы имеем космическую, галактическую, звездную7 и солнечную эволюцию, а также распад радиоактивных веществ.
На биологическом уровне, в чисто временном контексте, помещаются история растений и животных, родов, видов и особей (как относящихся, так и не относящихся к людям). Возможно, более всего в этой категории для нас важны человеческие существа: нас весьма интересуют проблемы происхождения, распространения, вымирания или смешения разных рас и родов человечества. Но немаловажен также и аналогичный интерес к растениям, а также низшим по отношению к человеку животным. В формально-функциональную категорию у нас попадают исследования морфологии и функции; сюда же относятся вневременные, повторяющиеся аспекты анатомии, физиологии и психологии. А в формально-временной категории мы видим эволюцию биологических форм в целом, эволюцию родов, видов и их частных разновидностей. Развитие отдельной особи также входит в эту категорию.
Биографию, или историю, человеческой особи в большинстве случаев следует рассматривать как относящуюся и к биологическому, и к культурному уровню, поскольку наш интерес к человеческой особи редко (если вообще бывает) отделен от культуры, в которой эта особь и реализует свое человеческое существование. То же относится и к знаменитым особям из низшего по отношению к человеку мира животных или растений: корова, ставшая причиной чикагского пожара, гуси, которые спасли Рим, волчица, вскормившая Ромула и Рема, Боевой Корабль3*, болиголов, погубивший Сократа, – каждое из этого известно только потому, что входит в контекст культурной истории человечества.
На культурном уровне нашей схемы находится культурная история, т. е. рассмотрение наций, царств, племен, институтов, орудий, идей, верований и т. д. во временном контексте. К формально-функциональному контексту принадлежат исследования по «социальной морфологии» в социологии, культурной антропологии и других «общественных науках». Сюда относятся так называемые «функционалистские школы» в культурной антропологии (Радклифф-Браун, Малиновский, их ученики и сотрудники) и «Чикагская школа» в социологии (представленная Робертом Парком, Э. Бургессом и их учениками). В основной категории – категории эволюции культуры – в настоящее время фактически ничего нет. После решительной и ожесточенной борьбы философия эволюции завоевала биологическое поле, но с культурного уровня она – после некоторого непродолжительного успеха – была изгнана. Немногие титаны, вроде Герберта Спенсера, Э. Б. Тайлора и Льюиса X. Моргана, в разгар эволюционистского «бума» второй половины девятнадцатого века оказались способны занять культурное поле на какое-то время. Но антиэволюционисты вновь завладели этим полем и с успехом удерживали его, начиная с рубежа веков. Разумеется, и Морган, и Спенсер, применяя свою философию, совершали ошибки, но ошибка при использовании орудия еще не делает его бесполезным. Однако культурные антропологи – и многие социологи – вместе с ошибками некоторых эволюционистов отбросили и саму философию эволюционизма: вместе с водой выплеснули ребенка. Тем не менее, победа антиэволюционистов на культурном уровне – только временная. С развитием науки об обществе базовая научная и философская концепция, согласно которой реальность носит формально-временной характер, пробьет себе дорогу на культурном уровне, как это уже произошло на уровнях живой и неживой природы.
Следует отметить, конечно, что общепринятые названия конкретных «наук» не вполне соответствуют нашей категориальной системе. Но это довольно понятно: термины физика, зоология, социология и т. д. вошли в обиход, когда наука уже сложилась, и сложилась более или менее случайно. Понятия время и пространство существовали задолго до того, как обнаружилось, что время и пространство – всего лишь аспекты некой третьей субстанции, для которой нет более подходящего названия, чем пространство-время. Однако тот факт, что названия конкретных «наук» не соответствуют нашим девяти категориям, никоим образом не обесценивает категории как таковые. О зрелости науки в любой отрасли знания можно довольно точно судить по ее словарю: когда некая «наука» становится зрелой, она вырабатывает собственную терминологию. Это широко проявилось на примере физических и биологических наук. И такие слова, как инстинкт, интеллект, раса, общество, оказываются сейчас настолько неудобными для употребления, что, вероятно, вскоре уступят место более адекватной терминологии.
Для научного работника такие термины, как психология, ботаника, химия и т. д., вне всякого сомнения, будут оставаться полезными и удовлетворительными, пока дальнейшее разделение труда и специализация не потребуют с необходимостью новых терминов. Но для мыслителя, для философа науки необходимы новые инструментальные термины. Я не претендую на то, чтобы предлагать названия для наших девяти категорий. Но – поскольку за ними стоит реалистичный и логический анализ исследовательского поля – представляется вероятным, что если данные категории будут все более и более утверждаться в систематическом мышлении, то в конечном итоге они получат названия.
Примечания
1* В ориг. «one sciences» (см. также выше: «science is sciencing»; «mind is minding» и др.). Однако русский язык в данном случае не дает возможности вслед за автором создать неологизм, произведя глагол и отглагольное существительное непосредственно от существительного «наука». То же самое (см. ниже) касается существительных «разум» и «искусство».
2* В ориг. «Welsh rabbit» – название блюда, представляющего собой гренки с сыром.
3* Кличка знаменитого американского рысака.
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: White L.A. Science is sciencing // White L.A. The Science of culture: A study of man and civilization. N. Y, 1949. P. 3–21.
1 Shapley H. Thermokinetics of Liometopum apiculatum Mayr // Proceedings, National Academy of Sciences. Y 6. 1920. P. 204–211; idem. Note of the Thermokinetics of Dolichoderine Ants // Ibid. Y 10, 1924. P. 436–439.
2 Douglass A.E. The Secret of the Talkative Tree Rings // National Geographic Magazine. 1929. Y 56. P. 737–770.
3 Einstein A. Space-Time // Encyclopaedia Britannica. 1929. P. 107.
4 Minkowski H. Space and Time // The Principles of Relativity. L., 1923. P. 75.
5 Einstein A. Physics and Reality // Journal of the Franklin Institute. 1936. V. 221. P. 350 ff; idem. The World as I See It. N. Y, 1934. P. 33.
6 Kroeber A.L. The Cultural-Area Concepts of Clark Wissler // Methods in Social Science. Chicago, 1931.
7 Jeans J. et al. The Evolution of the Universe // Appendix, Report of the Centenary Meeting, British Association for the Advancement of Science. 1931; Russell H.N. Stellar Evolution // Encyclopaedia Britannica. 1929.
Перевод И.Ж. КожановскойНидхэм P. Символическая классификация
Предисловие
Цель этой небольшой монографии – снабдить коллег-студентов, изучающих антропологию, кратким и простым вводным текстом по символической классификации.
За последние более чем три века было опубликовано множество сочинений, посвященных природе и интерпретации символов, однако относительно редко обращалось особое внимание на те интегрированные формы, в которых символы используются при классификации. При рассмотрении этого аспекта главными становятся вопросы: как символы связуются друг с другом так, что образуют схемы или модели классификации, феномены какого рода объединяются в классы по символическим категориям и для каких целей используются эти воображаемые системы.
Сравнительные исследования показали, что во все периоды истории и в любой части мира имеется замечательное сходство в формах символической классификации, а также в способах применения этих классификаций обществами весьма различных видов. Важная задача антропологии – продемонстрировать эти общие черты и попытаться их объяснить. Настоящее сочинение намечает некоторые из наиболее широко распространенных пунктов систематического сходства, дает обзор определенных теорий, пытающихся их осмыслить, и выделяет ряд проблем, с которыми сталкивается студент в этой области исследования. Хотя книга писалась специально для подготовительных курсов в Соединенных Штатах, ее содержание было изложено в курсе лекций, прочитанных аспирантам, изучающим социальную антропологию в Оксфордском университете; и их реакция показала, что этот курс достаточно полезен – в своих пределах, чтобы служить скромным вкладом в данный предмет. В конце книги даны конкретные пункты анализа и выделены проблемы, рассмотрения которых я не встречал в других антропологических трактатах о символизме.
Некоторые наиболее интересные работы по различным аспектам символизма написаны не на английском языке. Однако в настоящем вводном тексте ссылки по большей части ограничены публикациями, доступными по-английски. Там, где непосредственно цитируется источник на голландском или французском языках, автор указывается, но библиографическая ссылка может оказаться не приведенной. Многие из важнейших цитируемых монографий опубликованы в Соединенных Штатах в широкодоступных изданиях.
Введение
Слова «символ» и «классификация», наряду со связанным с ними понятием «категория», вовсе не являются чем-то само собой разумеющимся. Много написано о том, какой смысл им следует придавать, однако в результате всех усилий они лишь стали еще более трудными и темными. Однако мы должны пользоваться этими словами и дадим им более или менее произвольные определения, которые послужат нам для наших целей.
Скажем, что символ есть то, что обозначает нечто другое, например, подобно тому, как корона обозначает монархию или орел – Соединенные Штаты. Классификация – это систематический ряд классов, класс же понимается как понятийная группировка предметов (книг, женщин, гор) по частным соответствиям, тем или иным образом их объединяющим. Наконец, категория – это наименование абстракции, которая может быть либо категорией рассудка (например, такие понятия как «пространство» и «время», рассматриваемые как существенные для всякого мышления), либо культурной категорией (например, такие понятия как «дядя» или «Президент») и которая имеет ограниченное языковое или общественное приложение.
Мы не можем мыслить о мире, включая и человеческое общество, не разделяя его на классы: например, имея дело с птицами, мы пользуемся классификацией, включающей такие категории, как «орел», «альбатрос», «малиновка». Это практическая классификация; она используется в научных целях или для идентификации в обыденной речи. Каждая категория различает класс птиц, которые сходны между собой (например, орлы) и как класс непохожи на других птиц (например, альбатросов). Когда мы применяет подобную классификацию к естественной истории, мы пользуемся словами-категориями для того, чтобы указать на самих птиц как природные объекты и с целью сказать что-то о птицах.
Однако птицы могут составить также и часть символической классификации, и в этом случае птицы интересуют нас не сами по себе, а лишь как средство сказать что-то о других вещах. Так, орел обозначает нацию, альбатрос – стеснение, от которого мы не в силах избавиться, малиновка – традиционные радости Рождества в Англии. В форме символической классификации, обычно известной как тотемизм, различные птицы (в числе прочих живых существ и природных феноменов) могут обозначать различные социальные группы, такие как кланы. Члены определенного клана могут рассматриваться, например, как орлы, и они иногда настолько отождествляют себя с птицами, что либо ведут свое происхождение от них либо говорят, что сами они – орлы или что они обладают характером орлов.
Этот пример показывает, что противопоставить практическую классификацию и символическую классификацию значит установить довольно грубое и скоропалительное деление. Наименовать и различить такие социальные группы, как кланы, которые могут быть влиятельными корпорациями с противоположными интересами – конечно, дело вполне практическое. Более того, зачастую сами символические предметы оказываются на свой лад практическими: как пишет Хокарт, «храмы так же утилитарны, как дамбы и каналы, поскольку они необходимы для процветания» (р. 217). Тем не менее есть разница между категорией «орел» как обозначением класса птиц и «орлом» как эмблемой или именем для других предметов, птицами не являющихся, таких как нация, клан или определенные добродетели. Относительно того, как следует определить это различие, антропологические мнения разделились, и здесь не место рассматривать столь трудную и содержательную тему. Однако наши примеры дают нам достаточное представление о характере различения, чтобы позволить нам двигаться дальше.
Вопрос о том, что в действительности делают символы, о том действии, которое они производят на индивидов или на коллективы членов социальных групп в целом, отличен от вопроса об их артикуляции в системы классификации, однако в свете позднейших теорий классификации необходимо прежде всего высказаться на эту тему. Разумной точкой зрения, которой сто́ит придерживаться, является следующая, предложенная Уайтхедом: «Цель символизма – усиление важности того, что символизируется» (р. 63). Против этого высказывания и того, что из него следует, возможны возражения, но для начала утверждения Уайтхеда будет достаточно. Орел представляет Соединенные Штаты, хотя у нации нет клюва, перьев, шеи и она не несет яйца; в честь прибытия государственного деятеля раздаются артиллерийские залпы, хотя выстрелы не имеют цели, а в стволах нет снарядов; на Западе на похороны надевают черное, хотя этот цвет не имеет никакого практического преимущества перед прочими в отношении к тому, что должно произойти. В каждом из этих случаев поведение является символическим, поскольку оно усиливает или отмечает важность предмета: могущества нации, дипломатических отношений с иностранным государством, утраты умершего.
В человеческом обществе могут быть важны многие вещи, и можно ожидать, что в любом общественном конгломерате они будут отмечаться посредством символов, сосредотачивающих внимание на этих вещах, а также, вероятно, указывающих на то, какого рода важностью они обладают. Можно доказать, что этот символизм необходим для руководства общественной жизнью даже в самых что ни на есть прагматических культурах. Во всяком случае, является фактом, что символизм универсален и его находят во всех человеческих обществах. Объяснение этой универсальности, предложенное Дюркгеймом, состоит в том, что всякая социальная группа зависит в своем существовании от определенных ценностей, разделяемых ее членами; эти ценности являются объектами общественных чувств; однако без символов, т. е. без установления предметов, обозначающих эти ценности, данные чувства могли бы иметь лишь неустойчивое существование. Таким образом, в соответствии с этим взглядом, функция общественных символов – не просто усиливать и отмечать важность того, что символизируется, но также вызывать и поддерживать эмоциональную связь с тем, что объявляется важным в рассматриваемой социальной группе. Эта операция необходима главным образом потому, что люди, как можно утверждать, внутренне неохотно подчиняются общественному принуждению. Так, Уайтхед подчеркивает, что существуют индивидуальные мотивы действия, не подвластные обязательствам общественного подчинения. Именно для того, чтобы устранить это «разложение» закрепленных реакций, пишет он, различным целям общественной жизни дается символическое выражение (р. 65–66).
По этим причинам символизм необходим вдвойне: чтобы отметить то, что общественно важно, и чтобы побудить людей? осознающих те ценности, ради которых они живут, подчиняться.
Глава 1 Формы классификации
Из предпосылки, что символизм общественно необходим, не следует, что все общества с необходимостью будут применять одни и те же формы символической классификации, и этого фактически не происходит.
Главное различие следует провести между иерархическими классификациями, в которых важности и распространенности категорий соответствует вертикальная дифференциация рангов, подобно армейским чинам, и теми классификациями, в которых имеется разделение на некоторое количество более или менее равных символических классов. Поскольку второй вид классификаций проще и более легок для сравнения, а также является чрезвычайно общим по своему распространению в мире, кратко рассмотрим несколько примеров в соответствии с количеством разделений, производимых в каждой из них.
Два
Основным типом того, что можно было бы назвать классификацией посредством деления, является классификация, предпринимаемая дуализмом. Есть два способа это сделать. Один – иметь две главные категории, по которым классифицируется все. Знаменитым примером такого метода является классическая китайская классификация с помощью Инь и Ян. Инь обозначает женское, темное, слабое, ночь, луну, землю и т. д., в то время как Ян обозначает мужское, светлое, сильное, солнце, небо и т. д. Согласно Гране, это всеобщая и неограниченная классификация, так что все в обществе или в мире природы обозначается либо как Инь, либо как Ян.
В области социальной организации двойная классификация посредством деления часто встречается в форме так называемых долей (moieties) (франц. moitie – половина): все общество делится пополам, и каждый индивид или группа принадлежат к одной или другой половине. Так, племя майуок в Калифорнии обычно делилось на долю Земли и долю Воды: обе экзогамны, т. е. члены каждой должны вступать в брак за пределами своей доли и, следовательно, как правило, с членами другой. Это двойное разделение не было только социальным, но вся природа разделялась по категориям земли и воды. Эта классификация не была тем, что можно принять за таксономическое деление, имеющее место в естественной истории, поскольку наземные животные вроде койота и оленя были отнесены к половине Воды. Отдельные человеческие индивиды были связаны с долями не только через группы (роды), к которым они принадлежали, но и через свои личные имена; обычно они относились к одушевленным или неодушевленным предметам или природным явлениям, так что и своими именами люди также принадлежали либо к водной, либо к земной части предметов. Классификация с помощью личных имен, в свою очередь, тоже не была простым отражением таксономического деления, имеющего место в естественной истории, так как имена содержали порой отсылку к рукотворным предметам, а сами эти предметы причислялись либо к Воде, либо к Земле. С помощью таких средств все сколько-нибудь важное в мире было помещено в один или другой из двух великих символических классов.
Следующий тип дуализма, наиболее обычный (Needham, 1973a), – тот, в котором принцип классификации усматривается не в двух больших классах, метафизических или социальных, а в символическом соединении категорий в пары. Например, у племени Пурум, проживающем на индо-бирманской границе, мы находим противопоставительные пары, подобные следующим (линия разделения обозначается косой чертой): левое/правое, зад/перед, семья/чужаки, отдающие в жены/берущие в жены, мужское/женское, небо/земля, боги/смертные, жизнь/смерть и т. д. (Needham, 1962a, р. 96). Этот ид разделения не подразумевает, что всякая отдельная категория принадлежит в абсолютном смысле либо к одному, либо к другому типу, подобно принятому у майуок разделению на Воду и Землю. Он в значительной мере относителен: т. е. какая-то группа может выступать как отдающая-в-жены по отношению к одной группе, но вместе с тем – как берущая-в-жены по отношению к другой, и символические атрибуты этих групп будут соответствующим образом меняться. Сходным образом какой-то человек может ассоциироваться с правым в одном контексте и с левым – в другом. Постоянное деление надвое – элементарный способ символической классификации, идентифицирующий отдельные категории предметов посредством соответствующего контексту противопоставления. В логических терминах можно было бы сказать, что каждая пара противоположностей сама по себе образует маленькое родовое понятие, в котором две дополнительные по отношению друг к другу категории суть видовые отличия. Следующим интересным моментом в этой форме двойной классификации является то, что в каждой паре одна категория определяется как в некотором отношении превосходящая другую. Понятийное единство контекстуального родового понятия выражается, как отмечает Бейдельман, рассматривая схему этого вида у нгулу своего рода парным неравенством (Beidelman, 1964, р. 386). Двойное разделение, таким образом, не только классифицирует; оно также служит распределению категорий по рангам. Итак, классификация посредством деления, даже в своей простейшей форме, позволяет осуществлять те же понятийные операции, что и иерархическая классификация, но только путем установления не абсолютной, а относительной дискриминации.
Три
Кагуру восточноафриканский народ, говорящий на банту, применяют символическую классификацию, общий характер которой дуалистический. Они мыслят определенные права и обязанности, общественные группы, свойства и направления в терминах противоположения (Beidelman, 1973, р. 133); например, право пользоваться чужим имуществом и доходами от него/политическое право селиться на земле (to land), отцовский клан/материнский клан, чистота/грязь, восток/запад (ibid., p. 151–152). Однако на основе этого двойного деления они применяют также тройную классификацию. Определенные сущности занимают промежуточную или маргинальную зону «между двумя категориями существования, обычно отделяемыми друг от друга» (Beidelman, 1966b); например (промежуточные категории помещены в косых чертах между противоположностями) живые/тени/Бог, семья/ родичи/враги, земля/горная местность/небо, жизнь/смерть/сверхъестественное существование.
В каждом примере средний тип людей или вещей соединяет в себе свойства, которые обычно существуют в отдельности. Действительно, человек ежедневно имеет в виду удержание двух вещей отдельно друг от друга посредством введения между ними какой-то другой вещи. В этом случае деление на противоположности утверждается и находит выражение с помощью введения категории промежуточного типа.
Четыре
Вероятно, самым знаменитым случаем классификации посредством деления на четыре является четырехсекционная система, лучше всего известная в современной социальной антропологии по каррьера и соседним с ним народам западной Австралии. Общество разделено на четыре наименованные секции, и каждый отдельный член общества от рождения принадлежит к той или иной секции и остается в ней в течение всей жизни. Браки регулируются таким образом, что мужчина или женщина, принадлежащие к данной секции, должны вступать в брак с индивидом, принадлежащим к определенной другой секции; дети от этого брака не принадлежат ни к материнской, ни к отцовской секции, но к определенной секции в другой паре секций, между членами которых заключаются браки (см.: Needham, 1974, р. 111–112). Однако четырехсекционная система – не просто установление социальных подразделений или средство регулирования браков: это метафизическая классификация вселенной.
Г.Г. фон Бранденштайн обнаружил в именах секций и в приписываемых им свойствах скрытую типологию, использующую для классификации пары противоположных стихий (elements) или темпераментов. Важнейшие противоположения, делаемые в ней, таковы: активное/пассивное, хладнокровное/теплокровное, абстрактное/конкретное. С помощью этих средств конструируется чрезвычайно всеобъемлющая схема, в которой люди, животные, растения, природные стихии и предметы классифицируются по четырем понятийным подразделениям. Они таковы: (1) активное, хладнокровное, абстрактное; (2) пассивное, хладнокровное, абстрактное; (3) активное, теплокровное, конкретное; (4) пассивное, теплокровное, конкретное.
Эти подразделения, каждое из которых обозначено именем одной из «секций», в совокупности образуют четырехчленную классификацию посредством деления, применимую к чему угодно. Однако никогда нельзя полагать, что мы узнаем, как именно будет классифицирован тот или иной отдельный предмет. Схема вовсе не действует в соответствии с более или менее общепринятыми критериями эмпирического характера.
Например, членам одной секции приписывается горячий и дикий характер, а членам другой – кроткий и почтительный; однако эти две секции заключают между собою браки, так что, выражаясь в терминах генетики, их члены являются смешанными по своим психическим конституциям. Любой индивид в любой секции имеет родителей из обеих секций, и таким образом при формировании его собственной личности служит объектом влияния обоих характеров. Но не для аборигенов. Более того, эта классификация, вообще говоря, не является жесткой, и отдельный предмет или качество могут быть классифицированы по одному подразделению классификации на основе данного противоположения и по другому на основе другого.
Пять
Пример деления на пять можно найти в традиционных символических представлениях Явы. Согласно Ж.Ф. Дьювендаку человеческое общество рассматривалось здесь как пронизанное другими феноменами и образующее великое единство существования. Общественное и экономическое положение человека было частью космического порядка.
В соответствии с этим представлением весь комплекс общества и природы был разделен на пять символических классов; четыре ассоциировались со сторонами света, а пятая – с центром. Каждому из этих больших подразделений принадлежал свой цвет, металл, день (пятидневной) недели, характер, профессия, определенные товары, архитектурные детали, природные явления и качества:
1. Восток, белое, серебро, Леги (день недели), скрытный, земледелец, пища, сад, веранда, ветер, вода, прохладное, благоприятное.
2. Юг, красное, suasa (сплав меди и золота), Паинь (день), жадный, торговец, деньги, бог Гана, мечеть, гора, быстрое перемещение с места на место.
3. Запад, желтое, золото, Пон (день), блестящее, разносчик пальмового вина, крепкие напитки, слабый, кухня, неудача, болезненное.
4. Север, черное, железо, Ваге (день), неподатливый, мясник, мясо, разбитое, неподвижное, огонь, пламя.
5. Центр, пестрое, многообразное, Кливон (день), король, богиня Шри, дом, земля, постоянное.
Индивид, отнесенный к одному из этих подразделений, рассматривался как сопричастный всем прочим членам данного класса; его характер и его судьба определялись этим классом. Члены какого-либо подразделения этой классификации, утверждает Дьювендак, мыслились, таким образом, как образующие некое единство, так что не говорилось, например, что юг связан с красным, но вместо этого – что юг красный и что он – Паинь, что Паинь – это золото и т. д.
Семь
Деление на семь можно проиллюстрировать классификацией племени зуни из Нью-Мексико, описанной Ф.Х. Кушингом (1896) и резюмированной Дюркгеймом и Моссом (Durkheim and Mauss, p. 42–55). Все существа (beings) и факты в природе, «солнце, луна, звезды, земля и море, во всех своих явлениях и стихиях; все неодушевленные предметы, а также растения, животные и люди» классифицируются, маркируются и причисляются к определенному классу в совокупном устройстве вселенной. Принципом этого разделения является деление пространства на семь областей: север, юг, восток, запад, зенит, надир и центр. Все во вселенной принадлежит той или иной из этих семи областей.
Первоначально зуни были организованы в семь субплемен, каждое из которых населяло одно из семи далеко отстоящих друг от друга поселений. Во второй половине девятнадцатого века общая численность зуни сильно сократилось и они сосредоточились в одном пуэбло; однако этот последний точно так же был разделен, «не всегда ясно для постороннего наблюдателя, но очень ясно в оценке самих зуни, на семь частей, соответствующих, не столько своим топографическим расположением, сколько своей последовательностью, принятому у них подразделению на «миры» или части этого мира. Так, считается, что одно подразделение поселения относится к северу; другое представляет запад, следующее – юг, следующее – восток, затем два следующие – верхний мир и нижний мир, в то время как последнее подразделение представляет центр и синтетическое соединение всего перечисленного в нашем мире» (Cushing, 1896, р. 367).
Зуни были также разделены на девятнадцать кланов, которым, в свою очередь, тоже приписывалось символическое разделение: один относился к центру, а каждые три из остальных – к одной из шести других областей. Каждый клан ассоциировался с каким-либо животным видом, таким как тетерев, олень, медведь, или с какой-либо другой вещью в природе, такой, например как вечнозеленый дуб, маис или вода. Тот или иной клан и то природное явление, посредством которого он классифицировался, мыслились как обладающие общими качествами, делающими их подходящими для того, чтобы принадлежать к одному и тому же символическому подразделению. Например, кланы севера (Журавль, Тетерев, Вечнозеленый дуб) объединялись и рассматривались как связанные с севером вследствие их «особой пригодности» для той области, откуда приходит холод и где, как полагали, творится сама зима; ведь журавль появляется в преддверие зимы, тетерев в этот период не мигрирует, но лишь меняет оперение и живет в снегу, а вечнозеленый дуб остается зимой столь же зеленым и крепким, как прочие деревья весной или летом (ibid., p. 368).
Семь подразделений ассоциируются также с цветами: север – желтый, запад – голубой, юг – красный, восток – белый, верхняя область – пестрая, нижняя область – черная, а центру присущи все цвета (ibid., р. 369). Каждое подразделение является «жилищем» определенной стихии: север – место ветра, запад – воды, юг – огня, восток – земли (ibid., p. 370). Соответственно, каждое ассоциируется с временем года (ibid.). Кроме того, имелись тайные общества, составленные из старших или влиятельных членов каждого объединения или клана, и по этим обществам классифицировались «четыре основные вида деятельности в первобытной жизни», а именно: север, война и разрушение; запад, уход за ранеными и охота; юг, землепашество и медицина; восток, магия и религия; «тогда как верх, низ и центр тем или иным образом соотносятся со всеми этими видами деятельности» (ibid., p. 371). Наконец, имелись многочисленные церемонии и публичные танцы, которые проводились в определенной календарной последовательности и давали четырем символическим подразделениям, образующим мир, драматическое выражение.
Девять
Бали предоставляют нам, в качестве последнего случая, пример деления на девять символических подразделений. В отчете Коваррубиаса (р. 296–297) имеется общее соответствие сторон света, богов-покровителей, соответствующих магических слогов и цветов:
1) Кадья (вверх к горе), бог Вишну, слог hang, черный;
2) Кадья-Кангин (северо-восток), Самбу, wang, голубой;
3) Кангин, направо, Ишвара, sang, белый;
4) Клод-Кангин, Махешвара, mang, розовый;
5) Клод (вниз к морю), Брахма, bang, красный;
6) Клод-Kay Рудра, mang, оранжевый;
7) Кау налево, Махадева, tang, желтый;
8) Кадья-Кау Шанкара, sing, зеленый;
9) puseh (центр), Шива, ing-yang, смешанный цвет.
Приведенные формы символической классификации посредством деления образуют полезную серию примеров, иллюстрирующих общие и простейшие способы, с помощью которых всеобщее побуждение получает общественное выражение. Есть, однако, бесчисленное множество других форм подобной классификации, и не стоит даже пытаться их здесь перечислить. Единственное основание такого многообразия состоит в том, что символический аспект может быть сообщен всему, в чем заинтересованы члены какого-либо общества.
Возьмем, например, планировку города. В традиционных европейских городах различные кварталы или отдельные улицы ассоциировались с определенными профессиями или занятиями: в одном живут поверенные, в другом мясники, в третьем торговцы одеждой и т. д. С чисто практической точки зрения это могло быть удобно, точно так же, как удобно, чтобы товары в супермаркете были распределены по различным четко обозначенным секциям. Однако в более детальной перспективе мы можем рассматривать планировку такого города как выражение разделения труда: различные виды работ распознавались символически, т. е. их важность определялась и возрастала в зависимости от их распределения на различных территориях. Причем это распределение не было только способом различения профессиональных занятий, оно также ранжировало их, ибо в то время как они влияли на характер и репутацию тех частей города, где они были сосредоточены, сами эти территории имели неравный престиж. Так, имелись «хорошие» и «дурные» части города, и соотносимые с ними профессии также подпадали под эти оценочные суждения.
Это весьма широко распространенный вид символической классификации, даже если символизм представляется здесь довольно заурядным и поверхностным. В Лондоне Вест-энд, как правило, в социальном отношении предпочитался Ист-энду и по отношению к этим двум частям города установился определенный род снобизма, подобно тому, который когда-то определял различие между Вест-сайд ом и Ист-сайдом в Манхэттене. Приведенные примеры показывают, что подобные значения тех или иных направлений могут варьироваться, поскольку как в Лондоне, так и в Нью-Йорке сравнительная значимость противоположных территорий в последние годы изменилась; однако в любом городе, как в типичном, так и во всяком другом, отношение к «хорошему адресу» по-прежнему так или иначе выражается. Символизм сторон света может меняться или выходить из употребления, но если о ком-либо говорят, что он живет «в дурной стороне», – это выражение все того же отношения.
Таким образом, подразделения пространства образуются для того, чтобы обозначить или символизировать вещи, сами по себе непространственные, с тем чтобы приписать им свойства, внутренне не имеющие ничего общего с направлениями или протяженностью. В этом отношении современные англичане или американцы прибегают к тому же роду символической процедуры, какую мы видели у таких разных народов, как майуок, кагуру и зуни.
Помимо указанного сходства, поразительной чертой этих классификаций является то, что весьма часто кажется невозможным опознать какую-либо реальную или значащую связь между предметами, группируемыми в один символический класс. Нет никакой явной связи между стороной света и цветом, между частью тела и магическим слогом, между духом и сородичем. Эта кажущаяся несообразность характерна даже для классификации зуни, которая во многих отношениях руководствуется такими соответствиями и связями по обстоятельствам, какие легко можем опознать и мы. Понятно (хотя, конечно, и не необходимо), что журавля следует объединять в один класс с севером, стороной, из которой приходит зима; однако между западом и охотой уже нет столь легко обнаруживаемой связи. Этот очевидно произвольный аспект классификации не означает, впрочем, что между определенными предметами данного символического класса нет реальной связи, он означает лишь, что наши социально обусловленные предположения о том, чту является реальным и значимым, здесь неприменимы.
Задача антропологии состоит в том, чтобы путем тщательного анализа каждого случая показать, каковы на деле применяемые в той или иной экзотической концепции реальности местные критерии, с помощью которых определяются и классифицируются предметы. Далее, более абстрактная сравнительная задача заключается в том, чтобы выяснить, могут ли быть обнаружены принципы, которые не осознаются людьми, ставшими объектом исследования, но тем не менее оказывают некоторое влияние на форму и содержание их символических классификаций.
Глава 2 Основания
Помимо рассмотренных типов существует множество других способов символической классификации, и некоторые из них мы непременно рассмотрим ниже. В настоящий момент для нас важнее обдумать вопрос о том, почему вообще люди совершают подобное. Пока мы не составили определенного мнения по этому вопросу, мы не будем в состоянии плодотворно размышлять о более широком спектре практики или о более специальных проблемах.
Не только майуок, пурум, каррьера и прочие народы пользуются подобными схемами символической классификации посредством деления. Формально сходные схемы, производится ли в них разделение на два, три, семь или любое другое количество классов, имеет место у сотен людей повсюду в мире. Чем их больше и чем разительнее соответствия, тем острее проблема. Не углубляясь в вопрос о том, почему определенные народы имеют определенные формы классификации, поразмыслим в общих и предварительных терминах о том, почему народ создает что-либо подобное.
Порядок
Один ответ, хотя и не самый показательный, можно найти в утверждении, которое мы приняли во введении в качестве предпосылки: для того, чтобы мыслить о мире и воздействовать на него, нам необходимо подразделять явления на классы. Мы должны объединять предметы в группы в соответствии с тем, что в них представляется нам значимым сходством, как, например, в случае, когда мы выделяем некоторый класс объектов как съедобные грибы. Затем нам необходимо также отличить противоположный класс с помощью значимого различия, как в случае, когда мы обозначаем такой класс объектов как ядовитые грибы. Эта необходимость еще более очевидна в случае с мужчинами и женщинами. С мужской точки зрения есть женщины, спать с которыми позволено, и женщины, сексуальное партнерство с которыми запрещено; это такое различение, которого мы не можем осуществить на практике, не разделив прежде в понятии всех женщин по крайней мере на две противоположные категории. На самом деле можно вообразить, что общество могло бы обойтись и без сексуальных запретов, так что даже в данном примере не утверждается, что подобная классификация сама по себе необходима. Но если брать вещи такими, каковы они есть, то фактически все человеческие общества, а также более мелкие образования, действительно делают категориальное различение между женщинами сексуально доступными и недоступными. Если люди заинтересованы в том, чтобы делать подобные различения в данной сфере своей жизни, то они должны делать это посредством категорий, которые и составят классификацию.
Когда мы классифицируем грибы как съедобные и несъедобные, мы занимаемся практической разновидностью естественной истории; и хотя последствия важны, т. к. можно умереть, съев гриб не того класса, но мы не делаем символического различения между категориями в дополнение к понятийному. Но что еще загадочнее, мы, как, по-видимому, большинство обществ, не делаем символического различения между доступными и запретными женщинами: например, хотя по некоторым церковным законам сексуальные притязания не могут быть обращены на двоюродную сестру, нет символизма, посредством которого такая женщина отличалась бы от троюродной сестры, по отношению к которой подобные притязания допустимы. Это поучительный пример, поскольку, подчеркивая необходимость категорий, он вместе с тем обнаруживает в символизме некоторую произвольность. Хотя представляется верным, что символизм, как писал Уайтхед, усиливает важность символизируемого, но отсюда вовсе не следует, что, наоборот, всякая индивидуальная категория, наделенная общественной значительностью, будет символизирована. В случае грибов достаточно практического способа распознавания тех, что безопасны для сбора; в случае двоюродных и троюродных сестер достаточно понятийного различения.
Тем не менее, даже сделав эти предварительные ограничения, мы по-прежнему стоим лицом к лицу перед фактом: необходимому категориальному аппарату классификации весьма часто сообщается символический аспект. У майуок человеку Воды надлежало жениться на женщине Земли и было запрещено как-либо общаться с женщиной Воды; у каррьера мужчина одной секции был обязан выбирать жену из широкого символического класса предметов, образующих секцию, противоположную его собственной. Допустим, имена долей и секций использовались более узко как правовые категории и, таким образом, были сопоставимы в этом отношении с брачными законами современных западных обществ. Но эти имена сами по себе не были правовыми категориями: они обозначали символические классы, в которых, как в примере с майуок, люди, принадлежащие к каждому из классов, ни внутренне, ни в правовом отношении никак не связаны с водой или землей, равно как и, наоборот, прочие предметы этих классов неспособны к браку.
Итак, в то время как классификация существенна для мысли и социального действия, символизм несуществен для классификации. Мы не можем сказать, что символизм необходим в том смысле, в каком необходимы категории. Однако человеческие существа во всем мире тем не менее разрабатывают свои категории и придают им отчетливость символическими средствами. Здесь правдоподобно предположение, что, поступая так, они действительно усиливают значимость необходимых инструментов своего мышления и общественного сотрудничества. Однако поскольку то, что они так поступают, ни логически, ни практически не необходимо и поскольку не все, что осознается как важное, символизируется, мы едва ли можем удовлетвориться таким утверждением.
В любом случае остается еще одна трудность, ибо говорить об усилении значимости можно, лишь предположив, что мы можем иметь предварительное представление о том, какая значимость была бы приписана чему-либо без символизма. Для такой идеи нет подтверждения. Все, что мы знаем, – это то, что предмет, его значимость и то, что мы выделяем как прибавляемый символизм, обретаются вместе, и мы не можем достоверно утверждать, что символизм есть мера значимости или что последняя была бы иной или меньшей, если бы не символизм. В той степени, в какой символический аспект классификации может быть правильно абстрагирован от понятийного, мы можем сказать, что он есть закрепляющее дополнение к артикуляции последовательности; но приписать ему более специфическую функцию в этом отношении гораздо труднее.
Размышление
Символическая классификация может быть рассмотрена как одно из выражений человеческого стремления размышлять в метафизических терминах. Вероятно, не все люди имеют тенденцию мыслить таким образом, но все цивилизации привержены метафизическим схемам; даже не создавая их, они тем не менее их поддерживают.
Так, обсуждавшаяся нами символическая классификация зуни – не просто форма понятийного упорядочивания; это выражение сложной теории о реальном устройстве вселенной. «Все неодушевленные объекты, – пишет Кушинг, – равно как растения, животные и люди… принадлежат к единой великой системе всесознающей и внутренне взаимосвязанной жизни, в которой степень связи в большой мере, если не полностью, определяется степенью соответствия» (1883, р. 9). Этот взгляд на мир характеризуют два главных принципа интерпретации: категории предметов таинственны, могуществены и в различной степени подвластны смертности; любая стихия или явление в природе, обладающие индивидуальным существованием, наделяется личностью, аналогичной тому из животных, чьи действия в наибольшей мере напоминают его проявления. Например, молнии часто придается вид змеи, потому что ее путь по небу извилист, а удар мгновенен и разрушителен. На этих основаниях делается предположение, что змея ближе связана с молнией, нежели с человеком, но в то же время ближе связана с человеком, нежели молния, поскольку она смертна и менее таинственна. Эти качества вовсе не те, с какими имеет дело наука в физике и герпетологии: они воображаемые и спекулятивные конструкции и представляются или символизируются преимущественно животными. Мы видели, что кланы зуни именовались по названиям животных (один из них назывался Гремучая Змея) и прочих природных явлений и что они вместе с тем классифицировались по областям пространства, чьи свойства они разделяют. Таким образом, эта классификация – не единственный способ, каким могут быть отсортированы и поименованы предметы, наподобие сортировки яблок: это спекулятивная теория метафизического свойства, и она служит интерпретации характера имеющихся в мире предметов и связей между ними. Иными словами, символическая классификация может заключать в себе философию.
Права и обязанности
Поскольку символическая классификация может соответствовать категориям иного порядка, можно ожидать, что символы будут подкреплять эти категории, каким бы образом они ни использовались. Так, в частности, обстоит дело с категориями юридическими, т. е. теми, которые регулируют права и обязанности.
Майуок, помимо разделения на доли, были организованы в линиджи, и права и обязанности среди их членов определялись категориями, которые мы назвали бы категориями родства. В числе важных ситуаций, в которых проявлялись такие правовые отношения, были похороны, церемония оплакивания, церемония, связанная с наступлением половой зрелости у девочек, и совместный танец. Во всех названных процедурах именно те, кого мы могли бы назвать родственниками, т. е. лица, обозначаемые категориями этой терминологии социальной классификации, имели право требовать определенных ритуалов, или обязанность их разыгрывать. Такие лица необходимо являлись членами той или иной доли, и хотя для своих функций они индивидуально отбирались с помощью социальных категорий, их общение символизировалось как взаимная связь между долями. (Следует помнить, что последние не были просто социальными группами, но на них делилась вся природа.) Во время похорон члены одной доли заботились о покойниках другой. Во время ритуальных очищений, завершающих церемонию оплакивания, люди Воды омывали людей Земли и наоборот. Во время церемоний, посвященных половому созреванию девочек, проходящие инициацию из разных долей обменивались платьем. Во время великого танца подарки танцорам делались членами противоположной доли. В каждом из этих случаев права и обязанности участников определялись категориями линиджей, системой и терминологией родства; однако эти правовые отношения обобщались универсальными категориями Земли и Воды, категориями символической классификации.
Подобным же образом у зуни то, что Кушинг называет их «мифическим делением мира», классифицировало кланы и их тотемы, а также тайные общества столь обобщенным образом, что «не только церемониальная жизнь народа, но и все правительственные установления» были полностью систематизированы; это достигало такой степени, что Кушинг мог заключить, что из этого символического порядка проистекает «нечто подобное писаным законам» (1896, р. 369). При таких установлениях, сообщает он, ошибка в порядке церемонии, процессии или совета была просто невозможна, «и о людях, пользующихся такими приспособлениями, можно сказать, что они написали и продолжают писать свои статуты и законы во всех своих каждодневных отношениях и высказываниях» (ibid., p. 372). Таким образом, символическая классификация может служить правовым целям управления и институтов законности.
Случайное применение
Помимо регулярного руководства общественной жизнью, имеется множество случайных обстоятельств, в которых может использоваться символическая классификация.
Дьювендак приводит пример поимки вора на Яве. В более технологическом обществе это задача судебной науки: доказательства будут найдены путем сличения отпечатков пальцев, физического исследования нитей одежды, химического анализа пятен и т. д. Но на традиционной Яве, очевидно, дело будет расследоваться с опорой на символические ассоциации. Если на месте преступления было найдено что-нибудь черное или кусок железа, это указывает, что вор пришел с севера (см. гл 1); далее, что он был мясником, и т. д. Точно так же, если что-нибудь терялось, классификация определяла способ, каким предпринимались поиски. Ряд соответствующих терминов из пяти символических подразделений распределялся на стропилах внутри дома: например, сад, Гана, слабый, разбитый, Шри. Если последнее стропило совпадало, например, с именем Шри и, таким образом, с третьим подразделением классификации, это означало, что потерянное следует искать на кухне.
Аналогично, у Бали девятеричная классификация использовалась при предсказании будущего; например, шансы бойцового петуха исчислялись на основе его цвета, дня боя и ориентации по компасу точки его местонахождения на площадке для петушиных боев.
Разумеется, предзнаменования вообще зависят от систематических связей внутри символической классификации, как, например, когда на Борнео определенный птичий крик, услышанный слева от путника, свидетельствует о неудаче, с которой он встретится, если не повернет назад. Это не имеет ничего общего с естественной историей или рациональным исчислением возможного будущего; это символическая интерпретация того, что следует рассматривать как чисто случайное совпадение (1) местонахождения птицы по отношению к направлению, в котором движется путник, и (2) какого-либо естественного стимула, вызвавшего ее крик. Наблюдаемые обстоятельства сходны, но извлекаемое из них значение зависит от приписывания данному виду птиц особых способностей отнюдь не орнитологического свойства, от определенных контрастных значений, которыми наделяются правое и левое, и от некой метафизики, в которой будущее можно предвидеть. Все эти идеи и гораздо большее число других символизируются в высшей степени заурядным происшествием – криком птицы во время прохождения рядом с нею человека; однако при опоре на систематические связи между ними, т. е. на символическую классификацию, путник может сориентироваться в направлении своей жизни.
Глава 3 Теории
Если люди владеют символической классификацией, они могут находить ей бесчисленные применения. В различных видах применения – порядке, размышлении, правовой дискриминации, разрешении тех или иных проблем и т. д. – мы можем видеть некоторые из возможных оснований существования этих классификаций. Однако следующая проблема состоит в том, почему люди осуществили классификацию символически особым способом. Даже имея в виду только простые формы классификации посредством деления, мы видели, что возможно широкое разнообразие форм: например, каррьера классифицируют по четыре, зуни по семь. Можно ли выработать общую теорию, которая объяснит, почему определенное общество имеет именно ту форму классификации, какую имеет? Рассмотрим две противоположные, но связанные друг с другом эволюционные теории.
Социальный детерминизм
Дюркгейм и Мосс в своем эссе о примитивной классификации (1903; пер. 1963) полагали, что обосновали подобную теорию. Их рассуждение, ставшее, возможно, самым известным вкладом в сравнительное исследование символической классификации, развивается примерно следующим образом. Они полагают, что у человеческого сознания отсутствует врожденная способность конструировать сложные системы классификации, которыми владеет каждое общество и которые суть культурные продукты, не находимые в природе. Они спрашивают, следовательно, что могло послужить моделью для подобной аранжировки идей. Ответ их таков: эта модель – само общество. Первыми логическими категориями, утверждают они, были социальные категории, и первыми классами предметов были классы людей. Не только сами классы, но также и отношения, связующие их в систематическую классификацию, имеют социальное происхождение. Схема категорий – лишь аспект общественного строя, и единство классифицируемого знания есть не что иное как единство общественной коллективности, распространяемое на Вселенную.
В качестве первого примера для доказательства Дюркгейм и Мосс приводят австралийскую систему долей, например, у аборигенов Порт Маккей в Квинсленде, разделенных на долю юнгару и долю вутару Это разделение рассматривается как «всеобщий закон природы», согласно которому люди, как и вообще все одушевленное или неодушевленное, принадлежат к одной либо другой из долей. «Аллигаторы принадлежат к одной, кенгуру – к другой, солнце – к одной, луна – к другой, ветер – к одной, дождь – к другой; все это развито до такой степени, что если указать звезду, люди скажут вам, к какой из долей она принадлежит» (1963, р. 12). Далее Дюркгейм и Мосс рассматривают четырехсекционную систему, как она наблюдается у каррьера (см. выше). Они описывают, как все общество разделено на четыре «брачных класса», о которых они утверждают, что «классификация предметов воспроизводит эту классификацию людей» (ibid., p. 11). Точно так же у австралийского племени вакельбура брачные классы (т. е. секции) разделяют не только мужчин и женщин, но всю Вселенную (ibid., p. 13). У зуни, как мы видели, классификация проводится по семи подразделениям, и Дюркгейм и Мосс подчеркивают, что «это разделение мира в точности такое, как разделение кланов в пуэбло» (ibid., p. 44). Более того, они заходят еще дальше, утверждая также, что классификация по кланам древнее и что «она послужила моделью, по которой были образованы другие (например, пространственное разделение Вселенной)» (ibid., p. 48). Их обзор включает ряд других обществ различной организации, в том числе сиу и традиционных китайцев, обнаруживающих различные степени соответствия между общественным строем и символическим рядом. Там, где соответствие отдаленно или не может быть установлено, Дюркгейм и Мосс обычно пытаются объяснить это расхождение предполагаемыми переменами в прошлом. Крайним является случай Китая, где символическая классификация (весьма сложная и систематическая) совершенно независима от общественного строя; это, как полагают, указывает на происхождение философии из такого типа символической классификации, который воспроизводит общественный строй.
Аргумент Дюркгейма и Мосса – эволюционный, их тезис состоит в том, что существует непрерывная преемственность между примитивными символическими классификациями и первыми классификациями науки. Грубо говоря, предполагается, что имело место прогрессирующее движение от классификаций посредством простого деления (два-четыре-семь) к различным классификациям возрастающей сложности по мере того, как более сложным становилось само общество; затем усиливающееся разделение символической классификации на гадательные и метафизические схемы, подобные китайским; и, наконец, развитие беспристрастного и спекулятивного образа мысли, не находящегося более в зависимости от форм общества, давшего рождение абстрактной философии и современной науке. Но главное состоит в том, что примитивная классификация была скопирована с социальной классификации. «Общество не просто было моделью, которой следовало классифицирующее сознание; именно его собственные подразделения служили подразделениями для системы классификации» (ibid., p. 82). Люди, организуя самих себя, создавали группы и подразделения, которые научали их классифицировать.
Это интригующая и важная теория, но, к сожалению, она не годится. Рассуждение страдает столь многими изъянами как в логике, так и в методе, что его выводы не могут быть приняты (Needhem, 1963, p. xii-xxix). Главное возражение состоит в том, что на протяжении всего своего эссе Дюркгейм и Мосс характерным образом заранее предполагают то, что желают доказать: например, они описывают соответствие между «брачными классами» четырехсекционной системы и совпадающей с ними классификацией несоциальных предметов, что вполне верно, однако затем они утверждают, будто символическая классификация «воспроизводит» классификацию лиц, как если бы эта последняя форма непременно должна была возникнуть первой. Другое возражение – что в ряде приведенных обществ нет того соответствия, которое хотят установить, и что Дюркгейм и Мосс выдумывают какие-то прошедшие изменения, которые недоказуемы, чтобы объяснить и устранить расхождение. Однако еще более важно то возражение, что нет логической необходимости постулировать причинную связь между социальными формами и символической классификацией. Но недостаток, совершенно лишающий убедительности все рассуждение, состоит в том, что социальная «модель» должна быть в первую очередь понята как обладающая теми характеристиками, которые делают ее пригодной при классифицировании других предметов, а этого нельзя сделать без тех самых категорий, которые Дюркгейм и Мосс выводят из самой модели.
Ритуальное происхождение
Другая теория объяснения символической классификации предложена Хокартом в его «Королях и советниках» (1936; критическое издание, 1970). Непосредственным предметом его интереса является происхождение правительства, но конечная его цель – продемонстрировать первенство символического действия. Его рассуждение представлено в форме, не столь легкой для оценки, как рассуждение Дюркгейма и Мосса, еще труднее кратко его изложить, однако основные линии его таковы.
Согласно аргументации Хокарта, во-первых, правительство – не общественная необходимость, а результат общественной активности, уже осуществленной до дифференциации административного статуса и функций. Мы можем видеть, как в более простых обществах все функции правительства выполняются людьми и без правительства. Правительства в нашем смысле слова нет у таких народов, как обитатели Фиджи, потому что в нем нет нужды. «Если, однако, мы посмотрим пристальнее на эти общества, мы обнаружим, что, тем не менее, механизм правительства в них готов к тому, чтобы править, если правление потребуется» (1970, р. 31). Однако что, спрашивает он, делает эта организация прежде, чем она обратится к работе управления? Ответ: эта организация служит ритуалу, т. е. символическому поиску жизни.
Эта ритуальная организация, утверждает Хокарт, значительно старше правительства, ибо она существует там, где правительства нет и где в нем не нуждаются. Но когда общество усложняется настолько, что требуется координирующее действие, то ритуальная организация принимает на себя эту задачу. Функции, выполняемые ныне королем, премьер-министром, казной и т. д., не изначальны. «Они были изначально частью не системы правительства, а организации, которая должна была способствовать жизни, плодородию и процветанию, перенося жизнь с объектов, изобилующих ею, на объекты, испытывающие ее недостаток» (ibid., p. 3). Лишь постепенно охват этой организации увеличивался, а функции модифицировались, до тех пор пока оно не стало централизованным орудием организации деятельности общества. Цель «Королей и советников» – дать очерк этой эволюции ритуальной организации в правительственную.
Согласно Хокарту собственно техника ритуала заключается в том, что одна вещь делается эквивалентом другой; это именно то, что мы понимаем под символическим. «Если вы не можете воздействовать на А, воздействуя на В, не может быть никакого ритуала» (ibid., p. 45). Участники ритуала стремятся установить «тождество между человеком и ритуальными объектами, между ритуальными объектами и миром, и, таким образом, между человеком и миром; своего рода творческий силлогизм» (ibid., p. 64). Иными словами, символическая классификация устанавливает соответствия среди тех вещей во Вселенной, которые чужаку могут показаться совершенно непохожими, и затем действием на один член класса может быть осуществлено воздействие на какой-либо другой член.
Например, в одном из племен западной Австралии с четырехсекционной системой природные виды классифицируются по секциям, и ритуалы, способствующие увеличению данного вида, являются, соответственно, обязанностью членов этих секций. Ритуальный центр (талу) для каждого вида – просто камень или груда камней, однако это посредник для воздействия на вид. Если секции Банако принадлежит талу ястреба, то люди Банако обязаны следить за тем, как размножается этот вид. В то же время рассматриваемая секция является также «брачным классом», и, таким образом, правовой институт регулирования брачных союзов между группами, точно так же, как и ответственность за ритуалы роста, определяются законом принадлежности к секциям, которые являются также правовыми институтами. Люди, природные виды, брачные законы и ритуальные учреждения взаимосвязаны здесь символически. Классификация необходима для образования таких соответствий, и тем самым она делает возможными обретение или увеличение жизни.
Теория Хокарта открыта для некоторых ограничений в области понятий и метода, а рассуждение нуждается в тщательной интерпретации (Needham, 1970), но идеи его вызывают особое внимание как попытка доказать, что символическая классификация является источником правительства и, более фундаментально, источником поиска жизни. Эта теория не преуспела в объяснении того, почему какое-либо общество имеет ту особую форму классификации, которой владеет, но, подобно теории Дюркгейма и Мосса, утверждает эволюционную связь между правовыми категориями и символической классификацией. Вся разница в том, что если Дюркгейм и Мосс на первое место ставят общество, то Хокарт ставит на первое место поиск жизни, а затем наблюдает сопутствующее ему развитие категорий и правительственных учреждений как продуктов этого символического предприятия.
Глава 7 Проблемы
Хотя данное введение в изучение символической классификации неизбежно было сжатым и неполным, все же следует дать кое-какой материал для оценки некоторых проблем, все еще остающихся предметом размышлений. Удобнее всего представить их, просто перечислив в грубой последовательности от общих к более частным и сопроводив краткими соображениями. Эти проблемы поставлены, но не решены.
Порядок явлений
Постоянно делалось различие между социальной классификацией, которая рассматривалась как прагматический инструмент действия в повседневной общественной жизни, и символической классификацией, которая рассматривалась как более или менее соответствующая первой совокупность образов и других представлений. Это различение ставит вопрос об условиях такого соответствия, т. е. о том, что чему соответствует и при каких обстоятельствах.
Эмпирическое обобщение, которое было предложено, звучит так: «Грубо говоря, в родовых обществах отношение символического порядка к социальному может быть неопределенным или минимальным; в линейных системах их сродство различимо в ограниченном наборе отдельных черт, но не носит всеохватывающего характера; в линейных системах с предписываемым родственным браком между обоими порядками обычно имеется соответствие структуры, так что можно говорить о единой схеме классификации, в которую оба включены» (Needham, 1973a, р. 111).
Это обобщение полезно в той области явлений, на которую оно распространяется, однако предполагаемый им социальный порядок ограничен типами систем родства, а ведь есть множество обществ, в которых это далеко не самый важный институт общего порядка. Далее, это ограничение ставит под вопрос наличие предполагаемой линии разграничения между социальным и символическим. Фактически это не более чем методологический прием, главная цель которого – облегчить анализ и изложение отдельных случаев. Дихотомия социального и символического – это искусственное и временное разделение, предполагаемый эффект которого состоит в том, чтобы в конце концов предложить более обобщенную интерпретацию исследуемых социальных фактов. Иными словами, цель анализа – подготовить почву для более ясного синтеза (Needham, 1974, р. 33).
Искусственность процедуры во всяком случае очевидна, поскольку образцовый случай соответствия, т. е. предписываемый брак, представляет собою такой тип системы, в котором едва ли можно ясно прочертить границу между социальным и символическим (в указанном смысле). Когда к отдающим в жены обращаются с теми же приношениями, которые подобают и богам, мы наблюдаем не аналитическое проведение различия между правовым и мистическим, а тождественную символизацию общего характера отношений между категориями лиц: преподносимые подарки указывают на связь, а не на разделение.
Даже если данное обобщение не теоретическое, а эмпирическое, и невзирая на то, что оно скорее отражает метод анализа, чем отличительные особенности коллективных представлений, все же оно остается хорошим начинанием в деле отграничения символической классификации от всего, с чем она имеет дело. Не сделав этого, мы не можем ни исследовать корреляцию, сопутствующие вариации или причинно-следственные связи, ни установить каким-либо иным путем отличительные особенности данного класса социальных фактов. По этому поводу можно сказать, что, обсуждая символическую классификацию, мы, в сущности, все еще не знаем точно, о чем говорим.
Эволюция
Частью рассуждения Дюркгейма и Мосса является утверждение, что имеется эволюция символической классификации от простых форм к более сложным. Сами они не особенно трудились его доказывать; они просто предполагали, что это так. В качестве проблемы это остается предметом спора и требует более серьезного исследования.
Если рассматривать только классификацию посредством деления, что мы только что сделали, то этнографическая литература производит общее впечатление, что форма классификации распространена тем шире, чем она проще. Так, дуальная классификация, будучи простейшей формой, распространена во всем мире, в то время как деления более сложные встречаются гораздо реже. Правдоподобен вывод, что сложные формы действительно возникли из простых, хотя следует иметь в виду, что (как мы видели) более простые имеют тенденцию сохраняться внутри сложных. Это могло бы означать, что развитие символической классификации не определяется институтами (т. е., опять же, противоположное тому, что предполагали Дюркгейм и Мосс), но следует автономным путем эволюции. Это предположение согласуется также с известным утверждением Уайтхеда, что «символические элементы жизни имеют тенденцию произрастать дико, подобно растительности в тропическом лесу» (р. 61). Истолкованное более трезво, оно означало бы, что человеческое воображение, выражаемое в символической классификации, имеет тенденцию к сложности.
Что касается классификации посредством деления, нет ничего удивительного в том, что, начиная с дуализма, имеется множество классификаций соответственно количеству классов (четыре, семь и т. д.), на которые они делятся. Однако может обнаружиться верхний предел допустимого количества символических классов, и тогда необходимо удостовериться в том, каков он, и попытаться объяснить это. В основе всех этих вопросов, если смотреть вглубь, лежит вечный вопрос о роли размышления и сознательного целеполагания в развитии институтов.
Дуализм
Всеобщее распространение дуальной символической классификации, обобщена ли она в интегральные системы (Китай, майуок) или частично выражена в более сложных образованиях, приводит к предположению о вероятности того, что классифицировать посредством бинарных оппозиций – естественная склонность человеческого ума. Это проблема столь же глубокая, сколь и неподатливая.
Герц в 1909 г. описал полярность как «один из глубочайших вопросов, которые стоят перед сравнительной религией и социологией» (р. 21). Хокарт поставил вопрос, является ли эта дихотомия традиционной или врожденной человеку, и пришел к выводу, что она, вероятно, – закон природы, «однако этого недостаточно, чтобы объяснить дуальную организацию, ибо дихотомия вовсе не нуждается в том, чтобы образовывать пары, разве что на мгновение в качестве первого шага» (р. 289). В самом деле, если поразмыслить, весьма озадачивает «врожденная склонность ума, которая мертвеет, как только принимает институционализированную форму» (Needham, 1970, p. xxxviii). Конечно, есть логические основания, опираясь на которые, можно доказать, что организация понятий посредством образования контрастных пар – изначальная и устойчивая форма мышления, «однако вопросы логики не решаются обращением к культурным особенностям, и наоборот, упорядочивание этнографических свидетельств с опорой на логические критерии не доказывает, что последние внутренне присущи коллективным представлениям» (Needham, 1973a, p. xxxiv).
Серьезная трудность на пути к объяснению дуальной символической классификации состоит в том, что исследование должно быть тем самым ограничено изучением коллективных представлений, т. е. социальных фактов, которые местные жители не создали, а унаследовали как часть культурной традиции и которые как таковые являются внешними как для их носителей, так и для аналитика. Из того факта, что члены какого-либо общества разделяют таким образом дуальную классификацию, доступную для систематического анализа благодаря общему отношению взаимной оппозиции, вовсе не следует, что сами носители этой классификации индивидуально осмысливают свой опыт в терминах оппозиции; тем более не следует отсюда, что «мысли каждого индивида постоянно следуют диалектическому зигзагу между двумя противоположными культурными категориями, с помощью которых может быть схематизирована идеология» (Needham, 1972, р. 156). Стало быть, наоборот, отсюда следует, что, обозревая (насколько это возможно) течение человеческой мысли, аналитик не может ожидать найти в нем те формальные отношения, которые характеризуют классификацию. Еще менее может он надеяться найти объяснение дуализму, спрашивая тех, кто к нему традиционно прибегает, почему они осуществляют классификацию с помощью пар противоположных категорий (Needham, 1973a, p. xxxi-ii).
Таким образом, исследование неизбежно формально, а это означает, что многое зависит от формальных критериев (например, оппозиции, соответствия) и от даваемых им определений; однако здесь возможны различные договоренности, так что сам анализ будет изменяться вместе с внесением изменений в определения, и нет никаких логических средств установить, какой из них наилучший. Следовательно, аналитик неизбежно будет склонен оправдывать правильность своей формальной конструкции прагматически, сообразно степени успеха в связном и понятном истолковании социальных фактов.
Структура
Многообещающим методологическим подходом к символической классификации является структурный анализ. Он доказал свою полезность не только при анализе предписывающих систем, но также и при исследовании таких символических классификаций, где предписываемый брак не практикуется; им нельзя пользоваться без технического и систематического обращения к родству, правилам брака и прочим правовым институтам (Needham, 1972, р. 155–156; ср. 1973а). Однако такая степень практического успеха, достигаемого в форме интеллектуального удовлетворения, порождает более глубокие проблемы.
В действительности, как хорошо писал Спербер, «система гомологии, оппозиций и инверсий сама по себе довольно таинственна. Трудно понять, как можно говорить, будто она (т. е. система) объясняет или истолковывает символические явления. Она их организует. Но какова роль и какова природа этой организации?» (1974, р. 80). Мнение самого Спербера таково, что, отчаявшись найти ответ на этот вопрос, мы становимся объектом обвинения в том, что сконструировали модель, не имеющую предмета.
Это тревожная проблема, и в настоящее время нет сколько-нибудь ясного или убедительного ее решения. Конечно, можно сказать в свою защиту, что «до тех пор, пока он (т. е. структурный анализ) соответствует наблюдению, он предположительно чему-то соответствует (Needham, 1973a, p. xxxiii); но это, в конце концов, не более чем слабое предположение, и если мы не можем точно указать, чему именно соответствуют составляющие нашего анализа, то модель и в самом деле не имеет иного предмета помимо тех формальных отношений, которые образуют саму модель.
Ответ, возможно, заключается в том, что мы идем в неверном направлении, когда ищем соответствия с чем-то, что лежит за пределами распознаваемого аналитиком порядка. Порядок дуальной классификации, например, можно было бы рассмотреть как прямое выражение того, что постулируется как врожденная склонность человеческого мышления и воображения. Очевидно, порядок есть эта склонность; и принципы символической классификации суть единственная для нас возможность иметь с этой склонностью непосредственный контакт. Нет ничего такого, что скрывается за самим порядком и чему (если бы только оно могло быть обнаружено) должен был бы реально соответствовать порядок структурного анализа.
Эта линия рассуждения, кстати, движется навстречу гипотетическим требованиям того, что Дюркгеим полагал абсолютно формальной психологией, которая была бы общей почвой индивидуальной психологии и социологии (ср.: Needham, 1972, р. 157).
Соответствия
Другой род связи между индивидуальной психологией и изучением коллективных представлений можно обнаружить в определенных общих чертах символических классификаций. Чтобы правильно оценить их, надо прежде всего иметь в виду весьма произвольный характер многого из того, что есть в символизме, в частности, в двух отношениях. В принципе, что угодно может обозначать что угодно; любые две вещи могут быть отнесены к одному классу по какому-то критерию, отличающему их от других вещей. Однако при сравнительном изучении символической классификации постоянно поражают соответствия, кажущиеся чем-то большим, нежели случайность или совпадение.
Наиболее очевидное формальное соответствие заключается в том, что символические классификации конструируются с замечательной экономией. В любой отдельной культуре символически классифицируется великое множество вещей, и предположительно нет никакого предела в количестве прочих вещей, на которые данная классификация могла бы распространяться. Однако это широкое и сложное многообразие символических референтов обычно обобщается очень ограниченным числом символических категорий. Это не просто следствие того факта, что вообще любой символ имеет целый спектр референтов или значений. Эта черта символизма, хорошо известная с тех пор, как люди начали объективно размышлять над символизмом, сама по себе не объясняет той экономии средств, которую мы, как правило, обнаруживаем в символической классификации; ведь всякий символ может быть многозначен, однако вследствие многочисленности вещей, подлежащих символизации, может быть и большое количество символических категорий. Тот факт, что в данном вопросе экономия оказывается столь поразительной, скорее противоречит общепризнанной многозначности символов.
Взглянув на схемы классификации, представленные в книге «Правое и левое» (Needham, 1973a), мы обнаружим, что в каждом случае значительная сложность идеологии и социального действия символически обеспечивается средствами системы категорий, которая по сравнению с ними очень проста и скупа. Например, разнообразные этнографические детали жизни меру могут быть истолкованы в соответствии с двумя дюжинами антитетических пар (ibid., p. 116); множество частностей в исследовании Бейдельмана о символизме кагуру обобщаются не более чем страницей перечисляемых им противоположностей (ibid., p. 151–152); основные результаты всех сообщений о ньоро за девяносто лет представлены перечислением символических категорий длиною менее страницы (ibid., p. 328) и т. д. Общее впечатление такое, будто имеются значительные ограничения на количество применяемых при этом категорий. Это еще больше бросается в глаза при сопоставлении с противоположной характеристикой, выраженной в словах Уайтхеда о том, что символизм имеет тенденцию произрастать дико. Кроме того, есть вероятность, что экономия категорий не результат сознательного ограничения (как, например, при специально заявленном формальном требовании использовать как можно меньше символов), но является продуктом бессознательного процесса символического мышления.
Второй вид соответствия между классификациями, столь же поразительный, можно эмпирически установить в используемых символических деталях. От одной схемы к другой по всему миру, в каких бы разных культурах они ни встречались, мы находим вновь и вновь одни и те же регулярно применяемые символические средства. Вновь обращаясь к работам, собранным в «Правом и левом», мы можем указать для примера на такие оппозиции как правое/левое, мужское/женское, твердое/мягкое, кости/кровь, свет/тьма, нечет/чет, восток/запад, солнце/луна и т. д. Коннотации отдельных символических категорий не закреплены; например, у ньоро солнце и луна по меньшей мере в одном контексте противопоставляются соответственно как злое/доброе (Needham, 1973a, р. 328), в то время как у пурум, как мы видели, они противопоставляются как женское/мужское. Это последнее противопоставление поучительно также и тем, что оно противоположно общепринятой атрибуции полов для этих небесных тел, согласно которой солнцу символически приписывается мужской пол, а луне – женский. Однако ясно видно, что при расширении количества отдельных коннотаций мы находим общую различным группам людей тенденцию прибегать к общему набору вещей, чтобы выразить с их помощью нечто, что они могут символизировать. Это побуждает думать, что в символическом мышлении обнаруживается то, что можно рассматривать как естественные точки притяжения, на которые склонно откликаться воображение. Из бесчисленного множества предметов, какие различают во Вселенной их языки, люди могли выбрать любые, какие только пожелают. Однако в одной символической классификации за другой они сосредотачиваются на общем наборе вещей: не всегда тех же самых вещей и, разумеется, не только тех, которые мы назвали, но, как правило, они прибегают к определенным предметам, которые, похоже, составляют естественный и элементарный фонд символических средств.
В этом отношении, следовательно, символическая классификация как характерно человеческая деятельность обнаруживает две бессознательные и ограничительные тенденции – к формальной экономии и к эмпирическому соответствию, – которые особенно контрастируют с такими типичными ее чертами, как распространенность и произвольность. Эти противоположные тенденции ставят огромную проблему своего рода универсальной глубинной психологии в ее сравнительно-этнографическом приложении, которая остается в наши дни совершенно неисследованной.
Принципы классификации
Та классификация, которую мы называем символической, остается, несмотря ни на что, формой классификации, и нельзя предполагать, что она окажется в чем-то принципиально отличной от прочих форм классификации. Наоборот, следует ожидать, что те схемы, которые абстрагированы из прагматических схем классификации, окажутся различимы также и в поле символизма. Есть один урок из области исследования вербальных понятий, который вооружает нас против неверного толкования обозначения символических категорий. Известная категория, такая, например, как Земля или Вода у майуок, есть имя для класса объектов. Что оно говорит нам об отношении друг к другу членов этого класса? Вовсе не так много, как мы склонны предполагать.
В традиционном для западной философии определении класса его члены имеют по меньшей мере одно общее свойство; именно благодаря этому пункту сходства они и принадлежат к одному классу. В своем предельном логическом значении это определение подразумевает, что здесь приложим принцип замены: т. е. что все, что мы знаем об одном объекте класса, мы знаем и о других его объектах, в той мере, в какой все они похожи. Для огромного множества практических целей это определение пригодно и полезно. Если мы классифицируем некую вещь как нож, мы вправе полагать, что ее используют определенным способом, каким не используют вилку. То, что мы знаем об одном карбюраторе, мы знаем и о любом другом; они могут не быть тождественными или взаимозаменимыми, но мы можем по меньшей мере охватить их в понятии и уяснить, на что они годятся. В свете подобных примеров мы будем склонны предположить, что те же принципы характеризуют и символические классы; тогда, по-видимому, наша задача – найти общее свойство, объединяющее члены каждого класса.
В некоторых случаях кажется, что этнографические свидетельства целиком отвечают этой склонности: например, Кушинг пишет о зуньи, что клан и то природное явление, вместе с которым он классифицировался, рассматривались как имеющие общие свойства, позволяющие отнести их к одному и тому же символическому подразделению. Так, считалось, что кланы севера относятся к этой области пространства как «особенно подходящие», так как животные, образующие эмблемы этих кланов, естественно ассоциировались с зимой и с тем направлением, откуда надвигается холодное время года. Однако даже в классификации зуньи, как мы видели, в других отношениях в способе объединения вещей в классы обнаруживается явный произвол: например, запад и охота. Вполне может быть, что для зуньи было какое-то общее свойство или набор свойств, объясняющие состав каждого символического класса; однако это именно то, что стоит под вопросом и что мы не можем просто предположить заранее.
В других случаях – а их, по-видимому, большинство – этнографические свидетельства не дают никаких оснований думать, что члены символического класса связаны свойствами, общими им всем. Яванская схема соответствий очень ясна, настолько, что о каждом члене класса можно сказать, что он «есть» одновременно и другой член того же класса; однако за пределами этого утверждения источники не дают никакой почвы для предположений о наличии какого-либо общего свойства, объединяющего, к примеру, восток, скрытного, пищу, веранду и благоприятное. Дело не в том, что мы не можем увидеть, в чем могло бы заключаться сходство, ибо оно могло бы быть чем-то, чего мы и не представляли себе; но в том, что нельзя сделать вывод, предполагающий, что именно таков был метод образования класса. В конце концов, возможно, что в яванской схеме явления классифицировались как попало. Кроме того, если человеческое общество и весь остальной космос подлежат разделению только на пять больших классов, то весьма вероятно, что каждое подразделение будет содержать очень разные вещи, не обладающие существенным сходством друг с другом. Единственным общим свойством, объединяющим члены столь широкого символического класса, могла быть сама их совместная принадлежность к этому классу.
Есть другая возможность, именно: что принцип классификации совершенно отличен от принципа классификации посредством общего свойства, который мы считаем нормальным и даже естественным. Быть может, именно поэтому оказывается, что нет ничего, что мы опознали бы как реальную или значимую связь между предметами, сгруппированными в один символический класс. Дело не в том, что эти вещи не образуют класса или что мы не смогли установить свойства, общего всем его членами; просто класс определяется не так, как мы думали. Возможно, общего свойства нет, а класс образуется каким-то другим способом.
Эта формальная возможность была действительно осуществлена в ряде наук, а недавно была введена и в антропологию (Needham, 1975). В XVIII в. французский ботаник Мишель Адансон предположил, что какой-либо член класса растений вовсе не обязательно должен обладать всеми определяющими свойствами данного класса и что вид с отклоняющимися свойствами вовсе нет нужды выделять в особый класс.
Вещи могут сгруппировываться по большому числу свойств, взятых вместе, и нельзя априорно судить об относительной важности этих свойств. Эта идея была в свое время воспринята другими науками и в двадцатом веке превращена в основание таксономии в зоологии, биологии и бактериологии. Термин «монотетический» был принят для класса, определяемого по соглашению наличием по меньшей мере одного общего признака, присущего всем его членам. В противоположность ему, термин «политетический» стали прилагать к классам, члены которых обладают не единственным общим свойством. Вот простой пример: пять объектов определяются пятью свойствами. Возможно, чтобы каждый из этих объектов имел четыре из пяти определяющих свойств, так что все они соответствуют друг другу, хотя нет единственного признака, общего им всем: например, (1) ABCD, (2) АВСЕ, (3) ABDE, (4) ACDE, (5) BCDE. Таким образом, пять объектов могут быть объединены в один класс благодаря преобладанию у каждого каких-то из определяющих свойств, но нет единственного свойства, которое было бы общим им всем, а недостающее свойство у каждого иное.
Этот метод классификации не был только искусственно придуман для научных целей: в 1930-х гг. было обнаружено, что он является естественным для человеческих существ концептуальным средством в нерефлективном использовании ими лингвистических категорий (Needham, 1972, р. 109–121). Русский психолог Выготский обнаружил, что дети на определенной ступени умственного развития склонны классифицировать объекты в то, что он называет «цепочками»: определяющий признак меняется от одного звена к другому, и нет центрального значения, приписываемого классу в целом (Vygotsky, p. 1962: 64). Витгенштейн в тот же период показал, что многие философские недоразумения возникли в результате склонности полагать, будто должно существовать нечто общее всем вещам, которое следует называть одним и тем же словом. Однако, глядя на состав многих подобных классов, обнаружили, что такого общего свойства нет. Вместо этого все свойства переплетены, как нити каната (Wittgenstein, 1969, р. 87), а члены одного класса образуют нечто вроде семьи, в которой индивиды более или мене похожи вследствие переплетения «семейных сходств» (ibid., p. 17). Следовательно, в повседневной классификации с помощью естественного языка люди естественно склонны конструировать классы согласно политетическому принципу.
В социальной антропологии эти размышления были недавно применены к анализу таких тем, как родство, брак, вера, и могут быть применены и при анализе символической классификации. Нет никаких доводов в пользу того, чтобы класс был непременно монотетическим, и нет никаких тому подтверждений среди общеизвестных фактов этнографии. Действительно, есть указания на то, что во всяком случае в некоторых классификациях символические категории обозначают политетические классы явлений. У кенийского племени меру устанавливается, например, связь между левым, югом, черным и женским (Needham, 1973a, р. 116), и можно усмотреть основания отдельных связей между разными терминами. В ограниченном смысле (ibid., p. xxiii-ix) можно сказать, что эти термины составляют символический класс, но этнографические сведения не дают никаких оснований полагать, что они определяются каким-либо общим свойством. Рассмотренные в аспекте их отличительных признаков они скорее образуют политетический класс символических терминов.
По-видимому, раз с принятием политетической возможности исследование продвигается вперед, этот принцип классификации обычно находят в символизме, однако остается еще более фундаментальный аспект символической классификации, о котором стоит хотя бы упомянуть. Предметы могут классифицироваться, монотетически или политетически не только по их отличительным признакам, но и по типам связи, в которой они находятся; т. е. не только качественно, но и относительно. Взглянув на схемы дуальной классификации в «Правом и левом», мы сразу увидим, что во многих случаях нет, похоже, никакого качественного сходства между всеми терминами, перечисленными в одной колонке. Даже политетически они не могут составлять один класс, но сводятся вместе на основе абстрактных отношений, которые связывают классификацию. Бинарные оппозиции, очевидно, являются принципами выделения, но что связывает диады в систему? Здесь работает принцип аналогии, условно представляемый как а: b:: с: d. Обычный пример: правое относится к левому, как мужское – к женскому. Аналогично в схеме меру север: юг:: белое: черное. Таким образом, левое, юг, черное и женское нет нужды связывать качественным сходством, но вместо этого они связаны как гомологичные члены (а: с и b: d) в классификации по аналогии (Needham, 1973a, p. xxix-xxx).
Традиционно в европейской формальной логике под классификацией подразумевалась иерархическая родо-видовая классификация. Например, среди геометрических фигур различаются плоские и объемные; среди плоских – прямолинейные и криволинейные; среди прямолинейных – треугольники, четырехугольники и т. д.; среди треугольников – равносторонние, равнобедренные и т. д. Классы делятся на подклассы, те в свою очередь вновь подразделяются, и т. д. Все подклассы взаимно исключают друг друга, и все они объединяются в высшем классе (род), которым они обобщаются. В социальной организации ярким примером иерархической классификации является система воинских званий от главнокомандующего до рядового. Эту традиционную модель обычно рассматривают как единственную реальную форму классификации. Дюркгейм как-то писал, что все классификации порождены иерархией; и в «Примитивной классификации» они с Моссом определенно брали именно иерархическую классификацию как объект исследования и как аналитическую предпосылку. Пытаясь показать, что отношения, в которых находятся между собою символические классы, имеют социальное происхождение, они пишут: «Их регулярное нисхождение по степени от рода к виду, от вида к разновидности и т. д. происходит от такого же нисхождения по степеням, представленного социальными группами» (1963, р. 83).
Однако одно из интереснейших свойств символической классификации (сосредоточим ли мы свое внимание на схемах деления, или схемах оппозиции, или любых других) состоит в том, что она, как правило, не является иерархической. Не нужно ни рода или вида, ни процесса деления и повторного деления, ни регулярного нисхождения ступеней, так чтобы одна категория обобщалась другой. Вместо этого закрепленного порядка обобщения имеется то, что Дюмезиль назвал «классификационным потоком» (ср.: Needham, 1973a, p. xxix), в котором различные связи устанавливаются по аналогии сообразно тем перспективам, в которых они рассматриваются. Это очень большая и трудная тема, и здесь представлен лишь самый упрощенный очерк. Однако главное, что следует подчеркнуть, – это то, что сравнительное исследование символической классификации расширяется до формального осмысления принципов классификации вообще. В то же время оно устанавливает характерные склонности сознания.
Динамические функции
Психологический интерес представляет также проблема динамической функции символической классификации. Категории, как мы видели, не только оформляют порядок понятий: они также используются в формах символического действия. В частности, в ритуалах перехода они постоянно служат определенным регулярным трансформациям, например, в тех процедурах, которые рассмотрены нами под рубриками «инверсия», «подрыв» и «аннулирование». Впрочем, одно дело – выделить такие динамические константы, и совсем другое – найти им объяснение. Эта проблемная задача суммирует, в сущности, все трудности, возникающие при истолковании результатов структурного анализа вообще, но она привлекает вместе с тем отдельное внимание: отчасти из-за внутреннего драматического характера таких манипуляций с символической классификацией, отчасти потому, что есть определенный ответ, над которым стоит поразмышлять.
Ван Геннеп в исследовании о ритуалах перехода пытается объяснить само существование подобных ритуалов, обращаясь к некоторым психологическим механизмам. Он начинает с примера, взятого из физики, и сравнивает пограничное состояние в ритуале перехода с точкой инерции, разделяющей два движения в противоположных направлениях (как при колебаниях маятника). Эта точка инерции физически может быть устранена круговым движением, пишет он, но в биологической и социальной деятельности дело обстоит иначе, «ибо последние подвержены распаду и должны подлежать восстановлению в более или менее близкий временной промежуток» (Van Gennep, 1909; ср.: 1960, р. 182). Именно этой необходимости, заключает Ван Геннеп, отвечают ритуалы перехода; он объясняет ритуалы перехода как отвечающие потребности в том, что он рассматривает как пополнение энергией.
Эта метафора основана на скрытом психологическом допущении, согласно которому человеческие существа и образуемые ими общества движимы некоей формой энергии. Как и в электробатарейке, этот запас энергии со временем истощается и нуждается в периодическом восстановлении. Теория эта необоснована, да и научная идиома, с помощью которой она оформлена, критиковалась как первоисточник неверного понимания чужих представлений о причинности (Needham, 1976), так что предположение Ван Геннепа неудачно вдвойне. Но тем не менее проблема остается. Чем можно объяснить регулярные формы ритуалов перехода и регулярные способы трансформации символической классификации? Гипотеза психической энергии едва ли может применена в данном случае так, как предполагает формулировка Ван Геннепа, поскольку во многих обществах смена категории прекрасно может быть произведена без триадической структуры или манипуляций принципами классификации. Кроме того, даже если мы примем квазифизические предпосылки этой гипотезы, все равно останется совершенно неясным, каким образом символические процедуры предполагаются восстанавливающими утраченную энергию. Однако если идея Ван Геннепа не годится, то на протяжении многих десятилетий все еще остается неясным, какая теория здесь подходит.
Инверсия vs[11] инструментализм
Еще одна проблема, относящаяся к символизму ритуалов перехода, касается того, что мы выделили как константу инверсии или переворачивания. Эта процедура, хотя и является стандартным средством символической классификации и символического действия, не встречается с одинаковой частотой во всех обществах и даже наблюдается не во всех обществах, где одинаково делается акцент на символизме. Каково в таком случае объяснение этого обстоятельства?
Пикок предложил интересный общий принцип, имеющий весьма широкие следствия: «Классифицирующий взгляд на мир, – пишет он, – делающий акцент на объединении символом в пределах одного построения, питает символы переворачивания и питаем ими; инструментальный же взгляд, делающий акцент на применении средств к каким-либо целям, угрожает таким символам и подвергается угрозе с их стороны» (неопубликованная рукопись). Инструментальный взгляд на мир сводит все формы к простым средствам достижения безусловных целей, в то время как символы переворачивания «вызывают восхищение и благоговение перед теми космическими категориями, которые они в себя включают».
Это захватывающее предположение и сам набор выражений, в которых оно изложено (питание, антагонизм, восхищение, благоговение), показывают глубину проблемы и трудность подыскания подходящих терминов для ее решения. Можно предложить следующий ответ: не только инверсия несовместима с инструментальным или прагматическим взглядом на мир, но таково свойство символизма вообще, что инструментализм представляет угрозу для него. Однако к этому следовало бы добавить, что константа инверсии уже не сохраняет здесь своего значения в качестве диагностического свойства, а данная гипотеза ставит под вопрос сами условия существования символизма.
Общеизвестно, что различные общества прибегают к весьма различным уровням символической классификации, устраивая свои дела. Некоторые целиком находятся под ее владычеством, другие от нее почти освободились. Следовательно, очень важна проблема объяснения этого различия.
Одна только история Европы показывает, что символическая классификация распадается или сильно сужается в своем действии перед лицом научных и технических успехов. Средневековый англичанин жил в цивилизации, где не только его религиозная жизнь, но и способ, каким он пахал землю, определялись символическими указаниями. Современный фермер действует в рамках прагматической классификаций мира, используя средства метеорологии, химии почв, производительность механизмов. Цель того и другого – успешно вырастить урожай, так почему же обнаруживается такое различие в отношении к символизму? Если средневековый крестьянин «подчеркивал значимость» того, что он делает, опираясь на символическую классификацию, то что произошло с современным фермером, который, хотя и для него урожай представляет главный интерес, больше этого не делает?
Пикок верно указал (неопубликованная рукопись), что в антропологических исследованиях таких тем, как символическое переворачивание и дуализм, усиленно размышляли над вопросом: «Как и почему эти системы были трансформированы и разрушены натиском современного общества?» Перед лицом этой проблемы, как и перед лицом других, которые мы кратко перечислили, антропология показала себя либо безразличной, либо бессильной.
Однако символическая классификация, как бы ни была она истощена, никогда не умирает. «Символизм не просто праздная фантазия или разрушительная дегенерация: он содержится в самой ткани человеческой жизни» (Whitehead, 1927, р. 61–62). В этой вязкой и неподатливой сфере социального опыта, в формах, которые принимают символические категории, мы имеем дело с тем, что оказывается первичной и неустранимой склонностью мышления и воображения.
Библиография
Bateson, Gregory.
1936. Naven. Cambridge: At the University Press. (Second edition, Stanford University Press, 1958.)
Beidelman, Т.О.
1963. «Witchcraft in Ukaguru». In John Middleton and E.H. Winter, eds., Witchcraft and Sorcery in East Africa: 58–98. London: Routledge and Kegan Paul.
1964. «Pig (Guluwe): An essay on Ngulu sexual symbolism and ceremony». Southwestern Journal of Anthropology 20: 359-92.
1966a. «Swazi royal ritual». Africa 36: 373–405.
1966b. «Utani: some Kaguru notions of death, sexuality, and affinity». Southwestern Journal of Anthropology 22: 354-80.
1973. «Kaguru symbolic classification». In Rodney Needham, ed., Right & Left: 128-66. Chicago and London: University of Chicago Press.
Brandenstein, G.G. von.
1970. «The meaning of section and section names». Oceania 41: 39–49.
Covarrubias, Miguel.
1937. The island of Bali. London: Cassell.
Crocker, Christopher.
1969. «Men's house associates among the eastern Bororo.» Southwestern Journal of Anthropology 25: 236-60.
Cushing, Frank Hamilton.
1883. «Zuni fetiches.» Annual Report of the Bureau of Ethnology 2: 9-45.
1896. «Outlines of Zuni creation myths.» Annual Report of the Bureau of Ethnology 13: 321–447.
Das, Tarak Chandra.
1945 The Purums: an old Kuki tribe оЯManipir. Calcutta: University of Calcutta.
Douglas, Mary.
1966. Purity and danger: an analysts of concepts of pollution and taboo. London: Roudedge and Kegan Paul.
1975. Implicit meanings: essays in anthropology. London: Roudedge and Kegan Paul.
Durkheim, Emile.
[1915] The elementary forms of the religious life. Lranslated from the French by Joseph Ward Swain. London: George Allen and Unwin. (Reprinted by the Free Press, Glencoe, Illinois, 1947.)
Durkheim, Emile and Mauss, Marcel
1963. Primitive classification. Lranslated from the French and edited with an Introduction by Rodney Needham. Chicago: University of Chicago Press. (Fifth impression, with corrections, 1975.)
Duyvendak, J. P.
1954. Inleiding tot de ethnologie van de Indische Archipel. Djakarta.
Falkenberg, Johannes.
1962. Kin and totem. London: George Allen and Unwin.
Granet, Marcel.
1973. «Right and left in China». In Rodney Needham, ed., Right & Left: 43–58. Chicago: University of Chicago Press. (Originally published in French, Pans, 1933.)
Hertz, Robert.
1973. «Lhe pre-eminence of the right hand: a study in religious polarity». In Rodney Needham, ed., Right & Left: 3-31. Chicago and London: University of Chicago Press. (Originally published in French, Paris, 1909.)
Hocart, A.M.
1970. Kings and councillors: an essay on the comparative anatomy of human society. «Edited and with an Introduction by Rodney Needham; Foreword by E.E. Evans-Pritchard. Chicago and London: University of Chicago Press, (Originally published in Cairo, 1936.)
Malinowski, Bronislaw.
1922. Argonauts of the western Pacific. London: Roudedge and Kegan Paul.
Mauss, Marcel.
1954. The gift: forms and functions of exchange in archaic societies. Lransl. from the French by Ian Cunnison; Introduction by E.E. Evans-Pritchard. London: Cohen and West. (Originally published in French, Paris, 1925.)
Middleton, John.
1973. «Dual classification among the Lugbara of Uganda.» In Rodney Needham, ed., Right & Left: 369-90. Chicago and London: University of Chicago Press.
Needham, Rodney.
1962a. Structure and sentiment. Chicago: University of Chicago Press. (Fourth impression, with corrections, 1969.)
19626. Review of Falkenberg (1962). American Anthropologist 64: 1316-18.
1963. Introduction to Durkheim and Mauss (1963): vii-xlviii.
1966. Review of Vergouwen (1964). American Anthropologist 68: 1265-8.
1970. Editor's introduction to Hocart (1970): xiii-xcix.
1972. Belief language, and experience. Oxford: Basil Blackwell; Chicago: University of Chicago Press.
1973a. Right & left: essays on dual symbolic classification. Edited and with an Introduction by Rodney Needham; Foreword by E.E. Evans-Pritchard. Chicago and London: University of Chicago Press.
1973b. «Prescription.» Oceania 43: 166-81.
1974. Remarks and inventions: skeptical essays about kinship. London: Lavistock; New York: Barnes and Noble.
1975. «Polythetic classification: convergence and consequences». Man n. s. 10: 349-69.
1976. «Skulls and causality». Man n. s. 11: 71–88.
1978. Primordial Characters. Charlottesville, Va.: University Press of Virginia.
Peacock, James L.
1968. Rites of modernization. Chicago: University of Chicago Press.
[1973] «Symbolic reversal and social history: transvestites and clowns of Java». Unpublished manuscript.
Sperber, Dan.
1974. Lesymbolisme en general. Paris: Hermann. (English edition, Rethinking Symbolism, translated by Alice L. Morton, Cambridge University Press, 1975.)
Van Gennep, Arnold.
1960. The rites of passage. Translated by Monika B. Vizedom and Gabrielle L. Caffee. Chicago: University of Chicago Press. (Originally published in 1-rench, Paris, 1909).
Vergouwen J.C.
1964. The social organisation and customary law of the Toba-Batak of Sumatra. Translated by Jeune Scott-Kemball. The Hague: Nijhoff. (Originally published in Dutch, The Hague, 1933.)
Vygotsky Lev Semenovich.
1962. Thought and language. Edited and translated by Eugenia Hanfmann and Gertrude Vakar. Cambridge, Mass.: M. I. T. Press. (Originally published in Russian, Moscow, 1934.)
Whitehead, Alfred North.
1927. Symbolism: its meaning and effect. Cambridge: At the University Press. (Reprinted, 1958.)
Wittgenstein, Ludwig.
1969. The blue and brown books. Oxford: Basil Blackwell.
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: Needham R Symbolic Classification. Santa Monica, 1979, p. 1–74.
Перевод П.В. РезвыхЯзык и культурная реальность
Уорф Б. Язык, мышление и действительность1
I
Невооруженным глазом заметно, что в наши дни наука, эта Великая Разоблачительница современной западной культуры, сама того не желая, достигла своих пределов. Теперь ей предстоит либо объявить о своей смерти, сомкнуть ряды и прямиком отправиться в область нарастающей неизвестности, наполненной вещами, вызывающими шок у доселе барахтающегося в тенетах культуры сознания, либо, в противном случае, как образно выразился Клод Хутон, – влачить жалкое существование плагиатора собственного прошлого. Граница в принципе уже давно были распознана, и ей было дано имя, которое дошло до наших дней в густом облаке мифа. Имя ему – «Вавилон» (babel). Ибо многовековые героические усилия науки оставаться в строгих рамках факта как такового в итоге привели ее в сети непредвиденных реалий лингвистического характера. Эти реалии древняя классическая наука никогда не признавала, не понимала и не воспринимала за таковые. В отместку они прокрались в дом через черный ход и были признаны как субституты самого Разума.
Понятие «научное мышление» – типичный продукт индоевропейского языкового сознания, в недрах которого развились не только разного рода диалектики, но и различные диалекты. ЭТИ ДИАЛЕКТЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОНЯТНЫ ЛИШЬ ИХ НОСИТЕЛЯМ. Термин «пространство», например, не означает и НЕ МОЖЕТ означать одно и то же для психолога и для физика. Даже если психолог, трижды перекрестившись, твердо решит употреблять термин «пространство» в том же значении, что и физик, и только в нем, не иначе, то ничего у него получится. Не может же англичанин, говоря по-английски, употреблять слово «сантимент» в его французском значении, хотя «lе sentiment» французы пишут точно так же.
И в данном случае перед нами не одно из тех многочисленных, но незначительных языковых противоречий, которые с легкостью «щелкает» даже средней руки переводчик. Это орешек куда более твердый. Каждый язык, как общенародный, так и узкопрофессиональный, выражает некое мировоззрение, оппозиционное общепризнанным догмам и изощренно им противостоящее. Сказанное наиболее наглядно проявляется в том случае, когда язык не рассматривают в качестве феномена планетарного характера, но принимают как данность, а его местный идиолект, используемый отдельным мыслителем, объявляется глобальной общностью. Это не только искусственным образом отделяет одну отрасль науки от другой, это к тому же сдерживает научный дух в целом в отношении следующих важнейших шагов в своем развитии – шаг, который повлечет за собой появление новых неведомых доселе воззрений и ознаменует полный и окончательный разрыв с традицией. Ибо определенные языковые клише, закрепленные в научных диалектах – а зачастую и укорененные в матрице европейской культуры, из которой вышли все эти науки, и в течение долгого времени воспринимающиеся как собственно мышление per se, – уже изношены до дыр. Даже наука осознает, что они некоторым образом не отражают важнейших аспектов действительности, от адекватного отображения которой может зависеть весь дальнейший прогресс в постижении вселенной.
Таким образом, одна из важнейших грядущих задач, стоящих перед западным знанием, заключается в том, чтобы пересмотреть языковую основу своего мышления, и тем самым изменить собственно мышление. Я обращаюсь с этим к теософской аудитории не для того, чтобы поддержать или опровергнуть какую-либо из теософских доктрин. Дело скорее в том, что из всех групп людей, с которыми мне довелось общаться, именно теософы представляются наиболее заинтересованными в восприятии идей – новых идей. И моя задача – объяснить эту идею всем тем, кто (если западная культура переживет нынешний хаос варварства) может быть выдвинут самим ходом вещей на лидирующие позиции в деле переустройства будущего всего человечества.
Эта идея слишком революционна для того, чтобы ее можно было выразить одной ключевой фразой. Я предпочту оставить ее неназванной. Суть заключается в том, что ноуменальный мир – мир гиперпространства, высших измерений – ожидает того, чтобы его открыли для себя все науки, которые он сплотит и объединит, ожидает, чтобы его открыли в самом первом проявлении – в области ВЗАИМООТРАЖЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, невообразимо многообразных и в то же время обнаруживающих ощутимую близость богатой и системной организации ЯЗЫКА, в том числе основ родственных ему систем математики и музыки. Идея старше Платона и в то же время столь же нова, как революционные доктрины современных философов. Она содержится в мире восприимчивых сущностей (prehensive aspects) Уайтхеда, в релятивной физике с ее четырехмерным континуумом, в тензорном исчислении Римана-Кристоффеля, которое подытоживает СВОЙСТВА МИРА в каждый отдельный момент его существования; в то же время одной из наиболее оригинальных и провокационных с точки зрения мышления современных доктрин я считаю Tertium Organum Успенского. Единственная новая мысль, которую я хочу в этой связи высказать, заключается в ВЫРАЖЕННОМ В ЯЗЫКЕ ПРЕДЧУВСТВИИ неведомого, обширного мира – мира, лишь поверхностью или кожей которого является физический мир, В КОТОРОМ, однако, мы пребываем и КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИМ, поскольку математический подход к действительности, применяемый современным знанием, является лишь одним из специальных частных случаев этого отношения к языку.
Такая точка зрения подразумевает, что упомянутые мною свойства являются таковыми в космическом смысле, они формируют целое, подобно Gestalten1* в психологии. В дальнейшем развитии они объединяются в более глобальные единства. Таким образом, космическая картина имеет последовательный, или иерархический, характер. Она образуется различными плоскостями или уровнями. Отказываясь признавать последовательный характер картины, частные науки отрезают от мира отдельные куски, причем, возможно, поперек волокон, т. е. наперекор направлению естественных уровней, или же останавливаются, когда, достигнув точки глобальной смены уровней, феномен переходит в качественно иную категорию или выходит за рамки старых методов наблюдения.
Но в лингвистике факты, относящиеся к области языка, вынуждают признать существование различных уровней, каждый из которых определяется набором соответствующих характерных черт. Так при взгляде на стену, покрытую прихотливым рисунком, мы обнаруживаем, что он служит фоном столь же тонкого, но более броского орнамента, составленного из крошечных цветочков, а, вглядевшись в это флористическое пространство, замечаем, что мириады промежутков между растениями в свою очередь создают новый узор, образованный разнообразными завитками, группы которых обращаются в буквы; буквы, прочитанные в определенном порядке, образуют слова, распределенные по колонкам слова именуют и классифицируют сущности, а, продолжая распознавать все новые и новые взаимоперекрещивающиеся более сложные узоры, мы в конечном итоге понимаем, что эта стена не что иное, как великая книга мудрости!
Самый нижний уровень составляет чисто языковой феномен: физический, акустический феномен распространения звуковых волн; за ним следует физиолого-фонетический уровень сокращения мускулов и органов речи, затем – фонемный уровень, на котором выявляется система гласных и согласных звуков, ударений, интонаций, характеризующих каждый отдельный язык; затем – морфофонетический уровень, на котором «фонемы» предыдущего уровня объединяются в «морфемы» (слова и составные части слов, например суффиксы); затем следует морфологический уровень; затем – замысловатый, по большей части бессознательный уровень, который носит бессмысленное название синтаксис; далее следуют все более и более усложняющиеся единства, полный набор которых в один прекрасный день может обрушиться на нас, что явится весьма сильным потрясением.
Речь – лучшее, на что способен человек. Именно ею отмечена его «роль» в процессе эволюции, играя которую он появляется на фоне космоса, чем и «выполняет свою функцию». Есть, однако, подозрение, что всевидящие боги прекрасно понимают: строгая организация всех его проявлений в виде иерархии уровней от низшего к высшему, которая, собственно, и приводит к столь ошеломляющему результату, на деле была банальным образом украдена – у Вселенной!
Мысль о глубоком внутреннем родстве природы и языка, совершенно неведомая современному миру, была прекрасно известна многим высочайшим культурам, временные рамки существования которых на земле многократно превышают бытие западноевропейской культуры. В Индии одним из ее аспектов была идея МАНТРЫ и МАНТРИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. На элементарном культурном уровне мантра есть воплощение примитивной магии, знакомой наиболее грубым культурам. На высоком культурном уровне она приобретает иное, весьма интеллектуальное значение, имеющее отношение к внутренней связи языка и космического миропорядка. На более высоком уровне она обращается в «мантру-йогу». Там мантра становится многообразием сплетений осознавания, призванного облегчить внедрение сознания в ноуменальное бытие, вследствие чего она и «правит миром». Она может ПРОБУДИТЬ в организме человека колоссальные силы, которые обычно пребывают в состоянии зачаточном.
Похожим образом математическая формула, которая позволяет физику превратить несколько мотков проволоки, пластинок фольги, диафрагм и других вполне инертных и невинных приспособлений в агрегат, способный передавать музыку на огромные расстояния, возводит сознание физика на вершину, недоступную несведущему человеку, и делает возможным коренное изменение самой сущности, позволяя достичь невиданного проявления силы. Другие формулы позволяют расположить магниты и проволоку в генераторе таким образом, что, когда магнит (или, точнее, поле скрытых сил внутри и вокруг магнитов) приводится в движение, возникает сила, которую мы называем электрическим током. Мы далеки от того, чтобы описывать радио или электростанцию в терминах языкового процесса, но всё же, всё же… Необходимая математическая формула – это языковой аппарат, без правильно структурированной иерархии которого собранные приспособления будут являть собой инертное хаотическое нагромождение. Но математическая формула, используемая в этом случае, является СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ языковой формулой, предназначенной для того, чтобы сделать возможным проявление посредством исключительно металлических тел определенной силы, которую теперь мы называем ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ. Языковая формула мантры выявляет иные силы, направленные на переориентацию нервной системы и желез – или опять-таки скорее скрытых «электронных» и «эфирных» сил внутри и вокруг этих физических тел. Части организма, пока такое стратегическое переориентирование не осуществлено, представляют собой просто «невинные приспособления», лишенные энергии, подобно разрозненным магнитам и отдельным кускам проволоки, но ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ они обращаются в нечто непостижимое с точки зрения неорганизованных составляющих и приобретают способность пробуждать и активизировать скрытые силы.
Именно таким образом я хотел бы связать тонкую материю восточных идей мантры и йогического использования языка с уровневой или «плоскостной» организацией, являющейся основой структуры языка. Таким образом я подхожу к основному моменту своих рассуждений. Мы должны узнать больше о языке! Мы уже знаем достаточно много для того, чтобы понять, что язык является отнюдь не тем, чем его считает большинство людей, как ученых, так и неспециалистов. Иллюзия возникает из-за того, что мы говорим свободно, без усилий, не осознавая, какой сложный механизм при этом задействуется. Нам кажется, что мы знаем, как это делается; никакой тайны здесь нет – ответы на все вопросы в кармане. Но, увы! ответы эти ложны. Точно так же несовершенные органы чувств человека рисуют простую, осязаемую и вполне удовлетворительную картину мироустройства, которая весьма далека от истинной.
Подумайте, каким представляется мир умному и наделенному богатым житейским опытом человеку, который никогда ничего не слышал о научных открытиях в области строения вселенной. Земля для него плоская, солнце и луна – светящиеся объекты небольшой величины, которые ежедневно появляются на востоке, движутся по воздуху в вышине и исчезают на западе, – ночь они, разумеется, проводят где-то под землей. Небо – перевернутая чаша, сделанная из какого-то голубого материала. Звезды – крошечные точечки, расположенные совсем рядом и, вероятно, живые, потому что они «выбираются» на небо по вечерам, как кролики или гремучие змеи из своих норок, и ныряют в них обратно на рассвете. Понятие «солнечная система» не имеет для него никакого смысла, а словосочетание «закон всемирного тяготения» абсурдно и неосязаемо. По его мнению, предметы падают вниз, не подчиняясь этому закону, а потому, что «их никто не держит», поскольку представить себе что-либо иное он не в силах. Он не мыслит себе пространства вне понятий «верх» и «низ» или даже вне понятий «запад» и «восток». С его точки зрения, кровь не циркулирует по телу и сердце является не мощным насосом, перекачивающим ее, а местом, где живут любовь, доброта и мысли. Охлаждение представляет собой не процесс отдачи тепла, но дополнение к понятию «холод»; листья окрашены в зеленый цвет не благодаря содержанию в них хлорофилла, а из-за «зелености». И убедить его в том, что все совсем не так, невозможно. Он будет отстаивать свои представления как простые и соответствующие здравому смыслу, что означает лишь то, что они вполне его удовлетворяют, ибо полностью соответствуют КОММУНИКАТИВНОЙ СИСТЕМЕ, установившейся между ним и ему подобными. Иначе говоря, ЯЗЫКОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ их общественных потребностей вполне адекватно и останется таковым до тех пор, пока не возникнет некий новый ряд потребностей, требующих соответствующего языкового осмысления.
Но поскольку этот человек находится в определенных отношениях со Вселенной, явлением, о размерах и особенностях строения которой у него нет ни малейшего представления, все мы, от грубого дикаря до высокоученого мужа, пребываем в непрестанной зависимости от языка, его концепции. Только лингвистике удалось слегка проникнуть в эту область. Но для других отраслей знания ее достижения остаются совершенно неведомыми. Обычный человек, простак он или мудрец, знает о языковых силах, довлеющих над ним, не более, чем дикарь знает о силах гравитации. Он считает, что говорение – сфера, в которой он совершенно свободен и не испытывает никакого воздействия ни с чьей стороны. Он считает, что это – элементарный, обычный, донельзя понятный вид деятельности, и он может тому представить достаточные веские доказательства. Но выясняется, что эти доказательства – не более чем перечисление ПРИЧИН, ПОБУЖДАЮЩИХ ЕГО ВСТУПИТЬ В ОБЩЕНИЕ С КЕМ-ЛИБО. Они не имеют никакого отношения к самому процессу коммуникации. Так, он скажет, что думает о чем-то и находит слова для выражения своих мыслей «естественным путем», т. е. «они приходят сами». Но его объяснения того, почему при возникновении необходимости произнести что-то ему в голову приходят именно эти мысли, вновь оказываются перечнем его социальных нужд в данный момент. Это разочаровывающий ответ, который решительно ничего не объясняет. Но тогда он приходит к заключению, что и объяснять-то тут, собственно, нечего: процесс говорения, поскольку он прекрасно обслуживает возникающие общественные потребности, в дефинициях и умствованиях не нуждается. Иначе говоря, он ошибочно полагает, что мышление – ТРИВИАЛЬНЫЙ непосредственный вид деятельности, одинаковый для всех разумных существ, прямым выражением которого является язык.
В действительности же мышление – один из наиболее таинственных процессов, и все, что мы знаем о нем, получено посредством изучения языка. Это изучение показывает, что формы мыслительной активности личности контролируются неумолимыми законами моделирования, о которых сама личность не имеет ни малейшего понятия. Эти модели базируются на неосознанной запутанной систематизации родного языка, ярко проявляющейся при сои противопоставлении с другими языками, особенно если они принадлежат другой языковой семье. Само мышление непосредственно связано с языком, иными словами, человек мыслит на родном языке – английском, санскрите или китайском2. А любой язык представляет собой сложную и разветвленную систему моделей, отличную от других аналогичных систем, систему, посредством которой индивидуум не только осуществляет процесс общения, но и воспринимает окружающий мир, идентифицирует или оставляет без внимания различные типы явлений и взаимоотношений, определяет свои умозаключения и структурирует систему собственного сознания.
Эта доктрина нова для западного сознания, но она основывается на непреложных фактах. Более того, она хорошо известна в индийской философии и современной теософии. Ее неясность проистекает от того, что философские термины санскрита не вполне соответствуют значению употребляемого мной понятия «язык» в широком лингвистическом смысле. Такие термины как Nama скорее относятся к более частным понятиям – лексическому, фонетическому уровням. Возможно, наиболее близок европейскому термин Manas, которому вряд ли соответствует наше более обширное понятие «сознание». В широком смысле Manas – высший иерархический уровень в структуре мироздания – «манасический уровень», как его часто называют. И в этом случае опять-таки понятие «ментальный уровень» сильно запутывает представителей англоговорящих народов. Английское слово «ментальный» («mental») весьма неудачно, это слово в контексте нашей культуры стоит в одном ряду со словами, обозначающими понятия логического, умственного объяснения действительности, что подразумевает скорее софистическое трюкачество, а не порядок космической иерархии, характеризуемый процессом моделирования. Иногда Manas употребляется попросту как обозначение отдельной души; согласно м-ру Фрицу Кунцу именно этим обусловлено известное толкование парадокса Голос тишины: «Ум – величайший убийца действительности».
Считается, что на уровне Manas'a функционируют два подуровня – Rupa и Агара. Низший – царство «имени и формы», Nama и Rupa. «Форма» в данном случае подразумевает организацию в пространстве («нашем» трехмерном пространстве). В общем смысле это вряд ли сочетается с понятием «модель». A Nama, «имя», обозначает не язык, не всю его структуру, а только ее часть, один из уровней, уровень «именования» или процесса «наименования», т. е. присваивания определенных имен определенным фрагментам общей картины познания, при этом поименованные фрагменты оказываются в вынужденной изоляции от остального. Так, слово «небо» (sky), которое в английском языке трактуется как «нечто предметное» (небо, небеса, небосвод, небосклон, кусочек неба и т. д. – the sky, a sky, skies, some skies, a piece of sky etc.), заставляет нас представить себе некое оптическое явление, отражающее относительно изолированные цельные твердые объекты. Слова «холм» (hill) и «болото» (swamp) убеждают нас в том, что окружающие структуры почвенной организации земли являют собой отдельные ПРЕДМЕТЫ, наподобие столов и стульев. Любой язык по-своему производит такое искусственное расчленение непрерывного потока действительности. Слова и речь не одно и то же. Как мы увидим позже, синтаксические структуры, т. е. модели, по которым строятся предложения, в свою очередь организующие слова, куда более важны, нежели чем слова сами по себе.
Таким образом, уровни Rupa и Nama – сегментации и именования – являются частью языковой организации, но частью рудиментарной и несамодостаточной. Все зависит от высшего уровня организации – уровня, на котором появляются КОМБИНАТОРНЫЕ СХЕМЫ. Это уровень Агара – уровень модели мира как таковой. Агара, «бесформенное», означает не «не имеющее языковой формы или организации», но «не имеющее отношения к пространственной, видимой форме, выделенной в окружающем», что, как мы убедились на примерах слов «холм» и «болото», является существеннейшей характерной чертой референции на лексическом уровне. Агара – сфера моделей, которые могут быть «воплощены» во времени и пространстве посредством единиц более низких уровней, пребывая вне этих категорий. Эти модели похожи не на значения слов, а на реализацию значений слов в предложениях. Они подобны не отдельным предложениям, но СХЕМАМ предложений и образцов конструкций предложений. Зафиксированное в индивидуальном сознании «мышление» лишь частично может осознать модели такого рода посредством использования математических или грамматических ФОРМУЛ, в которых вместо переменных можно подставлять слова, значимости, качества и пр. Приведем достаточно простой пример.
Именно благодаря возможностям «культуры сознания» можно войти в прямой контакт с уровнем Агара ментального плана. В книге Успенского «Новая модель (model) вселенной» описаны захватывающие моменты просветления, достижения уникального состояния ума, которого добивался философ, – всего лишь отблески, разумеется, потому что эти совершенно «невербализуемые» перспективы не могут быть правильно воплощены в слова. Он говорит о царстве «движущихся иероглифов», полностью состоящих из «математических отношений», об экспансии и разветвлении этого «иероглифа», продолжающихся до тех пор, пока он не покрывает собой целый фрагмент вселенной. Вероятно, математические пристрастия Успенского, тот факт, что он изучал неевклидову геометрию, гиперпространство, отношения между временем и сознанием, привели к тому, что главным образом он обращается именно к математическим аналогиям. Математика выработала свой особый язык, состоящий из предложений, содержащих числовые слова 1, 2, 3, 4… х, у, z и пр. Но любой другой тип предложения какого угодно языка является потенциальным ядром системы, способной к значительному расширению. Очень немногие способны достичь такого состояния, как Успенский, но большая часть математиков и лингвистов может сказать, что они «видели», как при вспышке молнии, целую систему взаимоотношений элементов, относительно которых нельзя было даже предположить, что они способны оформиться в некое единство. Гармония и научная красота целой обширной системы немедленно ввергает человека в состояние эстетического восторга. Если, к примеру, «увидеть», как все элементарные звуки английского языка («фонемы») и их сочетания объединяются согласно сложному, но системному закону во все возможные формы односложных слов, значимых или бессмысленных, существующих или пока немыслимых, исключая все другие формы так же, как химическая формула раствора предотвращает появление любых кристаллов, кроме строго определенных, – то это может стать ясным опытом.
Чтобы целиком продемонстрировать формулу этого закона или модели – так называемую «морфофонемную структурную формулу», – мне бы потребовалось очень много места. Поэтому я попытаюсь представить сокращенный ее вариант3:
О, С – ng, С1С2, С3С4, etc.
s ± CmCn + V + (v1)O, ± (r, w, у);
С – h, C'1C'2, C'3C'4, etc….
C'mC'n ± (t/d, s/z, st/zd).
Эта формула подразумевает, что английские слова могут быть выражены, или «транскрибированы», по правилам стандартной фонетической транскрипции, описанной Леонардом Блумфилдом в книге «Язык». Согласно этой системе дифтонги отображаются чистым гласным (V), за которым следует w или у из ряда r, w, у; таким образом, «note» (замечание) отображается как nowt (или newt в зависимости от диалекта), «date» (дата) как deyt, «ice» (лед) как ays. Корректность такого анализа на физическом или акустическом уровне доказывается следующим образом: если мы воспроизведем пленку с записью слова «ice» наоборот, мы услышим звук, похожий на sya, а если мы правильно произнесем в микрофон фонографа sya и прокрутим пленку наоборот, то услышим ice. Для английского языка справедливость такого анализа можно доказать и на структурном уровне, который на два уровня выше акустического: ys или ays (ice – лед) расположено на одной плоскости с Is или els (else – еще), ns в sins (since – с тех пор как), ts в hats (шляпы) и т. д., – что является частью схемы общей архитектоники контактного расположения двух согласных.
Скобки в формуле обозначают «или», следовательно, сама формула эквивалентна длинному ряду дочерних формул. Одной из простейших является О + V + С – h (см., как она содержится в большой формуле), которая показывает, что слово может начинаться не с согласной, а с любой гласной, за которой следует любая согласная, кроме h; эта формула дает нам такие слова, как «at, or, if» («y или, если»). Поменяв первый член на следующий символ из большой формулы, получим С – ng + V + С – h; это означает, что слово, оканчивающееся, как и предыдущее, может начинаться с любого согласного, существующего в английском языке, кроме сочетания ng, как в слове «sing» – «петь» (звук ng должен обозначаться ОДНИМ значком, но, принимая во внимание интересы издателей, я сохраняю привычный диграф). По этой модели образуется длинная череда слов, напр. «hat, bed, dog, man» («шляпа, кровать, собака, человек»), и допускается образование новых, напр. «tig, nem, zib», но вместе с тем необходимо отметить, что появление слов типа «ngib» или «zih» невозможно. Так что модели весьма просты. Но тут-то они и начинают усложняться, запутываться! Представленная в таком сокращенном виде формула нуждается в дополнении – списке согласных, расклассифицированных, как белье в прачечной, причем каждой группе должен быть присвоен соответствующий символ: С1, С2 и т. д. Формула С1С2 означает, что слово может начинаться с любого согласного из списка С1 за которым следует любой символ списка С2, в котором оказывается всего два члена: r и 1. Поскольку список C1 содержит р, b, f, можно образовать такие слова как «pray play, brew, blew, free, flee» («молиться, играть, заварка <чая>, дул <прошедшее от «дуть»>, свободный, удирать»), а также бессмысленные «frig, blosh» и т. д. Предположим, однако, что нам нужно слово, начинающееся с sr, zl, tl или dl. Мы обращаемся к списку С1, но к нашему изумлению s, z, t или d в нем отсутствуют. Остолбенев, мы бросаемся к другим спискам, но и там ничего нет! Сколько бы мы ни перетасовывали списки, ориентируясь на формулу, эти сочетания найти не удастся. Становится очевидно, что таких слов в английском языке попросту нет; более того, даже Льюис Кэрролл и Эдвард Лир по каким-то таинственным причинам не образовывали новых слов с такими сочетаниями. Это показывает, что процесс словообразования нельзя назвать абсолютно свободным, даже сумасшествия литературы нонсенса подчиняются строгим законам использования материала в соответствии с определенными моделями. Человек, пытающийся создать форму, изначально не заложенную в структуре моделей данного языка, уподобляется повару, возжелавшему приготовить яичницу без яиц!
Таким образом, формула содержит все возможные комбинации, которые могут встретиться в английских односложных словах или словоформах, и отсекает те, которых нет и не может быть. Согласно формуле, допустимы сочетания типа mpst (glimpsed – мельком взглянул), ksths (sixths – шестые), ftht (he fifthed it – он рассчитал это на пять), nchst в странной, но возможной фразе thou munchst it greedily – ты жадно это сжевал <архаическая форма>), равно как и сотни других «шероховатостей, притирающихся к нашему рту в процессе речи», но от которых «Квинтиллиан остолбенеет и задохнется». В то же время формула ОТСЕКАЕТ многие благозвучные, но сложные для нас как не соответствующие модели сочетания типа litk, fpat, nwelng, dzogb и многие другие, которые вполне могут встретиться и стать нормой в любом другом языке, кроме английского.
Очевидно, что в нашей системе односложных слов содержится невероятная по строгости структуры организация и что старая присказка «скажи одним словом», как метафора простоты, при более пристальном взгляде оказывается удивительной чушью! В то же время в этом высказывании содержится неосознанное признание справедливости того, что люди, просто и свободно использующие многообразные сложнейшие системы, существующие в языке, слепы и глухи к самому факту существования таких систем, и отказываются признавать их наличие до тех пор, пока последнее не будет им наглядно и с большим трудом продемонстрировано.
В данном случае как нельзя более применима старинная поговорка «как вверху, так и внизу». «Как внизу», т. е. на фонологическом уровне, так и «вверху», т. е. на высших уровнях языка, которые мы называем выражением мысли, значимое воплощение регулируется моделями, лежащими вне сознания индивидуума. Как мы увидим в части II, мышление также следует направлениям, заложенным в данном языке, являет собой организацию, которая может систематически концентрироваться на определенных фазах действительности, аспектах рассудка, и так же систематически отчленять иные черты реальности, находящие выражение в других языках. Личность ничего не подозревает о существовании такой организации, будучи при этом крепко связанной ее неразрывными путами.
II
В части I мы показали, что в языковом и ментальном феномене значимое поведение (или, что то же самое, и поведение, и значимость, до тех пор, пока они соединены) управляется особой системой или организацией, «геометрией» формообразующих принципов, особых для каждого языка. Эта организация навязывается извне узкому кругу индивидуального сознания, превращая это сознание в простую марионетку, языковые движения которой управляются невидимыми и неразрывными нитями модели. Можно представить, что индивидуальное сознание, осуществляющее выбор слов, не замечая модели, в соответствии с которой происходит этот процесс, управляется более высоким и развитым сознанием, которое не имеет представления о кроватях и суповых котелках, но может производить систематизирующую вычислительную деятельность на таком уровне и в таком диапазоне, которые и не снились математикам всех существовавших и ныне существующих школ.
В этом плане все люди одинаковы – вот основа и доказательство всеобщего человеческого братства. С точки зрения систематизации языка, и высоколобый умник, и «дикий» папуасский охотник за головами производят вычисления так же, как Эйнштейн; справедливо и обратное: ученый и деревенский мужлан, интеллектуал и воин африканского племени – все они отличаются тем, что их индивидуальное сознание блуждает в тумане и сами его носители пребывают в одном и том же логическом тупике. Они не имеют представления о прекрасных и неисследованных системах, повелевающих ими, как стадо коров не знает о существовании космического излучения. Их понимание процессов, задействованных в организации речи, и логических умозаключений, чисто прагматично и весьма поверхностно, оно сравнимо с пониманием маленькой Сью Смит радио, которое она включает, чтобы послушать вечернюю сказку. Люди даже проявляют сильное желание превратить это невежество в достоинство, считая усилия, направленные на постижение принципов проистекания умственного процесса чем-то «непрактичным», приклеивая им ярлык «теории», если говорящий – необразованная деревенщина, или «метафизики», «мистицизма», «эпистемологии», если говорящий облачен в докторскую мантию. В частности, западная культура нехотя признает некоторые заслуги исследователей в этой области и сквозь зубы процеживает скупые слова одобрения, хотя ей приходится признать естественное человеческое стремление постичь язык, как бы таинствен он ни был, – самый привлекательный из объектов познания – то, о чем люди любят говорить, насчет чего предпочитают по-дилетантски умствовать, бесконечно обсуждая значение слов или странность речи жителя Бостона для уроженца Окшота и наоборот.
Высший разум способен на любой интеллектуальный подвиг, но абсолютно «невежествен» на уровне индивидуума. Иначе говоря, он не сосредоточивается на личном эго в его персональном, сиюминутном развитии. Пребывая во сне или в особом умственном состоянии, мы можем предположить, что на его уровне допустимо говорить об осознанности, иногда эта осознанность может даже «спуститься» до обычного человеческого уровня, но, отвергая такую технику, как йога, мы сами обрываем узы, связующие его с сознанием индивидуума. Можно назвать это высшим эго (принимая во внимание отчетливые характерные черты, проявляющиеся посредством любого языка), отметить его поразительное сходство с индивидуальным «я»: имеется в виду тот факт, что оно ориентирует свои системы вокруг ядра из трех или более местоименных «личных» категорий, центром которых является то, что мы бы назвали первым лицом единственного числа. Оно может функционировать в рамках любой языковой системы – ребенок может выучить любой язык с одинаковой готовностью, от китайского с его тоновой структурой, выделяющей каждый отдельный слог, до языка нутка, распространенного на острове Ванкувер, для которого характерны однословные предложения подобно mamamamamahln'iqk'-okmaqama – «каждый из них сделал так, потому что это характерно для тех, кто похож на белых людей»4.
Систематическая, конфигуративная природа высшего разума, «модельный» аспект языка всегда главенствует и управляет процессом образования лексем или именования (Nama). Следовательно, значение отдельных слов менее важно, чем мы наивно полагаем. Суть речи не в словах, а в предложениях, так же как уравнения и функции, а не цифры составляют плоть математики. Все мы ошибаемся, считая, что у каждого слова есть свое «точное значение». Мы уже убедились, что высший разум оперирует символами, которые не имеют однозначной связи с чем бы то ни было; они скорее похожи на бланки чеков, которые следует заполнить в соответствии с правилами; в них может быть проставлена любая сумма из указанного ряда, они подобны С и V из формулы, приведенной в части I, или переменным х, у, z в алгебре. Только в сдвинутом западном сознании господствует представление о том, что алгебра – величайшее открытие античности; человечество бессознательно использовало ее миллиарды лет! По той же причине древние майя или индусы, разработавшие ошеломляющие циклы астрономического исчисления, были не более чем обычными людьми. Не следует, однако, ошибочно считать, что слова, даже употребляемые носителем неразвитого сознания, расположены на противоположном полюсе по отношению к этим символам, что слово действительно имеет точное значение, обозначает данную вещь, вычленяет одну значимость из ряда.
Даже люди не самого далекого ума начали потихоньку осознавать, что язык имеет алгебраическую природу, что слова расположены где-то посередине между переменными символами чистых моделей (Arupa) и истинными неизменными качествами. Та часть значения, которая содержится в словах и которую мы можем назвать «референцией», фиксирована лишь относительно. Референция слов находится в полной зависимости от предложений и грамматических моделей, в которых они употребляются. Приходится лишь удивляться тому, до какой степени ничтожным может стать этот элемент значения. Предложение «я прошел весь путь до этого места только для того, чтобы увидеть Джека» содержит только один конкретный неизменный референт – «Джек». Все остальное – образец, ни к какому значению конкретно не прикрепленный, даже глагол «увидеть» отнюдь не означает, что говорящий имел в виду именно визуальный образ.
Или, опять-таки, имея в виду реферативный аспект лексического значения, мы говорим о расчленении понятия «размер» на несколько классов – маленький, средний, большой, огромный и пр. – в то время как размер как таковой ни на какие классы не делится, а является лишь чисто релятивным континуумом. Тем не менее мы представляем себе размер именно в виде группы классов, поскольку язык подразделил и поименовал это понятие именно так. Числительные могут относиться не к числам, которые считают, а к классам чисел, границы которых весьма эластичны. Английское «немногий, немного» («few») определяет свой уровень относительно размера, значимости или редкости референта. «Немногие» короли, сражения или алмазы может означать три или четыре, в то время как «немного» горошин, капель дождя или чаинок может означать тридцать или сорок.
Вы можете сказать: «Да, всё это справедливо относительно таких слов, как "большой", "маленький" и им подобным, они действительно представляют собой чисто релятивные образования, но такие слова как "собака", "дерево", "дом" обозначают весьма конкретные предметы, а это уже совсем другое дело». Отнюдь. Эти слова – того же поля ягоды, что и «большой», и «маленький». Слово «Фидо», сказанное определенным человеком при определенных обстоятельствах, может указывать на отдельную особь, но слово «собака» обозначает класс явлений с весьма размытыми границами. Границы слов, принадлежащих этому классу, сильно рознятся в различных языках. Вам вольно думать, что слово «дерево» означает одно и то же для всех и везде, но это не так. Польское слово одновременно обозначает «дерево» и «древесину». Лишь контекст или грамматическая модель позволяет определить, что именно обозначает польское слово (или слово, сказанное на любом другом языке). В хопи, языке индейцев штата Аризона в Северной Америке, слово, которое переводится как «собака» («pohko») обозначает также щенка или любое домашнее животное. Так «орленок» на языке хопи дословно переводится как «орел-собака», а, закрепив это слово в определенном контексте, индеец хопи может в следующий раз назвать того же орленка таким-то-таким-то «pohko».
Но давайте отбросим эти примеры и будем считать их причудами «примитивных» языков (хотя это выражение бессмысленно – «примитивных» языков не существует), давайте бросим взгляд на наш любимый английский. Возьмем слово «рука» («hand») В словосочетании «его рука» («his hand») речь идет о части человеческого тела, в словосочетании «часовая стрелка» («hour hand») – о разительно непохожем предмете, в выражении «руки на палубу» («all hands on deck») – к иному референту в выражении «он хороший садовод» – «a good hand at gardening» – к другому во фразе «у него на руке лежала хорошая карта» («he held a good hand (at cards)») – опять-таки к другому в то время как фраза «у него все козыри на руках» («he got the upper hand»), – вообще не имеет референта, растекаясь по моделям ориентации. Или рассмотрим слово «bar» в словосочетаниях «iron bar» – железный прут, «bar to progress» – препятствие на пути к прогрессу, «he should be behind bars» – его надо засадить за решетку, «studied for the bar» – учился на адвоката, «let down all the bars» – отменить все ограничения, «bar of music» – музыкальный бар, «sand bar» – песчаный нанос, «candy bar» – кондитерский прилавок, «mosquito bar» – противомоскитная сетка, «bar sinister» – черная полоса на гербе незаконнорожденного, «bar none» – без всяких исключений, «ordered drinks in the bar» – заказал выпивку в баре!
Но вы можете возразить, что в данном случае речь идет об известных идиомах, а не о научном или логическом использовании языка. В самом деле? Предполагается, что слово «электрический» – научное слово. Знаете ли вы что «электрический» в сочетании «электрический аппарат» («electrical apparatus») означает отнюдь не то же самое, что в сочетании «эксперт по электрике» («electrical expert»)? В первом случае этим словом обозначается течение электрического тока в приборе, во втором же речь отнюдь не идет о проистекании электрического тока внутри эксперта. Когда слово «группа» обозначает последовательность временных фаз или кипу статей, валяющихся на полу, говорить о референции можно лишь весьма и весьма условно. Референты научных слов зачастую удобно-расплывчаты и находятся в явной зависимости от моделей, в которых они употребляются. Представляется весьма вероятным, что эта тенденция, вместо того, чтобы быть опознавательным знаком мещанства, наиболее часто проявляется в интеллектуальной речи и – mirabile dictu – в языке любви и поэзии! И так и должно быть, поскольку сходство науки, поэзии и любви в том, что они «парят» в небесных высях, вдали от рабского мира прямых соответствий (референций) и банальных прозаических деталей, стремятся расширить жалкую узость зашоренного взора отдельного человека, рвутся ввысь к Arup'е, к миру вечной гармонии, родства душ и порядка, к миру неизменных истин и нетленных сущностей. А коль скоро все слова в достаточной степени ничтожны и подтверждают старую истину о «букве, которая убивает», очевидно, что научные термины, такие как «сила, средняя величина, секс, аллергический, биологический» не менее ничтожны и в то же время не более референциально определенны, чем «сладкий, витиеватый, экстаз, очарование, ревностно, звездная пыль». Возможно, вы слышали о «звездной пыли» – что это? Это мириады звезд, сверкающая пыль, почва планеты Марс, Млечный путь, грезы наяву, поэтическое воображение, самовоспламеняющееся железо, спиральная туманность, пригород Питтсбурга или популярная песенка? Вы этого не знаете, и никто этого не знает. Слово – потому что перед нами одна ЛЕКСЕМА, а не две – референта не имеет. Некоторые слова именно таковы5. Как мы убедились, референция играет незначительную роль в структуре лексического значения, модель – главенствующую. Наука, которая занимается поисками истины, – всего лишь разновидность божественного безумия, такого, как любовь. А музыка – разве она не принадлежит тому же классу явлений? Музыка являет собой квазиязык, целиком основанный на моделях, в котором лексемность отсутствует полностью.
Иногда господство модели над референцией приводит к ошеломляющим результатам. Это происходит в том случае, если модель порождает значения, полностью противоречащие оригинальной лексемной референции. Неразвитый ум впадает в кому, будучи не в силах понять, на основании каких законов происходят столь странные процессы, и с радостью и облегчением бросается в омут своих любимых объяснений, подчас умудряясь «видеть» и «слышать» вещи, подтверждающие такого рода объяснения. Слово «спаржа» («asparagus») под действием чисто фонетических законов, модель которых представлена в части 1, превращается в «мелкую траву» («sparagras»), а поскольку диалектизм «sparrer» означает «воробей» («sparrow»), мы получаем загадочную «воробьиную траву» («sparrow grass») и впоследствии с почти религиозным почтением связываем воробьев с этой «травой». «Салат из сырой капусты, моркови, лука» («Cole slaw») происходит от немецкого Kohlsalat («капустный салат»), но воздействие модели обращает это выражение в «холодную шинкованную капусту» («cold slaw»), в результате чего в ряде районов появилась новая лексема «шинкованная капуста» («slaw») и новое блюдо «горячая шинкованная капуста» («hot slaw»)!2* Дети, разумеется, постоянно нарушают модели, но под воздействием примера старших их язык становится нормативным. Они осознают, что Миссисипи – это не мисс. Сиппи, а экватор – не лев из зоопарка («menagerie lion»), а воображаемая линия («imaginary line»). Однако, иногда взрослое население не обладает достаточным запасом специальных знаний, чтобы восстановить правильное словоупотребление. В некоторых частях Новой Англии определенная разновидность персидских кошек называется «енотообразной» («Coon cat»), и это название привело к тому, что персидские кошки стали считаться гибридом кота и енота («raccoon»). Люди, несведущие в биологии, искренне считают, что это правда, поскольку влияние лингвистической модели (название животного-1 определяет название животного-2) заставляет их «видеть» (или, как говорят психологи, «проецировать») характерные черты енота во внешнем облике персидской кошки: они указывают на пушистый хвост, длинную шерсть и т. д. Я лично знал одну женщину, хозяйку прекрасной «енотообразной кошки», которая доказывала своему приятелю: «Слушай, достаточно просто ПОСМОТРЕТЬ на нее – на хвост, на забавные глазки – неужели не видно?» —»Не будь дурочкой, – отвечал ей более сведущий знакомый, – вспомни естественную историю. Еноты не могут спариваться с кошками – они принадлежат разным семействам». Но дама была настолько уверена в себе, что обратилась к известному зоологу, чтобы тот подтвердил ее правоту. Говорят, что он дипломатично ответил: «Если вам нравится так считать, считайте». – «Он еще более жесток, чем ты!» – обрушилась она на своего приятеля, и до конца своих дней пребывала в святой уверенности, что ее киска являлась плодом союза енота-ловеласа и сбившейся с пути истинного кошки. Вот так в более глобальных масштабах и плетется паутина майа – иллюзия, порождаемая гипертрофированным самомнением. Мне говорили, что название «енотообразные кошки» («coon cats») не имеет никакого отношения к енотам и произошло от фамилии некоего капитана Куна3*, который когда-то привез на своем корабле первых персидских кошек в штат Мэн.
В более сложных вопросах все мы неосознанно проецируем лингвистические отношения, характерные для определенного языка, на всю вселенную, и ВИДИМ их там, как добрая леди ВИДЕЛА, как языковая этимологическая связь («coon – raccoon») наглядно воплощалась в облике ее любимицы. Мы можем «видеть эту волну» – та же модель, что и «видеть этот дом». Но без проекции на язык никто никогда никакой волны не видел. Мы видим ундуляцию – непрерывное волнообразное движение некоей поверхности. В некоторых языках отсутствует выражение «одна волна», и в этом плане они более точно отображают действительность. Хопи говорят walalata – «волнение, волнообразное движение» и при этом могут обратить внимание на одно место в этом «волнении», т. е. на одну волну, как и мы. Но, поскольку одна волна сама по себе существовать не может, форма единственного числа этого слова – wala означает не «одну волну» («a wave») в нашем понимании, а «хлюпанье» или, точнее, «хлюп» («a slosh occurs») – звук, который слышится, если встряхнуть сосуд с жидкостью.
Выражения «я держу это» («I hold it»), «я бью это» («I strike it»), «я рву это» («I tear it»), равно как и сотни других выражений, обозначающих действие, вызывающее изменение в чем-то, строятся в английском языке по одной модели. Но «держать» («hold») по сути своей не является действием, – этот глагол обозначает состояние взаимосвязанности. Но мы воспринимаем его, и даже видим его как действие, поскольку язык устанавливает в данном случае взаимоотношения, аналогичные гораздо большему классу отношений, обозначающих движение и изменение. Мы ПРИПИСЫВАЕМ действие тому, что называем словом «держать», потому что формула «субстантив + глагол = деятель + производимое им действие» для структуры наших предложений является основополагающей. Поэтому нам приходится во многих случаях привносить в естественную ситуацию искусственное отношение действия попросту из-за того, что модель нашего предложения предписывает (за исключением императива) постановку глагола после субстантива. Мы обязаны сказать «он зажегся» или «свет зажегся», определяя таким образом «свет» как деятеля, а «зажегся» как действие. Но вспышка и свет – одно и то же, здесь нет ни действия, ни деятеля. Хопи в таком случае говорят просто rehpi. Хопи могут употреблять глагол без субъекта, и эта особенность позволяет языку как логической системе понять определенные аспекты космоса. Язык науки, основанный на западном индоевропеизме, а не на языке хопи, поступает подобно нам: видит действие там, где есть только состояние. Или вам кажется невероятным, что ученые, как леди с кошками, неосознанно проецируют лингвистические модели языка определенного типа на всю вселенную и ВИДЯТ их воплощения в самой природе? Изменение языка может трансформировать наше восприятие Космоса.
Все это типично для неразвитого личного ума, затерявшегося в безбрежном мире, который невозможно познать известными уму методами: он использует странный дар языка, чтобы сплести паутину майа или иллюзии, чтобы произвести собственный предварительно-условный анализ действительности и потом посчитать его окончательным. Привязанность к иллюзии закреплена в западном индоевропейском языке, и путь избавления от иллюзий для Запада заключается в том, чтобы расширить границы познания языка, выйти за пределы индоевропеизма. В этом заключается «мантра-йога» западного сознания, следующий шаг, который он сейчас уже готово сделать. Возможно, наиболее подходящим для западного человека будет начать развивать ту «культуру сознания», которая приведет его к великому озарению.
Опять-таки, посредством такого рода понимания языка достигается гораздо большая сплоченность людей. Ведь научное изучение самых различных языков – не обязательно говорить на них, достаточно проанализировать их структуру – есть урок единства, братства как универсального человеческого принципа – братства «Сынов Манаса». Этот процесс заставляет нас преодолеть границы отдельных культур, национальностей, физических особенностей, называемых «расами», и обнаружить, что в своих языковых системах, хотя эти системы весьма различны, в их организации, красоте и гармонии и в их редкостной тонкости и проницательности в области отражения действительности, все люди равны. Этот факт независим от уровня развития материальной культуры, от варварства или цивилизованности, морали и нравственности, что больше всего удивляет культурного европейца, что шокирует его, что для него – как горькая пилюля! Но это правда; грубейший дикарь может неосознанно безо всяких усилий использовать настолько сложную, разносторонне разработанную и интеллектуально сложную языковую систему, что для описания механизмов ее функционирования нашим лучшим ученым умам требуется целая жизнь. Манасическая плоскость и «высшее эго» было дано всем, и эволюция человеческого языка была завершена и распространена в своей гордой полноте повсеместно по планете во времена куда более древние, чем все цивилизации, остатки которых ныне покоятся в земле.
Лингвистические знания позволяют понять многие прекрасные системы логического анализа. Посредством него мир, рассмотренный с разных точек зрения иных социальных групп, считавшийся нами враждебным, становится понятным на новом уровне. Враждебность обращается в зачастую многое проясняющую новизну взгляда на вещи. Возьмем, к примеру, японцев. Отношение к ним с точки зрения политики, проводимой их правительством, предполагает что угодно, только не братство. Но подход к японцам с точки зрения их эстетики и научного восприятия их языка в корне меняет картину. ЭТО и означает установить родство на свободном от национальных предрассудков уровне духа. Одной из очаровательных моделей этого языка является то, что в предложении может быть два разноуровневых подлежащих. Нам привычна мысль о двух типах ДОПОЛНЕНИЙ к нашим глаголам, обозначающих немедленную и несколько более отдаленную цель, или прямое и непрямое дополнение, как их обычно называют. Кажется, нам никогда не приходила в голову мысль о возможности такой же структуры по отношению к ПОДЛЕЖАЩИМ. Однако эта идея осуществлена в японском языке. Два подлежащих – назовем их подлежащее 1 и подлежащее 2 – маркируются частицами wa и ga, и на диаграмме их можно изобразить в виде линий, идущих от каждого подлежащего и сходящихся в одном сказуемом, в то время как наше английское предложение имеет всего одну линию, идущую от одного подлежащего. К примеру фраза «В Японии много гор» звучала бы так: «Япония1 гора2 (суть) много»6 или «Япония, с точки зрения ее гор, многочисленна». «Джон длинноног» звучало бы как «Джон1 нога2 (суть) длинный». Эта модель придает слогу краткость, выразительность и в то же время большую точность. Вместо нашей расплывчатой фразы «в Японии много гор» японец четко разграничивает, что «много гор» может означать, что в стране наиболее распространены невысокие горы, а может означать, что горы, которые выше обычных применительно к данной стране, нераспространены. Мы видим, как логическое использование этой модели позволяет японцам производить компактные научные операции с идеями, если, конечно, преимущества этой модели будут правильно разработаны.
Как только мы приступаем к научному неуклонному ИЗУЧЕНИЮ языка, мы обнаруживаем в наиболее непривлекательных людях и культурах красоту, эффективность и научные средства выражения, неведомые западным индо-европейским языкам и менталитетам. На алгонкинских языках говорят люди весьма простые, это индейцы – рыбаки и охотники, но они – чудо анализа и синтеза. Одной из грамматических красот, характерных именно для них, является обвиатив. Это означает, что в их языке местоимения имеют четыре лица, а не три, или, с нашей точки зрения, два третьих лица. Это позволяет компактно описывать сложную ситуацию, для чего нам приходится прибегать к громоздким фразеологизмам. Давайте обозначим третье и четвертое лицо, добавив к местоимениям цифры 3 и 4. Алгонкин мог бы рассказать историю про Вильгельма Телля следующим образом: «Вильгельм Телль позвал своего3 сына и сказал ему4 принести ему3 его3 лук и стрелу, которые4 он4 затем ему3 принес. Он3 заставил его4 стоять смирно и положил на его4 голову яблоко, а потом взял свой3 лук и стрелу и велел ему4 не бояться… Потом он3 выстрелом сбил его4 с его4 головы, не причинив ему4 вреда». Такое языковое средство сильно помогло бы нам в юриспруденции, позволив описывать сложные правовые ситуации, не прибегая к выражениям типа «часть первой части» или «вышеупомянутый Джон Доу, со своей стороны» и т. д.
Чичева, язык, родственный зулу, на котором говорит не имеющее письменности негритянское племя, которое живет в Восточной Африке, имеет два прошедших времени; одно для обозначения событий, происшедших в прошлом, результат или влияние которых наблюдается в настоящем, и второе для событий, происшедших в прошлом, и не имеющих отношения или не воздействующих на настоящее. События прошедшего, зафиксированные во внешних проявлениях, отделяются, таким образом от событий, сохранившихся только в памяти. Следовательно, перед нами открывается новый взгляд на ВРЕМЯ. Обозначим цифрой 1 первое прошедшее и цифрой 2 второе прошедшее. А теперь укажем особенности речи чичева. Я пришел1 сюда, я пошел туда; он болел2, он умер1. Христос умер2 на кресте, Бог создал1 мир. «Я ел1» означает, что я не голоден – «Я ел2» означает, что я голоден. Если вам предложат пищу и вы ответите «Нет, спасибо, я уже поел1, то это будет нормальный ответ, если вы скажете «Нет, спасибо, я уже поел2», то это будет оскорблением. Теософ, говорящий на чичева, может использовать 1 время, рассуждая об инволюции монад в прошлом, что привело мир в современное его состояние, и 2 время, говоря о, к примеру, давным-давно существовавших планетарных системах, эволюция которых завершилась и они к настоящему времени распались. Если он будет говорить о реинкарнации, он использует 2 время для событий, происшедших в прошлых воплощениях, говоря только о самих событиях, но если он станет говорить о карме, то потребуется 1 время. Может быть, это примитивное племя владеет языком, который, будь они философами или математиками, выдвинул бы из их рядов наиболее выдающихся мыслителей о ВРЕМЕНИ.
Или возьмем к примеру язык кер д'ален, на котором говорит живущее в Айдахо небольшое индейское племя с таким же названием. Вместо нашей простой категории «причина», основанной на элементарном «заставляет его (это) делать так», грамматика кер д'ален требует от носителей языка разграничивать (что, разумеется, они делают автоматически) три каузальных процесса, определяемые тремя каузальными глагольными формами: 1) рост, или созревание по внутренне присущей субъекту причине; 2) дополнение или приращение, привнесенное извне; 3) дополнительное приращение, т. е. нечто, инспирированное процессом 2. Так, чтобы сказать «это сделалось сладким», они употребят форму 1, описывая сливу, ставшую сладкой в результате созревания, форму 2 – для кофе, в который насыпали сахар, и форму 3 – для оладьев, облитых сиропом, сделанным из растворенного сахара. Если бы это племя обладало более высокой культурой, его мыслители могли бы трансформировать ныне неосознаваемую грамматическую модель в теорию триадической каузальности, пригодной для научных исследований, что явилось бы существенным вкладом в арсенал научного инструментария. МЫ могли бы искусственно имитировать такую теорию, но мы не могли бы ПРИМЕНИТЬ ее, поскольку у НАС нет привычки проводить такие разграничения естественным образом в повседневной жизни. Концепты основываются на естественной речи, на разговорах, которые мы ведем каждый день, и лишь потом ученые могут попробовать применить их в своих лабораториях. Даже релятивность имеет такой же фундамент в лице индоевропейских языков (и некоторых других) – то, что эти языки, говоря о времени, используют много слов, имеющих отношение к пространству.
Язык имеет еще большее значение в других психологических факторах на различных уровнях, не имеющих отношения к современному лингвистическому подходу, но крайне важных в таких областях, как музыка, поэзия, литературный стиль и восточная мантра. То, о чем я до сих пор говорил, лежит в плоскости манаса в более философском смысле, «высшего бессознательного», или «души» (в том значении, которое придавал этому слову Юнг). То, о чем я собираюсь говорить в дальнейшем, относится к «духу» (в том смысле, какой придавал этому слову Фрейд), «низшему бессознательному», манасу который является «убийцей действительности», плоскости кама, эмоций или, скорее, чувств (Gefiihl). Если рассматривать взаимоотношения на уровнях Nama-Rupa и Агара, то этот уровень бессознательного духа располагается на другой стороне Nama – Rupa от Агара, и Nama на уровне лексем является в определенном смысле связующим звеном между этими крайностями. Следовательно, дух в психологии – то же, что фонемный уровень в языке, структурно имеющий отношение к нему не так, как Nama или лексемность, не используя ее в качестве строительных блоков, как словообразование использует фонемы (гласные, согласные, аксаны и пр.), но связан как чувственное содержание фонем. Существует универсальный, Gefiihl-подобный тип соединения опытов, который выявлен в условиях лабораторного эксперимента и, судя по всему, является независимым от языка – в основе своей одинаковым для всех индивидуумов.
Если бы вселенная не была иерархически упорядочена, можно было бы сказать, что эти психологические и лингвистические эксперименты противостоят друг другу. В психологических экспериментах человек проводит ассоциации с восприятием яркого, холодного, острого, твердого, высокого, легкого (в значении веса), быстрого, заостренного, узкого и т. д. в длинных рядах понятий, сопоставляя их друг с другом; и напротив, восприятия темного, теплого, мягкого, пластичного, тупого, низкого, тяжелого, медленного, широкого, пологого и пр. в другой длинной серии понятий. Приходит на ум, имеют ли СЛОВА сходство с этими ассоциативными понятиями, но обычный человек способен ЗАМЕТИТЬ отношение к словам только в том случае, если существует связь с такими рядами ассоциаций в гласных или согласных звуках слов, а когда имеет место отношения контраста или конфликта, оно остается нераспознанным. Если человек замечает отношения подобия, это является знаком чувства литературного стиля или того, что часто достаточно небрежно называется «музыкой» слов. Распознать отношения конфликта гораздо более сложно, это связано с освобождением себя от иллюзий и, хотя это совсем «непоэтично», это является истинным движением к Высшему Манасу, к более высокой симметрии, чем та, что представлена физическим звуком.
Для нашего утверждения важно то, что язык, посредством образования лексем, позволил говорящему лучше осознать некоторые туманные психические ощущения; благодаря ему появилась осведомленность на более низких ступенях, чем та, которую занимает он сам: сила природы магии. Йоги обладают искусством, используя силу языка оставаться независимыми от низших духовных реалий, не принимать их во внимание, то выделять их, то совсем удалять из общей картины, формировать оттенки значений слов согласно их собственным законам, вне зависимости от того, соответствует психическое кольцо звука ему или нет. Если звуки соответствуют, психическое качество звука увеличивается, и это может быть замечено неспециалистом. Если звук не соответствует, психическое качество изменяется совместно с языковым значением, вне зависимости от того, насколько возрастает несоответствие звуку, и этого непрофессионал не замечает.
Так, звуки [а] (как в слове «father» – отец), [о], [и] в лабораторных условиях ассоциируются с ощущениями тепла-темноты-мягкости, а [е] (англ. а в слове «date» – дата), [i] (e в слове «be» – быть) – с серией светлый-холодный-острый. Согласные также порождают ассоциации, что можно предположить, принимая во внимание самые наивные представления о сути дела. Происходит следующее: когда слово акустически созвучно своему собственному значению, мы замечаем это, как в английском «мягкий» («soft») и в немецком («sanft»). Но когда происходит обратное, никто этого не замечает. Так немецкое «zart» («нежный, мягкий, ласковый») имеет такое «острое» звучание, несмотря на звук а, что для каждого, кто не знает немецкого языка, оно вызывает ассоциации яркого-острого, но для немцев оно звучит МЯГКО – и, возможно, тепло, темно и пр. Еще более яркий пример – английское слово «deep» («глубокий»). Акустические ассоциации связывают это слово с «peep» («заглядывать») и с такими несуществующими словами как «veep», «treep», «queep» и пр., т. е. ассоциации с ярким, острым, быстрым. Но лексическое значение этого слова в английском языке относится совсем к другому кругу ассоциаций. Этот факт полностью отвергает объективное звучание слова, заставляя его субъективно «звучать» мягко, тяжело, тепло и пр., как будто наличествующие в нем звуки действительно вызывают такие ассоциации. Это позволяет избавиться от иллюзий, если непоэтический, лингвистический анализ вскрывает такой «клинч» между двумя «музыками», одной более ментальной, а другой – более физической, если можно так выразиться. Манас способен не принимать во внимание принадлежащее физическому плану, равно как он способен не принимать во внимание, уравнивает ли звук х овцу и автомобиль. Он может создавать части своих собственных моделей на основе опыта таким образом, что они искажают иллюзии и способствуют их появлению, или опять-таки высвечивая и структурируя научные теории и исследовательский инструментарий.
Патанджали определяет йогу как полное прекращение активности изменчивой психической природы7. Мы уже убедились в том, что активность состоит главным образом из личностно-общественных реакций, проистекающих на неизведанных тропах моделей, берущих начало на уровне Arupa и функционирующих выше или за фокусом сознания отдельной личности. Уровень Arupa находится вне круга сознания не потому, что он отличен по своему существу (как была бы, к примеру, пассивная сеть), но в силу того, что личность фокусируется – из-за эволюции и привычек – на упомянутой выше активности изменчивой психической природы. Снижение этой активности и избавление от этого фокусирования, хотя и требует сложной, длительной и строгой тренировки, приводит, согласно многочисленным заслуживающим доверия источникам, как западным, так и восточным, к колоссальному росту, расширению, просветлению и очищению сознания; ум начинает функционировать с немыслимой быстротой и точностью. Научное изучение языков и лингвистических принципов по крайней мере позволяет несколько приблизиться к этому уровню развития интеллекта. В понимании огромной языковой модели содержится частичное снижение фокусировки на активности изменчивой психической природы. Подобное описание имеет даже терапевтический эффект. Многие неврозы возникают из-за постоянного перерабатывания системы слов, а от этого пациента можно избавить, если показать ему процесс и модель.
Все это возвращает нас к мысли, затронутой в части I этого эссе, к мысли о том, что типы родства языковых моделей, которые можно вычленить в любом языке, являются искаженным и колеблющимся, бледным, лишенным субстанции отражением КАУЗАЛЬНОГО МИРА. Как язык состоит из дискретных сегментаций образования лексем (Nanta – Rupa) и организованной системы моделей, причем последняя имеет больше характер фоновых знаний, менее очевидный, но более универсальный и более простой, неразложимый, так и физический мир может быть совокупностью квазидискретных единств (атомы, кристаллы, живые организмы, планеты, звезды и т. д.), не до конца понимаемых в качестве таковых, но скорее неожиданно возникающих из поля частных происшествий, которые сами собой являют копию модели и порядка. Именно за штакетником этого забора, вне пределов которого можно найти ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯ, томится современная наука. Как физика проникает вглубь атома, так дискретные физические формы и силы все более и более растворяются в отношениях чистой модельной структуры. МЕСТО видимого единства, например, электрона, становится неопределенным, прерванным; единство появляется и исчезает из одной структурной позиции в другую структурную позицию, как фонема или любое другое моделированное лингвистическое единство, и, можно сказать, оно расположено НИГДЕ между позициями. Ее локус, который первоначально считался и анализировался как постоянно изменяющийся, становится при более тщательном изучении не более чем альтерацией; ситуации «актуализируют» ее, ею управляет структура, находящаяся за пределами датчиков измерительного щупа, трехмерное пространство исчезает, вместо него – «Arupa».
Наука не может пока понять трансцендентальную логику такого положения дел, поскольку она еще не освободилась от иллюзорных необходимостей обычной логики, которая является лишь нижним ярусом грамматической модели западной арийской грамматики; необходимость в субстанциях, которые являются лишь субстанциями в определенных синтаксических позициях, необходимость в силах, привлекательностях и пр., которые являются лишь необходимостями в глаголах в некоторых иных позициях и т. д. Наука, если она выживет, в наступающей тьме следующим своим шагом сделает постижение языковых принципов и сбросит с себя бремя этих иллюзорных языковых необходимостей, которые очень долго считались субстанцией самого Разума.
Примечания
1 Перепечатано с разрешения Теософского общества из журнала Theosophist (Мавдрас, Индия), январь-апрель 1942.
2 Для того, чтобы «почувствовать текст», совсем не обязательно использовать СЛОВА. Необразованный шокто (Choctaw) и высокоученый книжник равно элементарно дифференцируют категории времени и рода в различных высказываниях, хотя первый в жизни не слышал СЛОВ «время» и «род» применительно к такого типа противопоставлениям. Большинство мыслительных процессов вообще не воплощается в словесной форме; про исходит оперирование родовыми понятиями: парадигмами, классами слов, – а такие грамматические категории находятся «вне» или «поверх» личностного сознания.
3 В полном виде формула, фрагмент которой представлен в тексте, напечатана и объяснена в моей статье «Лингвистика как точная наука» в Technol. Rev., дек. 1940, Massachussets Institute of Technology, Cambridge, Mass. (c. 223 в указанном издании).
4 В этом слове и предложении содержится лишь одно именование (Nama) языка нутка – mamahl или «человек белой расы». Все остальное – грамматическая модель, которая может относиться к чему угодно. Корень «кукла» (именование – Nama) в языке нутка в сочетании с той же моделью будет означать «каждый из них сделал так из-за их куколоподобия».
5 Сравните слова «родня, соотечественники» («kith») и «спазмы, судороги, муки» («throe»), не имеющие никакого значения и сильно сбивающие с толку, если не знать моделей «вся родня, родные и близкие» («kith and kin») и «в агонии, в муках» («in throes of»)
6 «Суть» (are) стоит в скобках, потому что значение «много» выражается одним глаголоподобным словом. Обычно японцы не употребляют множественного числа.
7 Перифраз Брагдона Йоги сутры, см.: An Introduction to Yoga, Claude Bragdon. New York, 1933.
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: Whorf В. Language, Mind and Reality. // Language, Lhought and Reality. N.Y., 1956. P. 246–270.
1* Видам (нем.).
2* Выражения «slaw» и «hot slaw» – чисто американские, английский эквивалент – «sliced cabbage», так что, возможно, в данном случае Уорф имеет в виду разницу между американским и британским вариантами английского языка.
3* Coon – разг. амер. енот.
Перевод М.В. ТростниковаАберле Д.Ф. Влияние лингвистики на раннюю теорию культуры и личности
I. Введение
В этом эссе я попытаюсь описать воздействие лингвистики на ранние работы в области культуры и личности: обсудить, почему язык использовался в качестве модели для теорий культуры, какие предположения относительно культуры были выведены из этой модели и какие проблемы эти предположения повлекли за собой1. Хотя мое внимание будет главным образом сконцентрировано на Рут Бенедикт и Эдварде Сепире, многие из моих замечаний могут быть применены более широко, не только по отношению к другим теоретикам в области культуры и личности, но и ко многим современным подходам к теории культуры в целом.
Данная тема вполне подходит для очерка, посвященного памяти Лесли А. Уайта, как из-за его интереса к истории антропологической теории, так и вследствие того, что первая известная статья, озаглавленная «Личность и Культура», была написана именно Уайтом (1925)2. Это был призыв использовать переменные величины культуры (включая в этот термин то, что можно назвать социальным и ситуативным), заменив физиологические и неврологические переменные, которыми тогда пестрели работы по академической психологии. В статье не было ни слова о воздействии личности на культуру. Возможно, тот, кто прочтет настоящий очерк, почувствует в нем возврат к позиции Уайта.
В первую очередь я займусь Бенедикт и Сепиром, однако некоторое внимание будет уделено и Францу Боасу Анализируемый период простирается с 1911 г. – с выхода первого тома «Учебника языков американских индейцев» (Boas, 1911) до 1938 – до последней публикации Сепира в области культуры и личности.
II. Основы
Совершенно очевидно, что Боас и многие его последователи отвергли большинство теоретических течений в социологии и науке о культуре того времени. (Причины неприятия выходят за рамки этой статьи.) Есть множество объяснений враждебного или пренебрежительного отношения Боаса к теории культурной эволюции. Такие работы, как «История этнологической теории» Лоуи (1937) и лекции Бенедикт по антропологической теории, которые я слышал в 1940-41 гг., указывают на то, что французская социология, представленная, например, Дюркгеймом и Леви-Брюллем, также либо полностью отвергалась, либо принималась лишь в виде отдельных суждений. Не принимался и функционализм в духе Радклифф-Брауна или Малиновского. Теоретический труд Турнвальда, по-видимому, не возымел никаких последствий, и нет никаких свидетельств того, что в обсуждаемый здесь период уделялось сколько-нибудь значительное внимание немецкой социологии, представленной Вебером. Случаи неприятия или игнорирования этих разнообразных теоретических позиций встречались не только до того, как культура и личность сделались самостоятельной областью исследований, но и в процессе развития этой области. Подобная тенденция означала, что на протяжении обсуждаемого здесь периода большинство течений, представлявших теорию, которая позволила рассматривать культуру как организацию, как систему, не имело успеха у боасианцев. Несмотря на некоторые отдельные исключения из этого правила, в целом, на мой взгляд, это так и есть.
С какой же точки зрения тогда должна была анализироваться культура? Боас и его последователи считали, что ее следует рассматривать как результат взаимодействия двух факторов: исторического и психического. Что касается истории, то никакая культура не может быть понята исходя лишь из обращения к текущей ситуации. В силу исторических обстоятельств, любая культура контактирует с множеством других. Эти культуры и создают фонд потенциального культурного материала, на котором «настаивается» культура. Так как нет универсальной базы для предсказания, какие именно культуры войдут в контакт друг с другом, исторический фактор имеет случайный характер. Что касается психического фактора (далее называемого «псюхе»), то сознание разных людей обладает свойствами (будь то всеобщая склонность к подражанию или особые установки, принятые некоторыми группами), которые определяют, будет ли заимствован тот или иной из имеющихся элементов культуры. Хотя возникновение контактов непредсказуемо, приятие или неприятие этих элементов может быть объяснено психологическими законами. Следовательно, законы культуры суть психологические законы. Таким образом, культура появляется неожиданно лишь постольку, поскольку она – осадок истории, т. е. нечто большее, чем продукт ситуации. Эта позиция представлена в очерке Боаса 1930 г. по методологии социальной науки (Boas, 1940, р. 267–268), в обзоре исторических и психологических интерпретаций культуры, сделанном Сепиром в 1916 г. во вступлении к «Временной перспективе» (Mandelbaum, 1949, р. 391–392), и в заметках Бенедикт по истории и психологии в «Паттернах культуры» (Benedict, 1934, р. 231–232). Перед этими тремя авторами возникал один и тот же вопрос: что можно объяснить с помощью истории, а что – посредством псюхе. В свете этого проблемы истории и исторической реконструкции казались особенно важными. История культурных контактов и изучение их распространения могли бы пролить свет на их последовательность, на первый взгляд бессистемную. Психологические аспекты также были важны, поскольку понимание психологических принципов может объяснить отбор особенностей из созданного благодаря контактам наличного фонда. Это было поворотным моментом в изучении культуры и личности.
Так получилось, что эти и другие подходы по отношению к культурным феноменам стимулировали развитие дескриптивной лингвистики. Дихотомия истории и псюхе была без труда преодолена. Сепир в «Языке» (1921), в разделе, посвященном языковому дрейфу, ясно показывает, что он склонен понимать дрейф как с точки зрения долговременных тенденций (история), так и в свете таких факторов, как потребность говорящего соответствовать образцам (в результате чего происходит распространение одной языковой формы в ущерб другой), потребность в поддержании образцов и т. д. (псюхе). Таким образом, анализ языка, судя по всему, не может развиваться в контексте боасианских изысканий в области культуры.
Замечу в скобках, что, по-моему, это объясняет кажущийся парадокс, заключающийся в том, что Сепир, успешно работая с языком, «самым массовым и всеобъемлющим искусством из тех, что мы знаем, грандиозной, анонимной и бессознательной работой многих поколений» (Sapir, 1921, р. 235), мог, тем не менее, отрицать понятие сверхорганического (Sapir, 1917). Он утверждал, что явления культуры так же связаны с психологией, как геологические явления с физикой. Это не значит, что законы физики неприменимы к геологическим формациям, или законы психологии – к культурам. Сепир имел в виду, что они объясняют отдельные явления (горная цепь, культура) не «концептуально», а «конкретно»; т. е., они объясняют сам факт образования складок в горной цепи, но не ее существование или определенную форму. Нет никаких оснований считать, что Сепир признавал единые культурные или социальные законы. Он брал их в расчет лишь при работе с определенным материалом и с основополагающими психологическими законами. Так Сепир мог работать с языком; сложности, как мы увидим, возникали, когда так же партикулярно рассматривалась культура.
Тем не менее, боасианский негативизм и партикуляризм оказались очень плодотворными для развития дескриптивной лингвистики. Боас отбросил упрощающие теории развития языка и его классификации и пошел войной против этноцентрических моделей анализа языка. Настаивая на том, что фонология и морфология каждого языка должны анализироваться исключительно в своих собственных терминах, он дал решающий толчок для лингвистического изучения «экзотических» языков. Плодом такой стратегии стал пространный манифест, появившийся в 1911 г. вместе с публикацией первой части «Учебника».
Мы уже видели, что Боас и его последователи отвергли множество возможных подходов к культуре – аналогий, использовавшихся для понимания культуры: аналогию с биологической эволюцией, аналогию с биотой, аналогию с функционирующим организмом. Так как лингвистика спровоцировала поразительно быстрый успех в области культурного анализа, естественно, что принята была аналогия с языком. Я не утверждаю, что подход к языку развивался независимо от понимания культуры, а затем был к ней приложен. Я скорее хочу сказать, что несколько общих предположений о культуре, включая и связанное с языком, показали себя исключительно плодотворными для лингвистики и что успех и более детализированное теоретическое развитие лингвистики сделали очень соблазнительным распространение выведенных из лингвистики гипотез культуры. Действительно, до последнего времени большинство параллелей, проведенных между языком и культурой, начинались с языка и распространялись на культуру: намного проще найти фразы, где говорилось бы «как в языке, так и в культуре», чем «как в культуре, так и в языке»3.
III. Языковая аналогия
Теперь необходимо отобрать несколько типичных характеристик культуры, чтобы рассмотреть их так, как это делали Боас и Сепир (правда, и многие другие лингвисты тоже), и показать, что прямо или косвенно такого рода параллели между языком и культурой в целом проводились. Таким образом может быть продемонстрировано значение языковой модели для теории культуры. Надо сказать, что это не попытка представить новейшие и самые изощренные взгляды на этот предмет, но скорее – желание воспроизвести изменявшуюся на протяжении жизни точку зрения Сепира как лингвиста и точку зрения Бенедикт как нелингвиста в первой половине ее профессиональной карьеры. Истинность суждений о языке сомнительна, хотя лингвисты и по сей день многие из них часто считают убедительными. Я перечислю семь черт языка и семь соответствующих им черт в культуре и критически прокомментирую некоторые из аналогий. Часть а каждого из нижеследующих параграфов будет касаться языка, часть b – параллелей с культурой, а часть с будет содержать их критику.
1а. Язык характеризуется тем, что из большого числа возможностей актуализирует лишь немногие. Диапазон фонетических возможностей огромен, но количество фонем, реально используемых в каком бы то ни было языке, невелико. Ассортимент грамматических правил также обширен, но в каждом конкретном языке их используется немного.
1b. Культура также избирательна. В любой из существующих культур используется лишь малая толика всего известного диапазона человеческого поведения.
«В культурной жизни происходит то же, что и в речи; отбор – первая необходимость. В культуре… мы должны вообразить большую дугу на которой по порядку расположены возможные потребности, обусловленные возрастным циклом человека, средой или различными видами человеческой деятельности. Культура, которая использует сколько-нибудь значительную часть всех этих потребностей, будет столь же непонятной, как и язык, в котором употребляются [все известные звуки]… Идентификация ее как культуры зависит от отбора нескольких сегментов из этой дуги. Всякое человеческое общество, где бы оно ни находилось, совершило подобный отбор в своих культурных институтах. Со стороны всегда кажется, что чужое общество пренебрегает вещами основополагающими и использует второстепенные. Одна культура едва признает ценность денег, другая делает их основой в любой сфере деятельности. В одних обществах техника развита невероятно слабо даже в тех областях, где кажется необходимой для выживания, в других, в той же степени развитых, технические достижения сложны и удивительно хорошо приспособлены к ситуации». (Benedict, 1934, р. 23–24).
1с. Из этого отрывка ясно, что Бенедикт использует аналогию с языком. Она утверждает, что для гармоничного взаимодействия отбор в культуре так же необходим, как и в языке. Совершенно верно, что любой группе для непосредственного общения необходимо ограничение культурной «формы» и культурного «словаря». Но так как культуры в целом становятся более сложными и разнородными, группы все больше дифференцируются, полный набор паттернов для комплексной культуры может быть очень запутанным, до такой степени, что, опираясь лишь на принцип избирательности, трудно разглядеть границы этого целостного культурного набора. Многое ли в целостном культурном комплексе определяется избирательностью, основанной на потребности в когерентном взаимодействии, будь то современные Соединенные Штаты или Индия XVIII века (ср.: Aberle, 1950)?
Это, однако, еще не главная проблема, которую ставит данная аналогия. Избирательность языка основана на том, что беспорядочное звукообразование может сделать коммуникацию невозможной. Вопрос, из какого набора выбираются звуки, коренным образом неразрешим для конкретного языка, разве что по формуле «первоначальное состояние плюс изменения во времени». Мы не пытаемся, да нам и не нужно пытаться объяснять происхождение конкретного результата отбора, нам нужно лишь фиксировать сам факт отбора. Принять такую позицию для культур в целом – пожалуй, слишком простой путь. Кажется, Бенедикт говорит, что культуры производят такой отбор для того, чтобы не быть непонятными или хаотичными, что мы знаем ассортимент материалов, из которых они производят отбор, так же, как мы знаем, откуда производят отбор языки, что мы знаем, что в итоге было отобрано, и что исследование может на этом остановиться.
Эта точка зрения игнорирует тот факт, что отбор в культурах служит не просто для снижения степени неопределенности в поведении, а имеет и другие важные адаптивные функции в дополнение к установлению когерентных связей. Бенедикт это отрицает: некоторые культуры, утверждает она, в отличие от остальных, не заботятся о том, чтобы разрабатывать свои технологии. Этот взгляд неудовлетворителен. В лингвистике, зная первоначальное состояние языка, ученый может иногда объяснить более позднюю стадию на основе приспособления элементов к своему окружению. В культурах же элементы приспосабливаются не только друг к другу, но и к внешней среде. Если группа помещена в среду, где земледелие возможно, а затем оказывается в среде, где оно невозможно, тогда не удивительно, что происходит «отбор» охоты и собирания как основы жизнедеятельности, и это вовсе не вызвано необходимостью снижения степени поведенческой неопределенности. Если неземледельческая группа, обитая в среде, где земледелие возможно, сталкивается с этим видом деятельности, тогда, в большинстве случаев, она должна либо «отобрать» земледелие, либо оказаться под угрозой вытеснения с данной территории вследствие межкультурного соперничества. Отбор в культуре, таким образом, основывается на факторах, которые выходят далеко за рамки «снижения степени поведенческой неопределенности». Недостаточно констатировать факт отбора и его природу, относясь к нему как к чему-то пусть интересному но случайному.
2а. Язык паттернирован. В самом деле, бессмысленно трактовать черты языка, не рассматривая их как систему (ср.: Сепир в работе Мандельбаума, 1949, р. 33–60). Точно так же, как элементы не могут быть надлежащим образом проанализированы вне контекста паттерна, часть которого они образуют.
2b. Культура паттернирована. Ее черты могут быть поняты лишь в свете образуемой ими системы и недоступны для понимания вне контекста. Сепир проясняет связь между языком и культурой, говоря, что язык – наиболее удобная модель для понимания культурного паттернирования. В очерке, написанном в 1929 г., Сепир утверждает, что паттернированы и язык, и культура, однако культурные паттерны сложнее для восприятия; так что ориентироваться следует на язык.
3а. Некоторые из важнейших языковых паттернов бессознательны: говорящий распознает их лишь в специфических обстоятельствах (ср.: Boas, 1911, особ. р. 69–70).
3b. Некоторые из важнейших культурных паттернов бессознательны, или же бессознательны «подлинные» истоки их формирования. В этой области Сепир не слишком настаивает на пригодности лингвистики для понимания культуры в целом. Он рассматривает языковое и другие виды поведения в одном и том же разделе своей книги «Бессознательное паттернирование поведения в обществе» (1927; Mandelbaum, 1949, р. 164–165).
Взгляды Боаса на эту проблематику представляют особый интерес. Они демонстрируют, что роль лингвистики в понимании культуры была признана довольно рано. Боас пишет: «Языковые явления никогда не входят в сознание первобытного человека, тогда как остальные этнологические явления с большей или меньшей ясностью им осознаются» (Boas, 1911, р. 63). Языковые категории – одна из таких областей бессознательного в мышлении. Среди других культурных категорий, могущих возникнуть бессознательно, – правила этикета, объекты, вызывающие отвращение, поза стыдливости и т. п.
«В связи с этим представляется необходимым подробно остановиться на аналогии этнологии и языка, потому что если мы примем эту точку зрения, язык окажется едва ли не самым ценным полем для исследования при изысканиях в области формирования основополагающих этнических идей. Огромное преимущество лингвистики в этом отношении заключается в том, что, так как большинство возникших категорий всегда остается неосознанным, то процесс, приведший к их образованию, может быть с ее помощью прослежен без сбивающих с толку и отвлекающих факторов дополнительных объяснений [мы бы сегодня назвали их рационализациями], которые до такой степени распространены в этнологии, что нередко до крайности запутывают подлинную историю развития идей» (Boas, 1911, р. 70–71; см. также, 72–73).
Бессознательные паттерны, обнаруживаемые в языке, помогут нам в таком случае в понимании паттернирования культуры, где по той или иной причине паттерны или их рациональные основы (в противовес объяснению самого актора) сложнее для восприятия.
4а. Любой язык является уникальной конфигурацией. Нет общих категорий для анализа всех языков. (Не хочу, чтобы это звучало смешно. Конечно же, фонологией, грамматикой и синтаксисом обладают все языки, на чем настаивают Боас, Сепир и другие лингвисты. Но не существует фонологии, грамматики или синтаксиса, которые были бы общими для всех языков. Такие категории, как дательный падеж, род, наклонение, время, – не общие явления.) Необходим фундаментальный анализ, чтобы обнаружить и описать систему категорий в исследуемом языке. К тому же уникальные конфигурации, таким образом обнаруженные, нужно сопоставлять как целое, а не по отдельным пунктам (за исключением случаев, когда мы рассматриваем родственные языки).
Эта позиция хорошо представлена во введении Боаса к «Учебнику…» (1911, р. 81) и в «Языке» Сепира (1921, р. 125). Тем не менее, я не хочу сказать, что лингвисты никогда не сравнивают языки или части языков типологически. В самом деле, Сепир делал такие сопоставления (ibid, p. 127–156). Однако среди этой группы теоретиков преобладало мнение, что различные языки принципиально не поддаются сравнению.
4b. Каждая культура – уникальная конфигурация. Как и в случае с языками, нет общих категорий для анализа разных культур. Аналитический процесс должен открыть и описать уникальную культурную конфигурацию. При сравнении следует оперировать каждой культурой как целым.
Я не могу найти у Бенедикт или Сепира ни одного отрывка, где прямо использовалась бы параллель между языком и культурой; я могу лишь показать, что позиция Бенедикт по отношению к культуре близка к той, что выражена Сепиром и Боасом по отношению к языку в приведенных выше цитатах. Для Бенедикт культуры зуньи, квакиутль и добу – «не просто разнородные наборы действий и верований». «Эти культуры отличаются друг от друга не только отсутствием или присутствием каких-либо особенностей или различными формами бытования этих особенностей в разных регионах. Они отличаются прежде всего в целом разной ориентацией. Они идут разными путями и преследуют разные цели; и пути и цели, свойственные одному обществу не могут быть оценены с точки зрения путей и целей другого общества, потому что они несопоставимы по существу» (Benedict, 1934, р. 223). Кроме того, я не могу обосновать свое заявление о том, что для Бенедикт общие категории для сравнения частей культур друг с другом были не очень важны; я могу лишь утверждать, что такое впечатление оставляют как ее курс лекций по антропологической теории, так и курсы ее лекций в других областях. Думаю, что многие из моих читателей узнают дух того времени как в идее бесполезности сравнения по частям, так и в перекликающейся с ней идее несоизмеримости культур. Я уверен, что благодаря престижу языковой аналогии эти идеи нашли среди теоретиков культуры гораздо больше сторонников, чем это могло бы быть в другой ситуации.
4с. Сложность, связанная с предположением о «несоизмеримости», заключается в том, что если понимать это буквально, то научная работа становится невозможной. Если два предмета или события действительно несоизмеримы, то в рамках одного пространства и дискурса о них ничего нельзя утверждать. Менее категоричное заявление о том, что два объекта или события (в данном случае, две культуры) сравнимы только «как целое», может оказаться почти столь же серьезной преградой, хотя надобности в таком заявлении нет. При таком подходе может подразумеваться, что только свойства каждой системы в целом могут быть успешно сопоставлены, тогда как свойства частей этой системы, не имеющие отношения к целому, не могут сравниваться столь же успешно. Если имеется в виду это, то задача ученого – разработать систематический перечень свойств для сравнения целого. Что же касается культур, рассматриваемых Бенедикт и Сепиром, то, судя по всему, здесь имело место «сравнение» бессистемных описаний конкретных культур. И в результате появляется некий основной принцип – доминирующий паттерн, этос или что-то типа небезызвестной категории аполлонического, с которой «сопоставляется» (а вернее – описывается в той же работе) другая подобная категория, скажем, категория дионисийского. В случае с языком провозглашение принципа несоизмеримости или требование оперировать при сопоставлении лишь целым привело впоследствии к возникновению дескриптивной лингвистики, в случае же с культурой эти принципы лишь тормозили развитие универсальных конструкций для сопоставления и противопоставления культурных систем.
5а. Изменяясь, языки «дрейфуют». Для нас важны три особенности дрейфа. Во-первых, хотя, наблюдая исторические тенденции, можно узнать направление дрейфа (скажем, в сторону позиционного ударения в английском), нет априорной основы для прогнозирования этого направления. Во-вторых, изменения последовательны, а не случайны или хаотичны, так что в результате либо возникает «тот же» паттерн с другим содержанием, либо происходит переход к другому паттерну. В-третьих, изменение часто способствует еще большей упорядоченности: один из имеющихся паттернов приобретает доминирующее значение.
«Языковой дрейф имеет направление (Sapir, 1921, р. 165). Сложно сказать, какова основная причина расшатывания фонетической системы и что за сила производит отбор тех или иных индивидуальных разновидностей на основе которых происходит внедрение новых паттернов (ibid, p. 195–196). Однако очевидно, что язык «случаен» лишь до определенной степени. Конечно, множество языков заходят невероятно далеко в этом направлении, но история языка убедительно демонстрирует, что рано или поздно более редко встречающиеся образования сглаживаются за счет более живучих. Иными словами, у всех языков есть неотъемлемая тенденция к экономии выражения (ibid, р. 38–39). Таким образом, аналогия не только устраняет нарушения, появившиеся в результате фонетических процессов, но и подрывает издавна установившуюся систему форм, обычно упрощая и упорядочивая ее. Эти преобразования по аналогии почти всегда являются симптомами общего морфологического дрейфа языка».
5b. Культуры, изменяясь, тоже дрейфуют. Не нужно, да и невозможно знать, почему культуры дрейфуют так, а не иначе, но в результате они приобретают большую упорядоченность.
Рассуждая о развитии литературных стилей, Сепир отметил в 1921 г.: «Так же обстоит дело с языком, религией и формами социальной организации. В чем бы ни участвовал человеческий разум, коллективно и бессознательно он стремится к некой уникальной форме и часто достигает ее. Немаловажно, что эволюция формы дрейфует в одном направлении, пытается найти равновесие и останавливается, собственно говоря, обретя это равновесие» (Mandelbaum, 1949, р. 382) «Дрейф культуры, иначе говоря, ее история, есть сложный ряд изменений в спектре отобранного обществом опыта – приобретений, потерь, изменений в оценках и в системе отношений» (Sapir, 1921, р. 233). Сепир продолжает: «… будет лучше рассматривать дрейфы языка и культуры как несопоставимые и взаимно не связанные процессы» (ibid, р. 234). Но здесь Сепир отвергает не само сходство этих дрейфов, а идею о том, что дрейф конкретного языка причинно или функционально соотносится с дрейфом культуры, к которой принадлежат носители этого языка. Сепир не отрицает возможности говорить о культурном дрейфе по аналогии с языковым. Он лишь утверждает, что эти два процесса не идут pari passu1*.
Бенедикт проясняет эту аналогию в своей работе «Конфигурации культуры в Северной Америке» (1932):
«Однако речь идет именно о реальности подобных конфигураций. Я не думаю, что развитие этих конфигураций в различных обществах загадочнее или сложнее для понимания, чем, к примеру, развитие художественного стиля. Многие культуры так никогда и не приходят к полной гармонии. Есть народы, которые словно мечутся между различными типами поведения… Но тот факт, что какой-то народ так и не [достиг упорядоченности] не обессмысливает изучение культуры в этом ключе, подобно тому, как тот факт, что некоторые языки мечутся между различными основополагающими грамматическими моделями при формировании множественного числа или определенного времени, не обессмысливает изучение грамматических форм» (1932, р. 26–27).
И Сепир, и Бенедикт, таким образом, явственно использовали аналогии между языковым дрейфом и культурным процессом. Бенедикт, конечно, не утверждает, что во всех культурах можно проследить движение к упорядоченности, но, рассуждая о таком дрейфе, она сравнивает его с языковым. Я не могу больше привести примеров эксплицитного сопоставления языкового и культурного дрейфов у Бенедикт и Сепира, но стоит процитировать один ключевой отрывок из Бенедикт, в котором она использует концепцию культурного дрейфа.
«Культурная ситуация на Юго-западе с трудом поддается объяснению. При отсутствии естественных барьеров между этой культурой и культурами соседних народов она являет собой наиболее поразительный пример культурного разлома во всей Америке. Все наши усилия по выявлению влияния других культур на культуру Юго-запада приводят к открытию фрагментов и деталей, мы нашли тончайшие связи и переходы, но ключ, который открыл бы нам секрет этой модели, так и не найден. Исходя из концепции, изложенной в данной статье, ключ следует искать в базовом психологическом типе, сформировавшемся в культуре этого региона на протяжении столетий, который переиначивает на свой лад заимствованные в соседних культурах элементы и для выражения своих собственных ценностей создает уникальную культурную модель. Вычленение психологического типа необходимо не только для того, чтобы описать эту культуру; без этого невозможно понять культурную динамику всего региона. Ибо в формировании рассматриваемой культуры главную роль сыграли типичные аполлонические ценности, они отвергли то, что им противно, видоизменили принятое и породили формальности и хитросплетения организации, в которых находит успокоение аполлонический дух» (Benedict, 1930, р. 581). (Пер. Е.Лазаревой.)
Отложим обсуждение некоторых особенностей этого отрывка. Сейчас для нас важно, что Бенедикт рассматривает культурный дрейф как автономный процесс. Для нее важно раскрыть природу фундаментальной конфигурации и описать направление течения (в сторону все большей гармонизации аполлонической модели); но Бенедикт не задается вопросом, почему дрейф принимает именно то, а не иное направление. Точно так же обстоит дело и с отношением лингвиста к языковому дрейфу.
5с. Критика понятия культурного дрейфа в том виде, в котором его используют Бенедикт и Сепир, аналогична критике концепции избирательности (см. 1с), так как две эти идеи тесно связаны. Например, ни там, ни здесь не идет речи об экзогенных, технологических и экономических факторах, которыми частично можно было бы объяснить дрейфовый отбор. Бенедикт, похоже, не считает нужным упомянуть об этих факторах. Это все равно как если бы ученому-лингвисту достаточно было продемонстрировать сам факт доминирования одной модели образования множественного числа над остальными без объяснения причин, почему это происходит. Бенедикт, судя по всему, считает, что пуэбло был доступен весь культурный арсенал Великих Равнин, территорий вокруг ареала пуэбло и реки Колорадо и что пуэбло из-за своей аполлонической направленности либо отказались его принять, либо трансформировали его. Она не обращает внимания на значимость экологии, на то, что пуэбло занимали пригодную для повторной обработки землю, которую приходилось защищать, что основой их культуры было земледелие, что они орошали свои земли; что на их территории не водилось тучных стад бизонов и т. д.; в то время как у индейцев Великих Равнин были под рукой такие стада, они эффективно использовали лошадей для охоты на бизонов, занимали непригодные или почти непригодные для обработки зи́мли, жили грабежом, а защиту пространства с такими расплывчатыми границами считали ненужной. Для Бенедикт не важны явления экологической сукцессии или экологической адаптации в ареале пуэбло. Правда, следует отметить, что в ее время занимающиеся Юго-западом археологи очень заботились о том, чтобы придать корням Юго-западной культуры побольше загадочности.
6а. Нет языка, который в качестве средства адаптации или выражения стоял бы по самой своей природе «выше» или «ниже», чем другой; с точки зрения морфологии все языки потенциально способны нести одну и ту же информационную «нагрузку», хотя отдельный язык может и не иметь лексики для каких-либо сообщений, если в них нет необходимости у носителей этого языка. Хотя о грамматической сложности или простоте и можно говорить, связи между сложностью и пригодностью для коммуникации нет. Один язык не более «примитивен», чем другой, независимо от того, имеется ли в виду, что этот язык прост или что он отражает более раннюю, менее развитую стадию коммуникации.
6b. Будучи системами адаптации, культуры не могут быть описаны как стоящие «выше» или «ниже». «Простыми» или «сложными», «примитивными» или «цивилизованными» их можно назвать разве что в кавычках.
6с. В определенном смысле культурный релятивизм может быть здравой позицией: наука не дает ответов на вопросы о главных ценностях. Оставаясь в рамках науки, нельзя утверждать, что американская культура XIX в. в каком-либо отношении «лучше», чем культура индейцев Великих Равнин. Но когда мы рассматриваем культуры в целом, снова встает вопрос об адаптации, тогда как при лингвистическом рассмотрении фонологии и морфологии такого вопроса не возникает. Американский английский как средство коммуникации может и не превосходить язык омаха. Но плужное земледелие и сопутствующие ему черты с точки зрения адаптации в американских прериях превосходят охоту на бизонов и собирательство: когда обе культуры попытались использовать одну и ту же экзогенную нишу, американская культура успешно конкурировала с культурой индейцев Великих Равнин и уничтожила ее.
Культуры могут классифицироваться по признаку использования энергии. Между использованием энергии и другими особенностями культуры существует связь (White, 1949, р. 363–393). Но даже когда языки классифицировались по критерию сложности (например, Greenberg, 1954, р. 192–220), никаких особых выводов сделать не удавалось. Культуры могут быть классифицированы по критериям количества ролевых систем, развитости разделения труда, размера группы, интегрированной в одну культурную систему и т. д. (ср.: Naroll, 1956). В языковых системах параллелей этому нет.
Одним словом, морфология любого конкретного языка как средство коммуникации равноценна любой другой. Но хотя любая культура может стать адекватной – т. е. подходящей – формой адаптации к некоему окружению, часто можно с полной определенностью сказать, чту одержит верх в конкурентном отборе в данной обстановке: охота и собирательство или же земледельческое хозяйство. Как и в случае с избирательностью и дрейфами, аналогия между языком и культурой рушится, коль скоро адаптация, а также экологические, технологические и экономические аспекты не имеют лингвистических аналогий.
(Впрочем, такие аналогии возможны, но лишь для коммуникативных систем, а не для естественных языков. Ср. Greenberg, 1957, р. 56–65).
7а. В грамматику и фонологию языка, анализируемого лингвистом, входят разделяемые речевым сообществом речевые паттерны. Их выявляют с помощью анализа речевых паттернов ряда отдельных говорящих и вынесения за скобки разделяемых паттернов из различных идиолектов. Нельзя получить дательного падежа от говорящего А, а винительного – от говорящего Б. Идиолект, грубо говоря, изоморфен языку. Это, на мой взгляд, настолько основополагающее утверждение для лингвистических исследований, что излишне приводить какие-либо подтверждения.
7b. В любую культуру входит разделяемое членами группы поведение4. Его тоже можно выявить, изучая поведение (включая описания поведения, речи и т. д.) членов группы и формируя разделяемые паттерны на фоне различных идиосинкразических типов поведения. Мировоззрение индивида – его культурный идиолект – изоморфно культуре. Хотя, как я надеюсь, мне удастся позже показать, что этим взглядом проникнуто творчество Сепира и Бенедикт (см. раздел IV), я не могу продемонстрировать использование языковой аналогии в этом аспекте. Полагаю, что такая аналогия не использовалась явно, потому что она и так внутренне подразумевалась: нельзя было представить себе иного взгляда на культуру.
7с. Эта аналогия, хоть она и скрыта, является наименее удачным применением языковой модели. В сущности, языковые материалы можно рассматривать в рамках трех понятий: идиолекта, языка (или диалекта) и коммуникативной системы. Люди не разделяют коммуникативную систему, они участвуют в ней именно потому, что занимают разные позиции в цепи коммуникаций. Структура коммуникативной системы принципиально отличается от структуры идиолекта или диалекта: она не изоморфна ни одному из них.
Соответственно существуют три понятия для анализа культуры: культурный идиолект, разделяемая культура и культурная система. И культурная система это, опять-таки, – сфера участия индивидов. Это не то, что они разделяют. Это различие легко стирается в самых примитивных культурах, поскольку каждый член группы до некоторой степени осведомлен о культурном поведении, включенном в другие роли, но все же различие присутствует. Даже культурная система простой шошонской группы включает в себя отношения асимметрии и взаимодействия (reciprocity). Она включает в себя взаимодействие (а не совокупность) культурного поведения мужчин и женщин, детей, взрослых и стариков.
Если исследователь настаивает на необходимости понятия разделяемого поведения для анализа сложных культурных систем, то вскоре возникает затруднение. Ведь из этого следует, что нелепо говорить об американской культуре, раз у стольких составляющих ее групп такие разные вероисповедания, идеологии и обычаи. Кроме того, это ведет к определению американской культуры как состоящей только из того, что все или почти все американцы разделяют: вера в выборы, знание американского английского, использование наличных денег и т. д. Но американская культура – не что иное, как соединение различных культурных элементов, неодинаково распространившихся среди населения, позволяющее ей функционировать как системе; так, например, взаимодействие математики, инженерии и механических возможностей позволяет существовать фабрике. Действительно, для функционирования высоко дифференцированной культурной системы необходимо, чтобы ее участники не могли разделять все элементы, составляющие культурный комплекс.
Таким образом, лингвистика, которая могла развиваться, используя только историю и псюхе для анализа языковых явлений, лишь сбивала с толку в качестве аналогии для понимания культуры. Неспособность боасианцев прийти к пониманию культурных систем, замаскированная успехами лингвистики, привела к сложностям, которые с тех пор пагубно сказывались на развитии теории культуры и личности, и в особенности – теории культуры.
IV. Ранняя теория культуры и личности
Теперь необходимо перейти к хронологическому аспекту работ Сепира и Бенедикт в области, ставшей известной как «культура и личность». Предварительно мне бы хотелось кое-что прояснить.
Во-первых, я не пытаюсь подвергать критике дескриптивную или сравнительную лингвистику, Сепира как лингвиста, ворфианскую теорию или что-либо в этом роде. Я не утверждаю, что языковая модель была единственной основой подхода к культуре для Боаса, Бенедикт и Сепира. Я также не говорю, что все аналогии между языком и культурой в целом ложны и пагубны. И в самом деле, язык и культура паттернированы, избирательны, включают в себя бессознательные элементы (элементы, на которые носители языка культуры не обращают внимания) и т. д. Я попытался лишь прояснить определенные пункты, где, на мой взгляд, аналогии пагубны, неверны или недостаточны. Я не утверждаю также, что работа Бенедикт или Сепира не представляет ценности или что их понимание индивидуальной организации имеющихся культурных материалов ничего не стоит (ср.: Aberle, 1951). Однако я берусь утверждать, что нежелание или неспособность вплотную заняться культурой как системой в любом ее понимании (помимо набора соответствий, анализирующихся с точки зрения актора, находящегося внутри системы), привели к серьезной путанице в теории культуры и личности.
Я не стану утверждать, что Бенедикт и Сепир были не в состоянии анализировать культурные системы по существу. Хотя бы очерк Сепира 1915 г. о социальной организации индейцев северо-западного побережья (Mandelbaum, 1949, р. 468–487) и «Права собственности в браке в билатеральном обществе» (1936) Бенедикт уже могут опровергнуть такое предположение. Однако я настаиваю, что их подход нельзя назвать самым удачным и что основная тенденция их творчества все-таки верно описана в нашей работе. Эта тенденция прослеживается в их отношении к ритуалу, мифологии, фольклору, идеологии и стилю и в почти полном отсутствии у них интереса к экономике, политическим системам и к организации родственных отношений. В этом разделе я не стану дольше задерживаться на том, как закреплялось использование языковой модели, а вместо этого остановлюсь на некоторых проблемах, поднятых теорией культуры и теорией культуры и личности, развивавшимися в контексте гипотез, о которых шла речь в третьем разделе.
К 1916 г. Сепир в своей «Временной перспективе» уже выделял в сфере толкования культурных феноменов исторический и психологический аспекты. Эта дихотомия продержалась на протяжении всей его профессиональной деятельности, хотя то значение, которое он придавал психологическому аспекту по сравнению с историческим, время от времени варьировалось. Надо сказать, что иногда Сепир, используя слово «психологический», понимал его как связанное с мгновенными операциями человеческого мозга. Но он всегда избегал такого понимания культурных явлений. Культура всегда должна была толковаться частично исторически, однако все чаще и чаще им привлекались действующие долговременно психологические факторы.
Во «Временной перспективе» Сепир демонстрирует, что его интересует скорее значение, чем функция и система: «Если бы в ходе нашего обсуждения какой-либо важный пункт получился более развернутым, чем другой, для культурного элемента возникла бы опасность оказаться вырванным из своего психологического и географического (т. е., пространственного) окружения» (Mandelbaum, 1949, р. 462). Ответ Сепира на статью Дьюи, опубликованный в 1916 г., демонстрирует его пристрастие к истории и неприятие культуры как системы: «Форма и содержание каждого из аспектов социальной жизни, скажем, философии, музыки, или религии определяется скорее историей этого аспекта, чем его сосуществованием с другими аспектами» (Sapir, 1916, р. 2). Здесь, однако, содержится предвестье той позиции, к которой он пришел в «Культуре, подлинной и мнимой»: «Существует постоянная, но всегда безрезультатная тенденция к превращению этих более или менее разнородных нитей в ткань: бесчисленные модификации и переделки дают свой результат, но нити, тем не менее, остаются разнородными» (ibid).
В 1917 г. для понимания нерешенных антропологических проблем Сепир обратился к значению: понимание бессознательного символообразования могло бы, как он полагал, оказаться «необходимым, чтобы приблизиться к глубинным проблемам религии и искусства», вероятно потому, что психоанализ, в отличие от академической психологии, предоставил некую возможность для понимания феноменов сознания как единого целого (Mandelbaum, 1949, р. 523–524).
Отзыв Сепира на «Первобытное Общество» Лоуи в 1920 г. содержит отказ от эволюционизма и «психологических» толкований. Он против психологии как тенденции объяснять происхождение институтов универсалиями человеческого разума. Сепир относит эволюционизм к разряду психологических толкований, основывая свою критику, судя по всему, на некоторых элементах концепций Моргана и Бастиана. Правда напрямую он о них не упоминает. Эволюционизм, согласно Сепиру, психологичен, поскольку Сепир видит в нем тенденцию к рассмотрению культурных явлений, как возникающих из «ростков мысли», взращенных в одних и тех же условиях. Этим подходам он противопоставляет партикуляристский, основанный на диффузии, историзм Лоуи: «…что если широко распространенная социальная черта… будет показана… не как непосредственная и универсальная психологическая реакция… но как изначально уникальный, локальный феномен, который постепенно распространился на обширный ареал путем культурного заимствования» (Sapir, 1920, р. 378). Тем не менее, именно к психологическому аспекту в истории решил обратиться Сепир в своем анализе, а на самом деле обратился еще раньше, в «Культуре, подлинной и мнимой», начатой в 1919 и полностью напечатанной в 1924 г.
Это эссе является ключевым для понимания развития теории культуры и личности. Сепир начинает с выделения трех взглядов на культуру. Первый – взгляд дилетанта – использует культуру как синоним образования и рафинированного вкуса. Другой – традиционный этнологический взгляд: «любой социально унаследованный элемент человеческой жизни – как материальной, так и духовной» – относится к культуре (Mandelbaum, 1949, p. 309). Сепир желает добавить к этим двум свой собственный взгляд, в соответствии с которым культура – это мировоззрение. В рамках своей позиции он «стремится охватить одним термином те общие положения, взгляды на жизнь и специфические проявления цивилизации, которые дают отдельному народу его особое место в мире. Акцент делается на том… как деятельность и вера влияют на жизнь народа в целом, на том, какое значение все это имеет для него». «Так культура становится почти синонимом "духа", или "гения", народа». Хоть это, пишет Сепир, и психологические термины, «культура включает в себя ряд конкретных проявлений» этого духа (ibid, p. 309–311).
В одном предложении Сепир выражает всю суть концепции Бенедикт, изложенной в «Паттернах культуры»: «Образ мышления, особый тип реакции становится в ходе сложного исторического развития типичным, нормальным; он служит затем в качестве модели для переработки новых элементов цивилизации» (Mandelbaum, 1949, р. 311). Здесь мы видим, как талантливый лингвист воспринимает культурное развитие сквозь призму языковой модели: паттерн – например, аффиксация – тем или иным образом закрепляется; паттерн – это мировоззренческая установка, а не система связей между культурными чертами или социальными ролями; новое приспосабливается к этому паттерну. И нет необходимости объяснять его происхождение.
В качестве примеров Сепир приводит французскую и русскую культуры. Говоря о французской, он заостряет внимание на таких ее чертах, как «ясность, четкая систематизация, уравновешенность, тщательность в выборе возможностей и хороший вкус». Сепир находит отражение французского «гения» в природе эстетизма, особенностях музыкального стиля, в отношении к религии и в «сильной тенденции к бюрократизму во французской администрации» (Mandelbaum, 1949, р. 312–13). Можно поражаться тому, как интуитивное озарение объединило бюрократию и музыкальный стиль, но рассматривать эти два элемента в одних и тех же терминах, как явления одного порядка, имеет смысл лишь в свете декларируемого Сепиром взгляда на культуру как на «общие позиции». Утверждение Сепира впечатляет; однако Сепир скорее уклоняется от сути проблемы, а не ставит вопрос о природе и источниках особенностей французского бюрократизма. И я, по сути дела, не могу себе представить, какие дальнейшие шаги должны быть предприняты в свете сепировского утверждения для понимания этого феномена. Эта тенденция к объединению множества институциональных ареалов под именем одной конфигурации без подлинного понимания систематического характера каждого из включенных в нее ареалов стала причиной путаницы в теории культуры и личности на несколько десятилетий: она привела к неспособности отделить культурную систему от индивидуальной точки зрения или, возвращаясь к моим прежним терминам, – отделить аналогию коммуникативной системы от языковой.
В своем интересе к конфигурации, проявившемся в работе «Культура, подлинная и мнимая», Сепир сосредоточился на проблеме стремления к формальному изяществу в культуре: он назвал это «либидо формы» (Mandelbaum, 1949, р. 527; очерк появился в 1921 г.). Между тем его интерес к происхождению конфигураций привел его к углубленному изучению психологии и, в особенности, психоанализа. Он снова говорит о стремлении к форме в очерке «Антропология и социология» (1927), где эта идея введена для объяснения параллелей в развитии, не вызванных диффузией. «Мы можем лишь мельком взглянуть на некоторые из этих совпадений в форме… которые, как мы полагаем, представляют интерес как для антропологии и социологии, так и для пока еще только намечающейся социальной психологии формы» (ibid, р. 339). Он сравнивает внутреннюю солидарность и внешнюю враждебность кланов нага, поселений северо-западного побережья и те же явления у современных наций. «В любом случае, общественный групповой паттерн – или, пользуясь психологическим термином, формальный «образец» (клан, нация) – так подчиняет себе чувства, что виды деятельности, которые могли бы естественным образом влиться в русло абсолютно по-другому образованных или более насыщенных групповых паттернов… должны сильно видоизменяться» (ibid, p. 339). Здесь Сепир объясняет социальные формы разделяемой индивидами позицией. Но понятно, что этот анализ не совсем удовлетворителен: ведь в конечном счете придется рассматривать виды чувств, пытаясь больше узнать о включенных в группу личностях. Имеется и дальнейшая, более углубленная трактовка либидо формы с привлечением явления строгой упорядоченности в кланах, групповых становищах и пр. в различных первобытных обществах. Здесь очевидна аналогия с языковым процессом, как его понимал Сепир (ibid, p. 334). Более важен для теории культуры и личности интерес Сепира к «возможному переносу психологической позиции или образа поведения социальной единицы одного типа на единицу другого типа, для которой эта психологическая позиция или образ поведения не совсем релевантны» (ibid, p. 342). Эта точка зрения находит параллель в цитируемых ранее комментариях Сепира по поводу «развития языка по аналогии».
Пример переноса паттерна можно найти в бюрократии Римской Католической церкви, которая, возможно, является «остатком сложной структуры римской гражданской администрации. То, что иудеям и евангелическим протестантским сектам свойствен намного более свободный тип церковной организации, отнюдь не доказывает, что они на индивидуальном уровне более непосредственно следуют требованиям религии. Единственное заключение, которое мы имеем право сделать, состоит в том, что в их случае религия социализировалась на основе менее жесткого паттерна – паттерна, лучше соответствующего остальным традициям их жизни в обществе» (Mandelbaum, 1949, р. 343).
По-видимому, протестанты просто утратили свои бюрократические традиции. Как бы ни характеризовали социальный процесс этот и предыдущий примеры, они, как мне кажется, свидетельствуют о том, что для Сепира наличие или отсутствие институтов, а также их форма объясняются с точки зрения их соответствия определенному мировоззрению членов общества, где эти институты возникают (или не возникают). Подводя итоги, Сепир заявляет, что он видит «росток социальной философии ценностей и переносов, который многообещающим образом сочетается с такими психоаналитическими понятиями, как "образ" и перенос эмоции» (Mandelbaum, 1949, р. 343). Таким образом, в 1927 г., Сепир уже занимался построением аналогий не только между языком и культурой, но и между личностными процессами и культурой.
Тем не менее, расцвет увлечения психологией личности приходится у Сепира на очерки, опубликованные между 1932 и 1938 гг. При анализе его работ этого периода мы можем сосредоточиться лишь на некоторых аспектах его размышлений, которые соответствуют нашим нынешним задачам и, конечно же, не могут осветить его мысль во всей ее полноте. (Так, придется оставить без внимания его едкую и до сих пор ценную критику психоаналитических подходов к изучению культуры «примитивных» народов.) В этих эссе все яснее прослеживается намерение понять организацию частного мира индивида. Сепир обращает внимание, например, на то, что два индивида, занимающих, казалось бы, одну и ту же социальную позицию, могут жить будто в двух совершенно разных мирах. Его все больше занимает то, что он рассматривает как недочет классической этнографии – ее не просто неспособность иметь дело с мировоззрениями различных культур, но нежелание обратиться к различию в мировоззрении у индивидов.
В 1932 г. Сепир напишет: «Чем глубже мы изучаем это взаимодействие [систем идей, которые характеризуют культуру в целом и систем, укорененных в индивидах], тем сложнее становится отделить общество как культурную и психологическую единицу от индивида, считающегося членом того общества, к культуре которого он вынужден приспосабливаться» (Mandelbaum, 1949, p. 518–519). «Личностные структуры… в конечном счете психологически сравнимы с величайшими культурами и системами идей…» (ibid, p. 521). Изоморфизм личностной и культурной систем становится ярко выраженным элементом теоретического подхода Сепира. В 1934 г., в очерке под названием «Личность», он напишет: «Можно предположить, что социализация личностных свойств ведет к кумулятивному развитию специфических психологических особенностей и в мировых культурах. Так, культура эскимомов, в отличие от большинства культур северо-американских индейцев, экстравертна; культура индусов в целом относится к области интровертного типа мышления; культура Соединенных Штатов по характеру несомненно экстравертна…. Специалисты в области общественных наук враждебно отнеслись к такого рода психологическим характеристикам культуры, но, в конце концов, эти характеристики неизбежны и необходимы» (ibid, p. 563). Таким образом, в 1932 г. Сепир был убежден, что направленность дрейфа определяется кумулятивным формированием обществ.
В 1934 г. становится очевидным протест Сепира против понятия культурного процесса как такового. В работе «Возникновение понятия личности в изучении культур» находим следующее: «…если вообще оправдан разговор о развитии культуры, то это развитие должно предстать не в свете общей истории, образованной отдельными историями определенных паттернов, а в свете развития личности. Целостностную, безличностную "культуру" антрополога, возможно, стоит рассматривать как нечто большее, чем набор или смесь произвольно перекрывающих друг друга систем идей и действий… скорее всего являющихся причиной появления замкнутой системы поведения» (Mandelbaum, 1949, р. 594). Антрополог не должен бояться «понятия личности, в которой не стоит видеть некую таинственную сущность, противостоящую исторически сложившейся культуре. Личность скорее надо рассматривать как определенную форму опыта, имеющую постоянную тенденцию к образованию психологически значимой единицы и по мере обрастания все большим количеством символов создающую, в итоге, тот культурный микрокосм, по отношению к которому официальная «культура» – нечто большее, чем метафорически и механически увеличенная копия» (ibid, p. 595)».
По мнению Сепира, принятие этого взгляда, ускорит разрешение новых проблем, в особенности тех, что связаны с практиками социализации. Сепир предлагает исследовать, как ребенок овладевает культурными паттернами в период с рождения до десятилетнего возраста, чтобы увидеть, каким образом и из каких данных он формирует свой знаковый мир. «Осмелюсь предположить, что представление о культуре, полученное таким образом, несомненно, фрагментарное и беспорядочное, тем не менее, окажется намного более значимым и важным для социальной мысли, чем аккуратные перечни характеристик, относящихся к той или иной группе, которые мы привыкли называть "культурами"» (Mandelbaum, 1949, р. 597). Культура, в итоге, утрачивает для Сепира свою реальность: она оказывается лишь удобным, но ложным инструментом для рассуждения о совокупности индивидуального поведения. Ее основания, как он считает, надо искать в паттернах социализации.
Этот взгляд еще яснее прослеживается в произведении под названием «Почему культурной антропологии нужен психиатр?» (1938): «Как умело и проворно мы выстраиваем в пирамиду виды причинно-следственных отношений, знакомых нам по индивидуальному опыту (насколько вообще можно… говорить о причинности в социальных явлениях), приписывая их социальной реальности, сконструированной нами вследствие потребности максимально экономично выражать то, что происходит с человеком. В будущем интерпретация причин и следствий в человеческой истории станет задачей психиатров. Сейчас они не могут этим заниматься, так как психиатрическая теория личности еще слишком слаба, а сами они склонны без должной критики принимать безличностную модель социального и культурного анализа, введенную в моду антропологами» (Mandelbaum, 1949, р. 576–577).
Итак, мы прошли от аналогии между языком и культурой к зачаткам идей «Паттернов культуры», обнаруженных в «Культуре подлинной и мнимой», – к идее кумулятивного дрейфа, определяющегося тем или иным образом отобранным и утвердившимся паттерном; а оттуда к уравниванию психологических сил (образ, перенос) с социальными, и, наконец, мы пришли к поиску источника этих сил (основ дрейфа) – обнаружив его в развитии личности. Культура и личность сделались, наконец, изоморфными, так же, как идиолект и диалект для лингвиста. И все эти последние очерки пронизывает усталость и отвращение к membra disjecta2* традиционной этнографии, оторванной от культурной теории. От неприятия культурных систем мы пришли наконец к индивиду как источнику или гомологу культурного паттерна.
Рассмотрение работ Бенедикт будет несколько короче – не потому, что это менее значимая фигура, а потому что о некоторых основных аспектах нашего обсуждения речь уже шла в разделе III. Кроме того, в случае с Сепиром я коснулся произведений, опубликованных с 1916 по 1938 гг., тогда как в случае с Бенедикт я пытаюсь охватить только период с 1922 по 1934 гг., и особенно 1928–1934. Полноценное рассмотрение мысли Бенедикт надо было бы довести вплоть до ее последних работ, но предмет этой статьи – не интеллектуальная жизнь отдельных теоретиков, а развитие тенденции в теории.
Две самые ранние публикации Бенедикт, «Видение в культуре Великих Равнин» (1922) и «Представление о духе-хранителе в Северной Америке» (1923), посвящены демонстрации «неорганического» характера различных комплексов религиозных черт, т. е. отсутствия необходимой связи между чертами. Однако в итоге мы видим, что Бенедикт показывает также, как каждый конкретный пример видения или духа-хранителя соотносится с некоей общей чертой рассматриваемой культуры. В самом деле, работа, посвященная вопросу о видении, несет в себе зародыш подхода, характерного для «Паттернов культуры»: «Ритуальная система блэкфутов, таким образом, дает прекрасный пример огромной формообразующей власти единожды установленного паттерна и его тенденции к бесконечному самодополнению» (Benedict, 1922, р. 17–18).
Явный акцент сделан скорее на конфигурациях, чем на недостатке органических качеств в комплексе черт, и это приобретает доминирующее звучание в «Психологических типах в культурах Юго-запада США» (Benedict, 1930)5. (Ключевой пассаж из этой работы уже обсуждался в разделе III.) Бенедикт в то время рассматривала аполлонический этос как «психологическую структуру» (Benedict, 1930, р. 572, 581). О разных юго-западных группах, описанных ею, она говорит следующее:
«Эти культуры, хотя и… собранные из несоизмеримых элементов, случайно объединенных диффузией по всем направлениям, тем не менее снова и снова воссоздаются в разных племенах в соответствии с очень различными, индивидуальными паттернами. Сложившийся в итоге порядок – не просто отражение того факта, что каждая культурная черта обладает какой-то прагматической функцией, которую она выполняет… Скорее обстоятельствам обязан этот порядок тем, что в этих обществах был установлен принцип, следуя которому собранный воедино культурный материал трансформировался в согласованные паттерны в соответствии с глубинными потребностями, развившимися внутри группы» (Benedict, 1932, р. 2).
Снова история и псюхе! Диффузия дает содержание; конфигурация определяет организацию. Так как черта заимствуется, довольно часто она «перерабатывается для выражения иной характеристики эмоционального паттернирования воспринявшей ее культуры6» (ibid, p. 7).
Итак, внутренняя необходимость заложена не в организации системы, а в псюхе, в эмоциональной потребности, – в Weltanschauung. Бенедикт идет дальше, к утверждению об изоморфизме индивида и культуры: «Культурные конфигурации так же относятся к пониманию группового поведения, что и типы личности к пониманию индивидуального поведения» (ibid, p. 23). Получается, что психологически элементы поведения значимы только в контексте конфигурации личности:
«Если это верно для психологии индивида, где индивидуальная дифференциация всегда ограничена культурными формами и краткостью человеческой жизни, то тем более это верно для социальной психологии, где преодолеваются рамки такого рода ограничений. Разумеется, здесь может быть достигнут несравненно больший уровень интеграции, чем это позволяет психология индивида. С этой точки зрения культура – это перенесенная на большой экран психология индивида, которой даны огромные пропорции и большой отрезок времени» (Benedict, 1932, р. 24).
Конфигурации определенных культур не могут быть объяснены ссылкой на человеческую природу вообще:
«Была задействована и еще одна, более мощная сила, которая использовала повторяющиеся ситуации (такие, как бракосочетание, смерть, заготовка запасов) как сырой материал и развивала их в средства для отражения своего смысла. Эту силу., внутри данного общества мы можем назвать его преобладающим внутренним импульсом»7 (ibid, р. 26).
Бенедикт делает вывод: «Эти преобладающие импульсы так же характерны для конкретных ареалов, как типы жилищ или регулирование наследования. Мы еще слишком ограничены недостатком релевантных описаний культуры, чтобы сказать, часто ли совпадает распределение этих импульсов с распространением материальной культуры и может ли в некоторых регионах на один культурный ареал приходиться сразу несколько таких импульсов, отграниченных от объективных условий существования народа» (ibid, p. 27).
Хотя здесь Бенедикт предполагает возможность увязки своих конфигураций с экологией, она не развивает этой идеи. И действительно, как я показал, в работе «Психологические типы» она выразила некоторое изумление по поводу различий в психологической ориентации между пуэбло и индейцами Равнин, совершенно не ссылаясь для их объяснения на огромные технологические, экономические и связанные со средой обитания различия между ними. Тем не менее, Бенедикт не отступает к паттернам социализации для объяснения конфигурационных импульсов. В сущности, она занимает позицию, которую я приписал лингвисту: она рассматривает паттерн и его способность со временем перерабатывать материалы, но не пытается объяснить различия между паттернами разных культур.
Ее исследование «Паттерны культуры» с теоретической точки зрения, – просто разработка идей, заложенных в таких работах, как «Психологические типы» и «Конфигурации культуры». И снова мы сталкиваемся с дихотомией истории и псюхе.
«Проблема наивных интерпретаций культуры с точки зрения индивидуального поведения заключается не в том, что эти интерпретации заимствованы из психологии, а в том, что они не принимают в расчет историю и исторический процесс усвоения или отторжения различных черт. Любая структурная трактовка культур тоже подразумевает разъяснение с точки зрения индивидуальной психологии, однако эта интерпретация так же обусловлена историей, как и психологией. В соответствии с такой трактовкой, дионисийское поведение более сильно выражено в институтах некоторых культур в силу присутствия на уровне личной психологии постоянных предпосылок для его существования; но такое поведение сильнее выражено в одних культурах и слабее – в других, в зависимости от ряда исторических событий, которые в одном месте способствовали его развитию, а в другом – пресекли его. В различных аспектах трактовки культурных форм необходимы и история, и психология, но ни одна из этих наук не в силах заменить другую» (Benedict, 1934, р. 232–233).
Для Бенедикт, так же как для Боаса и Сепира, особенность культуры заключается не в том, что она – система, организованная не так, как отдельная личность, а в том, что она имеет историю – аналог биологического роста. То есть культура не создается и не может быть создана de novo в каждом новом поколении. Возражение направлено против одномоментного психологического объяснения, а не против психологической трактовки как таковой. Одной только психологии не достаточно; ряд неизвестных случайностей, определяющих принципы отбора, действующие в каждой конкретной культуре – это случайности истории.
Однако онтогенетические соображения, которые начали занимать Сепира в конце его жизни, остались для Бенедикт, нелингвиста, несущественными. Сепир же, не задававшийся вопросом об источнике скользящего ударения в английском языке, заинтересовался тем не менее причиной возникновения эскимосской экстравертности, которая, на его взгляд, заключалась в кумулятивном характере развития общества. Бенедикт, нелингвист, в значительной степени отстаивала позицию лингвиста, выявляя паттерн и демонстрируя результат его действия, но не ища причин его происхождения. Мид справедливо заметила, что даже в последней книге Бенедикт – «Хризантема и меч» – проблема воспитания детей осталась за рамками ее исследования (Mead, 1949, р. 461).
V. «Культура» культуры и личности
Допустимо использовать модель культуры, основанную на аналогии с языком, но такой путь часто недостаточен и обманчив. В лингвистике можно анализировать язык как фонологическую или морфологическую системы, проявив при этом незнание как источников грамматических механизмов, так и тенденций дрейфа. Чтобы написать учебник грамматики, совершенно необязательно знать эти источники. Так же можно исследовать идеи, позиции и ценности членов общества или демонстрировать, как согласуются между собой эти ориентации и как они управляют поведением в некоторых сферах жизни. Было бы неверно, однако, написать монографию, озаглавленную «Коммуникативная сеть батонга», в которой шла бы речь лишь о фонологии, морфологии и лексике и в которой не обсуждалось бы, кто с кем, когда и на какую тему общается. Описание языка может быть существенным для понимания содержания коммуникации, но оно не дает информации о сети коммуникации. Члены группы участвуют в сети, а не разделяют ее. Таким же образом из описания совокупности ценностных ориентации не возникает важнейших системных черт культуры, таких, как взаимоотношения между технологией и средой, между результатом этого взаимодействия и экономическими структурами, между этими структурами и политическими единицами и т. д. И не могут возникать. Это два разных типа систем. Когда они смешиваются (ведь культурная система, о которой я упомянул, не может не приниматься в расчет даже самым отъявленным психологизатором), это смешение, похоже, влечет теоретиков к различным попыткам поиска решений – но ни одна из них не бывает удачной.
Первое решение – «затемняющее»; оно состоит в стремлении стереть различие между индивидом и культурой на основе утверждения либо того, что они изоморфны, либо того, что они идентичны, либо того, что культуры подобны индивидам, с той лишь разницей, что у первых длиннее история. Позиция Бенедикт стоит где-то в этом ряду. Это решение разрушает поле культуры и личности, делая невозможным какое-либо сопоставление, В той степени, в какой культура и личность оказываются идентичны, между ними не существует взаимодействия.
Второе решение возникает из потребности объяснить, а не просто констатировать. В нем присутствует попытка найти источники конфигураций (снова вспомним ценностные ориентации), в которых усматривается стремление к выражению и доминированию над новыми культурными материалами в данной культуре. В конце концов, с интеллектуальной точки зрения не слишком убедительно выглядит простое утверждение, что конфигурации – результат причуд истории. И тогда возникает соблазн обратиться к паттернам социализации, к раннему паттернированию личности как к источнику культурной конфигурации. К этому решению к концу своей жизни обратился Сепир, хотя нельзя сказать, что он принял его чистосердечно или без каких-либо оговорок. Это редукционистское решение. В нем допускается тезис о том, что культурный строй может быть объяснен через ориентации составляющих его индивидов, что создает проблему особого рода, так как вновь неизбежно встает вопрос о том, почему индивиды продолжают разделять одни и те же ориентации. (Та же проблема может возникнуть и из «изоморфного» взгляда.)
Третье решение отрицает само наличие проблемы. Это решение «яйца и курицы». Его адепты указывают, что ни один индивид не рождается вне культуры. Индивид рождается внутри культуры, социализируется, чтобы обнаружить ее родственность (или, может быть, чуждость), и вследствие этого стремится поддерживать ее (или изменять). Круг замкнут, и вследствие этого, говорят приверженцы этой точки зрения, безоснователен вопрос о том, где вклиниться в этот круг с описательными целями. Однако весьма странно, что те, кто разделяют этот взгляд, тоже либо «ломают» круг в той точке, где начинается социализация ребенка, либо подчеркивают важность социализации для сохранения или изменения сложившейся культуры.
Итак, теперь становится все очевидней, что мы не можем найти случаев, где изменения в социализации, предшествующие другим важным переменам в культурной системе, стали бы причиной таких изменений. При этом огромное число других источников культурных изменений требует к себе внимания. И, наконец, представляется очень разумным рассматривать изменения в социализации как реакцию на другие изменения. Вследствие этого, той точкой, в которой мы должны были бы ворваться в «круг», будет описание существующей зрелой системы отношений в их экологическом контексте. Это «объяснит» социализацию. Социализация сама по себе характеризует стабильность, но не объясняет ее причин и никогда не раскрывает основных признаков изменения. Исходя из нее можно объяснить природу приятия или отторжения происходящих перемен. Третье решение, старающееся обойти проблему, в конце концов приходит к отрицанию ее психологической окраски.
Из сказанного выше может показаться, что автор этой статьи пытается разрушить целую область исследований культуры и личности в качестве законного поля научного изыскания. На самом деле моя цель заключается в том, чтобы должным образом разграничить сферу этого поля и расчистить пространство для адекватного исследования. В анализе воздействия культурной системы (а не одной только Weltanschauung) как технологической, экономической или политической организации на индивида посредством паттернов социализации и посредством того, как эта организация затрагивает его во взрослой жизни, содержится жизнеспособное ядро исследований культуры и личности. Проводить этот анализ надо в контексте теории личности – в терминах ли стимулов, запретов, когнитивных ориентации, мотивов или же в терминах еще не существующей теории личности. В сущности, поле деятельности, которое я предлагаю, очень похоже на то, что в другом дискурсе предложил Уайт в 1925 г.
Как писал тогда Уайт и как часто говорили Мид и многие другие, изменения в культурных системах позволяют нам лучше оценить воздействие различных факторов на развитие и функционирование личности, чем любые искусственные условия, вообразимые в существующем на данный момент культурном строе. Адаптация систем личности в качестве правомерных реальностей к культурным системам как к правомерным реальностям – предмет немалого интереса и важности для теории личности. Это может представлять особый интерес и для антропологии. Адаптация не объясняет содержания, организации или процесса изменения в культуре, но она сообщает нам кое-что о «психологии» культуры – о том, как в людях происходят релевантные культуре побуждения и запреты. Есть также некоторое основание верить, что понимание динамики модальных типов личности (которые сами являются продуктами культурных систем) может помочь нам в изучении механизмов выражения в разных культурных системах – оснований ритуального языка, жеста, некоторых черт художественного стиля, развлечений и тому подобного. Некоторые разработки в этой области выглядят многообещающе, но пока проделано еще слишком мало фактической работы, чтобы можно было делать определенные выводы. К сожалению, ранее исследования в области культуры и личности были направлены на сведение всех аспектов культуры (за исключением безусловно относящихся к биологическому выживанию отдельного организма) к элементам выражения и таким образом и привели к тем или иным из противоречий, обсуждавшихся выше.
Итак, теория культуры и личности развивалась в вакууме, созданном неприятием подходов, рассматривавших культуру – синхронно или диахронно – как систему. Этот теоретический подход зиждился частично на аналогии между культурой в целом и языком. Бенедикт и Сепир были среди первых приверженцев этого взгляда на культуру но явные или скрытые предположения, которые они выдвигали, остаются среди нас и до сих пор нам мешают. В самом деле, искушение вернуться вновь к лингвистической модели в других формах, отличных от упомянутых мною, возникает снова и снова всякий раз, когда культура ставит перед исследователем неразрешимые задачи. Плодотворное изучение культуры и личности, дающее возможность рассуждать о причинах и следствиях в определенных терминах, будет построено на соответствующей модели культуры, представляющей ее как организованный, символически опосредствованный способ человеческих групп приспосабливаться к окружающей среде. Но не стоит и говорить, что исследования личности, развивающиеся в этом контексте, должны быть также построены на честном признании существования систем личности и на соответствующей сложной теории личности и методологии исследования. Ведь если культура – не макрокосм личности, то и личность – не микрокосм культуры.
Библиография
Aberle, David F.
1950 "Shared Values in Complex Societies." American Sociological Review, 15:495–502.
1951 "The Psychosocial Analysis of a Hopi Life-History" Comparative Psychology Monographs, 21 (1).
Benedict, Ruth E.
1922 "The Vision in Plains Culture." American Anthropologist, 24:1-23.
1923 "The Concept of the Guardian Spirit in North America." Memoirs of the American Anthropological Association, 29.
1930 "Psychological Types in the Cultures of the Southwest." Proceedings of the Twenty-Third International Congress of Americanists (New York, 1928), pp. 572–581.
1932 "Configurations of Culture in North America." American Anthropologist, 34:1-27.
1934 Patterns of Culture. Boston, Houghton Mifflin Company.
1936 "Marital Property Rights in Bilateral Society." American Anthropologist, 38:368–373.
1939 "Edward Sapir." American Anthropologist, 41:465–477.
Boas, Franz.
1911 "Handbook of American Indian Languages. Part I." Bureau of American Ethnology Bulletin, 40.
1940 Race, Language and Culture. New York, The Macmillan Company.
Greenberg, Joseph H.
1954 "A Quantitative Approach to the Morphological Typology of Language." In Methods and Perspectives in Anthropology: Papers in Honor of Wilson D. Wallis, ed. by Robert F. Spencer, pp. 192–220. Minneapolis, University of Minnesota Press.
1957 Essays in Linguistics. Chicago, The University of Chicago Press. Kluckhohn, Clyde and Murray Henry A., eds.
1948 Personality in Nature, Society, and Culture. New York, Alfred A. Knopf, Inc.
Lowie, Robert H.
1937 The History of Ethnological Theory. New York, Farrar and Rinehart, Inc.
Mandelbaum, David G.
1949 Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality. Berkeley, University of California Press.
Mead, Margaret.
1949 "Ruth Fulton Benedict 1887–1948." American Anthropologist, 51:457–468.
1959 An Anthropologist at Work, Writings of Ruth Benedict. Boston, Houghton Mifflin Company.
Naroll, Raoul.
1956 "A Preliminary Index of Social Development." American Anthropologist, 58:687–715.
Sapir, Edward.
1916 "Culture in the Melting Pot." The Nation Supplement, Section II. Thursday, Dec. 21, 1916, pp. 1–2.
1917 "Do We Need a 'Superorganic'?" American Anthropologist, 19:441–147.
1920 «Primitive Society." [Review of Robert H. Lowie, Primitive Society] The Freeman, 1:377–379.
1921 Language. New York, Harcourt, Brace and Company.
Sorokin, Pitirim A.
1937 Fluctuation of Forms of Art. (Social and Cultural Dynamics, vol. 1) New York, The American Book Company.
White, Leslie A.
1925 "Personality and Culture." The Open Court, 39(3):145–149.
1949 The Science of Culture. New York, Farrar, Straus and Company.
Примечания
1 Я очень признателен Е. Кетлин Гауф Аберле, Роберту Карнейро, Гертруде Доул, Герберту X. Пэйперу Маршаллу Салинсу Элману Сервису и Альберту К. Спеллингу за полезные и многое прояснившие дискуссии и критику в ходе подготовки этой работы. Выраженные здесь идеи зародились несколько лет назад и навеяны Бернардом Барбером, Альбертом К. Коэном, Марион Дж. Леви, М.Л., Талкоттом Парсонсом и Френсисом Кс. Салоном, хотя сами они, пожалуй, были бы удивлены результатом. В некоторых отношениях этот очерк также следует по пути, предложенному Питиримом Сорокиным в его анализе типов культурной интеграции (Сорокин, 1937. Р. 3–53). Я очень признателен Школе высших исследований Мичиганского Университета Горация X. Ракхама за время, отпущенное мне на выполнение грантовой программы фонда Форда весной 1958 г., когда и была написана эта работа.
2 Мое внимание к этой работе было впервые вызвано Клакхоном и Мюрреем, которые отмечают: «В 1925 г. доктор Лесли А. Уайт опубликовал статью под названием „Личность и культура“ в „Открытом суде“. Д-р Уайт был тогда студентом лингвиста-антрополога профессора Эдварда Сепира…» (Клакхон и Мюррей, 1948. Р. XII). Однако на самом деле работа появилась в марте, тогда как Сепир прибыл в Чикаго осенью 1925 г. после лета, проведенного в Колумбии (Бенедикт, 1939. Р. 466—67), и на подготовку этой работы не повлиял.
3 Желая предотвратить путаницу, я должен здесь сказать, что, хотя я и говорю о «языке и культуре», я не рассматриваю язык как некультурное или культуру как неязыковое явление. Я говорю о языке, анализируемом лингвистами, и о культуре, включающей в себя языковое поведение, но рассматриваемое скорее как коммуникативный механизм, чем как набор фонологических или морфологических принципов.
4 Под «разделяемыми» речевыми паттернами речевого сообщества я понимаю паттерны фонологии или морфологии, которые обнаруживаются в похожей или почти идентичной форме в речи любого члена сообщества. Под «разделяемым» поведением я понимаю демонстрацию любым членом группы схожей или почти идентичной языковой или неязыковой деятельности. Можно возразить, что никто на самом деле не имел в виду, что пат терны разделяют все члены группы, что явно имеются как минимум возрастные и половые различия. На это можно ответить, что данная проблема никогда не рассматривалась до статочно подробно. Можно также заявить, что под «разделяемым» некоторые теоретики подразумевают общее понимание, а не общее поведение. Повторю, что никто не позаботился о том, чтобы прояснить это, если кто-то вообще и имел такое намерение.
5 Эта работа была представлена в сентябре 1928 г., но опубликована только в 1930. Между ней и работой Сепира 1928 г., посвященной религии, имеется ряд параллелей (Мандельбаум, 1949. Р. 346–356). Эти и другие параллели привели меня к вопросу о том, когда Сепир и Бенедикт начали пользоваться работами друг друга. Я очень признателен Маргарет Мид за информацию на этот счет. Она сообщила мне, что Бенедикт написала свою работу по проблеме видений до встречи с Сепиром и, возможно, до того, как прочла «Культуру, подлинную и мнимую». А с 1922 г. они уже работали бок о бок и оказывали влияние друг на друга. Об этом свидетельствует множество писем, написанных в период между 1922 и 1926 гг., и кроме того, Сепир довольно часто бывал в Нью-Йорке этот период времени, когда там находилась его заболевшая первая жена. [Произведение Маргарет Мид «Антрополог за работой: сочинения Рут Бенедикт» появилось в 1959 г., т. е. слишком поздно, чтобы я мог переработать свою статью, которая попала к издателям в законченном виде в октябре 1958 г. Замечания Сепира по поводу некоторых работ Бенедикт, замечания Бенедикт по поводу некоторых работ Сепира и разъяснения Мид о предпосылках «Паттернов культуры» позволили бы говорить о некоторых основных различиях в теоретических позициях Сепира и Бенедикт. Однако здесь мой интерес направлен в первую очередь на сходства в их позициях.]
6 Концепция «переработки» инородных материалов имеет свою параллель в лингвистической теории. Так как этот момент не важен для данного очерка, я не включил полно ценное его рассмотрение в раздел III и лишь походя упоминаю о нем здесь.
7 Есть и другая, второстепенная параллель между языком и культурой, допускаемая здесь, да и во всех работах Бенедикт. Речевой аппарат определяет ряд допустимых звуков, из которых производят отбор определенные фонетические системы, а человечество производит ряд опытов, из которых извлекаются и обрабатываются в процессе отбора культурные паттерны.
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: Aberle D.F. The Influence of Linguistics on early Culture and Personality Theory // Essays in the Science of Culture. In Honor Leslie A. White. N. Y, 1960. P. 1–29.
1* равно, наравне (лат.).
2* разбросанным членам (лат.).
Перевод И.А. Осиновской, П.А. Кожановского.Гринберг Дж. Х. Историческая лингвистика и бесписьменные языки
1. Историческая и дескриптивная лингвистика
Хотя выступление функционалистов против исторического подхода отразилось на некоторых аспектах антропологии, его ценность и плодотворность в области лингвистики никогда не ставилась под вопрос по существу. Выдвинутые в последнее время возражения против некоторых посылок классического индоевропейского сравнительного языкознания, таких как существование звуковых соответствий, не допускающих исключений, или слишком буквальная интерпретация метафоры «родословного древа» в применении к языкам, не заставили сколько-нибудь серьезно усомниться в допустимости и значимости исторической реконструкции как таковой; самое большее, они (в случае группы итальянских неолингвистов1) вызвали появление своеобразных альтернативных реконструкций некоторых праиндоевропейских форм.
Некоторые индоевропеисты категорически отрицали возможность применения традиционных методов индоевропейской лингвистики к «первобытным» (т. е. бесписьменным) языкам (Vendryes, 1925). Очевидно, что, хотя эти приемы в принципе применимы, отсутствие документальных свидетельств о более ранних исторических периодах представляет собой явное методологическое затруднение. Однако в последние десятилетия классические методы реконструкции не раз успешно применялись в различных областях, включая центрально-алгонкинские (Л. Блумберг), банту (К. Майнхоф) и малайско-полинезийские языки (О. Демпвулф). Конечно, следует помнить, что во всех этих случаях речь шла о довольно близких друг к другу языках и диалектах, так что обсуждаемая задача сравнима скорее с реконструкцией прагерманского или праславянского языка, чем праиндоевропейского. Тем не менее эти попытки обеспечивают важное подтверждение универсального характера механизмов изменения языка, которые, как было известно ранее, действуют в более узком регионе распространения традиционно изучаемых индоевропейских, угро-финских и семитских языков (Hockett, 1948).
Гораздо больше, чем скепсис по поводу возможности лингвистической реконструкции при отсутствии древних письменных свидетельств, озадачивает широко распространенное мнение (которое будет обсуждаться в следующем разделе этой статьи) о том, что для первобытных языков невозможно установить отдаленные родственные связи (или даже такие, какие существуют внутри индоевропейской семьи) из-за мощного влияния, иногда оказываемого одним языком на другой даже в том, что касается основ его грамматической структуры. Утверждается даже, что в таких случаях вопрос о происхождении языка теряет свой смысл, так как один язык может восходить к нескольким различным источникам, и поэтому нельзя сказать, что данный язык принадлежит к одной семье скорее, чем к другой (Boas, 1920). Следует отметить, что даже в этих случаях значимость исторического исследования не отрицается, так как оно обеспечивает нас сведениями об определенных контактах, хотя предполагается, что вопрос происхождения языка не может быть разрешен. Так, Уленбек, который в более поздних работах придерживается только что отмеченных взглядов на генетические связи, потратил много времени и сил, чтобы указать черты сходства между языками уральской семьи и эскимосским, требующие исторического объяснения, но при этом уклонился от обсуждения вопроса о характере этой исторической связи.
Таким образом, историческое языкознание остается общепризнанной и важной областью лингвистических исследований. Однако нельзя отрицать, что в последнее время в связи с возникновением структурных школ в европейской и американской лингвистике центр интересов переместился с исторических проблем, господствовавших в языкознании ХГХ в., к проблемам синхронистического описания. Современное увлечение дескриптивными формулировками, которое представляется лингвистическим аналогом подъема функционализма, может внести ценный вклад и в диахронические исследования. Возможно, наиболее очевидно то, что любое усовершенствование дескриптивных методик, улучшая качество исходных данных, на которых основываются исторические исследования, могут тем самым дать материал для гипотез о более широких исторических связях, а также увеличить точность реконструкции праязыков, существование которых было установлено ранее. Другой важнейший фактор – влияние основополагающего подхода к языку, который разделяют все структуралисты при всех своих разногласиях в других вопросах, а именно концепция языка как системы функциональных элементов. В диахроническом аспекте это позволяет нам взглянуть на изменение языка как системы и хотя бы частично объяснить это изменение в терминах его внутреннего функционирования во времени. В последнее время некоторые из этих выводов уже делаются в области звуковых структур (patterns). Так Трубецкой, как и другие, провел различие между теми изменениями звуков, которые сказываются на звуковой структуре языка, и теми, которые не влияют на нее (Jacobson, 1931). Это явно соответствует синхронистическому делению звуковых различий на фонетические и фонемические. Под влиянием этого образа мышления звуковое изменение в языке все чаще и чаще рассматривается с точки зрения сдвигов и перестановок в звуковой структуре языка, к которым оно приводит, а не как случайный набор изолированных изменений, как это принято в традиционных обзорах по историческому языкознанию2. Более строгая формулировка правил чередования фонемических вариантов морфем (морфофонемика) также принесла пользу: на этой основе Хёнигсвальд высказал концепцию внутренней реконструкции, т. е. реконструкции некоторых аспектов прежнего состояния данного языка без привлечения родственных языков или исторических документов (Hoenigswald, 1950). Хотя, по существу, этот метод, без явной формулировки, использовался в историческом языкознании и ранее, тем не менее упор на строгую формулировку основных посылок в целом полезен в такой области, как историческая реконструкция, где ее отсутствие ощущалось так остро.
Таким образом, фундаментального антагонизма между историческим и дескриптивным подходами в лингвистике не существует. Но то обстоятельство, что внимание языковедов было сосредоточено на синхронистических (synchronic) проблемах текущего исторического периода, в сочетании с традиционной концентрацией лингвистических сил на нескольких крупнейших языковых семьях Евразии, привело к сравнительной недооценке основных проблем исторического исследования бесписьменных языков.
II. Установление лингвистических взаимосвязей
Важнейшим научным достижением XIX в. в лингвистике, как и в некоторых других областях, например в биологии, явился переход от традиционной статической интерпретации сходных черт как случайных совпадений между видами, созданными одновременно и способными изменяться только в ограниченных пределах, к динамической исторической интерпретации тех же черт как проявлений определенных, более или менее отдаленных исторических взаимосвязей. Таким образом, таксономия, наука о классификации, перестала быть попыткой поиска существенных черт, связывающих определенные предметы более тесно, чем другие, как часть Божественного замысла, а стала основываться главным образом на выборе тех критериев, которые отражают реальные исторические взаимосвязи. Говоря языком биологии, это был поиск гомологии, а не простых аналогий. Несмотря на плодотворность индоевропейской гипотезы и дальнейшие успехи подобных гипотез о существовании угро-финской, семитской и других языковых семей, основные посылки, на которых основывались эти первые победы языкознания как науки, никогда не были ясно сформулированы, и распространению этих методов на другие регионы мира с самого начала препятствовал недостаток определенности по поводу критериев родства языков, что почти в каждом крупном географическом регионе привело к хаосу взаимоисключающих классификаций и даже к широко распространенному сомнению в возможности какой-либо интерпретации сходства между языками в терминах исторических связей. Но посылки, на которых было построено здание современной лингвистики и которые помогли придать ей значительно большую строгость метода и точность результатов, чем в науках о других формах культурного поведения людей, не следует отбрасывать с легкостью, если, конечно, этого не требуют фактические данные. Ниже мы попытаемся сформулировать принципы, в соответствии с которыми возможна историческая интерпретация черт сходства между языками. Мы надеемся, что, руководствуясь этими принципами в последующих разделах при рассмотрении проблем, относящихся к конкретным регионам, можно будет придти к их приемлемому решению.
Основополагающее предположение о языке, на основе которого становится возможной историческая интерпретация черт лингвистического сходства, было, по-видимому, впервые явно сформулировано великим швейцарским лингвистом Фердинандом де Соссюром в «Курсе общей лингвистики» (Cours de linguistique generale), хотя он и не указал ее связь с историческими проблемами. Согласно де Соссюру, язык – система знаков, имеющих два аспекта: signifiant и signifie1*, что в терминологии Блумфилда и американских лингвистов эквивалентно «форме» (form) и «значению» (meaning) соответственно. Более того, эти два аспекта языкового знака, по существу, связаны между собой произвольным образом. Каково бы ни было определенное значение, нет никакой внутренней необходимости, чтобы оно выражалось некоторым определенным сочетанием звуков, а не любым другим. Впервые этот постулат был сформулирован таким образом де Соссюром, фактически он лежит в основе гипотез языковедов XIX в. о лингвистических взаимосвязях и, по существу, представляет собой общепринятое в современной лингвистике решение дилеммы о врожденности либо условном характере языка, восходящей еще к древним грекам. Притом, что соотношение между формой и значением произвольно, более чем случайные сходства между языками требуют исторического объяснения с точки зрения либо общности происхождения, либо заимствования.
Это утверждение о произвольности знака нуждается в некотором уточнении, так как некоторым звукам или звукосочетаниям в какой-то мере свойственно чаще выражать определенные значения, чем можно было бы ожидать, если бы совпадения имели исключительно случайную природу. Характерные примеры – детские слова, означающие мать и отца, и звукоподражательные названия некоторых видов животных. Как правило, это считается лишь незначительным отклонением от принципа произвольности знака, поскольку никогда нельзя предсказать звучание слова, исходя из его значения, и, так как эти случаи встречаются сравнительно редко, они могут лишь незначительно повысить процент сходных черт между двумя языками, не связанными между собой, по сравнению с ожидаемым количеством случайных совпадений; но этого недостаточно для объяснения сходства между двумя определенными языками в целом, такими, как французский и итальянский. Более того, можно учесть немногие черты сходства, объясняемые этим фактором, приписывая им меньший вес при рассмотрении спорных случаев возможной исторической взаимосвязи между языками. Этот фактор, ответственный за определенные черты сходства между языками, я буду ниже, допуская известную вольность, называть «символизмом» (в соответствии с терминологией, принятой в психологической науке).
Существует четыре возможных типа объяснений каждого данного элемента сходства между двумя языками как по форме, так и по значению. Два из этих четырех объяснений – случайность и символизм – не имеют отношения к историческим связям, в отличие от двух других – родства языков и заимствования. Эти четыре источника сходства имеют параллели и в неязыковых аспектах культуры. Родственная связь соответствует внутренней эволюции, заимствование – диффузии, случайность – конвергенции, вызванной ограниченностью набора возможностей (как в случае некоторых художественных приемов), а символизм – конвергенции, основанной на сходстве функций.
До сих пор речь не шла о межъязыковом сходстве форм, соответствующих различным значениям, и значений, выражаемых различными формами. Я считаю, что следует решительно исключить такие черты сходства из рассмотрения как несущественные для установления генетической взаимосвязи. Они практически всегда объясняются конвергенцией или заимствованием. Форма без функции (например, наличие систем тональности или гармонии гласных в двух языках) или функция без формы (например, наличие в двух языках родовых морфем, выраженных различными формальными средствами) часто используются в качестве существенных факторов для установления взаимосвязи – иногда как единственный критерий (например, в определении хамитской семьи у Майнхофа), иногда в сочетании с другими. Предпочтение совпадений значения без соответствующего звукового сходства иногда основывается на метафизических предпосылках о превосходстве формы над материей (Kroeber, 1913).
Сходство одних значений часто объясняется конвергенцией, вызванной ограниченностью набора возможностей. Важные всеобщие аспекты человеческого опыта, – такие, как категория числа, система классификации существительных по роду и одушевленности или глаголов по времени и виду, – имеют тенденцию возникать независимо в самых отдаленных областях мира и никогда не могут служить свидетельством исторической связи. Появление двойственного числа в языке яна (Калифорния), древнегреческом и полинезийских языках – очевидный результат конвергенции. Иногда семантическое сходство, не сопровождаемое сходством формальных средств выражения, имеет место в соседних языках общего или различного происхождения. В этих случаях мы имеем лингвистическую аналогию концепции «стимульной диффузии» Крёбера – на самом деле, чрезвычайно яркий пример этого процесса. Языки племен или народов, находящихся в постоянном культурном контакте и образующих культурную общность, часто приобретают много таких общих семантических черт за счет механизма диффузии. Этот процесс может дойти до точки, когда оказывается возможным почти дословно переводить с одного языка на другой. Однако, так как изменения культурной ситуации отражаются исключительно на семантическом аспекте языка и это семантическое сходство охватывает смежные географические территории, эти различия, как бы далеко они ни заходили, явно имеют вторичный характер. Помимо вероятностных соображений, об этом есть много эмпирических свидетельств в регионах, история которых документирована. Общие черты различных балканских языков, представляющие собой одну из отличительных особенностей Балкан как культурного ареала, в целом относятся к семантике, тогда как фонемические средства выражения при этом различаются. Так, в румынском, сербском и греческом языках будущее время выражается вспомогательным глаголом, означающим «желать», за которым следует инфинитив, но в румынском языке эта форма имеет вид voiu + гл., в сербском – си + гл., а в греческом – tha + гл. Известно, что все эти формы появились сравнительно недавно по историческим меркам, и их сходство не связано с более отдаленными индоевропейскими генетическими связями, общими для всех этих языков. Приблизительно такие же аргументы можно применить к сходству форм в отрыве от значений. Число возможных фонемических систем ограничено. Например, такие исторически не связанные языки, как хауса в Западной Африке, классическая латынь и язык пенутских йокутов, имеют одинаковую систему из пяти гласных с двумя значимыми вариациями длительности (а, а•, е, е•, i, i•, о, о•, и, и•). Некоторые элементы сходства формы, но не значения вызываются влиянием одного языка на другой, как, например, щелкающие звуки в языке зулу, заимствованные из койсанских языков. Как правило, если родственные языки были изолированы друг от друга в течение значительного времени, мы ожидаем и действительно находим существенные различия, как между их звуковыми системами, так и в том, что касается семантики, вызванные накоплением случайных изменений и различием культурного окружения, в котором жили их носители. Слишком большое сходство в таких случаях вызывает подозрения.
Поскольку, как было показано, элементы сходства только между формами или только между значениями обычно объясняются не генетическим родством, а на основе других гипотез, их наличие не свидетельствует о генетической взаимосвязи, а их отсутствие не опровергает ее. Поэтому их можно исключить из рассмотрения как не имеющие отношения к данной проблеме.
В таком случае свидетельствами генетического родства могут служить количество и природа черт сходства между значимыми элементами (как правило, минимальными структурными единицами, т. е. морфемами) по значению и форме одновременно. Тогда лексическое сходство между языками сводится к сходству корневых морфем, а о грамматическом сходстве можно судить по словообразовательным и словоизменительным морфемам. При этом основными методологическими проблемами становятся две: исключение конвергенции и символизм, что на основе более чем случайного сходства приводит к гипотезе о некоей исторической связи, и после этого – разделению случаев, в которых такое сходство убедительно объясняется заимствованием, и случаев, в которых это объяснение неудовлетворительно и необходимо принятие гипотезы о наличии родственной связи.
Первый подход, который напрашивается при исследовании проблемы неслучайного (статистически значимого) сходства, – количественный. Можно задаться вопросом, сколько элементов сходства может быть между двумя языками, не связанными генетически и не заимствовавшими ничего друг от друга или из общего источника. Представляются возможными различные методики. Одна из них могла бы заключаться в вычислении для каждого из этих двух языков ожидаемого количества случайных совпадений, исходя из его фонемической структуры и допустимых последовательностей фонем, сгруппированных по «классам сходства» (при этом нужно заранее условиться, какие фонемы будут считаться подобными другим в целях сравнения). Против такой процедуры можно выдвинуть несколько возражений. Так, она не исключает фактор символизма и не учитывает относительную частотность употребления фонем в каждом языке. Если, например, при сравнении двух определенных языков все губные согласные будут считаться сходными между собой, так же как и зубные, и если в обоих языках зубные согласные употребляются в пять раз чаще губных, возможность случайного сходства окажется гораздо большей, чем если бы они встречались одинаково часто. Конечно, в принципе можно было бы учесть это возражение, приписывая фонемам вес в соответствии с их частотностью, но осуществить это на практике было бы затруднительно.
Более приемлемой была бы следующая процедура. Предположим, что у нас есть список тысячи соответствующих по значению морфем из двух языков. В языке А первая морфема – «кан», «один». Вместо вычисления теоретической вероятности появления формы, достаточно близкой к «кан», чтобы их можно было считать сходными, сравним «кан» со всей тысячей форм из второго списка. Сравним также «один» со всеми значениями из второго списка. Тогда вероятность случайного появления морфемы, сходной с «кан», «один», и по форме, и по значению, в списке Б будет равна произведению числа сходных форм и сходных значений, деленному на 1000, общее число пунктов. Повторим то же со всеми морфемами и подведем итоги. Видно, что это потребует чрезвычайно кропотливой работы. Кроме того, эта процедура не учитывает сходства, основанного на символизме.
Гораздо более практичный метод, учитывающий и случайные совпадения, и символизм, заключается в том, чтобы просто взять несколько заведомо неродственных языков и определить количество сходных элементов, имеющих место в действительности. Сложности, возникающие при этом, связаны с тем, что результаты будут различными в зависимости от фонемической структуры языка. Ряд таких подсчетов показывает, что типичный показатель равняется приблизительно 4 % даже при очень широком понимании сходства. Однако если фонемическая структура морфем в обоих языках близка, степень сходства может быть значительно выше. Например, между тайским языком и языком юр, принадлежащим к нилотской группе, у которых фонемическая структура очень похожа, она достигает 7 %. Но можно с уверенностью утверждать, что сходство 20 % лексики всегда требует исторического объяснения и что, если близость фонетической структуры не дает оснований ожидать высоких показателей сходства, даже 8 % – намного больше, чем можно было бы предполагать без привлечения исторических факторов. Этот фактор сходства или различия фонемической структуры морфем столь важен, что в сомнительных случаях, возможно, следует применять упрощенный вариант второго из предложенных тестов – сравнения соответствующих списков. Можно было бы сравнить с фонемической точки зрения определенную форму из списка Б со всеми формами из А, выделяя только одно значение, принадлежащее той форме из этого списка, которая предположительно является ее наиболее близким семантическим эквивалентом. Затем мы сравним частоту только тех случаев сходства, в которых обе формы оказываются семантически наиболее эквивалентными с теоретически ожидаемой (которая, конечно же, будет меньше, чем в первом методе). Так, если первой в списках встретится пара nem (А), kan (Б) – «один», а потом ken (A), sa (Б) – «только», сходство между формой ken (А) – «только» и kan (Б) – «один» останется незамеченным, так как оно имеет место между словами из разных пар.
Однако на самом деле, по-видимому, без такой проверки можно обойтись, так как количество сходных форм и значений морфем само по себе не является решающим фактором в более сомнительных случаях. Возможны дополнительные исследования, основанные на взвешивании, которое должно соответствовать отдельным пунктам, а тому факту, что изолированные языки встречаются редко. За счет вовлечения в рассмотрение близкородственных языков возникают новые важнейшие факторы. Они и должны привести к определенному решению.
Очевидно, что при прочих равных значимость сходства формы или значения элементов двух языков пропорциональна их длине. Сходство между А, -k, и Б, -k, «в», менее существенно (по крайней мере с этой точки зрения), чем сходство между A, pegadu, и Б, fikato, «нос». Более содержательна следующая процедура. Предметом сравнения является морфема с ее различными алломорфами (видоизменениями), если они существуют. Если эти изменения в двух языках аналогичны, особенно если при этом сами формы состоят из более или менее различных звуков, у нас есть не только вероятность, с которой та или иная последовательность фонем будет иметь определенное значение, но и дополнительный фактор – то, что она будет сопровождаться определенными вариациями в определенных сочетаниях. Вероятность совпадения таких произвольных морфофонемических изменений, особенно если оно супплетивно, т. е. не основано на фонетическом сходстве вариантов, имеет совершенно иной порядок по сравнению с вероятностью совпадения морфем, не изменяющихся вообще или изменяющихся по-разному в каждом из языков. Даже один такой случай едва ли возможен без каких-либо исторических взаимосвязей, и если кроме того заимствование также маловероятно, он фактически может служить удостоверением родства языков. Можно привести пример из английского и немецкого языков. Морфема с главной формой hœv, «иметь», в английском сходна с немецким главным алломорфом ha: b, «иметь», как по форме, так и по значению. В английском hœv чередуется с hœ – перед – z в третьем лице единственного числа настоящего времени (hœz, «имеет»). В немецком, соответственно, ha: b чередуется с ha– в подобном окружении, перед – t, образуя форму третьего лица единственного числа настоящего времени ha-t, «имеет». Аналогично английское gud, «хороший», чередуется с bе– перед – tdr в сравнительной степени и -st – в превосходной. Точно так же немецкое gu: t, «хороший», чередуется с bе– перед – sdr в сравнительной степени и -st – в превосходной. Вероятность того, что все эти совпадения (особенно последнее, супплетивное), случайны, крайне мала. Поскольку именно такие произвольные изменения, «неправильности» в «нетехнических» языках, испытывают аналогичное давление, имеет место тенденция к их исчезновению, даже если они имели место в языках-предках. Если же они, тем не менее, существуют, это точное указание на реальную историческую взаимосвязь.
Более широкую область применения имеет процедура, основанная на том, что только в редких случаях сравниваются два изолированных языка. Тогда вопрос, вызваны ли черты сходства между двумя языками только случайностью и символизмом, можно исследовать несколькими дополнительными методами. Например, часто бывает, что один или несколько других языков или языковых групп напоминают оба рассматриваемых языка, но в одинаково неопределенной степени, т. е. этот третий или четвертый язык обнаруживает не большее сходство с одним из первоначально сопоставлявшихся языков, чем с другим. Тогда применимо следующее фундаментальное положение теории вероятностей. Вероятность наличия элементов, сходных и по форме, и по значению одновременно в трех языках, есть квадрат вероятности такого же сходства между двумя языками. Вообще, первоначальную вероятность нужно возвести в (n-1)-ю степень, где n – общее число рассматриваемых языков, точно так же, как вероятность однократного выпадения шестерки на игральной кости – 1/6, а двукратного – (1/6)2, т. е. 1/36. Аналогично, если сходство каждого из трех языков с одним из оставшихся наблюдается в 8 % случаев, что в исключительных ситуациях может быть вызвано простым совпадением, можно ожидать сходства значения и формы во всех трех языках в (8/100)2 = 64/10 000 случаев. Из 1000 сравнений совпадение между всеми тремя языками произойдет лишь 6,4 раза, т. е. в 0.0064 от общего числа, или менее чем в 1 % случаев. Поэтому число таких трехкратных совпадений весьма значимо. Если же совпадение наблюдается в ряде случаев в четырех и более языках, приблизительно одинаково близких друг к другу, необходимо предположить, что между ними существует историческая связь, а если эти совпадения затрагивают область фундаментальной лексики или морфем, имеющих грамматические функции, то единственно приемлемым является генетическое объяснение.
Это можно проиллюстрировать на примере афроазиатской (семито-хамитской) языковой семьи, состоящей из пяти языков или языковых групп – египетской, берберской, семитской, чадской (хауса и другие) и кушитской. Рассматриваемые формы заведомо считаются предковыми в каждой группе на основании датировки первого известного появления, как в случае с египетским языком – если они встречаются в текстах пирамид, нашем древнейшем памятнике письменности, или если они существуют по крайней мере в двух генетических подгруппах (как в случае чадской и кушитской), так что, по существу, мы сравниваем пять языков. Если мы вновь допустим очень высокий процент черт случайного сходства между любыми двумя из этих языков – 8 %, то ожидаемая доля морфем, сходных по форме и значению и присутствующих во всех пяти группах одновременно, составит (8/100)4, т. е. 2816/100 000 000. При предположении, что сравнивается примерно по 1000 форм из каждого языка, эта ожидаемая доля составит 2816/100 000 морфемы. Это означает, что при случайном сравнении пяти неродственных языков и при размере выборки в 1000 слов в каждом случае эта процедура даст один удачный результат приблизительно на 35 наборов сравнений. На самом деле в случае семито-хамитской семьи обнаруживаются одиннадцать таких морфем вместо ожидаемой 1/35. Существует лишь крайне малая вероятность того, что это может быть вызвано чистой случайностью. При этом к таким морфемам относятся, например, -t, указатель единственного числа женского рода, и -kа, характеризующая притяжательные местоимения 2-го лица, единственного числа и мужского рода. Родственная связь, на которую указывают и многие другие признаки, представляется здесь единственным возможным объяснением.
Никогда не следует сравнивать изолированные языки, если имеются более близкие родственники. Дело в том, что тенденция тех определенных языковых форм, которые напоминают другой язык или группу языков, появляться со значительной частотой в более близкородственных формах речи – важное свидетельство существования реальной исторической связи. Относящиеся к этому статистические рассуждения можно еще раз проиллюстрировать на примере семито-хамитской семьи. Вопрос о том, действительно ли язык хауса состоит в родстве с египетским, семитскими, берберскими и кушитскими2*, всегда рассматривался только на основании изолированных сравнений хауса с другими группами, тогда как наличие более семидесяти языков чадской группы, обнаруживающих черты явного и близкого родства с хауса, не принимались во внимание.
Сравнение базисной лексики хауса и бедауйе, современного языка, принадлежащего к кушитской ветви семито-хамитской семьи, показывает, что он у них совпадает на 10 %. Ясно, что хауса мог потерять некоторые прасемито-хамитские слова, сохранившиеся в бедауйе, и наоборот. Процент сохранившейся лексики определяется посредством простой математической операции, а именно взятия квадратного корня из доли сходных лексических элементов. Поэтому доля слов прасемито-хамитского происхождения в лексике хауса должна составлять корень 10/100, т. е. приблизительно 32/100. Если мы теперь возьмем другой язык чадской группы, не принадлежащий к той же подгруппе, что и хауса, а именно мусгу процент сходства с хауса составит 20 %. Аналогично предыдущему, доля слов, сохранившихся в хауса со времени его отделения от мусгу, т. е. с прачадского периода, должна равняться корню 20/100, или приблизительно 45/100. Далее, если мы возьмем формы, обнаруженные в хауса, напоминающие египетские, берберские, семитские или кушитские и действительно восходящие к прасемито-хамитским (так как между этими языками действительно существует родственная связь), они должны быть также прачадскими. Так как, начиная с прачадского периода, эти формы утрачивались в хауса независимо от мусгу, принадлежащего к другой подгруппе, следует ожидать случайного появления подлинных прасемито-хамитских форм языка хауса в мусгу с вероятностью (32/100)÷(45/100), т. е. 32/45. С другой стороны, если хауса не состоит в родстве с другими семито-хамитскими языками, видимое сходство между ними является случайным, и сходные слова должны встречаться в мусгу не чаще, чем любые другие, т. е. в 20 % или в 9/45 от общего числа случаев, а не в 32/45. В действительности подсчет показывает, что из 30 морфем в хауса, сходных с существующими в других ветвях, кроме чадской, 22 встречаются в мусгу. Это 22/30 или 33/45, что явно близко к ожидаемым 33/45. С другой стороны, из 116 форм, не имеющих аналогов в других ветвях семито-хамитской семьи, в мусгу встречаются только 14.
Кроме частоты появления элементов сходства и их распределения в других языках той же группы, не меньшее значение имеет и форма, которую они принимают. Если сходные черты действительно обусловлены историческими взаимосвязями, даже беглая реконструкция должна показывать, что реконструированные формы более сходны между собой, чем существующие в двух изолированных языках. Если же эти черты – результат конвергенции, реконструкция должна, как правило, увеличить различия между ними. Можно попытаться сделать это по ходу сравнения, причем не обязательно используя весь аппарат формальной исторической реконструкции, что часто невозможно сделать из-за скудости материала или в случае весьма отдаленного родства, когда недоступны никакие письменные документы. Если, например, мы сравним современный язык хиндустани с английским, нас поразит изобилие сходных элементов базисной лексики, включая числительные, но, конечно, гипотеза случайной конвергенции возникнет в качестве одного из допустимых объяснений. Но если провести реконструкцию, даже ограничиваясь рассмотрением современных германских языков, с одной стороны, и индо-иранских – с другой, она покажет явственную тенденцию к увеличению сходства между ними по мере углубления в прошлое, что наводит на мысль о реальной исторической взаимосвязи. Так, английское tuwp3 лишь слегка напоминает хиндустанское da: t. Co стороны германских языков сравнение с верхненемецким tsa:n уже говорит о наличии носового согласного, соответствующего назализации гласного в хиндустани. Вывод о том, что английская и немецкая форма произошли от гипотетического *tanp или чего-либо подобного, подтверждается тем, что в нидерландском языке мы находим tand. С другой стороны, сравнение хиндустани с другими арийскими языками Индии показывает, что долгий носовой гласный в хиндустани происходит от более древнего сочетания краткого гласного и носового согласного, как в кашмирском и синдском dand. Таким образом, реконструкция сблизила эти формы.
Наконец, очень важно, что степень согласованности звуковых соответствий – явный признак исторической взаимосвязи. Так – обращаясь вновь к сравнению английского языка и хиндустани, – о ней убедительно свидетельствует наличие t в английских tuw, «два», ten, «десять», и tuwp, «зуб», соответствующего аналогично хиндустанскому d в do, das и da: t.
При предположении, что такая взаимосвязь установлена, остается вопрос, можно ли объяснить рассматриваемые элементы сходства заимствованием. Хотя в отдельных случаях эта проблема может вызывать сомнения, я полагаю, что всегда можно определить, является ли масса сходных черт в двух языках результатом заимствования. Наиболее важно для этого априорно ожидаемое и подтверждаемое историческими документами положение, согласно которому культурные термины заимствуются гораздо чаще, чем фундаментальная лексика, а словообразовательные, словоизменительные и местоименные морфемы и чередующиеся алломорфы подвержены заимствованию менее всего.
Вся ценность часто повторяемого утверждения о превосходстве грамматических свидетельств родства языков над лексическими основана именно на этой сравнительной непроницаемости словообразовательных и словоизменительных морфем для заимствования. С другой стороны, эти элементы короче, а поэтому более подвержены конвергенции, и обычно немногочисленны, так что сами по себе они иногда недостаточны для решения проблемы. Верно, что лексические единицы заимствуются чаще, но это в какой-то мере компенсируется преимуществом, которое дают их большая фонемическая емкость и многочисленность. Хотя априори нельзя сказать, что какой-либо элемент не мог быть заимствован при случае, представляется, что на основании анализа фундаментальной лексики можно доказать, что массовое заимствование не имело места. В недавней дискуссии по проблеме заимствования и генетического объяснения Свадеш приводит количественные данные об относительной непроницаемости фундаментальной лексики в нескольких случаях, когда история языка известна (Swadesh, 1951).
Таким образом, наличие в фундаментальной лексике сходства, значительно превосходящего ожидаемое в результате случайного совпадения и не сопровождаемого сходством культурных терминов, – надежный признак родства языков. Это распространенная в действительности, нормальная ситуация в случае сравнительно отдаленного родства языков. Местоимения, названия частей тела и т. д. при этом обычно совпадают или сходны, в то время как такие термины, как «горшок», «топор», «кукуруза» и т. д., различаются. В этой ситуации предположение о заимствовании противоречит здравому смыслу и документированным историческим фактам. Народность, испытавшая столь сильное влияние другой, что заимствовала у нее такие слова, как «я», «один», «голова», «кровь» и т. д., бесспорно, заимствовала бы и культурные термины. Если массовое сходство вызвано заимствованием, найдется определенный источник. При этом формы будут слишком похожи, чтобы объяснить их предполагаемым, но исторически отдаленным родством. Более того, если, как это обычно бывает, язык-источник не является изолированным, о нем будет свидетельствовать и то обстоятельство, что все черты сходства указывают на один определенный язык из всей семьи, обычно – ближайший в географическом отношении. Так, почти все слова романского происхождения в английском близки к французскому и, кроме того, едва ли проникают в базисную лексику. Если бы английский язык действительно принадлежал к романской группе, он был бы похож на все романские языки приблизительно в одинаковой степени. Отсутствие звуковых соответствий не может служить достаточным критерием, поскольку, когда заимствования многочисленны, такие соответствия часто имеют место. Однако наличие определенного набора соответствий существенно помогает установить факт заимствования в сомнительных случаях. Так, французские заимствования в английском демонстрируют регулярные соответствия, такие как фр. š = англ. č или фр. ă = англ. œ n (šăs: čœns; šăt: čœnt; še: z: čejr4; и т. д.)
Пользуясь логической терминологией, можно сказать, что родственная взаимосвязь между языками транзитивна. Под «транзитивным» подразумевается такое отношение, которое, если оно имеет место между А и Б и между А и В, то оно должно иметь место также между Б и В. Если наши критерии верны и языки действительно имеют по одной родословной линии, их применение никогда не должно приводить к ситуации, когда А оказывается родственным как Б, так и В, но родство между самими Б и В не выявляется. Если бы это было так, то А состоял бы в равной мере из двух различных компонентов, т. е. представлял бы собой смесь элементов Б и В. Иногда говорят, что такая ситуация бывает, и даже в массовых масштабах. По-видимому, чаще всего в этой связи упоминают Африку. Так, Боас (1929) пишет: «…в Африке есть много смешанных языков. Его [Лепсиуса] выводы широко подтверждаются позднейшими исследованиями суданских языков».
Непосредственное изучение показывает, что среди сотен африканских языков (общепринятая оценка – 800) есть только один, для которого мыслимы два решения проблемы происхождения, приводящих к различным классификациям, а именно язык мбугу в Танганьике5*. Даже здесь ясно, что, несмотря на заимствование приставок и большого объема лексики (главным образом нефундаментальной) из языков банту, сам этот язык принадлежит к кушитской ветви семито-фундаментальная лексика являются кушитскими. Общепринятая классификация африканских языков, основанная на чисто формальных критериях, таких, как тональность, в сочетании с чисто семантическими, наподобие категории рода, никак не была связана с исторической реальностью и неизбежно привела к противоречивым результатам, которые потребовали предположения о широко распространенном смешении. Если мы определим, как это делалось, суданский язык как односложный, тональный и не имеющий категории рода, а хамитский – как многосложный, атональный и имеющий эту категорию, то придется трактовать многосложный тональный язык с категорией рода (например, масаи) как результат смешения суданских и хамитских элементов.
Последнее полномасштабное исследование по этой теме принадлежит Мейе. За ним последовали контраргументы Шухардта и Боаса и ответ Мейе на их возражения (Meillet, 1914). Автор настоящей статьи по существу согласен с Мейе в том, что вопрос о происхождении всегда осмыслен и допускает однозначный ответ. Мейе проводит различие между конкретными грамматическими сходствами, включающими как форму, так и значение, и теми, которые относятся только к значению без формы, но делает это лишь бегло. Аналогично он отмечает (хотя это замечание выглядит довольно случайным), что фундаментальная лексика, как правило, не заимствуется, но не пользуется этим наблюдением. Преимущества параллельного сравнения с дополнительными близкородственными языками и статистическую значимость совпадений в трех и более языках он не учитывал. Результат – неоправданно скептичное отношение к возможностям построения генетической классификации в случае, если отсутствуют ранние письменные документы, а также если слабо развит или не существует грамматический аппарат (например, в Юго-Восточной Азии).
Возражения Шухардта и Боаса в значительной мере учтены в настоящем анализе благодаря различению сходства по форме и значению, вызванного контактом с другой лингвистической системой, и сходства только по форме или только по значению. По-видимому, было бы желательно ввести для такого различения термины «заимствование» и «влияние» соответственно. Далее, отдается должное настойчивому утверждению Боаса об исключительной действенности диффузии в области лингвистических (так же, как и других культурных) явлений, так как допускается возможность неограниченного влияния, которое достигает предела в случае креольского языка. В то же время признается, в согласии со всеми доступными свидетельствами, что существуют определенные границы для заимствования, поскольку оно имеет тенденцию ограничиваться главным образом нефундаментальной лексикой и лишь изредка, спорадически затрагивает базисную лексику, а также словообразовательные и словоизменительные морфемы. То, что обычно говорят о воздействии грамматики одного языка на другой, почти полностью относится к влиянию, а не к заимствованию, в том смысле, в каком эти термины употребляются здесь.
Иными словами, воздействие одного языка на другой чрезвычайно широко распространено, существенно и важно. Здесь речь идет только о том, что результаты этого воздействия таковы, что их можно отличить от черт сходства, обусловленных родством языков. Не утверждается также, что принадлежность языка по происхождению к определенной группе – единственный важный факт его истории. Последствия заимствования и влияния, хронологически более близкие к современности и специфически характеризующие природу рассматриваемых контактов, могут часто иметь большее значение для этнолога или историка культуры, чем фактор менее тесной генетической взаимосвязи.
Различие между этими двумя типами исторической взаимосвязи между языками тщательно проведено Трубецким. Он употребляет термин Sprachbund6* для обозначения группы языков, воздействовавших друг на друга путем заимствования или влияния, и ставшей, таким образом, аналогичной культурному ареалу, и термин Sprachfamilie7* в применении к группе генетически взаимосвязанных языков. Эти виды объединяются в более широкий род, Sprachgruppe8*, охватывающий все типы исторических взаимосвязей между языками (Trubetskoy, 1928).
Обыкновение путать эти две ситуации, используя термин «смешанный язык», как если бы язык был механическим сочетанием нескольких компонентов, входящих в него одинаковым образом только в разных пропорциях, так что, скажем, английский язык на 48 % – германский, на 43 % – французский, на 4 % – арабский и на 0.03 % – ацтекский (за счет таких слов, как «tomato», «metate» и т. д.) – грубое упрощение, не позволяющее установить различия в происхождении и функциях германских компонентов в английском, с одной стороны, и романо-латинских и всех остальных – с другой.
На основании вышесказанного должно быть очевидно, что установление генетических взаимосвязей между языками – не просто jeu d'esprit9*. Это неизбежная подготовка к определению причин сходства между языками путем исключения всех возможных источников, кроме заимствования, когда более чем случайное сходство не дает оснований для гипотезы о родстве. Если такая взаимосвязь существует, она создает основу для разделения самостоятельно возникших и чуждых элементов путем реконструкции праязыка. Без такой реконструкции понимание процесса изменения языка было бы возможно только в строго ограниченной области, а именно в тех немногих регионах земного шара, где сохранились документальные материалы о более ранних формах языка.
III. Избранные региональные очерки
А. Африка
Стремление уменьшить число языковых семей в Африке любой ценой, приводившее к их неоправданному укрупнению, в сочетании с недооценкой конкретных черт сходства по форме и значению между элементами языка и предпочтение типологических критериев, таких, как наличие тональности, классов существительных, категории рода, односложных корней и т. д., характеризовали классификацию африканских языков, начиная с первых попыток их систематизации (Лепсиус, Ф. Мюллер и др.)
В Англии и США господствующее положение заняла своего рода синтетическая классификация, детали которой различались у разных авторов, основанная главным образом на исследованиях Вестермана по суданским языкам и Майнхофа – по хамитским. Принципы этой классификации четко сформулированы в работах Вернера (1915), Таккера (1940) и в других. В соответствии с этими взглядами, в Африке существуют три крупнейших исконных семьи – суданская, банту и хамитская, а также обособленная, но позже проникшая туда семитская – и бушменские языки, возможно, родственные суданским. Спорным остается статус готтентотского языка, который большинство, следуя Майнхофу, относит к хамитским, хотя некоторые объединят его с бушменскими в койсанскую семью, тогда как другие считают независимым или, по крайней мере, не включают в классификацию. Каждая из трех главных семей обладает своими основными характеристиками. Так, суданские языки односложны, тональны, лишены ударения, грамматического рода и флексий, а форма родительного падежа в них ставится перед определяемым существительным. В противоположность им, хамитские языки определяются как многосложные, обладающие аблаутом, имеющие грамматический род и флексию, атональные и помещающие родительный падеж после существительного. Кроме того им свойственна такая характеристика, как полярность, которую лучше всего проиллюстрировать на примере. В сомалийском языке одна и та же утвердительная форма используется для единственного числа мужского рода и множественного числа женского рода, в то время как другой элемент обозначает одновременно единственное число женского рода и множественное – мужского. Майнхоф часто высказывал мнение, что языки банту, которым приписываются промежуточные характеристики, почти одинаково близкие к характеристикам суданской и хамитской семей, возникли в результате смешения двух последних, или, как он однажды выразил эту мысль, «родились от хамитского отца и суданской матери» (Meinhof, 1912).
Признается, что немногие языки обладают чертами одной из этих семей во всей чистоте. Отклонения от идеального образца приписываются влиянию одной из семей на другие. Считается, что при этом языки могут сливаться настолько, что в некоторых случаях выбор основного компонента может быть только произвольным. К таким смешанным группам языков относятся полубайту образованные суданскими и банту, нило-хамитские – сплав суданских и хамитских – и, по мнению многих, готтентотский, содержащий как бушменские элементы, близкие к суданским, так и хамитские.
Ясно, что в результате применения таких критериев, никак не связанных с конкретным соотношением между формой и значением специфических языковых знаков, китайский язык окажется суданским, а старофранцузский – хамитским. В последнем, действительно, очень ярко выражен элемент полярности – использование – s для обозначения именительного падежа единственного числа и винительного падежа множественного числа существительных в противоположность нулевому суффиксу, обозначающему винительный падеж единственного числа и именительный – множественного (например, murs: mur = mur: murs). Кроме того, в нем присутствуют категория рода, аблаут и все остальные указанные характеристики хамитских языков. С другой стороны, нас приводит к торжеству абсурда то, что формы речи, вероятно, взаимопонятные могут быть классифицированы, как различные по происхождению. Так, Майнхоф, систематизируя кордофанские языки, распространенные к западу от Верхнего Нила, не придавал никакого значения никаким факторам, кроме наличия или отсутствия приставок, означающих принадлежность существительных к классам. Три из этих языков – тегеле, тагой и тумеле – очень похожи, вероятно, даже взаимопонятны для их носителей. Майнхоф (1915–19) утверждает: «Сравнение лексики показывает, что числительные [в тегеле] в точности соответствуют тем, которые мы находим в тумеле. Более того, они большей частью совпадают с тагойскими числительными. Кроме того ряд корней слов и некоторые глагольные формы тегеле в точности таковы же, как в тагой и тумеле. Но грамматическая структура существительных указывает на то, что тегеле – суданский язык, так как в нем отсутствует классификация существительных, четко выраженная в тагое и тумеле. Очевидно, здесь имеет место смешение двух разнородных элементов».
Другая широко распространенная классификация была разработана А. Дрекселем и принята с небольшими видоизмениями Шмидтом и Кикерсом в соответствующих томах их трудов по языкам мира. Классификация Дрекселя воплощает попытку продемонстрировать в Африке Sprachenkreise10*, аналогичные Kulturkreise11* культурно-исторической школы Гребнера – Шмидта. При этом фактические данные лингвистики игнорируются настолько, что группа тесно взаимосвязанных языков мандинго расщепляется на две обособленных семьи, и предполагается наличие особой связи языка фулани с малайско-полинезийскими, а канури – с шумерским. Метод, приведший к таким выводам, явно не сформулирован.
Новейшая классификация (Greenberg, 1949-50) основана на специфических критериях, соответствующих реальным историческим связям. Большая и неоднородная суданская группа, генетическое единство которой Вестерман отрицал в своих более поздних работах, расщепляется на ряд крупных и несколько мелких групп. Наиболее значительная из них, западно-суданская (по Вестерману), оказывается генетически связанной с банту, что явствует из сходства многочисленных лексических элементов, согласования между аффиксами классов существительных и фонетических соответствий, включая относящиеся к тональности, на которые обращал внимание и сам Вестерман, даже приписывая им генетическую значимость, хотя он и не изменил свою общую схему языковых семей с учетом этого обстоятельства. Языки полубанту обнаруживают особое сходство с банту, так как они просто принадлежат к одной и той же подгруппе языков в составе более крупной семьи, к которой применяется название «нигеро-конголезская». Так как эти языки полубанту не обладают общими чертами, отличающими их от банту, язык(и) банту следует выделить всего лишь в одну из двадцати с лишним подгрупп в составе одной из пятнадцати ветвей огромной нигеро-конголезской семьи, включающей как языки банту, так и «полубанту».
Другие крупнейшие независимые семьи, которые ранее относили к суданским, – центрально-сахарские, центрально-суданские и восточно-суданские. Эта последняя семья включает так называемые нило-хамитские языки наряду с близко-родственными нилотскими языками в единую подсемью.
Готтентотский язык, вместе с центрально-бушменскими, рассматривается как входящий в одну из подгрупп койсанской группы (другие подгруппы образуют северно-бушменские и южно-бушменские языки). В свою очередь, койсанские языки объединяются в одну кликскую семью с сандейвским языком и хатса из Восточной Африки. Из различных языков, за счет которых Майнхоф предлагал расширить хамитскую семью, фулани включается в самую западную подгруппу нигеро-конголезской семьи; «нило-хамитские» языки (масаи, нанди и т. д.) классифицируются как восточно-суданские; готтентотский же входит в кликскую семью. Хауса вместе с другими многочисленными языками из чадской семьи, с традиционно относившимися к хамитским берберскими, кушитскими и древнеегипетским, а также с семитскими включается в семито-хамитскую семью, для которой предлагается термин «афроазиатская», поскольку придание семитским языкам особого статуса лингвистически никак не оправдано. Таким образом, термин «хамитский», который был и остается основой многих псевдоисторических и псевдофизических построений в исследованиях по Африке, отбрасывается, как не обозначающий значимой лингвистической целостности, а афроазиатская семья состоит из пяти ветвей, равных по статусу: 1) берберской, 2) египетской, 3) семитской, 4) кушитской и 5) чадской.
Классификация Гринберга допускает существование в Африке в общей сложности шестнадцати независимых семей. Есть некоторая вероятность, что это число можно уменьшить. В частности, заслуживают рассмотрения гипотезы о связи языков кунама с восточно-суданскими, а сонгаи – с нигеро-конголезскими.
Вестерман высказал свое согласие с этой новой классификацией во всех существенных пунктах, и ожидается, что он поддержит ее в статье, которая готовится к печати в журнале «Africa».
Б. Океания
Общепризнано, что в Океании существуют только две обширных группы родственных языков – малайско-полинезийская и австралийская. Кроме них остаются тасманийская семья и целый ряд неродственных языковых семей на Новой Гвинее и близлежащих островах, к которым применяют обобщенное название «папуа», понимая при этом, что нет никаких доказательств или хотя бы вероятности, что эти языки образуют единое семейство. Что касается малайско-полинезийских языков, существует общее согласие по вопросу о том, какие именно языки следует включать в эту семью, а историческая работа по реконструкции первичного малайско-полинезийского и других языков будет рассмотрена в следующем разделе «Юго-Восточная Азия».
Относительно другой большой группы – австралийских языков, хотя все исследователи отмечают существование широко распространенных взаимосвязей между языками материка, между ними нет единодушия по поводу числа семей, так что некоторые признают единство австралийских языков, а другие отрицают его.
В период, предшествовавший важным исследованиям В. Шмидта, лингвисты были знакомы почти исключительно с языками из большой группы, охватывающей весь юг и значительную часть севера континента, тогда как некоторые языки с его северо-западной оконечности и из центральных районов северной части, значительно отличающиеся от большинства австралийских языков, не принимались во внимание или были неизвестны. Поэтому эти наблюдатели полагали, что австралийские языки образуют единую семью, и обсуждали в основном гипотезы о внешних связях – с Африкой, Индией (дравидские языки) или, в случае Тромбетти, о существовании австралийско-папуа-андаманской группы. Последняя попытка, как и все остальные, оказалась безуспешной в этом случае, – по крайней мере, по той причине, что включенные в эту группу языки папуа не образуют никакого лингвистического единства (Ray 1907).
Именно Шмидт (1913, 1914, 1917-18) положил начало более тщательному исследованию проблемы в серии статей, опубликованных в журнале «Anthropos» и позднее переизданных под заглавием «Die Gliederung der australischen Sprachen»12* (1919). Шмидт выделил две основных семьи австралийских языков: южную, охватывающую приблизительно две трети южной территории материка, и северную. Он явно отрицает существование генетической взаимосвязи между этими двумя группами. В отличие от южной семьи, действительно единой по происхождению, северная, согласно Шмидту, вообще не является семьей, а состоит из множества различных форм речи, не связанных между собой. В свете четких утверждений такого рода трудно установить, что Шмидт имеет в виду (в историческом смысле), подразделяя эти северные языки на три группы: 1) те, в которых слова могут оканчиваться как на согласные, так и на гласные; 2) те, в которых слова оканчиваются только на гласные, и 3) те, в которых слова оканчиваются на гласные или на плавные звуки, но не на другие согласные. Последняя группа, по мнению Шмидта, занимает промежуточное положение между двумя другими, что, вероятно, вызвано смешением языков. Кажется, что это тройственное деление северных языков, так же, как и противопоставление северной и южной семей, в значительной мере обусловлено попыткой согласования классификации с теорией Kulturkreise, выделенных в этом регионе этнологической школой, к ведущим представителям которой принадлежит Шмидт. Крёбер (1924) в обзоре работ Шмидта раскритиковал эту классификацию, основываясь на очевидном сходстве фундаментальной лексики в северных и южных языках. Он дополнил это изучением распределения общих лексических единиц, показав, что на него никак не влияет главная разделительная линия, проведенная Шмидтом с запада на восток через австралийский континент.
В серии статей в журнале «Oceania» (1939–40, 1941–43) Кэпелл (Capell) существенно расширил наши знания о языках северо-западной и центральных районов северной части материка, а также обнаружил удивительный факт наличия во многих из этих языков классов существительных, принадлежность к которым выражается приставками. Эти классы напоминают существующие в языках банту по общим функциям, но необходимо тут же отметить, что между ними нет никакого специфического сходства по форме и значению. Кэпелл признает, что в своей основе все австралийские языки едины. Он разделяет их на языки, использующие суффиксы, что приблизительно совпадает с южной семьей в классификации Шмидта, и использующие приставки, что соответствует северной семье в той же классификации. Используемый критерий – наличие глагольных суффиксов или приставок для образования времен и наклонений и выражения связи с местоимениями. Признается, что в северных языках также в некторой степени используются суффиксы. Внутри северной группы мы снова имеем трехчленное деление, но на принципах, отличных от принципов Шмидта. Выделяются группы со многими классами существительных, с двумя классами и без классов. По существу, Кэпелл признает, что это не генетический анализ. Это приводит, как он сам указывает, к неизбежному cul-de-sac13*, такому же, как у Майнхофа в классификации языков Африки (см. выше). Мы сталкиваемся с двумя языками – нунгали и джеминджунг, – которые почти идентичны, не считая того, что в нунгали есть классы существительных, а в джеминджунге их нет. Другая подобная пара – маунг и иваиджа. По поводу этих последних Кэпелл замечает: «Однако можно с уверенностью сказать, что, если бы в иваиджа было много классов, он едва ли был бы чем-то большим, чем диалект маунга» (Capell, 1939–40, р. 420).
Предлагаемое здесь решение – простое, если помнить о первостепенном правиле классификации, которые настолько очевидно, что, кажется, едва ли его нужно формулировать, и которым тем не менее часто пренебрегают на практике. Языки следует классифицировать только на основании лингвистических данных. Среди несущественных моментов, которые требуется исключить из рассмотрения, – площадь ареала распространения этого языка и число его носителей. Нет никаких оснований ожидать, что семьи генетически одинакового уровня занимают приблизительно равную территорию. Германская и тохарская группы занимают аналогичное положение в структуре индоевропейской семьи, но едва ли можно представить больший контраст территории и населения. Германская группа охватывает значительные части четырех континентов и насчитывает сотни миллионов носителей. Тохарская вообще не имеет носителей, поскольку она вымерла.
Степень сходства фундаментальной лексики, включая местоимения, во всех австралийских языках и особое сходство приставок существительных, связывающее многие языки Северной Австралии, служат достаточным свидетельством существования единой австралийской семьи. Эта семья содержит многочисленные подгруппы, заведомо не менее сорока, из которых большая южная подгруппа просто распространилась на большую часть континента (включая языки мернджин на северо-востоке Арнемленда и языки западных островов Торресова пролива). В первоначальном австралийском языке были классы существительных, а южная подгруппа, как и некоторые из северных языков (префиксные бесклассовые языки по классификации Кэпелла), утратили эти классы. Тем не менее их следы сохранились в различении мужского и женского рода у местоимений единственного числа, наблюдаемого в некоторых южных языках, причем используются формы, напоминающие показатели мужского и женского классов единственного числа в языках, использующих классы.
В. Юго-Восточная Азия
Существуют резкие различия в представлениях о лингвистических взаимосвязях в этом регионе. Следующие проблемы особенно важны: 1) справедливость гипотезы Шмидта о существовании австроазиатской семьи, состоящей из мон-кхмерских языков, мунду и других; 2) справедливость австрической гипотезы Шмидта, связывающей австроазиатские языки в свою очередь с малайско-полинезийскими; 3) связи тайского и аннамских языков, включаемых некоторыми вместе с китайским в одну из ветвей китайско-тибетской семьи, тогда как другие помещают тайский язык вместе с кадаи и индонезийским (Бенедикт), а аннамский – с австроазиатскими (Шмидт и другие); 4) лингвистическое положение диалектов ман (мяо-яо) и мин-хся, на которых говорит часть коренного населения Китая.
Принимая некоторые более ранние положения и добавляя к ним свои собственные, Шмидт (Schmidt, 1906) высказал мнение, что следующие группы языков родственны между собой и могут быть объединены в составе семьи, которую он назвал австроазиатской: 1) мон-кхмерская, 2) языки палаунг-ва в среднем течении Салуина, 3) семанг-сакаи, 4) кхаси, 5) Никобарские языки, 6) группа мунда, 7) аннамский и муонг, 8) чамская группа. Если исключить чамские языки, которые большинство авторов относят к малайско-полинезийским, – едва ли можно сомневаться в этом выводе, – то все эти языки имеют многочисленные элементы сходства в фундаментальной лексике, вплоть до местоимений. Более того, во всех этих языках, кроме аннамского, в котором следы всех морфологических процессов стерлись, есть важные словообразовательные морфемы, причем их довольно необычная форма (это инфиксы) в сочетании с их важнейшими грамматическими функциями абсолютно исключают случайность и делают объяснение путем заимствования совершенно невероятным. Я не знаю, как такие совпадения, как инфиксное – m в бирманском языке мои и в языках географически отдаленных Никобарских островов, оба имеющие агентное значение, – я привожу здесь только один пример из многих, – могли быть вызваны чем-либо, кроме родства языков.
Масперо попытался доказать близость аннамского языка к тайскому, который он считает китайско-тибетским. Это утверждение основывается главным образом на неубедительном, чисто формальном доводе – односложности и тоничности аннамского языка, которыми он напоминает тайский и китайский. Многочисленные элементы лексического сходства с тайским, едва ли затрагивающие базисную лексику, следует считать в основном результатом заимствования и некоторой конвергенции. С другой стороны, совокупность фундаментальной лексики ясно указывает на близость аннамского языка к австроазиатским, и я не знаю, как какая-либо гипотеза о заимствовании может объяснить это. Если заимствование имело место, его источник неочевиден, поскольку аннамский язык напоминает то один, то другой из австроазиатских. Часто в нем обнаруживаются независимые видоизменения гипотетических реконструкций, которые едва ли можно объяснить чем-либо, кроме внутреннего развития форм австроазиатского праязыка. Так, аннамское mot, «один», имеет смысл как независимо возникшая сокращенная форма *moyat, обнаруженная в таком виде только в отдаленном языке мундари в Индии. Географически ближайший к аннамскому язык, кхмерский, содержит moy, предположительно <moy с утратой конечного -at. В сантали, главном языке группы мунда, находим mit<*miyat<*moyat. Отсутствие скромного морфологического аппарата других австроазиатских языков в аннамском не может служить аргументом в пользу его родства с какими-либо другими языками. В этом случае применима древняя максима ex nihilo nihil fit14*.
Следующая гипотеза Шмидта о родстве австроазиатских языков с малайско-полинезийскими представляется гораздо более сомнительной. Большая часть многочисленных этимологии, предложенных Шмидтом, или неправдоподобны в семантическом или фонетическом отношении, или не подтверждены данными из достаточно большого количества различных языков той или другой семьи. Даже если исключить эти случаи, остается значительное число правдоподобных или по крайней мере возможных этимологии, но очень немногие из них относятся к базовой лексике. В обеих семьях языков используются приставки и инфиксы, а последний механизм, бесспорно, не очень распространен. Тем не менее конкретные черты сходства этих элементов по форме и значению, которые можно возвести к общему праязыку этих групп, крайне малочисленны. Только каузативное ра– кажется несомненным. Ввиду этого имеющиеся данные не позволяют принять австрическую гипотезу. Ее следует переработать, используя малайско-полинезийские формы, реконструированные Демпвулфом и Дайином, а также принимая во внимание тайский язык и кадаи, которые, как мы увидим, состоят в родстве с малайско-полинезийскими.
В традиционной теории считается, что тайский язык вместе с китайским образует синитскую ветвь китайско-тибетской семьи. Бенедикт выдвинула гипотезу о его родстве с группой кадаи, к которой она отнесла некоторые языки Северного Индокитая, южной части континентального Китая и диалекты ли с острова Хайнань. Далее она предположила, что эта тайско-кадайская семья родственна малайско-полинезийской (Benedict, 1942). По поводу родства тайского языка с кадаи, весьма близкого в случае диалектов ли, нет места сколько-нибудь обоснованным сомнениям. По крайней мере, надо было бы пересмотреть традиционную теорию, включив языки кадаи вместе с тайским в синитскую ветвь. Однако я считаю, что связь тайского языка с китайским и вообще с китайско-тибетскими следует полностью отбросить, а тезис Бенедикт в основном верен. Черты сходства тайского языка с китайским – явные заимствования. Они включают числительные, начиная с 3, и ряд других слов, которые, несомненно, являются результатом культурных контактов. В остальном тайский язык настолько отличается от китайского, что он должен быть по крайней мере другой независимой ветвью китайско-тибетской семьи. Тем не менее, когда сходство обнаруживается, формы всегда очень похожи на китайские – следует добавить, в целом слишком похожи. Применяя контрольный метод, предложенный выше, мы замечаем, что тайские слова, сходные с малайско-полинезийскими, имеют тенденцию появляться и в языках кадаи, в то время как слова, близкие к китайским, встречаются в них лишь изредка. Доля сходных элементов в фундаментальной лексике между тайско-кадайскими и малайско-полинезийскими языками очень велика, намного больше допустимой в результате случайного совпадения, причем это едва ли можно объяснить заимствованием, учитывая географическую отдаленность.
Я считаю, что тезис Бенедикт нужно переформулировать в том, что касается некоторых деталей группировки, когда его, как это часто бывает, вводят в заблуждение нелингвистические соображения, в данном случае – значение тайского языка как культурного. Тайский язык обнаруживает столь значительное сходство с диалектами ли, что предложенное Бенедикт деление группы кадаи на две – лаква-ли и лати-келао – требуется уточнить, включив тайский язык вместе с ли в первую подгруппу. Кроме того, язык мусульманского населения Хайнаня, что достаточно интересно, не относится к диалектам ли, на которых говорят остальные жители острова, а образует третье подразделение в составе континентальной подгруппы лати-келао.
Китайские диалекты мяо-яо называли по-разному: «мон-кхмерскими» (т. е. австроазиатскими), «китайско-тибетскими» или «независимыми». Кажется, что нет убедительных оснований, чтобы считать их чем-либо, кроме отдельной ветви китайско-тибетской семьи, не более обособленной, чем, скажем, каренские языки Бирмы. Здесь нет места, чтобы привести соответствующие данные. Язык мин-хся считали как китайско-тибетским, так и австроазиатским с китайскими наслоениями. Он также кажется китайско-тибетским. Если учесть очевидные заимствования из китайского, тем не менее оказывается, что он обнаруживает особую близость к китайскому в том, что касается фундаментальных элементов, так что его, вероятно, следует включить в синитскую ветвь.
Здесь поднимается вопрос о статусе языка нехари в Индии, который Грирсон отнес к группе мунда. Он испытал сильное влияние курку, соседнего языка из этой группы; но, если принять это во внимание, по фундаментальной лексике и морфологии этот язык не напоминает никакую из семей из этого региона. Поэтому он может быть единственным языком из независимого семейства. Для решения этого вопроса требуется дополнительный материал.
Подведем итог. Вероятно, в Юго-Восточной Азии существуют следующие семьи языков: 1) китайско-тибетская, 2) австроазиатская, 3) кадаи-малайско-полинезийская, 4) языки Андаманских островов, 5) нехари (?).
Г. Америка к северу от Мексики
При обсуждении этого вопроса я ограничусь несколькими довольно поверхностными замечаниями, поскольку незнаком с лингвистическими данными из этого региона. Однако даже беглый анализ пресловутых «спорных» случаев, таких, как проблемы атабаскского, тлинкитского и хайда, а также алгонкинского и языков уийот и юрок, показывают, что эти родственные связи являются не очень отдаленными и, действительно, очевидны при рассмотрении. Даже значительно более крупная макропенутская группировка представляется вполне допустимой без более глубоких исследований и привлечения дополнительного материала. Разница между пенутскими языками Орегона и Калифорнии сравнима с существующей между любыми двумя подразделениями восточно-суданской семьи в Африке. Статус алгонкино-мосанских языков и хока-сиу а также положение зуни (который сам Сепир включил в ацтеко-таноанскую семью только предположительно) представляются мне наиболее сомнительными моментами в шестичленной классификации Сепира. Существование группы залива, как ее недавно определил Хаас, в составе языков туниканского, начес, муског и тимукуа представляется бесспорным, так же, как родство коахуильтекских языков и с группой залива, и с языками хока в Калифорнии в составе единого комплекса. Аналогично, как указал Сепир, юки, вероятно, – не более чем несколько обособленный язык из группы калифорнийских хока. Связь сиу-ючи и ирокезско-каддойских с этими языками возможна, но далеко не очевидна с первого взгляда. Внутри алгонкино-мосанской семьи представляется несомненной связь салиш-чемакуа-уакашан, так же, как и алгонкинских языков с языками беотук, уийот и юрок (беотук вполне может быть одним из алгонкинских языков). С другой стороны, отношение этих групп друг к другу и к кутенаи требует дальнейшего исследования. Внутри ацтеко-таноанской группы ясно, что киова близок к таноанскому и что киова-таноанские языки родственны юто-ацтекским, как показано Трэджером и Уорфом. Положение зуни, как отмечалось выше, очень сомнительно.
4. Язык и историческая реконструкция
Этнологи справедливо заинтересованы в исследованиях по сравнительной лингвистике – не столько ради нее как таковой, сколько из-за света, который она проливает на другие аспекты истории культуры. Любая дискуссия на эту тему неизбежно основывается на классическом исследовании Сепира в его статье «Временная перспектива в культуре аборигенов Америки» (Time Perspective in Aboriginal American Culture). При всей краткости этой работы, она удивительно закончена, и к ней хотелось бы добавить лишь немногое, несмотря на то, что прошло уже столько времени. Единственное важнейшее замечание, которое можно было бы сделать, – это то, что, хотя данная работа заложила адекватный (в существенных чертах) базис для исследований в этой области, для действительного применения ее принципов до сих пор было сделано сравнительно мало. Проблемы, о которых идет речь, относятся к наиболее сложным в том, что касается научного сотрудничества, и решить их нелегко. С одной стороны, лингвистические данные зачастую неправильно используются этнологами, иногда склонными применять их механически, не понимая соответствующих лингвистических методов даже на элементарном уровне. С другой стороны, лингвист часто не очень интересуется проблемами истории культуры, а современная тенденция к сосредоточению на проблемах описания лингвистической структуры уводит его еще дальше от обычной тематики археологов и исторически ориентированных историков. Возможно, оптимальным решением было бы создание промежуточной науки, этнолингвистики, которая занималась бы чрезвычайно важными междисциплинарными проблемами, как синхронистическими, так и историческими, лежащими между признанными областями этнологии и лингвистики.
Наиболее важное и многообещающее современное достижение в этой области – возможность установления хотя бы приблизительной хронологии лингвистических событий вместо относительных датировок классической исторической лингвистики. Этот метод, известный как глоттохронология и разработанный главным образом Свадешем и Лисом, основан на предположении, что скорость изменения состава базисной лексики относительно постоянна. Хронологическая временна́я шкала строится путем сравнения лексики одних и тех же языков в различные периоды времени в регионах, история которых документирована. Полученные к настоящему времени результаты показывают, что в среднем за тысячелетие сохраняется 81 % базисной лексики. Таким образом, сравнивая два родственных языка, на которых не существует более ранних письменных документов, можно получить приблизительную дату обособления этих двух форм речи, исходя из процентной доли различий в их базисной лексике.
Если соединить с этим методом последовательное применение идеи Сепира об определении вероятного центра происхождения группы языков как центра тяжести, вычисленного исходя из распространения генетических подгрупп, станет возможным метод исторической реконструкции, превосходящий все прежние способы использования лингвистических данных для этой цели.
Метод центра тяжести можно вкратце описать так. В каждой из генетических подгрупп семьи языков выбирается центр размещения. Если сама подгруппа четко разделена на ареалы распространения диалектов, вычисляется центральная точка каждого диалектного ареала, и координаты всех их усредняются, чтобы найти вероятный центр распространения подгруппы. Затем усредняются координаты самих центров различных подгрупп, и таким образом определяется наиболее вероятное место возникновения всей семьи. Поправку с целью минимизации влияния отдельных отклоняющихся подгрупп можно осуществить, рассчитав уточненный центр тяжести на основе вычисленного по предыдущему методу. Вычисляется расстояние между центром каждой подгруппы и центром тяжести всей семьи в целом. Затем более удаленным подгруппам приписывается меньший вес путем умножения координат центра тяжести каждой подгруппы на отношение расстояний до него и до центра наиболее удаленной подгруппы, и по этим данным вычисляется уточненное значение. Механически получив такие результаты, следует, конечно, оценить их с учетом наших знаний по географии и другим смежным дисциплинам.
5. Цели, методы и перспективы
Цели и методы сравнительной лингвистики, особенно в применении к первобытным языкам, ясны, и по ним существует общее согласие. Задачи этой отрасли науки могут быть сформулированы исходя из важности установления всех возможных генетических взаимосвязей между языками, обнаружения всех заимствований и их источников, а также максимальной реконструкции языков-предков, давших начало современным языкам. Это ценно не только само по себе и потому, что полученные результаты могут быть использованы в общей исторической реконструкции, но и потому, что дает нам базисное знание об историческом изменении в языке при различных обстоятельствах. Только когда будут накоплены значительные данные в этой области и удастся проследить значительное число разнообразных вариантов исторического развития в различных регионах, станет возможным рассмотрение общих вопросов о переходе от одного морфологического или фонологического типа к другому, решение которых привело бы к выводу общих законов изменения языка.
В основном существует согласие и по методологическим проблемам. Они распадаются на два главных типа: относящиеся к определению родства и к реконструкции. Последние вызывают меньше споров, и, по крайней мере в США, общепринятым является применение процедур, в основном совпадающих с процедурами классической индоевропейской лингвистики. Проблема установления генетических взаимосвязей (не считая наиболее очевидных, таких, как установленные Пауэллом в Северной Америке), как можно было предполагать, вызывают больше разногласий и в Европе, и в Америке. Пренебрежение конкретными критериями в пользу сходства по форме, но не по значению, или по значению, но не по форме, и отказ от традиционного взгляда на родство языков в пользу внешне глубокого анализа с точки зрения разного уровня наслоений неизбежно привели к еще большей путанице и противоречивым выводам. Более того, только на основе четко определенных семей, установленных на основании конкретного сходства по форме и значению, можно попытаться провести реконструкцию, что дает возможность для изучения исторического процесса в языке.
Однако единственное наиболее значительное препятствие для быстрого развития этой области в будущем лежит не в каком-либо конфликте по поводу целей и методов. Скорее это отсутствие достаточного количества подготовленных специалистов, способных собрать описательные данные об огромном количестве языков, в том числе находящихся на грани вымирания. Крайне высокая концентрация профессиональных лингвистов, занимающихся очень немногими семьями языков Евразии, и чрезвычайная малочисленность высоко квалифицированных исследователей таких больших регионов, как Южная Америка и Океания, – серьезное препятствие для будущего развития этой области, так же, как и лингвистики в целом. На последнем заседании Лингвистического общества Америки приблизительно 90 % представленных докладов по отдельным языкам были посвящены одной языковой семье – индоевропейской.
Отсутствие эффективных связей даже между специалистами по антропологической лингвистике и по другим разделам антропологии, не говоря уже об остальных лингвистах, хотя и объяснимо как последствие современной тенденции к узкой специализации, также опасно. Пока эти сложности не будут осознаны и по возможности преодолены, сравнительная лингвистика неизбежно сможет раскрыть лишь малую часть внутренних возможностей, которые предоставляет ей легко обозримый материал и изощренная методика, чтобы внести уникальный и значительный вклад в антропологическую науку в целом.
Приложение 1
Схема родственных связей кадайско-малайско-полинезийских языков
Библиография
Benedict R.
1942. «Thai, Kadai and Indonesian: A New Alignment in Southwestern Asia», American Anthropologist, XLIV, 576–601.
Boas, F.
1920. «The Classification of American Languages», American Anthropologist, XXII, 367-76.
1929. «Classification of American Indian Languages», Language, V, 1–7.
Bonfante G.
1945. «On Reconstruction and Linguistic Method», Word, I, 83–94, 132-61.
Capell A.
1939-40. «The Classification of Languages in North and Northwest Australia», Oceania, X, 241-72, 404-33.
1941-43. «Language of Arnhem Land, North Australia», ibid., XII, 364-92; XIII, 24–50.
Greenberg J.H.
1949-50. «Studies in African Linguistic Classification», Southwestern Journal of Anthropology, V, 79-100, 309-17; VI, 47–63, 143-60, 223-37, 388-98.
Hall Robert Jr.
1946. «Bartoli's Neolinguistica», Language, XXII, 273-83.
Hoenigswald H.
1950. «The Principal Step in Comparative Grammar», Language, XXVI, 357-64.
Hockett С.
1948. «Implication of Bloomfield's Algonkin Studies», Language, XXIV, 117-31.
Jacobson R.
1931. «Principes de phonologie historique», TCLP, IV, 247–267.
Kroeber A.L.
1913. «The Determination of Linguistic Relationship», Anthropos, VIII, 389-401.
1924. «Relationship of the Australian languages», Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales. P. 101–17.
Martinet A.
1950. «Some Problems of Italic Consonantism», Word, VI, 26–41.
Meillet A.
1914. «Le Probleme de la parente des langues», Scientia, XV, No. XXXV, 3.
Meinhof С.
1912. Die Sprachen der Hamiten. Hamburg: L. Friedrichsen.
1915-19. «Sprachstudien im agyptischen Sudan», Zeitschrift fur Kolonialsprachen, VI, 161–205; VII, 36-133, 212-50, 326-35; VIII, 46–74, 110-39, 170-96, 257-67; DC, 43–64, 89-117, 167–204, 226-55.
Ray S.
1907. Linguistics. («Reports of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits», Vol. III.) Cambridge: At the University Press.
Schmidt W.
1906. Die Mon-Khmer Volker Braunschweig: F. Vieweg & Sohn.
1913. «Die Gliederung der australischen Sprachen» Anthropos, VIII, 526-54.
1914. Ibid., DC, 980-1018.
1917. Ibid., XII, 437-39.
1918. Ibid., XIII, 747–817.
1919. Die Gliederung der australischen Sprachen. Vienna: Mechitharisten – Buchdruckerei.
Swadesh M.
1951. «Diffusional Cumulation and Archaic Residue as Historical Expla nation», Southwestern Journal of Anthropology, VII, 1-21.
Trubetskoy N.
1928. Actes du premier Congres International de linguistes a la Haye. Leiden: Sijthoff.
Tucker A.N.
1940. The Eastern Sudanic languages. London: Oxford University Press.
Vendryes J.
1925. language: A linguistic Introduction to History. Translated by Paul Radin. New York: A. Knopf.
Werner A.
1915. The Language Families of Africa. London: Society for Promoting Christian Knowledge.
Примечания
1 Реконструкции школы неолингвистов признаны не всеми специалистами. См. очерк неолингвистического метода у Дж. Бонфанте (G. Bonfante, 1945) и критические возражения Роберта Холла (R. Hall, Jr., 1946). Возможно, следовало бы добавить, что подход Л. Ельмслева (L. Hjelmslev) из Дании, как представляется, в принципе исключает из языка диахронические проблемы; но это едва ли более чем теоретическая модель.
2 В качестве примера можно было бы привести последние работы Туоддела и других о законе Гримма и других изменениях в германских языках, а также ряд исследований Мартине, посвященных звуковым сдвигам (напр., Martinet, 1950).
3 Личное сообщение.
Комментарии
Перевод выполнен по изданию: Greenberg J. Historical Linguistics and unwritten Languages // Anthropology Today. London. P. 265–286.
1* означающее и означаемое (фр.).
2* В ориг. «чадским».
3* tooth, зуб.
4* случай, песнь, стул.
5* Ныне территория Танзании.
6* языковой союз (нем).
7* языковая семья (нем).
8* языковая группа (нем).
9* игра ума (фр).
10* «языковые круги» (нем).
11* культурным «кругам», сообществам (нем).
12* «Классификация австралийских языков».
13* тупику (фр).
14* из ничего не следует ничто (лат.).
Перевод Е.И. ГалаховаМартине А. Структурная лингвистика
Определить, что такое «структурная лингвистика» и чем она в целом отличается от лингвистики, которая ей предшествовала или ею не является, – трудная задача. Если не стремиться слишком к точности, можно было бы называть «структуралистом» каждого лингвиста, который относит себя к таковым, и считать представителями структурализма все те школы лингвистической мысли, которые написали этот термин на своих знаменах. Несомненно, это было бы несправедливо по отношению к тем ученым, кто в тиши своих кабинетов занимается исследованиями, основанными на методах, которые не слишком отличаются от тех, что были провозглашены их более известными коллегами1. Осознанный и освоенный на практике структурализм может оказаться в долгосрочной перспективе более плодотворным, чем эффектные теоретические дискуссии. Однако среди теорий и методов, имеющих сравнительно высокую научную ценность, лучшие шансы стать во главе будущих лингвистических исследований имеют те направления, которые пропагандируются наиболее широко и энергично; вот почему в настоящем обзоре они находятся в центре внимания.
Открыто исповедуемый структурализм играет одну из центральных и наиболее ярких ролей на современной лингвистической сцене. Большая часть выдающихся теоретиков-лингвистов – это убежденные и активно работающие структуралисты. На международных встречах их научные оппоненты обычно остаются в тени, и все реже можно услышать антиструктуралистские выступления. Но по крайней мере в Европе нередки спонтанные выступления, свидетельствующие о том, что немалая часть лингвистического сообщества относится отрицательно к тому, что она склонна называть «крайностями» структурализма. Изучение современных лингвистических работ подтверждает этот факт: очень немногие ведущие ученые в области исторического и сравнительного языкознания обращаются к современной структурной методологии; и для многих убежденных структуралистов окажется неожиданным тот факт, что от структурализма нельзя ожидать успешных результатов помимо областей синхронного описания. Если обратиться к исследованиям, относящимся к рубрике «диалектология», то к настоящему времени в них удастся найти очень мало следов структуралистского мышления2, а импрессионистические записанные мелочи, по общему мнению диалектологов, являются скорее священными лингвистическими свидетельствами, а не сырым материалом, который нуждается в структурной интеграции.
Мы не ставим себе целью обсуждать и раскрывать здесь все причины этого распространенного противоречия между лингвистическим теоретическим мышлением и лингвистической практикой, которое, разумеется, гораздо очевиднее в тех странах и областях исследования, которые находятся под влиянием доструктуральных традиций. Даже там, где есть полное единство в рядах структуралистов, мы вправе ожидать сопротивления с разных сторон, даже со стороны убежденного структуралиста, который будет считать это здоровой реакцией против научного тоталитаризма. Но, конечно, такого полного единства не существует. Многие лингвисты говорят о структуре, но очень немногие придут к согласию по поводу того, что в действительности означает понятие лингвистическая структура. Импровизируя, можно было бы отделить тех, для кого структурализм – главный принцип, на котором основаны практические методы, от исследователей, чья концепция языка как структуры сформировалась, главным образом, в результате практики лингвистического описания. Но еще интереснее отметить тот факт, что, несмотря на глубокие теоретические различия, на практике структуралисты находят согласие по крайней мере в определенных областях; например, в том, что фонологическое описание, проведенное приверженцем определенной школы, часто с готовностью используется учеными других школ с минимальными затратами усилий на реинтерпретацию, хотя их исходные принципы настолько различны, что сотрудничество кажется невозможным.
Таким образом, можно представить, что под слоем всех различий должен находиться некий субстрат, общий для всех структуралистов, обеспечивающий существенное единство лингвистического структурализма. Полагают, что в качестве этого субстрата выступает убеждение, или, по крайней мере, осознанное допущение: то, что характерно для языка и отличает его от других объектов, есть sui generis1* тип организации3, который абстрагирован от любых случайных сходств между отдельными конкретными элементами. Допустим, персидское слово bad, «bad», которое нормально произносится точно так же, как английское «bad», все же остается персидским, а не английским словом, поскольку оно входит в разные комбинации и парадигмы, потому что занимает определенное место в своем семантическом поле, потому что каждый его фонемный конституент входит в специфические сочетания в речевой цепи и отличается своим особым образом от других фонем сходного типа. Материальное тождество не имеет значения. Учитывается только то, каким способом достигаются цели языка. Звуковая цепь (product) не имеет никакого значения до тех, пока она не входит в конкретную лингвистическую рамку референции. Билингв скорее всего не поймет слова языка А, если оно появится в контексте языка Б, не получив необходимых пояснений вроде звуковых «кавычек», например, в виде паузы перед словом А или в виде особенно четкого произношения слова или его части, что указывало бы билингву на переход от системы Б к системе А4.
Даже если мы правы, предполагая, что существует общий субстрат, нельзя ожидать, что на современном этапе структурных исследований, когда разработаны различные типы процедур, каждый лингвист осознает его присутствие со всеми вытекающими последствиями. Немало блестящих и продуктивных лингвистов-фонологов полагают, что фонемика – это прежде всего техника перевода языка в его письменную форму5, а структурная морфология – это, главным образом, средство, нужное для того, чтобы улучшить обучение грамматике. Для тех, у кого нет такой явно практической направленности, конечной целью исследований, очевидно, является тщательно проведенный анализ, при этом проблеме синтеза всех выделенных элементов уделяется не слишком много внимания.
Для них определение структуры означает упорядочение лингвистических единиц без попыток раскрытия возможных связей между различными изолированными классами. Для многих современных лингвистов «структурная лингвистика» означает на практике анализ и описание, а не исследование различных отношений, которые могут связать воедино все единицы данной лингвистической системы, или изучение того, что из себя представляет феномен «язык», т. е. что представляют собой универсальные принципы, по которым организованы все конкретные языки как независимые образования.
Действительно ли препятствуют или, по крайней мере, замедляют достижение широкого консенсуса в области структурной лингвистики слишком большие различия темпераментов и интересов ее представителей, а также, в большой степени, национальный изоляционизм. Расстояние и, в какой-то мере, политические и языковые границы все еще имеют значение в современном научном мире. Эти факторы привели к глубоким терминологическим различиям, которые на данном этапе создают барьеры на пути ко всеобщему сотрудничеству.
Терминологические различия значат немного или совсем неважны, если они возникают при наличии разных терминов для одного и того же понятия, в особенности если один из них – просто перевод иностранного термина: Трубецкой, когда писал по-французски, использовал neutralisation вместо того, что по-немецки в своих Grundzüge он называл Aufgebung. Одно и то же понятие имел в виду Ельмслев, когда он употреблял вместо датского udtryk английское и французское expression.
По контрасту с этим, терминологические различия становятся непреодолимыми, когда один и тот же термин обозначает два или более совершенно различных понятия, как например, «форма» или «выражение». Они особенно опасны, когда два различных понятия, соответствующие данному термину, могут часто совпадать на практике, но на самом деле имеют разные рамки референции, как, например, «морфема» – термин, который используется блумфилдианцами, последователями Трубецкого или глоссематиками. К сожалению, труднее всего устранить терминологические различия последнего типа, потому что они обычно отражают различные способы выражения мысли, при этом его автор считает данный термин существенной частью теоретической конструкции. Следовательно, кто бы ни захотел ознакомиться со структурными исследованиями во всем их объеме, должен привыкнуть к разным и часто конфликтующим между собой терминологическим практикам. В данном обзоре мы будем нередко использовать в качестве референциальной рамки терминологию глоссематики. Это следует понимать не как предпочтение одного из направлений структурализма, а только как признание того, что по сравнению с другими конкурирующими подходами, теоретические основы глоссематики разработаны наиболее глубоко и только очень немногие существенные проблемы ускользнули от внимания Луи Ельмслева.
Ученые, чьи взгляды не ограничены одним специфическим подходом, обычно называют три основные школы структурной лингвистики. Они обозначаются по именам выдающихся ученых, стоявших во главе, бывших вдохновителями, основателями или лидерами этих школ; либо же по географическим названиям мест их возникновения. Так, называют «Пражскую школу» во главе с Николаем Трубецким; «Йельскую (Американскую) школу» с Леонардом Блумфилдом в качестве ведущей фигуры; «Копенгагенскую школу» с Луи Ельмслевом – главным представителем глоссематики. Более грубая дихотомия ученых на европейцев и американцев используется только среди ученых, не знакомых со сложными отношениями на европейской лингвистической сцене. Хотя в точности этой картины в виде треугольника с вершинами в Праге, Йеле и Копенгагене можно усомниться, все же ее можно признать лучшей основой для классификации различных современных течений, несмотря на то, что растет и количество эклектичных направлений.
Среди лингвистов прошлого нет какой-либо одной, центральной фигуры, которую охотно признали бы все убежденные структуралисты. Однако похоже, что учение Фердинанда де Соссюра оказало прямо или косвенно влияние на большую часть представителей лингвистического структурализма. И хотя правоверные блумфилдианцы открыто отрицают это влияние6, нет сомнений в том, что в 30-е гг. и раньше имел место процесс перекрестного оплодотворения через Атлантику, и ни одно теоретическое направление в лингвистике не может считаться совершенно избежавшим соссюровского «заражения». Однако если главной заботой блумфилдианцев является анализ, то, по контрасту с этим, в других школах подчеркивается структурная природа языка; этот факт можно отнести на счет глубокого и постоянного влияния соссюровской мысли на европейских ученых, так что не будет большим преувеличением сказать, что современные лингвисты подчеркивают важность понятия «структура» в прямой зависимости от степени влияния, которое они испытали со стороны великого женевца.
Современные лингвисты-теоретики, признающие Ф. де Соссюра своим вождем, по всей видимости, забывают, что он был не только ученым, впервые создавшим основы структурной теории, но также и компаративистом, который впервые представил великолепные иллюстрации прикладного структурализма, когда на основе сравнительных данных он постулировал наличие индоевропейских ларингалов за несколько десятилетий до того, как Курилович отождествил некоторые из них как хеттское h. Если труд Антуана Мейе «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков», впервые опубликованный в 1902 г. и с тех пор в основном не подвергшийся переделкам, сохраняет свое значение по сей день, то это потому, что он представляет мастерское применение принципов Ф. де Соссюра в области индоевропейской компаративистики. Обвинения в непоследовательности часто направляются в адрес «Курса общей лингвистики», и, действительно, можно видеть, как, беря за основу отдельные положения «Курса», разные ученые разрабатывают совершенно несхожие структуральные теории. Но было бы почти также несправедливо обвинять в этом Соссюра, как и считать его ответственным за различные современные ларингальные теории.
Нельзя переоценить влияния, оказанного русской лингвистической мыслью во главе с Бодуэном де Куртене и его последователями на некоторые структуралистские школы. Это влияние тесно переплелось с влиянием Соссюра в ранние годы пражского движения.
Именно русским мы обязаны термином «фонема», обозначающим нечто иное, чем звук речи. Никто сегодня не приемлет первоначального определения «фонемы» как Lautabsicht. Однако все современные трактовки термина восходят к Бодуэну Все последующие определения были разработаны и сформулированы, чтобы подвести их к понятиям, введенным первоначально на основе «лингвистического чутья» носителей языка. Дэниэл Джоунз воспринял этот термин и его определение от Щербы7 и сумел представить первую практическую формулировку фонемического принципа, который в неявном виде был им обнаружен в работах Генри Суита и Поля Пасси. Эта формулировка, созданная для решения практических, образовательных и орфографических проблем, совершенно свободна от каких-либо структурных импликаций. Не так уж невероятно, что Блумфилд первоначально позаимствовал концепцию фонемы из работ Джоунза. Сегодня в практике Йеля и Лондона имеется много общих черт8, и джоунзовское происхождение блумфилдовской фонемы может подтвердить мнение членов некоторых других школ о том, что к блумфилдовским методам и практике скорее подходит название «дескриптивные», а не «структурные».
Среди других предшественников лингвистического структурализма нужно упомянуть Эдварда Сепира, структуральный образ мышления которого оказался, однако, при формировании современной лингвистической мысли в Америке менее продуктивным, чем более аналитический подход Блумфилда.
Разумеется большую роль при зарождении и образовании каждого направления сыграли различные философские основы, но, за возможным исключением бихевиоризма в случае Блумфилда, было бы опасно и ошибочно связывать в нашем обзоре каждое структуралистское направление с какой-либо определенной школой психологов и логиков.
Характер лингвистического опыта основоположников и использованный ими материал для проверки теорий должен был иметь решающее значение. Опыт структуралиста-теоретика в основном может быть ограничен его родным языком и некоторыми другими, знание которых он приобрел в процессе структуралистских исследований. Если, как в обычном случае, эти языки уже подвергались описанию и анализу, либо научному, либо практическому и анонимному, благодаря которому они были приведены к письменной форме, наш ученый, без сомнения, должен проверить надежность этого предыдущего анализа, применяя предложенные им более строгие методы. Но эта задача не должна отвлекать его от главной, по его мнению, обязанности, а именно: дать описание каждого языка как целого. Он ни за что не станет рассматривать язык только как корпус актуальных высказываний, ибо его внутреннее убеждение, основанное на опыте пользователя, говорит ему, что эти высказывания не являются «языком», но всего лишь его внешней манифестацией, parole Соссюра. Он может принять точку зрения, что для него собранные научные данные отражают только симптомы языка, а не его сущность. Описан ли язык в менталистских терминах или рассматривается как ряд навыков, непреложным фактом остается то, что воспринимаемые высказывания не являются конечной целью исследования. Поначалу у ученого может возникнуть искушение прямого и непосредственного проникновения в исследуемый язык путем интроспекции. Но вскоре он обнаружит, что как бы ни были великолепны полученные таким образом результаты, он не сможет убедить в них своих коллег-ученых, пока не предложит метода, позволяющего другим проверять на каждом этапе валидность его процедуры. Его задачей станет интерпретация наблюдаемых симптомов, благодаря которым происходит овладение лингвистической реальностью.
С другой стороны, теоретик может быть погружен в изучение «экзотических» языков, не описанных до сей поры, культурная ценность которых так мала, что он не ощущает потребности в их овладении и они интересуют его только в качестве языковых примеров. Вначале он запишет корпус высказываний, который будет представлять единственное средство контакта с новой лингвистической реальностью. Этот корпус, т. е. сырой материал, который он должен обработать, на самом деле является сырым, а не только предположительно, как в случае его работы с записями на родном языке. Он должен на самом деле установить, где начинаются морфемы и где они кончаются, каким образом можно внести упорядочение в беспорядочную смесь странных звуков и шумов. Его задача – установить тождества и различия, и не искать при этом объективных данных в пользу тех тождеств и различий, существование которых он предполагает интуитивно. Он не выйдет за пределы той реальности, которая не представлена в его корпусе высказываний. Порядок, который ему удастся, наконец, установить, он назовет «структурой» языка. В зависимости от его темперамента и образования, он рассмотрит эту структуру как реально существующую в высказываниях и обнаруживаемую с помощью процедур анализа или же как принцип организации, разработанный им самим. Но у него может появиться искушение отбросить как неверное или несущественное предположение о том, что актуальная структура языка не обнаруживается ни в корпусе высказываний, ни в результатах его ментальной деятельности.
Все пионеры и основатели лингвистического структурализма были неразрывно связаны со своими родными, обычно индоевропейскими, языками. Но если некоторые из них вели очень активную полевую работу, то у других почти не было такого опыта. В ранний период Пражской школы описывались главным образом славянские языки и диалекты. Однако более поздние теоретические работы возникли на основе других индоевропейских или «экзотических» языков, и следовало бы помнить о том, что Трубецкой был специалистом по кавказским языкам. Но затем пришло общее понимание того факта, что хорошее предварительное знание описываемого языка означает для будущего исследователя нечто большее, чем просто некоторое преимущество. С другой стороны, в Америке многие лингвисты, идя по стопам Франца Боаса, должны были столкнуться с задачей описания индейских языков и, исходя из особенностей этого опыта, обратиться к применению блумфилдианского подхода. Один из двух основателей глоссематики, Я. Ульдалль, имел некоторый опыт полевой работы, но, созданная главным образом Ельмслевом, глоссематика все же представляет собой в меньшей степени описательный метод; скорее это лингвистическая теория, основанная на иллюстрациях хорошо известных современных и древних языков Старого Света.
Высказывалось мнение, что для демонстрации методологических сходств и различий между структуралистскими школами удобно было бы представить несколько реальных лингвистических ситуаций и различных описания их решений, которые могут быть получены на основе и в рамках различных теорий. Чтобы эта демонстрация стала надежной, она должна основываться на сотрудничестве пяти или шести ученых, иначе такая попытка предполагает в одном авторе такую разносторонность, на которую автор этих строк претендовать не может. Кроме того, неочевидно, что сугубо практические иллюстрации могут быть полезными: еще одна констатация того, что конечный согласный в русском слове «рот» является, с блумфилдианской точки зрения, фонемой /t/; что согласно традиционной Пражской школе, это реализация апикальной архифонемы; что, по Ельмслеву это результат синкретизма t и d, не сделает более ясными теоретические обоснования понятий нейтрализации или синкретизма. Далее мы попытаемся определить степень согласованности на разных теоретических уровнях и, установив нарушения этой согласованности, попробуем охарактеризовать некоторые следствия их этих теоретических различий.
Общим принципом для всех структуралистов является различение двух уровней анализа – уровня значимых единиц, «морфем», как в Пражской и Американской школе; «морфем» или «плерем» Ельмслева; и уровня дистинктивных, лишенных самостоятельного значения единиц, т. е. «фонем», «просодем», «хронем» и т. д., используемых в большинстве школ; «кенематем» глоссематиков. Этот принцип в силу самой природы объекта стал, разумеется, общим для лингвистов всех школ. Двойное лингвистическое членение есть именно та особенность, которая отличает язык от всех типов семиотических систем. Эта дихотомия представляет собой параллель классическому различию между фонетикой, с одной стороны, и морфологией, синтаксисом и лексиконом, – с другой. Но структурные исследования продемонстрировали, что на уровне дистинктивных единиц языки проявляют организацию, по крайней мере сравнимую с той, которая уже давно была признана на другом уровне, и это надо признать незаурядным достижением фонологических исследований за последние два десятилетия.
Ученые большинства стран вначале сосредоточили свои усилия в области дистинктивных единиц. Для объяснения этого предпочтения есть много причин. Для большинства лингвистов со структурным складом мышления первоначальной задачей стало, очевидно, обнаружение определенного способа организации в области звуков речи, поскольку было ощущение, что в традиционной грамматике уже давно удалось достигнуть такого упорядочения, по крайней мере, на материале морфологии. Многие ученые с глубокими фонетическими познаниями испытывали вполне естественное искушение сосредоточиться скорее на звуках, чем на «грамматике». Повсеместно считалась методологически корректным начинать работу с кратчайших единиц речевой цепи. Только глоссематики были единственными, кто с самого начала отстаивали как аксиому параллелизм между двумя планами: планом «содержания» (значимые единицы) и планом «выражения» (дистинктивные единицы) и стремились выполнять исследования одновременно на обоих уровнях9.
Это изначальное различие основывалось или отражало одно из наиболее серьезных методологических различий между структуралистами. Многие из тех, кто сперва сосредоточился на анализе высказываний и разбиении их на фонемы, естественно, испытывал желание определить более крупные единицы по отношению к их фонологическому аспекту, независимо от того, являются ли они значащими или незначащими единицами. Но ясно, что фонематическое тождество не может стать единственным критерием для идентификации значимых единиц, поскольку 1) очевидно, что разные «морфемы» могут иметь звуковое сходство и 2) функционально тождественные «морфы» представлены разными фонемными оболочками. Поэтому данное тождество должно быть дополнено другими критериями, семантическими или дистрибутивными, учитывающими случаи омонимии и дающими возможность аналитику сгруппировать «морфы» в соответствии с их функцией.
Одновременное или последовательное использование фонемных и дистрибутивных критериев, по-видимому, является нормальной блумфилдианской практикой. Против этого метода можно возразить, что привлечение более чем одного критерия нарушает ясность и чистоту процедуры и если не обращаться к значению, то следует разработать технику идентификации, основанную либо на наблюдении нелингвистических реакций на речь, либо исключительно на сопутствующих изменениях, которые наблюдаются в поведении говорящих.
Изменение «сейчас» на «вчера» в выражении «сейчас я гуляю» повлечет изменение «гуляю» на «гулял», и точно такое же изменение в выражении «сейчас я иду» определит замену «иду» на «шел», таким образом, «шел» относится к «иду», как «гулял» к «гуляю»; при этом нет необходимости в фонетическом анализе изменяемых слов; достаточно указать, что «сейчас» и «вчера», «гуляю» и «гулял», «иду» и «шел» функционально различны, так как, например, «сейчас» и «вчера» часто вызывают различные реакции у слушателей. Теоретическое преимущество, достигнутое такой процедурой, состоит в том, что таким образом каждый уровень анализа является совершенно независимым. Отбрасывая такие пропорции, как фонема: морфема = фон: морф = аллофон: алломорф, удается избежать ощущения, что «морфема» – это нечто вроде «семейства морфов», т. е. абстракция от некоторого числа реальных речевых данных, каждое из которых не что иное, как звуковая последовательность.
Глоссематики, постоянно подчеркивающие различие и полнейший параллелизм двух планов: «выражения» и «содержания» – избегают того, что можно было бы назвать «фонологическим уклоном» в трактовке значимых единиц. На практике, они как будто не очень озабочены проблемами отождествления на каждом из уровней. Поскольку они, как правило, оперируют с хорошо известными языками, они обычно принимают значимые единицы за данность, поэтому фонологическое несходство между – ае в латинск. rosae и – is в ciuis не представляет никакой проблемы. Их лингвистическое тождество будет считаться вполне установленным, когда будет продемонстрирована их способность «выполнять» те же «функции». Тот факт, что латинский генитив выражается (ср. термин «план выражения» как обозначение области значимых единиц) с помощью разных «формантов» (приблизительно тем, что в Йеле называют «алломорфами»), не имеет вообще никакого отношения к изучению его реляционного поведения. Несмотря на совершенно различные теоретические основы и терминологический аппарат, реляционный подход Ельмслева к единицам содержания и блумфилдианское упорядочение морфемных классов, основанное на сходстве дистрибуции, на практике движутся в одном и том же направлении.
Пражские лингвисты обращались иногда к морфологическим проблемам, но ни один из них не продемонстрировал авторитетного метода в этой области в целом. Во многом так же, как и глоссематики, они принимали «морфемы» как данность, но, в противоположность последним, они сосредоточились на семантическом содержании значащих категорий10 и вплоть до настоящего времени оставляли синтагматические критерии практически незатронутыми.
Глоссематики ввели термин «коммутация» для обозначения процедуры, при помощи которой многие структуралисты проводят структурное отождествление релевантных признаков. Коммутация – это следствие аксиоматического положения о том, что различие является релевантным в одном плане, если оно достаточно для установления различия в другом плане; различие между [i] и [е] релевантно в английском языке, так как оно достаточно для того, чтобы сделать pin иной значимой единицей по сравнению с реп; номинатив и генитив в латинском языке представляют собой разные категории, поскольку [rosae] отличается от [rosa].
Сознательная коммутация практически универсальны на фонологическом уровне. В структурной «морфологии» раз и навсегда установлено, что в языке нельзя признать существования значимой категории, пока она не выражена каким-либо способом формально: так, нет никаких оснований говорить об «инструментальном» падеже в латинском языке. Более точное и на самом деле практическое применение коммутации для определения значащих признаков возможно только в том случае, если есть готовность признать и оперировать семантическими различиями точно таким же образом, как различиями фонетическими: сперва надо признать различие между [i] и [е], прежде чем проводить соответствующий тест на коммутацию; нужно осознать семантическое различие между номинативом и генитивом, прежде чем проверять его структурное оформление на основе звуковых различий. Таким образом, вряд ли коммутация будет признана совершенно надежной процедурой теми, кто признает в качестве законного объекта исследования только звуковую форму высказываний, т. е. фонетические данные. Это предполагает признание глубокого изоморфизма и взаимозависимости двух языковых планов и их равноценную теоретическую и практическую значимость. Этот главный принцип глоссематики, в конечном счете восходящий к учению Ф. Де Соссюра, отражает предпочтения чуждые блумфилдианскому образу мышления и диаметрально противоположные их практике. Пражские лингвисты гораздо более склонны соглашаться с правомерностью операционного параллелизма, но они, как правило, утверждают, что коммуникация в силу своих особенностей воздействует на тот и другой план по-разному, так как они могут быть весьма продуктивными, увеличивая число значимых единиц, в то время как их влияние на количество дистинктивных единиц будет иным. Помимо того, пока лингвист имеет дело со значимыми единицами, денотативное значение которых неопределенно, а реляционная значимость очень велика, как у грамматических морфем, можно легко поддерживать структурный параллелизм двух планов; но собственно лексикон совсем не так легко редуцируется в структурные модели, за исключением некоторых излюбленных лингвистами лексических полей, таких как имена родства, числительные и некоторые другие.
Глоссематика все еще должна доказывать спорную истину, что все значимые единицы могут быть сведены к ограниченному инвентарю «фигур» при помощи анализа, подобного тому, который уже успешно применялся в области различительных единиц.
Соответствующие позиции разных школ можно четко противопоставить по их отношению к тому, что Ельмслев назвал «субстанцией».
Согласно глоссематикам, язык в своих обоих планах связан с двумя типами субстанции. В плане «выражения» субстанция может быть звуковой и поэтому воспринимается слуховыми органами; но она является также графической и воспринимается визуально; есть и другие виды воспринимаемой субстанции, которые могут быть использованы для тех же целей, хотя и с меньшими удобствами. В плане «содержания» субстанция имеет ментальную, семантическую природу. Без сомнения, можно возразить, что обе эти субстанции могли бы рассматриваться как ментальные, поскольку дистинктивные единицы могут быть определены как слуховые – точнее, как мышечно-слуховые – или, в случае графической субстанции, как мышечно-визуальные образы. Но можно пренебречь различием между актуальным употреблением и его ментальным отражением, так как актуальное продуцирование и восприятие являются на самом деле частью лингвистического коммуникативного процесса. С другой стороны, какая бы внешняя реальность ни была связана со значимыми единицами, она не возникнет где-либо в развитии этого процесса, потому что субстанция плана содержания имеет непреложно ментальный характер.
Структурная природа языка – это следствие того факта, что каждый язык организует эти две субстанции в соответствии со своими собственными моделями (patterns). Недостаточно указать, что разные языки используют различные субстанциональные признаки, как, например, в арабском языке используется фарингальная артикуляция, неизвестная в английском, или, например, некоторые понятийные поля в одних языках представлены исчерпывающим образом, в то время как в других они практически отсутствуют. Следует подчеркнуть, что такие субстанциональные признаки или поля, которые обнаруживаются в большинстве языков, подчиняются в каждом из них своей особой организации: семантическая субстанция, соответствующая выражению «я не знаю» организована во французском языке по-иному, как «je ne sais pas», а в немецком, как «ich weiss es nicht», хотя, конечно, в некоторых случаях языки ведут себя сходным образом; например, датское выражение «jeg ved det ikke», no крайней мере синтагматически совпадает с немецким «ich weiss es nicht». В плане выражения такой субстанциональный признак, может обладать «фонематической» функцией в арабском языке, демаркационной в немецком и, возможно, «просодической» или «супрасегментной» в каких-либо еще языках, занимая, таким образом, разные места в трех разных моделях.
То, что Ельмслев назвал «формой», представляет собой тип организации, которой подчиняется в каждом языке тождественная в широком смысле субстанция. По его мнению, форма выражается в терминах различных отношений, так что каждая из единиц данного плана взаимодействует с другими единицами того же плана. Форма существует для выражения и для содержания. У глоссематиков было ощущение, что только таким образом понимаемая форма является истинно лингвистической и что субстанция, даже будучи организованной, заслуживает исследования только после того, как структура будет установлена исключительно формальными способами.
Пражская точка зрения поддается четкому определению в рамках ельмслевовской оппозиции формы и содержания. Главный объект исследования в Пражской школе – это лингвистически организованная субстанция. Как таковая, субстанция и в том и в другом плане аморфна. Субстанциональное тождество не означает лингвистической достоверности: немецкое [k] и черкесское [k] могут вполне совпадать в произношении, но лингвистически их никак нельзя признать тождественными, потому что и немецкое [k] и черкесское [k] являются только тем, чем они являются по отношению к другим фонемам соответствующих языковых моделей (patterns). Немецкое [k] – это постоянная сумма субстанциональных признаков, отличающих эту фонему от любой другой фонемы немецкой языковой модели, и то же самое относится к черкесскому [k] в рамках черкесской модели.
Любой субстанциональный признак артикуляции немецкого [k], вроде придыхания, необходимого для его производства, но несущественного для его отличия от других немецких фонем, является лингвистически нерелевантным. Но признак, обеспечивающий дистинктивную функцию, – это часть той субстанции, на которой должно быть сосредоточено внимание лингвиста. Каков бы ни был характер этой субстанции, влияющей на коммуникативную функцию в привычном смысле этого слова, он лингвистически релевантен. Единицы, определяющие одну и ту же разновидность функции, классифицируются в соответствии с их лингвистически релевантными признаками. Структура возникает в результате различных комбинаций этих признаков. Поскольку она в большой степени зависит от субстанции, мы не можем согласиться с тем, что структура останется неизменной, если изменится субстанция. Считается, что звуковая субстанция – это нормальная первичная субстанция лингвистического выражения. Нет возражений и против того, что и другие субстанции могут играть подобную роль в коммуникативных средствах. Но любая новая субстанция влечет за собой формирование новой языковой модели.
Отстаивание тезиса о том, что парадигмы выражения (фонологические структуры) основаны на лингвистически релевантных конститутивных признаках, не означает того, что не нужно изучать комбинаторные свойства единиц в речевой цепи, но дистрибутивные критерии играют в работах представителей Пражской школы существенно меньшую роль по сравнению с другими школами.
Исследуя значащие единицы, трудно отказаться от использования дистрибутивных признаков для классификации ранее выделенных и неупорядоченных единиц. Если бы пражские лингвисты проявили большую настойчивость в исследованиях обоих планов, это побудило бы их к более углубленному использованию этих критериев в плане выражения. Но, как правило, когда они обращались к проблемам, связанным со значащими единицами, то ограничивались уже описанными парадигмами, стремясь при этом определить лингвистически релевантные конститутивные признаки различных единиц, чтобы установить также и в плане содержания языковые модели, основанные на сходствах и различиях. Трудности, связанные с объективной оценкой семантической реальности, стали причиной того, что эти попытки оказались относительно менее убедительными, чем при изучении фонетической субстанции.
Подход Йельской школы характеризуется полным отторжением семантической субстанции, так как она не поддается объективному научному исследованию. Но поскольку лингвисты этой школы никогда не опирались на четкое различие между формой и содержанием, введенное Ельмслевом, нельзя сказать, что их достижения в структурной морфологии, основанные на дистрибутивных критериях, сравнимы с концепцией реляционной «формы содержания» глоссематиков. На уровне дистинктивных элементов йельские лингвисты не отказываются от операций со звуковой субстанцией, по крайней мере на ранних стадиях исследования: сведение аллофонов в фонемы происходит на основе их большего или меньшего фонетического сходства. Таким образом, реальное противоречие заключается не между формой и содержанием, а между непосредственно наблюдаемыми фонетическими признаками и туманными семантическими данными. Исследование сосредоточилось исключительно на высказывании, как на единственно позитивном данном аспекте языка. А поскольку высказывание в материальном смысле целиком состоит из звуков речи, то возникает, по крайней мере, тенденция опираться как можно дольше на речевые элементы или цепи. При определении дистинктивных единиц лингвист оперирует не со значением, но со значимыми тождествами и различиями, что можно понимать как положительные и отрицательные реакции на речь. Известна, по крайней мере, одна теоретическая попытка отбросить все, кроме фонетических данных11. Почти исключительное сосредоточение только на данных, доступных прямому наблюдению, ведет по вполне понятным причинам к тому, что единственным принципом классификации становится дистрибуция, а парадигматическая реальность не вызывает доверия. Но если единственным объектом наблюдения является высказывание, независимо от того, какие в его состав входят единицы, то оно само по себе не может стать объектом исследования.
Анализ фонем и их разложение на субстанциальные компоненты допускается в той мере, в какой эти компоненты рассматриваются как элементы, входящие в высказывание, но такой анализ не должен приводить к установлению парадигматических моделей, с которыми исследователи могли бы оперировать как со множеством лингвистических реальностей. В целом, однако, наблюдается тенденция игнорировать звуковую субстанцию, как только достигнут структурный уровень. Это сходство с ельмслевовской процедурой подчеркивается тем фактом, что глоссематики на самом деле оперируют с субстанцией при отождествлении дистинктивных единиц.
Утверждая, что его теория не содержит в себе постулата существования, Ельмслев раз и навсегда элиминировал проблему реальности тех единиц, с которыми оперируют структуралисты. Кто, кроме совсем уж наивных новичков, не способен понять, что такая единица, как фонема, есть абстракция, более того, что это абстракция второй степени? Но согласию приходит конец, как только возникает вопрос, нужно ли понимать слово «фонема» как обозначение одного из реальных элементов, из которых состоят высказывания, или как наименование инструмента, придуманного лингвистом, стремящимся упорядочить языковые данные. Практически настроенные дескриптивисты нередко считают эту проблему скорее философской, а не научной. Однако она напрямую связана с правомерностью определенных методов. Если речь идет о фонеме, то обнаружение ее в любой части высказывания – обязанность лингвиста; при этом существует только один правильный ответ на вопрос: сколько фонем входит в тот или иной фрагмент высказывания? Если же фонема – только принцип упорядочивания, мы будем использовать его до тех пор, пока он обеспечивает удовлетворительное решение наших проблем в анализе; кроме того, мы применим другие аналогичные средства операционного характера. Если окажется, что наше определение фонемы не дает нам возможности прийти в данном случае к определенному выводу, то мы либо переформулируем наше определение, чтобы оно учитывало и данный случай, либо посчитаем ситуацию маргинальной, исходя из принятой нами точки зрения. Все это не означает, что фонемный анализ не идет в известной мере параллельно с языковым поведением говорящих: анализ, конечная цель которого – исследовать функционирование языка, дает в результате картину, способную дать вполне отчетливое представление о ментальной организации, соответствующей описываемому языку. Но если отвергнуть принципы глоссематиков, то будет нелегко отнести какую-либо из сравниваемых здесь точек зрения к той или другой из оставшихся школ.
Многие структуралисты, целиком погруженные в изучение организованной субстанции, т. е. те, кого мы отнесли здесь к Пражской школе, сосредоточены на раскрытии общих и постоянных принципов организации, характеризующих лингвистическую реальность во всех ее аспектах. Излюбленным принципом для них стал принцип бинарности, в соответствии с которым вся целостность языка должна быть сведена к наборам бинарных оппозиций. Этот принцип должен иметь силу не только на синтагматической оси (с возможными исключениями в случае координированных комплексов), но и в парадигматических моделях, как в плане значимых единиц, так и на уровне фонологии12. Другие убежденные приверженцы исследования субстанции, не отрицая того, что могут существовать более или менее постоянные признаки языкового поведения человека, отказываются оставаться только в рамках «законных» выводов на основе необходимости ограниченного корпуса данных. Они будут даже настаивать на том, что и на основе имеющейся информации факты не подтверждают выводы бинаристов.
Среди пражских исследователей языковой субстанции кроме того было немало ученых, не удовлетворенных ни практическим, ни теоретическим отождествлением структурализма с дескриптивной лингвистикой. У одних (таких, как в Йеле) такое отождествление основано почти исключительно на разработке дескриптивной техники, у других – на строгой приверженности к соссюровскому принципу, гласящему, что лингвистические изменения происходят за счет структуры – взгляд, чрезвычайно напоминающий неограмматическую теорию и практику. По мнению структурных диахронистов, структурная лингвистика должна использовать не только релевантный принцип для классификации лингвистических изменений, но наряду с этим полное или частичное объяснение многих из этих изменений13.
Современное положение дел кажется особенно благоприятным для сопоставления различных структурных теорий и методов. Даже среди наиболее ортодоксальных представителей различных школ международные контакты вызвали здоровое любопытство к теориям и практике различных направлений. Верно, что нынешние теоретические различия имеют слишком фундаментальный характер, чтобы позволить прийти к всеобщему согласию, даже по нескольким основным принципам. Но все это не исключает взаимного оплодотворения идеями, а контакты, несомненно, обеспечивают плодотворные переоценки собственных теоретических основ и методологической практики. Всемирная кооперация в области лингвистики не может и не должна привести к тотальной унификации. Она должна дать каждому, независимо от того, какое место он занимает и какой школе принадлежит, возможность выбора области деятельности и метода, которые соответствовали бы его характеру, способностям и интересам. Каждый из существующих структуралистских подходов открывает новые перспективы и дает новые средства для более плодотворных разработок в теоретической и прикладной лингвистике, и все это в совокупности должно послужить общему прогрессу познания.
Примечания
1 Например, можно упомянуть Постава Гийома и его структурный анализ ряда основных лингвистических проблем в таких работах, как: Guillaume G. Le Probleme de Particle et sa solution dans la langue francaise (Paris, 1919); Temps et verbe // Societe linguistique de Paris, Collection linguistique. № 27. Paris (1929).
2 Бросается в глаза, что структурализм явно отсутствует в обзоре данной области, сделанном Севером Попом (Sever Pop), – La Dialectologie («Universite de Louvain, Recueil de travaux d'histoire et de pliilologie», B. Ser. 1, fasc. 38 [1950]).
3 Ср.: Sapir E. Language (New York: Harcourt, Brace & Co., 1921). P. 127: «Должно быть очевидным для каждого… кто чувствует дух иностранного языка, что существует такая вещь, как основной план, отчетливый профиль каждого языка».
4 Если билингв обладает развитыми и четкими фонетическими навыками, то фонетические навыки могут иметь существенное значение.
5 Ср. подзаголовок книги Кеннета Пайка (Kennet L. Pike) «Фонемика» «University of Michigan Publications in Linguistics». Vol. Ill [Ann Arbor: University of Michigan Press, 1947]).
6 Ср. обзор Чарлза Хоккета (Charles F. Hockett, International Journal of American Linguistes, XVIII (1952), 86–89), посвященный работам, опубликованным в издании «Travaux linguistique de Copenhague», Vol. V (1949).
7 Jones D. The Phoneme (Cambridge, England: W. Heiner & Sons, 1950).
8 Как указывал Фрэд У. Хаусходдер (Fred W. Householder) в своей рецензии на книгу Джоунза в International Journal of American Linguistes, XVIII (1952), 99-105.
9 Ссылки на глоссематическую теорию основаны, главным образом, на работе Луи Ельмслева «Omkring Sprogteoriens Grundleggelse (Copenhagen, 1943); английские эквиваленты датских терминов Ельмслева взяты из неопубликованного перевода Фрэнсиса Уитфилда. Книга Зеллига С. Хэрриса «Methods in Structural Linguistics» (Chicago: University of Chicago Press, 1951) считается удобным и авторитетным представлением основных черт Американского структурализма.
10 Jakobson R. Beitrage zur allgemeinen Kasuslehre // Travaux du Cercle linguistique de Prague, VI (1936), 240-88.
11 См.: Bloch B. A Set of Postulates for Phonemic Analysis // Language, XXIV (1948), 3-40; cf. n. 8, p. 5.
12 Инициатором и наиболее активным пропагандистом применения бинарного принципов фонологии был Роман Якобсон; см.: Jakobson, Fant, and Halle, Preliminaries to Speech Analysis (MIT Acoustics Laboratory, Technical Report No. 13, January, 1952).
13 Martinet A. Function, Structure, and Sound Change // Word, VIII (1952), 1 ff.
Перевод выполнен по изданию: Martinet A. Structural Linguistics // Anthropology Today. London. P. 574–586.
1* своего рода (лат.).
Перевод В.Б. Смиренского.Примечания
1
Тускароры – индейская народность, относится к ирокезам.
(обратно)2
Вопрос о том, в какой степени форма и содержание математического мышления детерминированы структурой человеческого сознания, т. е. нервной, сенсорной, мышечной и т. д. системой человека, интересен и уместен, однако здесь мы не можем в него углубляться. Структура человеческого организма очевидным образом обусловливает весь человеческий опыт – как математический, так и любой другой. Однако в отношении таких вещей, как «внутренне присущие и необходимые законы мышления», следует заметить, что многие нормальные дети и многие примитивные народы не находят ничего неверного в утверждении, что одно и то же тело может быть одновременно в двух местах, не говоря уже о тех возражениях по поводу слова «одновременно», которые выдвигает теория относительности; в некоторых философиях 3=1; животное не обязательно либо млекопитающее, А, либо не-млекопитающее, не-А; оно может быть единственным в своем роде, подобно утконосу, откладывающему яйца на манер рептилий, но вскармливающему детенышей молоком; и т. д. Каково бы ни было воздействие структуры и процессов человеческого организма на «законы мышления и логики», оно, разумеется, должно найти выражение в той или иной культурной форме; следовательно, всякий неврологический императив всегда будет обусловлен соглашением.
(обратно)3
«…Я считаю, что общественная наука походит на „валлийского кролика“2*, который на самом деле вовсе и не кролик» (Hooton E.A. Apes, Men and Morons. N. Y, 1937. P. 62).
(обратно)4
«Представление о внешнем мире, не зависимом от воспринимающего субъекта, есть основа всей естественной науки» (Einstein A. The World as I See It. N. Y, 1934, p. 60).
(обратно)5
Разумеется, те, кто носит ярлык «историка», имеют дело с иными отношениями, нежели временные: они хотят знать, где быт убит Линкольн, а не только когда. Вероятно, «временно́й процесс» быт бы здесь – ввиду наших целей – более уместным термином, нежели «история».
(обратно)6
Структура и функция не ограничены сферой метрического пространства. Структура, или форма, характеризует такие непространственные системы, как язык, музыка, номенклатуры родства, социальная организация, поэзия и т. д.
(обратно)7
Так может быть. На деле же все иначе, поскольку такие различия (за исключением редких случаев – вроде реального или мнимого удара копытом коровы миссис О'Лири, что положило начало большому чикагскому пожару; или криков гусей, которые «спасли Рим») для нас как обычных человеческих существ не имеют значения. Однако для философии науки чихание никому не известной обезьяны в глубине джунглей так же значимо в качестве иллюстрации уникальности любого явления временного ряда, как значимы рождение Христа или смерть Цезаря.
(обратно)8
На деле это может зависеть от точки зрения, а точнее, от временных рамок индивидуального взгляда на вещи. Нам космический процесс кажется эволюционным: вселенная расширяется (это можно предположить) или материя превращается в энергию. Процесс видится как формально-временной, т. е. неповторяющийся и необратимый. Но такая видимость может быть иллюзией в силу временных ограничений, которым подвержено наше наблюдение. Если бы период длился дольше (значительно дольше), космический процесс мог бы проявиться как повторяющийся: эра сжатия могла бы следовать за расширением, и т. д. в бесконечной серии пульсаций; материя могла бы превращаться в энергию и вновь сгущаться в материю в бесконечных колебаниях космического маятника. Поэтому для существа, которое в сравнении с нами имело бы бесконечно мало времени для наблюдения, повторяющийся и ритмичный характер дыхания или биения сердца или ржавления железа представлялся бы эволюционным, так как, видя лишь ничтожную часть процесса, вне начала и конца, это существо видело бы только изменение формы во времени и могло бы утверждать, что имеет дело с неповторяющимся процессом. И оно тоже было бы право, поскольку процесс, наблюдаемый им, является неповторяющимся точно так же, как для нас неповторяющимися процессами представляются умирание звезды и распад радия. Таким образом, то, обозначен ли какой-либо процесс как повторяющийся или эволюционный, зависит от единицы измерения. Любой повторяющийся процесс составлен из последовательности явлений, которые сами по себе не являются повторяющимися. Наоборот, любой повторяющийся процесс есть не что иное как сегмент более масштабного процесса, эволюционного по своему характеру.
(обратно)9
Не следует путать дублирование и повторение: переходы от рептилий к млекопитающим возможны во многих разных типах. Это пример дублирования, а не повторения.
(обратно)10
Эйнштейн и Инфельд назвали свою последнюю книгу «Эволюция физики», а не «История физики», и это важно отметить.
(обратно)11
Сокращ. versus (лат.) – против.
(обратно)



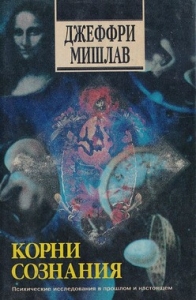
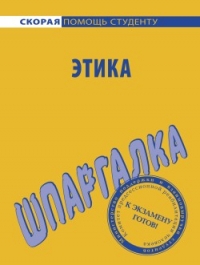
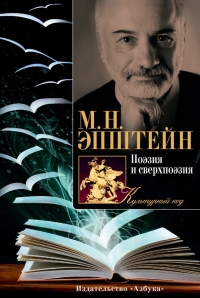
Комментарии к книге «Антология исследований культуры. Символическое поле культуры», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев