Игорь Николаевич Сухих Русская литература для всех. Классное чтение! От Блока до Бродского
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК: от России до России
КАЛЕНДАРЬ И ИСТОРИЯ: КОРОТКИЙ XX ВЕК
Понятие «век» многозначно. «Усердней с каждым днем гляжу в словарь <…> Читаю: „Век. От века. Вековать. / Век доживать. Бог сыну не дал веку. / Век заедать, век заживать чужой…”» (С. Маршак. «Словарь»).
Важно видеть различие между календарным и историческим понятиями века. Календарные века (столетия) равны между собой, исторические века (эпохи) определяются переломными событиями и могут быть короче или длиннее века календарного.
Начало XIX века в России почти совпало с календарем: с восшествием на престол Александра I (1801) началась новая эпоха. Европейские историки начинают свой век десятилетием раньше, с Великой французской революции (1789–1794).
В отличие от века девятнадцатого, календарную границу XX века тоже заметили и отметили. В начале 1901 года М. Горький пишет знакомому: «Новый век я встретил превосходно, в большой компании живых духом, здоровых телом, бодро настроенных людей. Они – верная порука за то, что новый век – воистину будет веком духовного обновления. Вера – вот могучая сила, а они – веруют и в незыблемость идеала, и в свои силы твердо идти к нему. Все они погибнут в дороге, едва ли кому из них улыбнется счастье, многие испытают великие мучения, – множество погибнет людей, но еще больше родит их земля, и – в конце концов – одолеет красота, справедливость, победят лучшие стремления человека» (К. П. Пятницкому, 22 или 23 января /4 или 5 февраля 1901).
Люди девятнадцатого столетия.
Как они спешили расстаться со своим веком!
Как потом жалели об этом…
Однако исторический девятнадцатый век окончился почти на полтора десятка лет позже календарного. Границей между эпохами, началом Настоящего Двадцатого Века, о котором писала А. А. Ахматова, стала Первая мировая война (1914).
Последний исторический рубеж (рубец) образовался сравнительно недавно. Его определили такие события, как разрушение Берлинской стены и воссоединение Германии, исчезновение Советского Союза, окончание холодной войны и возникновение нового мирового порядка.
Таким образом, на фоне длинного девятнадцатого века историки говорят о коротком двадцатом веке. Он продлился всего три четверти столетия (1914–1991). В русской истории в него поместились две мировые войны и война гражданская, три (или четыре) революции, коллективизация и полеты в космос.
На рубеже 1980-1990-х гг. мировые конфликты, определившие атмосферу XX века, казалось, были разрешены, прежние угрозы – исчезли. Популярным стало определение «конец истории». Многие философы и социологи утверждали: трагическая история XX века завершилась, начинается долгий период мирного, эволюционного развития, которое трудно назвать историческим в привычном смысле. «История прекратила течение свое», – как будто пародировал подобные теории столетием раньше М. Е. Салтыков-Щедрин.
РОССИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ
Но реальная история быстро отомстила благодушным историкам. «Конец истории» продлился всего десятилетие. 11 сентября 2001 года весь мир в ужасе смотрел на одну и ту же телевизионную картинку: захваченные террористами самолеты врезались в небоскребы Всемирного торгового центра, одного из символов США. Эти события заставили говорить о начале «настоящего XXI века», который будет определять «конфликт цивилизаций». Началась новая эпоха, история снова двинулась в неведомое будущее, возникли новые мировые конфликты и проблемы, свидетелями или участниками которых окажутся люди XXI века.
Короткий XX век после двух десятилетий исторического промежутка, эпохи без имени, вдруг стал не только календарным, но и историческим прошлым. Появилась возможность посмотреть на него как на завершенную эпоху.
Есть два непримиримых взгляда на последние десятилетия императорской России. «В стране все шло хорошо и правильно, она быстро двигалась по европейскому, буржуазному пути и лишь случайные обстоятельства и большевистский переворот помешали этому эволюционному развитию», – считают одни историки.
«Нет, революция была неизбежна, ее истоки лежат в незавершенной реформе 1861 года и даже глубже – в петровских преобразованиях, расколовших страну на два непримиримых культурных класса», – возражают другие.
«Как две обезумевших лошади в общей упряжи, но лишенные управления, одна дергая направо, другая налево, чураясь и сатанея друг от друга и от телеги, непременно разнесут ее, перевернут, свалят с откоса и себя погубят, – так российская власть и российское общество, с тех пор как меж ними поселилось и все разрасталось роковое недоверие, озлобление, ненависть, – разгоняли и несли Россию в бездну. И перехватить их, остановить – казалось, не было удальца.
И кто теперь объяснит: где ж это началось? кто начал? В непрерывном потоке истории всегда будет неправ тот, кто разрежет его в одном поперечном сечении и скажет: вот здесь! все началось – отсюда!
Эта непримиримая рознь между властью и обществом – разве она началась с реакции Александра III? Уж тогда, не верней ли – с убийства Александра II? Но и то было седьмое покушение, а первым – каракозовский выстрел.
Никак не признать нам начало той розни – позднее декабристов.
А не на той ли розни уже погиб и Павел?
Есть любители уводить этот разрыв к первым немецким переодеваниям Петра – и у них большая правота. Тогда и к соборам Никона», – иронически воспроизводит спор «кто первый начал» А. И. Солженицын («Красное колесо». Узел второй. «Октябрь шестнадцатого», гл. 7. «Кадетские истоки»).
Если верить русской литературе, вторая точка зрения выглядит более обоснованной. Революцию ожидали, предвидели, боялись, о ней предупреждали много лет, но она все равно приближалась с угрожающей скоростью.
Царствование последнего русского императора Николая II (1894–1917) было наполнено многочисленными предзнаменованиями и катастрофическими событиями. Неожиданно вступив на престол в 26 лет (полный сил отец, Александр III, умер внезапно, хотя мог «подмораживать Россию» еще несколько десятилетий), Николай оказался мало подготовлен к управлению страной в переломную эпоху.
Он унаследовал от отца идею твердой самодержавной власти, абсолютной монархии. «Хозяин земли русской», – отвечает он на вопрос о роде занятий во время всероссийской переписи населения (1897). Бессмысленными мечтаниями называет он в одной из речей (1895) надежды на участие в управлении страной выросшего после крестьянских реформ общества (это была многозначительная оговорка, в тексте речи стояло: «беспочвенные мечтания»).
Но по своему характеру и воспитанию Николай мало отвечал взятой на себя роли. С. Ю. Витте, один из самых полезных (и нелюбимых царем) деятелей второй николаевской эпохи, бывший и министром финансов, и председателем кабинета министров, снисходительно утверждал, что император обладал «средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства». Похожее впечатление сложилось и у лишь мельком увидевшего царя его простого подданного, но великого писателя. «По какому-то поводу зашел разговор о Николае II. Антон Павлович (Чехов – И. С.) сказал: „Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он – просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид, он только немного бледен”» (С. Л. Толстой. «Очерки былого»).
«Закон самодержавия таков: / Чем царь добрей, тем больше льется крови./ А всех добрей был Николай Второй», – горько иронизировал поэт М. А. Волошин уже после гибели императора («Россия», 1924). Неполадки в хозяйстве гвардейского офицера начались сразу же после восшествия на престол, а через несколько лет оно и вовсе пошло вразнос.
Начало нового царствования ознаменовала Ходынка. Во время коронации в Москве (1896) по недосмотру полиции на Ходынском поле во время раздачи дешевых царских подарков было затоптано, задушено, изувечено около трех тысяч человек. Император узнал об этом, но торжественный обед и вечерний бал не были отменены. («Одна капля царской крови стоит дороже, нежели миллионы трупов холопов», – через несколько лет запишет в дневнике верная жена, императрица Александра Федоровна.)
Следующим символическим образом царствования стало кровавое воскресенье. 9 (22) января 1905 года петербургские рабочие отправились к Зимнему дворцу с петицией царю-батюшке, но мирная демонстрация была расстреляна (погибло несколько сотен человек). Император отметил в дневнике: «Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых». Кто отдал приказ, почему войска «должны были стрелять», так и осталось неясным. Но имя российского самодержца было связано и с этой трагедией.
Для отвлечения внимания от внутренних проблем была затеяна «маленькая победоносная война» с Японией (1904–1905). Однако, несмотря на героизм простых солдат и офицеров (от этой эпохи остались песня о гордом «Варяге» и вальс «На сопках Маньчжурии»), она завершилась унизительным поражением огромной империи, потерей флота и южной части Сахалина (корни «территориального вопроса», который и сегодня не могут решить Россия и Япония, уходят в самое начало XX века).
17 (30) октября 1905 года под давлением обстоятельств царь вынужден был подписать манифест, даровавший русскому обществу «незыблемые основы гражданской свободы». В России появилось представительное учреждение (Государственная дума), была отменена цензура. Страна двинулась по пути конституционной монархии. Однако это уже не остановило первую русскую революцию, которая бушевала в империи около двух лет (1905–1907).
После ее подавления-затухания Николай II снова пытался править самодержавно. Два первых состава Государственной думы были распущены, наиболее активные и талантливые государственные деятели (причем сторонники самодержавия) отстранялись от власти, а на смену им приходили люди неумелые, но послушные. Царь и правительство все больше теряли опору в обществе. «Можно спросить, есть ли у правительства друзья? И ответить совершенно уверенно: нет. Какие же могут быть друзья у дураков и олухов, у грабителей и воров», – с глубокой болью записывает в дневнике А. С. Суворин, консерватор, крупный издатель, многолетний собеседник Чехова (14 ноября 1904 г.).
1 сентября 1911 года в киевском театре, в антракте представления, на котором присутствовал и царь, был смертельно ранен П. А. Столыпин, один из самых полезных государственных деятелей эпохи. С его именем многие писатели и историки связывают возможность иного, эволюционного, а не революционного, развития России. Столыпину принадлежат знаменитые слова, произнесенные в Государственной думе 10 мая 1907 года в споре с либеральными депутатами: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна Великая Россия» (они будут написаны на памятнике в Киеве, который установят в 1913 и разрушат в 1917 году).
Однако в российской власти и обществе оставалось все меньше людей, которые могли и хотели противостоять великим потрясениям. И страна не сумела отстраниться от великих потрясений в Европе.
МИРОВАЯ ВОЙНА: КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ
15 (28) июня 1914 г. в Сараево сербским студентом-террористом были убиты наследник австро-венгерского престола и его жена. С этих провокационных выстрелов начинается четырехлетняя мировая война, в которой погибнут миллионы (современники еще не знают, что она – первая, и не самая кровавая). 19 июля (1 августа) 1914 года Германия объявляет войну России. Империя вместе со многими европейскими странами втягивается в совершенно ненужную ей и бессмысленную мировую бойню.
Немцы «начали первыми». Война на какое-то время вызывает всеобщее воодушевление и иллюзию единства самодержца и подданных, государства и общества. Государственная дума почти в полном составе (кроме социал-демократов) голосует за военные кредиты. Забастовки рабочих прекращаются. Земские органы помогают в мобилизации и медицинском обеспечении армии. Поэты сочиняют патриотически-воодушевляющие стихи, хотя, как и многие интеллигенты, они освобождены от мобилизации (из крупных русских писателей XX века в Первой мировой войне активно участвовали лишь Н. С. Гумилев и М. М. Зощенко). Даже Игорь Северянин забывает об «ананасах в шампанском» и пишет «Поэзу возмущения», в которой клянется именами Гёте и Шиллера и угрожает германскому императору Вильгельму возмездием, в сущности – революцией:
Предатель! мародер! воитель бесшабашный! Род Гогенцоллернов навек с тобой умрет… Возмездия тебе – торжественный и страшный Народный эшафот! («Поэза возмущения», август 1914)Однако такие настроения продержались недолго. Уже в начале войны русская армия потерпела страшное поражение на территории Восточной Пруссии (нынешняя Калининградская область). На фронте не хватало снарядов и патронов. Тысячи беженцев заполнили центральные районы страны. Обнаружилось, что Россия (как и другие европейские страны) не готова к продолжительной войне и, самое главное, не понимает ее цели и смысла.
Иллюзии национального единения (образцом здесь была Отечественная война 1812 года) быстро исчезают. Эта война, еще в большей степени, чем революция 1905 года, раскалывает, дробит русское общество. Ненависть меняет адрес, направляется не на внешнего врага, а на врага внутреннего, которого либеральные деятели видят в самодержавии, правительстве, торговцах-спекулянтах, генералы и чиновники – в смутьянах-большевиках и либералах, младшие офицеры – в бездарных генералах, призванные под ружье мужики – в офицерской муштре и требовательности, не позволяющей им вернуться домой.
На квасной патриотизм Игоря Северянина и других казенных патриотов словно отвечает Владимир Маяковский.
Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет! Как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет?! Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие, нажраться лучше как, — может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика?.. Если б он, приведенный на убой, вдруг увидел, израненный, как вы измазанной в котлете губой похотливо напеваете Северянина! («Вам!», 1915)Затянувшаяся война вела к главному катастрофическому следствию. Разрушение нравственных норм, крушение гуманизма из отвлеченной теории становится обыденной практикой. Уставшие, отчаявшиеся миллионы простых людей привыкают к тому, что все вопросы решаются насилием, убийством, кровью. Получив в руки оружие, они могли использовать его по собственному усмотрению.
Пытаясь лично повлиять на ход военных действий, император Николай совершает очередную, как считают многие историки, роковую ошибку. В 1915 году он возлагает на себя обязанности Верховного главнокомандующего и отправляется в ставку в Могилев. Теперь все военные неудачи прямо связываются с царем, в то же время в отдалении от Петрограда (город потерял «немецкое» название в патриотическом ажиотаже, сразу после начала войны) он все хуже понимает положение, в котором оказалась Россия. Предупреждения о надвигающейся революции Николай называет «вздором» даже за несколько дней до нее.
Когда в феврале 1917 года известие о беспорядках в столице достигает Могилева, императорский поезд отправляется в путь, но застревает недалеко от Пскова на станции Дно: солдаты не пропускают его. 2 (15) марта 1917 года во Псков прибывают два члена Государственной думы (по иронии судьбы – монархисты), и Николай II пишет и передает им текст отречения от престола. Так внезапно и прозаически прекращается правление династии Романовых, трехсотлетие которой праздновали совсем недавно, накануне войны (1913).
«Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. <…> Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска. Что же осталось-то? Странным образом – буквально ничего. Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60-ти, „и такой серьезный“, Новгородской губернии, выразился: „из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть“. Т. е. не сразу сорвать кожу как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его кожи ленточка за ленточкой. И что ему царь сделал, этому „серьезному мужичку”», – горько сокрушался философ-консерватор, монархист В. В. Розанов. Однако и он вынужден был произнести слова о «прогнившем насквозь Царстве».
Розанов обвинял в происшедшем, прежде всего, русскую литературу, которая бесконечно критиковала государство и идеализировала русский народ: «Вот и Достоевский… Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и „Война и мир”» («Апокалипсис нашего времени», 1917–1918).
Однако другой писатель, между прочим очень ценивший Розанова, высказывает прямо противоположное мнение. М. М. Пришвин узнает от прислуги писателя А. М. Ремизова неграмотной белоруски Насти «новость» о гибели России, которую она, видимо, подхватила в уличных разговорах от какого-то «однодумца» Розанова. «Есть, – отвечает, – Россия погибает. – Неправда, – говорим мы ей, – пока с нами Лев Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет». Прислуга с трудом заучивает незнакомые фамилии, называя Толстого «Леу» и принимая за него появляющихся в доме поэтов М. Кузмина и Ф. Сологуба. Через несколько дней история продолжается. «Как-то на улице против нашего дома собрался народ и оратор говорил народу, что Россия погибнет и будет скоро германской колонией. Тогда Настя в своем белом платочке пробилась через толпу к оратору и остановила его, говоря толпе: „Не верьте ему, товарищи, пока с нами Леу Толстой, Пушкин и Достоевский, Россия не погибнет”» (Дневник. 30 декабря. 1917 г.).
Для одних русская литература была причиной гибели России, для других – надеждой на возрождение. Но и в том и в другом случае на Слово возлагались огромная вина или надежда.
В. В. Набоков, писатель-эмигрант, эстет, сын министра Временного правительства В. Д. Набокова, подарит герою романа «Дар» (1937–1938) полный «безвкусного соблазна» и все-таки соблазнительный каламбур, соединяющий царствование деда и внука, вину и возмездие в истории пореформенной России: «Он живо чувствовал некий государственный обман в действиях „Царя-Освободителя“, которому вся эта история с дарованием свобод очень скоро надоела; царская скука и была главным оттенком реакции. После манифеста, стреляли в народ на станции Бездна, – и эпиграмматическую жилку в Федоре Константиновиче щекотал безвкусный соблазн, дальнейшую судьбу правительственной России рассматривать, как перегон между станциями Бездна и Дно».
Историки, уже почти век разбираясь в случившемся, объясняют и недоумевают: «Когда Николай II отправился, наконец, из Могилева в Петроград, он был остановлен на станции Дно. Символичность станционных названий усиливает иррациональный характер происходившего. Историки убедительно доказали, что в России имелись все условия для революции: нежелание продолжать войну, разложение императорского двора, рост пролетариата и его требований, окостеневшие рамки старого режима, мешавшие молодой буржуазии. Никто, однако, не доказал, что самодержавие должно было рухнуть без сопротивления в феврале 1917 г.» (М. Геллер «История Российской империи»).
В ситуации неопределенности, иррациональности, может быть, стоит прислушаться к простому и мудрому объяснению поэта:
Вселенский опыт говорит, Что погибают царства не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства. А погибают оттого (и тем больней, чем дольше), что люди царства своего не уважают больше. (Б. Окуджава. «Вселенский опыт говорит…», 1968)Тысячелетнее «царство-государство» (если отсчитывать время с Древней Руси) и трехсотлетняя династия в начале Настоящего Двадцатого Века окончательно потеряли уважение своих подданных. Поэтому они должны были погибнуть. Не в феврале, так в марте или апреле. Однако совсем скоро обнаружилось, что это не принесло людям скорого счастья.
1917: КЛЯЧУ ИСТОРИИ ЗАГОНИМ
Карл Маркс считал революции локомотивами истории. В 1917 году Россия стремительно сменила два локомотива. «Вселенский опыт», однако, говорит, что эти поезда не всегда везут в нужном направлении. Дно оказалась концом одного и началом нового отрезка исторического пути. «Когда мы, наконец, достигли дна, снизу постучали», – словно по этому поводу горько пошутил польский афорист С. Е. Лец. Конечная станция революционного локомотива весной семнадцатого мало кому была видна.
События февраля-марта 1917 года были буржуазно-демократической революцией. После отречения от престола Николая и отказа от власти его ближайших родственников Россия стала республикой, едва ли не самой свободной страной в мире. Революция произошла не только мгновенно, но и практически бескровно. Ее приветствовали и принимали практически все общественные группы и слои, рабочие, военные, интеллигенты.
Герой романа Ю. В. Трифонова «Старик» (1978), одного из лучших произведений, посвященных советской истории, встречает весну 1917 года гимназистом: «А первые дни – март, пьяная весна, тысячные толпы на мокрых, в раскисшем снегу петроградских проспектах, блуждание от зари до зари. <…> …И полная свобода от всего, от всех! В школу можно не ходить, там сплошные митинги, выборы, обсуждение „школьной конституции“, Николай Аполлонович вместо лекции о великих реформах рассказывает о французской революции, и в конце урока мы разучиваем „Марсельезу“ на французском языке, и у Николая Аполлоновича на глазах слезы».
Далее в романе рассказан эпизод из школьной жизни. На уроке анатомии должны препарировать крысу. Но учрежденный после революции ученический совет устраивает собрание с обсуждением ее судьбы. На нем одни ученики, забыв о несчастной крысе, рассуждают об исторической целесообразности и Парижской коммуне. Другие яростно отстаивают права обреченной Фени (у крысы даже есть имя): «Великие цели требуют жертв! Но жертвы на это не согласны! А вы спросите у крысы! А вы пользуетесь немотой; если бы она могла говорить, она бы ответила!»
Вопрос решается демократическим голосованием: крыса помилована, «несостоявшуюся жертву науки» выносят во двор и выпускают из клетки. «Немного омрачает настроение финал: наша Феня, оказавшись на воле, сбита с толку, зазевалась, и ее тут же хватает какой-то пробегающий по двору кот…»
В этом нелепом, по видимости, эпизоде Трифонов тонко демонстрирует иронию истории. Справедливость демократически восторжествовала всеобщим голосованием, но крыса не успела воспользоваться ее результатами и все равно погибла. Идея и реальность, намерения и результаты драматически не совпали. Такой оказалась судьба не только крысы Фени, но и Февральской революции.
После отречения Николая было сформировано Временное правительство, состоявшее из крупных промышленников, профессоров, известных земских деятелей. В конце концов его возглавил А. Ф. Керенский (1881–1970), адвокат, активный участник революционного движения, производивший на толпу магнетическое действие. Одновременно был создан Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, ведущую роль в котором играли большевики. В стране установилось опасное двоевластие, хотя основная тяжесть управления лежала на Временном правительстве.
Движение по инерции продолжалось в прежнем направлении: новая власть выступала за войну до победного конца, солдаты гибли на фронте, спекулянты жирели в тылу, крестьяне мечтали о помещичьей земле, большевики, руководствуясь идеями Маркса, грезили о социалистической революции, после которой власть перейдет в руки пролетариата.
В апреле 1917 года в Россию из долгой эмиграции прибывает В. И. Ленин и выдвигает идею перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Летом Временное правительство неуверенно пытается справиться с большевиками, Ленин скрывается в Финляндии, у озера Разлив.
Блестящий оратор, Керенский оказался плохим политиком. Новая демократическая власть теряет доверие еще быстрее, чем власть царская. Путь, который у императорской власти занял триста лет, Временное правительство прошло за десять месяцев. Когда в октябре 1917 года большевистская партия начинает подготовку вооруженного восстания, у Временного правительства не остается защитников. Зимний дворец, где заседают министры во главе с Керенским, остается практически беззащитным. Взятие Зимнего 25 октября (7 ноября) 1917 года, которое считается главным, символическим событием Великой Октябрьской социалистической революции, было простым и легким: вооруженные солдаты и матросы, почти не встречая сопротивления, вошли во дворец, арестовали министров Временного правительства и отправили их в Петропавловскую крепость.
В «октябрьской поэме» «Хорошо!» (1927) В. В. Маяковский плакатно изобразит эту революцию как мгновенное перерождение, скачок в другое историческое время. В начале шестой главы дует ветер, мчатся автомобили и трамваи еще «при капитализме», а в конце, после штурма Зимнего, «гонку свою продолжали трамы / уже – при социализме». Еще раньше, в «Левом марше» (1918) поэт радостно выкрикивает: «Тише, ораторы! / Ваше / слово, / товарищ маузер. / Довольно жить законом, / данным Адамом и Евой. / Клячу историю загоним./ Левой! / Левой! / Левой!»
Но, глядя из исторического далека, трифоновский герой видит в происходящем не радость победы, а очередной акт трагедии: «Голодное, странное, небывалое время! Все возможно, и ничего не понять. <…> Столько людей исчезло. Наступает великий круговорот: людей, испытаний, надежд, убивания во имя истины. Но мы не догадываемся, что нам предстоит».
СССР: НАСТУПЛЕНИЯ И ОТСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Первые декреты (постановления) советской власти отвечали многолетним ожиданиям: это были «Декрет о земле» и «Декрет о мире». Крестьяне наконец получили в собственность землю, которую они давно считали своей; одновременно помещичьи и церковные земли были объявлены государственной собственностью. В большинстве своем те же крестьяне, одетые в солдатские шинели, наконец-то услышали о возможном прекращении войны и возвращении домой (Временное правительство, как мы помним, выступало за продолжение войны до полной победы).
Большевики старались не повторять ошибок предшественников. Они не только выдвинули лозунг диктатуры пролетариата (которая на самом деле оказывалась диктатурой захватившей власть большевистской партии), но осуществляли его железом и кровью.
Уже через два дня после Октябрьской революции появился «Декрет о печати»: новая власть получила возможность закрывать «контрреволюционные» и просто «сеющие смуту» издания. «Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены…» – обещал декрет. Исполнения этого обещания пришлось ожидать 72 года: цензуру в СССР отменят лишь в 1989 году.
7(20) декабря 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Это был карающий и бесконтрольный орган новой власти. Дискуссии о судьбе не только подопытной крысы, но многих, в том числе широко известных, людей, прекратились. ВЧК делала ставку на красный террор, объектом которого становились и противники советской власти, и случайные жертвы.
Октябрьская революция была провозглашена началом новой эры в истории человечества. Но наиболее проницательные наблюдатели, в том числе те, кто активно боролся с самодержавием, отмечали иное: сходство способов управления и поведения старой и новой власти. М. А. Волошин в большом стихотворении «Северовосток» (1920), входящем в цикл с символическим заглавием «Усобица», называет «первым большевиком» Петра I, и выводит общий знаменатель русской истории:
Что менялось? Знаки и возглавья. Тот же ураган на всех путях: В комиссарах – дурь самодержавья, Взрывы революции в царях.Вопреки заявленным лозунгам о диктатуре пролетариата, даже персональный принцип правления в новом обществе, в целом, сохранился. Периоды советской истории часто называются по именам не императоров, а руководителей партии. Эпохи царей сменились эпохами генеральных секретарей.
Существенную роль в революции и последующих событиях играли Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин, Я. И. Свердлов. Но в конце концов главной фигурой произошедших событий, первым вождем был объявлен (во многом – заслуженно) В. И. Ленин (1870–1924), председатель СНК (Совета народных комиссаров) по своей формальной должности.
Ленинская эпоха была первой «самодержавной» эпохой в новой советской истории, сменившей эпоху Николая II.
От самодержавия и Временного правительства большевики получили тяжелое наследство: затянувшуюся войну, расстроенные хозяйство и управление, распадающееся государство, привычку многих людей разрешать конфликты силой оружия. К этой неизбежной послереволюционной анархии добавились новые проблемы. Вера в марксистские теории заставила новую власть отказаться от денег и перейти к прямому распределению товаров и продуктов. Политика военного коммунизма привела к трудностям снабжения и голоду в крупных городах.
Жестокость расправы с противниками, красный террор, соответственно, провоцировал террор белый. Почти бескровная революция (встретившая вооруженное сопротивление лишь в Москве) почти сразу переросла в четырехлетнюю гражданскую войну (1917–1922), завершившуюся много позже мировой войны (1918). Большевики выиграли эту войну не только силой. В борьбе с белой идеей они сумели привлечь на свою сторону огромное большинство населения страны, прежде всего – молодежь, воодушевить его великой целью: идеей мирового братства и социальной справедливости.
Особенно важна в данном случае точка зрения не победителей, а побежденных, которые, тем не менее, пытались объективно взглянуть на смысл произошедшего исторического переворота.
Высланный из России в 1922 году философ Ф. А. Степун (1884–1965), активный участник мировой войны и революции, через много лет признавался: «С эмигрантской памятью трудно бороться, но не будем слишком строги к ней: без приукрашивания прошлого многим из нас не вынести бы своего настоящего. Но не будем также и поддаваться обманчивым воспоминаниям: в малой дозе яд целебен, в большой – смертоносен. Скажем поэтому просто и твердо: хорошо мы жили в старой России, но и грешно». Главный результат революции Степун видит в том, что «Октябрь войдет в историю существеннейшим этапом на пути окончательного раскрепощения русского народа», что после него исчезает «разница между людьми высших классов и многомиллионным массивом народа» («Бывшее и несбывшееся», 1947–1950, т. 1, гл. 1).
В. Т. Шаламов (1907–1982), автор «Колымских рассказов», почти два десятилетия просидевший в лагерях, подводя итоги своей жизни, тем не менее так и не отказался от идеалов юности, совпавшей с началом советской эпохи. Он вспоминал и размышлял: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. Такие вопросы, как семья, жизнь, решались просто на ходу, ибо было много и еще более важных задач. Конечно, государство никто не умел строить. Не только государство подвергалось штурму, яростному беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой.
Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией.
Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку! Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги – всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт реальностей. Вчерашний миф делался действительностью. Почему бы эту действительность не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки – Фурье, Сен-Симон, Мор выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли.
Все это потом было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам. То, что Ленин говорил о строительстве государства, общества нового типа, все это было верно, но для Ленина все было более вопросом власти, создания практической опоры, для нас же это было воздухом, которым мы дышали, веря в новое и отвергая старое» («Москва 20–30-х годов», 1970-е гг.).
Ленинская эпоха продлилась недолго. Важным ее итогом был не только переход к новой экономической политике, нэпу (1921), но и создание Союза Советских Социалистических Республик, СССР (1922). Ленин как политик умел признавать ошибки и смиряться с исторической необходимостью. Выступая с лозунгами о праве наций на самоопределение и скорой мировой революции, он фактически начал воссоздавать сильное многонациональное государство в границах той же империи.
В том же году Ленин заболел и практически (за два года до смерти) был отстранен от власти. Сразу после смерти он был объявлен великим и непогрешимым вождем, фактически обожествлен, но одновременно идея «возвращения к ленинским заветам» вдохновляла многих людей самых противоположных убеждений. Первый советский вождь остается одной из самых значительных и противоречивых фигур нашей истории, спор об историческом значении которой еще не закончен.
К середине 1920-х годов новая власть укрепилась и могла подумать о дальнейшем пути. Вторая половина двадцатых годов оказывается в СССР временем относительной свободы. В стране активно ведутся общественные и партийные, религиозные и литературные дискуссии.
Большой интерес, например, вызывают публичные диспуты на тему «Бог ли Христос?» между наркомом просвещения А. В. Луначарским и отошедшим от официальной церкви священником-«обновленцем» А. И. Введенским. В. Т. Шаламов вспоминает финал одной из таких встреч, за которой наблюдал переполненный театральный зал.
«Введенский в своем заключительном слове… сказал: „Не принимайте так горячо к сердцу наши споры. Мы с Анатолием Васильевичем большие друзья. Мы – враги только на трибуне. Просто мы не сходимся в решении некоторых вопросов. Например, Анатолий Васильевич считает, что человек произошел от обезьяны. Я думаю иначе. Ну что ж – каждому его родственники лучше известны“.
Аплодисментам, казалось, не будет конца. Все ждали заключительного слова Луначарского, как он ответит на столь удачную остроту. Но Луначарский оказался на высоте – он с блеском и одушевлением говорил: да, человек произошел от обезьяны, но, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, он далеко опередил животный мир и стал тем, что он есть. И в этом наша гордость, наша слава!» («Начало», 1962).
Через несколько лет после гражданской войны восстанавливаются связи с эмиграцией. Некоторые эмигрантские идеологи выдвигают идею смены вех, выступают за примирение с Советской властью, которая, как им кажется, должна переродиться и восстановить имперскую Россию под новыми лозунгами. В среде эмиграции появляются мечтатели-«возвращенцы», а советская власть активно (хотя, как потом обнаружилось, лицемерно) поддерживает их в этом стремлении (сценой возвращения на родину заканчивается пьеса М. А. Булгакова «Бег»).
Не случайно в этих условиях, в насыщенном кислородом воздухе надежд и ожиданий, были написаны или, по крайней мере, задуманы и начаты наиболее значительные произведения русской литературы XX века: романы М. А. Булгакова, М. А. Шолохова и А. П. Платонова, новеллы И. Э. Бабеля и М. М. Зощенко, стихотворения О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака, В. В. Маяковского, С. А. Есенина.
На рубеже 1920–1930-х годов общественная атмосфера резко меняется. Внутрипартийные дискуссии оканчиваются разгромом всяческих оппозиций и утверждением безграничной власти И. В. Сталина (генеральным секретарем ВКП (б) он был избран в 1922 году, еще при жизни Ленина). Малозаметный в предшествующих революционных событиях, он дискредитирует многих соратников (Л. Д. Троцкого в 1929 году высылают за границу, а в 1940 году убивают в Мексике; Н. И. Бухарина, Л. Д. Каменева и других «старых большевиков» расстреливают как «врагов народа» после сфабрикованных судебных процессов конца 1930-х годов) и становится «наследником Ленина», единоличным вождем, «отцом народов».
Эпоха Сталина (1922–1953) – почти половина срока существования советского государства. Ее кульминация приходится на 1930-е годы. С одной стороны, это время «построения социализма в одной стране»: ускоренной индустриализации, трудовых подвигов, сверхдальних полетов советских летчиков и полярных экспедиций, распространения образования.
Но ценой советских побед были голод, во многом вызванный коллективизацией, преследования представителей «правящих классов», возведение «железного занавеса» между СССР и остальным миром. Кульминацией изнаночной стороны сталинского правления стал «большой террор» 1934–1938 гг.: аресты, высылки, расстрелы, жертвами которых стали несколько миллионов советских людей. В результате сталинских непрерывных репрессий возникает огромная сеть лагерей, тот самый «Архипелаг ГУЛАГ», который позднее А. И. Солженицын сделает заглавием своей книги и символическим воплощением сталинской эпохи.
Даже в таких условиях люди сохраняли способность смеяться. Уже в тридцатые годы возник горький анекдот (за его рассказывание вполне можно было получить тюремный срок). В огромном здании на Лубянской площади в Москве (оно существует и поныне), где до революции было страховое общество «Россия», располагался НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), сменивший в 1934 году в качестве карательного органа ВЧК-ГПУ. «Теперь здесь, наверное Госстрах? – спрашивает приезжий. – Нет, теперь здесь Госужас, – отвечает москвич».
В романе «Жизнь и судьба» (1960) именно это слово В. С. Гроссман делает символом эпохи: «Но почему, почему, неужели страх? <…>
Люди умеют преодолевать страх, – и дети идут в темноту, и солдаты в бой, и парень делает шаг и прыгает с парашютом в бездну.
А этот страх особый, тяжелый, непреодолимый для миллионов людей, это тот, написанный зловещими, переливающимися красными буквами в зимнем свинцовом небе Москвы, – Госстрах…» (Ч. 2, гл. 39).
Сталинские преступления для потомков так очевидны, что у многих возникает искушение увидеть в нем обычного злодея. Однако с советским вождем уважительно, на равных вели переговоры крупнейшие политики мира. Он привлекал и восхищал многих, даже очень значительных и проницательных, писателей в СССР и на Западе. О нем с симпатией или восхищением в разное время писали Л. Фейхтвангер и Б. Шоу, М. А. Булгаков и Б. Л. Пастернак.
Проблема в том, как соотнести позднейшие оценки с этими взглядами? Юные пионеры, которые с высоты своего незнания высокомерно поучают больших ученых – привычный сюжет как раз сталинской эпохи.
«Гений и злодейство – две вещи несовместные», – утверждает пушкинский Моцарт (так, видимо, думал и его творец). Но и раньше и позже находилось множество других художников, оспаривающих эту нравственную максиму Пушкина.
Вопрос о гении и злодействе в политике еще более сложен, чем в литературе и искусстве.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ГОРЬКОЕ ВЕЛИЧИЕ ПОБЕДЫ
Первая мировая война началась для многих случайно, внезапно, неожиданно. Вторая мировая война (1939–1945) готовилась, назревала два межвоенных десятилетия. Она была вполне ожидаемой и закономерной.
Философ Ф. А. Степун, которого мы уже цитировали, был участником и свидетелем обеих войн и успел пожить в разных эпохах. Сравнивая не календарные, а исторические века, он писал: «Нацистско-большевистская война представляет собою… нечто совсем иное, чем война 1914 года.
В чем же дело? Как это объяснить?
Думаю, что зло либерального 19 века было, в конце концов, лишь неудачею добра. Сменивший его 20-й век начался с невероятной по размерам удачи зла. <…>
Зло 19 века было злом, еще знавшим о своей противоположности добру. Зло же 20 века этой противоположности не знает.
Типичные люди 20 века мнят себя, по Ницше, „по ту сторону добра и зла“. Это совсем особые люди, бесскорбные и неспособные к раскаянию. <…>
Конечно, и война 1914 года была величайшим преступлением перед Богом и людьми, но преступлением вполне человеческим. Лишь с нарождением сверхчеловека появилась в мире та ужасная бесчеловечность, которая заставляет нас тосковать по тому уходящему миру, в котором человеку было еще чем дышать, даже и на войне» («Бывшее и несбывшееся», т. 1, гл. 8).
Действительно, лишь Вторая мировая война стала по-настоящему мировой, тотальной, преступившей всякие законы и нормы человечности. В ней исчезли границы между фронтом и тылом, солдатами и мирными жителями, воющими и пленными. Разрушение мирных городов, самые невероятные пытки и концентрационные лагеря, массовое уничтожение пленных и целых народов – таких методов ведения войны не знала вся предшествующая история. Символической точкой эпохи стало торжество техники уничтожения человека. После ядерного взрыва над японским городом Хиросимой 6 августа 1945 года в один момент погибло и получило ранения более 140 тысяч человек. Мир оказался на грани мгновенного уничтожения всего человечества.
СССР готовился к войне, вел сложные игры с гитлеровской Германией (в 1939 году между странами даже был заключен договор о дружбе и взаимном сотрудничестве), но все равно 22 июня 1941 года оказалось для страны неожиданностью. Расширившиеся в 1939 году границы государства были плохо укреплены. Многие военачальники оказались жертвами большого террора. Сталин не верил информации разведчиков, называвших даже точную дату вторжения. Атмосфера Госстраха не способствовала правильным решениям. Уже в конце года гитлеровские войска оказались в окрестностях Москвы.
Однако в эти первые месяцы всеобщей военной катастрофы история повторяет события 130-летней давности. Вторая мировая война, в отличие от Первой мировой, становится не просто Великой, но – Отечественной. Как и в 1812 году, идея спасения родины объединяет большинство: профессиональных военных и призванных в армию солдат, неумелых ополченцев-добровольцев и сидящих в лагерях «врагов народа», советских генералов и белых эмигрантов (лишь немногие из них сотрудничают с фашистами, подвергаясь за это всеобщему осуждению).
«Товарищи. Граждане! Братья и сестры!» – начинает Сталин знаменитую речь 3 июля 1941 года, соединяя светское и церковное обращения к соотечественникам и дважды в своей речи называя войну отечественной. На время было забыто о «врагах народа», «обострении классовой борьбы», «проклятом прошлом» и прочих разъединительных лозунгах предвоенного времени. Напротив, власть делает все, чтобы связать разорванные революцией концы старой и новой истории.
Происходит примирение с церковью и возвращение религиозных ценностей в общественную жизнь. По примеру старой русской армии в армии советской появляются погоны и воинские звания. На помощь в страшной борьбе привлекается весь тысячелетний опыт русской истории: полководцы, писатели и ученые, даже цари. А. Н. Толстой до самой смерти работает над третьим томом романа «Петр I» (1944–1945), еще раньше он сочиняет драматическую дилогию «Иван Грозный» (1942–1943). Фильм «Иван Грозный» (1945) снимает знаменитый кинорежиссер, автор «Октября» и «Броненосца „Потемкина”», С. М. Эйзенштейн. Русскому человеку заново открывают собственное прошлое.
Новый взгляд на историю советского государства хорошо выражен в «Василии Теркине» (1941–1945), вероятно лучшем литературном произведении о войне, написанном во время войны. В главе «О кисете» главный герой утешает потерявшего табачный кисет однополчанина: «Разреши одно отметить, / Мой товарищ и сосед: / Сколько лет живем на свете? / Двадцать пять! А ты – кисет».
Двадцать пять лет в разгар войны исполнилось Октябрьской революции. Но Твардовский сразу же отодвигает эту границу в далекое прошлое, к началу тысячелетней Руси, объединяя историю русскую и советскую. Поучение Теркина оканчивается так:
Потерять кисет с махоркой, Если некому пошить, — Я не спорю, – тоже горько, Тяжело, но можно жить, Пережить беду-проруху, В кулаке держать табак, Но Россию, мать-старуху, Нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, Наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? Тыщу?.. Больше! То-то, брат!За спиной русских людей были родные могилы и тысячелетняя история. Но основную тяжесть войны вынесло первое советское поколение – люди родившиеся на рубеже двадцатых годов.
В стихотворении Б. А. Слуцкого (1919–1986) есть такая строфа:
Девятнадцатый год рожденья — Двадцать два в сорок первом году — Принимаю без возраженья, Как планиду и как звезду. Выхожу, двадцатидвухлетний, И совсем некрасивый собой В свой решительный и последний, И предсказанный песней бой. («Сны», 1956)Поэт полемизирует с Маяковским («Иду – красивый, двадцатидвухлетний» – «Облако в штанах») и цитирует пролетарский гимн «Интернационал» («Это есть наш последний и решительный бой»). Но главное – он без возражений принимает на себя ответственность за страну, понимая ее не только как неизбежную судьбу («планиду»), но и как высокий, осознанный выбор («звезду»).
В написанном через сорок лет романе Г. Н. Владимова «Генерал и его армия» (1996) есть эпизод беседы командующего с молодым лейтенантом, ленинградским филологом, романтиком и любителем стихов, который со своим взводом должен форсировать Днепр и погибнуть на занятом плацдарме. «Войну и вытягивали эти девятнадцатилетние, эта прекрасная молодость, так внезапно для него вставшая на ноги и так охотно подставившая хрупкие свои плечи, и никем, никем этих мальчишек было не заменить, – думает генерал. – Когда-нибудь скажут, напишут: эту войну не генералы выиграли, а мальчишка-лейтенант, Ванька-взводный».
До Москвы гитлеровцы дошли за пять месяцев. Обратный путь советской армии до Берлина занял три с половиной года. Война стоила СССР более 20 миллионов жизней. В эту эпоху были созданы замечательные поэзия и музыка (не только песни, но и Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича). Военная тема, трагедия Великой Отечественной войны, занимали нашу литературу в течение нескольких десятилетий.
День Победы остается главным и, вероятно, единственным общенациональным праздником советской истории.
ОТТЕПЕЛЬ: ТОЧКА ПОВОРОТА
«Когда мы вернулись с войны, / Я понял, что мы не нужны», – с жесткой прямотой сформулировал Б. А. Слуцкий.
Людей, которые победили страшного врага, приобрели уверенность в себе, увидели в Европе другую жизнь, снова надо было запугать, сделать послушными. Психологический парадокс, произошедший с поколением победителей, хорошо почувствовал И. А. Бродский. Используя строфу и некоторые образы знаменитого стихотворения Г. Р. Державина «Снигирь», написанного на смерть Суворова, поэт обращается к маршалу Жукову:
Спи! У истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. («На смерть Жукова», 1974)Прославленный маршал, лучший полководец Отечественной войны, человек привыкший повелевать, не страшившийся смерти на поле боя, оказывается робким в собственной стране.
На приеме в Кремле 24 мая 1945 года Сталин «поднял тост» (он сказал именно так) «за ясный ум, стойкий характер и терпение» русского народа. «У нашего правительства было немало ошибок, – наконец-то признался вождь. – Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии».
После победы вождь делает все, чтобы правительству не сказали «уходите прочь». Госстрах и Госужас возвращаются в советскую жизнь, хотя и не в прежних масштабах. Братья и сестры снова становятся для власти «винтиками» или «лагерной пылью». Иногда надежду на будущее дает лишь то, что тираны тоже смертны. Сталин умер 3 марта 1953 года, когда были арестованы первые обвиняемые по «делу врачей» и началась подготовка нового цикла репрессий.
Похороны одной деталью напомнили коронацию Николая II. Как и тогда на Ходынском поле, на московских улицах в давке погибли сотни людей, стремившихся к гробу вождя. Эпоха завершилась мрачной символической точкой. После недолгой, но сложной внутрипартийной борьбы новым руководителем партии и страны становится Н. С. Хрущев (1953–1964).
Хрущевское десятилетие – это новая, пришедшая ровно через сто лет после первой, эпоха оттепели (так называлась повесть И. Г. Эренбурга, 1954–1956), новые шестидесятые годы, полные великих надежд, новые шестидесятники, биографии которых сложились не менее драматически, чем у их столетней давности предшественников.
Находившийся в сталинском руководстве много лет, Хрущев пытается освободиться от Госстраха путем разоблачения прежнего вождя и самых очевидных его преступлений.
Сталинская эпоха называется «культом личности», связанным с нарушениями социалистической законности. На XX съезде КПСС (1956) заслушивается секретный доклад Хрущева о преступлениях сталинской эпохи (он скоро становится широко известен в мире) и принимается специальное постановление «О преодолении культа личности и его последствий». Из лагерей начинают массово выпускать ни в чем не виновных людей. Ослабевает цензура, начинают понемногу публиковаться произведения репрессированных и замолчанных авторов. Новая молодая поэзия вызывает огромный интерес: слушать стихи приходят на стадионы, а порядок приходится поддерживать конной милиции. Вновь, после долгого перерыва, советским людям приоткрывается мир: с 1952 года спортсмены начинают участвовать в Олимпиадах, в 1957 году в Москве проводится Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Атмосфера ранних шестидесятых напоминает о первом советском десятилетии: после испытаний и трагедий люди начинают с надеждой и верой вглядываться в будущее, пытаясь разглядеть там контуры гармонического социального мироустройства.
«Утопия у власти» – так называется одна из историй Советского Союза. Шестидесятые годы, вслед за двадцатыми, были главным советским утопическим десятилетием. Его кульминацией стал 1961 год. 12 апреля Юрий Гагарин впервые совершает космический полет, который был воспринят как торжество советской науки и техники, социализма, советского образа жизни. В том же году на внеочередном XXII съезде КПСС по настоянию нового вождя «дорогого Никиты Сергеевича» принимается новая программа партии, в которой построение коммунизма объявляется ближайшей задачей.
«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» – так завершался этот официальный документ.
Хрущевские идеи и проекты были фантастичны, плохо сочетались с реальностью. Его попытки улучшить сельское хозяйство привели к продовольственному кризису и введению – уже в мирное, а не военное время – карточной системы. Стремление доказать преимущества коммунистической идеи привело к конфликту с США и поставило мир на грань ядерной войны.
Многие старые чиновники сталинской эпохи не могли простить новому главе государства разоблачения вождя. В 1964 году в результате внутрипартийного заговора Н. С. Хрущев был отстранен от власти и стал «почетным пенсионером». Новым руководителем партии и государства был избран Л. И. Брежнев. Десятилетняя эпоха бури и натиска внезапно оборвалась. Когда в 1980 году наступил срок исполнения программных обещаний, шутники говорили: вместо коммунизма в Москве провели Олимпиаду.
ЗАСТОЙ: ПОТЕРЯННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ?
Следующие восемнадцать лет советской истории (1964–1982) именуют эпохой Брежнева. Эти десятилетия рифмуются с восьмидесятыми годами XIX столетия, которые называли эпохой мысли и разума. Внешне спокойная мирная жизнь набухала проблемами и конфликтами, которые внезапно обнажились в следующую эпоху.
В стране строились железные дороги и заводы, продолжались космические полеты, принимались постановления, укреплялись связи с Западом, но все это делалось словно по инерции. Общество и государство потеряли цели и ориентиры, не успевали откликаться на вызовы времени. В 1968 году было принято решение о вторжении в Чехословакию для защиты «завоеваний социализма», но вопреки воле большинства населения «братской, социалистической» страны. Еще более серьезные последствия имел ввод советских войск в соседний Афганистан (1979), превратившийся в необъявленную, вялотекущую войну, завершить которую удалось лишь через десятилетие (1989).
Атмосфера Госстраха уже не действует на новое поколение, в стране появляются диссиденты (несогласные, инакомыслящие), требующие обновления общества, выступающие за свободу, точное выполнение Конституции и советских законов. Необъявленными лидерами диссидентского движения становятся физик, один из создателей водородной бомбы А. Д. Сахаров (1921–1989) и писатель, участник Великой Отечественной войны, несколько лет проведший в лагере А. И. Солженицын (1918–2008).
«Век-волкодав» (Мандельштам) в эти десятилетия, к счастью, постепенно теряет зубы. За свою деятельность диссиденты получают «всего лишь» лагерные сроки. С главными фигурами диссидентства власть расправляется более «гуманными» способами. А. И. Солженицына высылают за границу (1974), академика А. Д. Сахарова – в г. Горький (1980–1986).
Деятельность диссидентов связана, прежде всего, со словом, с гласностью. Именно в эти десятилетия по-настоящему расцветает самиздат – бесцензурная публицистика и художественная литература, которая распространяется в машинописном виде или в виде западных изданий (тогда она превращается в тамиздат).
Оценка последних десятилетий истории советского общества прямо противоположна. Совсем скоро идеологи перемен полемически назовут это время застоем. Те же, кто был недоволен происходившими в 1980-е годы событиями, привык жить по присказке «лишь бы не было войны», считали его самым спокойным, мирным, благополучным в советской истории.
1991: НОВАЯ РОССИЯ
Новые партийные и государственные лидеры Ю. В. Андропов (1982–1984) и К. У. Черненко (1984–1985) находились у власти так недолго, что не успели обозначить свои позиции, сформировать эпохи. Получивший власть седьмой генеральный секретарь М. С. Горбачев (1985–1991) объявил о решительных переменах. Лозунгами новой эпохи стали перестройка, ускорение и гласность.
Существует крылатое выражение: ирония истории. Смысл его в том, что результаты событий часто противоречат человеческим усилиям и ожиданиям.
Дозированно провозглашенная «гласность» через несколько лет превратилась в свободу слова. После отмены цензуры (1989) почти мгновенно было напечатано практически все, что накопилось и сохранилось за советское время («возвращенная литература»).
«Ускорение» столь же быстро обернулось долголетним экономическим кризисом, исчезновением даже самых простых товаров и продуктов.
«Перестройка» вылилась в драматический калейдоскоп, завершившийся в декабре 1991 года последней картинкой: исчезновением СССР и возникновением в его границах пятнадцати самостоятельных государств (бывших союзных республик), каждое из которых начало (или продолжило) свою собственную историю.
Двадцатый век завершился тем, что Россия еще раз, как и в 1917 году, изменила границы, название, государственный строй. Молодая Российская Федерация, вероятно, еще долго будет разбираться со своим прошлым, с наследием Российской империи и СССР. Меняются государственные праздники и государственные символы, резко поляризовано отношение к разным историческим фигурам и событиям. Но главным способом связи между тремя историческими Россиями, нитью преемственности остаются русский язык и русская литература.
ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА: «ДОБРО!» ПОЭТА
События XX века не выстраиваются в синусоиду с такой легкостью, как в веке XIX-м. Их можно, скорее, представить как опорные точки на исторической оси. Придавать им смысл, рассматривать как взлеты или падения приходится индивидуально, опираясь на собственные убеждения и взгляды. Однако они появляются в нашем сознании и в сознании общественном не сами по себе.
Существует скептический афоризм: «Историю пишут победители». Более радикальный вариант его предложил В. Т. Шаламов: «Секрет истины: просто кто долго живет, кто кого перемемуарит».
Русская история XX века еще так близка, что спокойный, объективный взгляд на нее невозможен: победители до конца неясны или не осознали свою победу. В стоящих на соседних полках книгах, включая учебники, могут содержаться не просто разные, но прямо противоположные оценки одних и тех же событий или исторических персонажей.
В подобной ситуации важным оказывается критерий Б. А. Слуцкого (именно ему Б. Окуджава посвятил цитированное выше стихотворение о гибели царств).
Все правила – неправильны, Законы – незаконны, Пока в стихи не вправлены И в ямбы – не закованы. Период станет эрой, Столетье – веком будет, Когда его поэмой Прославят и рассудят. Пока на лист не ляжет «Добро!» поэта, Пока поэт не скажет Что он – за это, До этих пор – не кончен спор.Двадцатый век был так сложен и трагичен, что «Добро!» давалось самым разным явлениям и часто менялось у одного человека. Тот же Слуцкий в другом стихотворении словно продолжил диалог с самим собой, сделав важную поправку: «Неоконченные споры не окончатся со мной».
Вот эти неоконченные споры XX века русская литература в ее лучших образцах зафиксировала со страстью и глубиной. Писатель, даже гениальный, не может ничего изменить в ходе истории. Но он способен предвидеть, предупредить, более глубоко, чем кто бы то ни было, включая ученого-историка, рассказать «как это было».
Писатели были и участниками, и свидетелями, летописцами, хронографами исторических событий. Их голос, их взгляд, прежде всего, должен быть учтен при оценке того, каким был в нашей истории Настоящий Двадцатый Век.
Литература – термометр исторической эпохи. В этом смысле «Добро!» поэта имеет абсолютный, окончательный смысл.
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: лики модернизма (1890–1910-е гг.)
ИМЯ И ОЦЕНКИ: РЕНЕССАНС ИЛИ УПАДОК?
«Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений», – утверждал французский философ Рене Декарт. Слово, определение, эпитет серебряный витало в воздухе, появлялось в разных местах.
И серебряный месяц ярко Над серебряным веком стыл.Так А. А. Ахматова в «Поэме без героя» (1940–1965) ретроспективно определила время своей молодости. Стихи были написаны в Ташкенте в разгар Великой Отечественной войны, а впервые опубликованы сразу после нее (1945).
Раньше о серебряном веке говорили философ и критик Р. И. Иванов-Разумник (1925), поэт и мемуарист В. А. Пяст (1929), поэт и критик Н. О. Оцуп (1933). «На Парнасе Серебряного века» – назовет поздние свои воспоминания художник С. К. Маковский (1964). Сегодня определение можно встретить на обложках многих сборников стихов, статей, воспоминаний: «Русская поэзия серебряного века», «Сонет серебряного века», «Воспоминания о серебряном веке»…
Что здесь, собственно, имеется в виду? Где на хронологической шкале русской истории располагается этот век? В отличие от серебряного месяца, определить смысл второго ахматовского эпитета не так-то просто.
Имя века придумали древние греки, разделившие существование человечества на четыре периода: золотой, серебряный, медный и железный. Серебряный век у Гесиода и Овидия противопоставлялся счастливому и беззаботному золотому веку как эпоха деградации, упадка, хотя дальше шли века еще более жестокие. Поэтическая мифология греков стала у римлян историей: серебряным назвали I в. н. э., когда творили сатирик Ювенал, автор романа «Сатирикон» Петроний, историк Тацит.
Русские критики второй половины XIX века, хорошо помнившие Гесиода по гимназии, применили схему веков к русским реалиям.
В. В. Розанов «золотым веком нашей литературы» объявил время «от Карамзина до Гоголя включительно», а серебряным – эпоху, которая последовала за ним. «Пушкин был зенитом того движения русской литературы, которое прекрасно закатывалось, все понижаясь, в „серебряном веке“ нашей литературы 40-50-60-70-х годов, в Тургеневе, Гончарове и целой плеяде рассказчиков русского быта, мечтателей и созерцателей тихого штиля» («Ив. С. Тургенев. К 20-летию его смерти», 1903).
Древние греки, согласно старой шутке, знали про себя все, кроме того, что они – древние. Пушкин и его современники не знали, что они живут в Золотом веке, но своей жизнью и словом они создали этот век в русской культуре.
Розанов специально отмечает противоречивость послепушкинской эпохи, сочетание в ней упадка и подъема: «Все содержание развития русского, каково оно есть сейчас, идет уже от „серебряного периода“ русской литературы, уступавшего предыдущему в чеканке формы, но неизмеримо его превзошедшего содержательностью, богатством мысли, разнообразием чувств и настроений».
Критик смотрел на открытый им «серебряный период» уже со стороны, из иного времени. Он был активным деятелем новой эпохи, но не мог или не хотел определять и ее (у греков за серебряным веком неизбежно шел медный). Когда же и эта эпоха закончилась, ее непосредственные участники сдвинули определение вперед по хронологической шкале.
Серебряный век в современном понимании – это приблизительно три десятилетия на рубеже веков, время с начала 1890-х по начало 1920-х годов. (Иногда эти границы сужают или расширяют с двух сторон еще на десятилетие.) Таким образом, между золотым веком, оставшимся на прежнем месте, и новым серебряным возникло зияние, эпоха без названия от Гоголя до Чехова, время великой русской прозы, которое тоже постепенно сомкнулась с золотым веком.
Открыватели новой эпохи первоначально пустили в нее не всех. Серебряный век понимался преимущественно как эпоха русского модернизма, время символизма и акмеизма, Блока, Брюсова, Ахматовой, Мандельштама. Но постепенно этот круг расширился, в него включили практически всех работавших в эту эпоху писателей. Из мировоззренческой, эстетической характеристики серебряный век превратился в обозначение хронологического отрезка, противоречивой культурной эпохи, включающей также И. Бунина, М. Горького, Л. Андреева, писателей разных направлений, часто полемизирующих между собой, объединенных, тем не менее, духом времени, тяготением к поставленным новой эпохой «проклятым вопросам».
«Социальные, гражданские темы, стоящие в центре внимания предыдущих поколений, решительно отодвигаются в сторону экзистенциальными темами – Жизни, Смерти, Бога; серьезно обсуждать вопросы социальной несправедливости „в мире, где существует смерть“, писали акмеисты, – это ломиться в открытую дверь» (М. Л. Гаспаров «Поэтика „серебряного века”», 1993).
В таком расширенном понимании серебряный век включает и русскую религиозную философию (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Лев Шестов), и модернистские течения в живописи (объединения «Бубновый валет» и «Ослиный хвост»), и музыку (А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов), и театральные искания (постановки В. Э. Мейерхольда, оформительская деятельность Л. С. Бакста и А. Н. Бенуа).
Серебряный век (как когда-то натуральная школа) оказывается не направлением, а исторической полосой, степью, через которую вынуждены были пройти все: согласные и несогласные с установившейся в ней погодой, оказавшиеся позднее в разных местах и поэтому по-разному оценивающие пройденный путь.
По мнению философа Ф. А. Степуна, после революции высланного в Германию, «в десятилетие от года 1905 до года 1915 Россия переживала весьма знаменательный культурный подъем». «За несколько лет этой дружной работы облик русской культуры подвергся значительнейшим изменениям. Под влиянием религиозно-философской мысли и нового искусства символистов сознание рядового русского интеллигента, воспитанного на доморощенных классиках общественно-публицистической мысли, быстро раздвинулось, как вглубь, так и вширь. На выставках „Мира искусства“ зацвела освободившаяся от передвижничества русская живопись. Крепли музыкальные дарования – Скрябина, Метнера, Рахманинова. От достижения к достижению, пролагая все новые пути, подымался на недосягаемые высоты русский театр» («Памяти Андрея Белого», 1934).
Н. А. Бердяев повышает градус оценки, превращая «подъем» в ренессанс. «В русском верхнем культурном слое начала века был настоящий ренессанс духовной культуры, появилась русская философская школа с оригинальной религиозной философией, был расцвет русской поэзии, после десятилетий падения эстетического вкуса пробудилось обостренное эстетическое сознание, пробудился интерес к вопросам духовного порядка, который был у нас в начале XIX века. <…> Это было время символизма, метафизики, мистики. Люди русского культурного слоя стояли вполне на высоте европейской культуры».
Однако в эту оптимистическую картину Бердяев (как и Степун) не может не внести скептические ноты: «Впервые, может быть, в России появились люди утонченной культуры, граничащей с упадочностью. <…> В это время внизу бушевала первая революция 1905 года. Между верхним и нижним этажом русской культуры не было почти ничего общего, был полный раскол. Жили как бы на разных планетах» («Истоки и смысл русского коммунизма», 1937).
М. Горький, глядя на эпоху с того же расстояния, но с другой точки зрения, видит в ней не просто упадок, а культурный распад, катастрофу. «Время от 1907 до 1917 года было временем полного своеволия безответственной мысли, полной „свободы творчества“ русских литераторов. <…> В общем – десятилетие 1907–1917 вполне заслуживает имени самого позорного и бесстыдного десятилетия в истории русской интеллигенции» («Советская литература. Доклад на Первом всесоюзном съезде советских писателей 17 августа 1934 года»).
Противоречия серебряного века во многом определили культурную историю всего двадцатого столетия.
Русский серебряный век оказался коротким: история отпустила ему около трех десятилетий. Но за это время появилось так много новых имен, было создано столько значительных произведений, опробовано и изобретено такое множество поэтических приемов, что их вполне хватило бы на столетие.
Серебряный век был началом: модернистской эпохи, Настоящего Двадцатого Века, творчества многих русских писателей, которые составили его славу.
Серебряный век был продолжением: он не смог бы состояться без наследия русского золотого века.
Серебряный век был концом: в 1920-е годы литература начала существовать совершенно в ином историческом и культурном контексте.
Серебряный век, как вишневый сад, быстро гибнет под топором Настоящего Двадцатого Века, но остается поэтической легендой, мечтой, оставленным, но желанным соловьиным садом из поэмы А. Блока:
И знакомый, пустой, каменистый, Но сегодня – таинственный путь Вновь приводит к ограде тенистой, Убегающей в синюю муть. («Соловьиный сад», 1913)ЭВОЛЮЦИЯ: ДЕКАДАНС – МОДЕРНИЗМ – АВАНГАРД
«Будущие события отбрасывают назад свою тень». Эффектный афоризм старого английского поэта подтвердился в России на переломе веков. Тень Настоящего Двадцатого Века накрыла последнее десятилетие века девятнадцатого. Причем – с разных точек зрения – она воспринималась и как тень закатная и как тень рассветная.
Русский реализм XIX века эволюционно развивался около полустолетия. К рубежу веков последним из могикан большой семьи русских реалистов, начавших литературную деятельность в эпоху натуральной школы, остался Л. Толстой. Уже Чехов и писатели его поколения смотрели на традицию, которую они по мере сил продолжали, как на что-то уходящее и недостижимое. В письме конца восьмидесятых годов Чехов утверждает, что в организме его и писателей его поколения нет «ни капли алкоголя», в то время как писатели, которых называют «лучшими или просто хорошими», имеют одно общее свойство: они верят во что-то, ведут куда-то, и это сознание цели заражает читателя.
Но между Чеховым, поздним, но органическим, наследником классической традиции реализма XIX века, и следующим за ним поколением было глубокое различие, очередная бездна. «Я с детства уверовал прогресс», – утверждал Чехов. Эту простую мысль уже не могли повторить его ближайшие литературные наследники.
Любое движение в истории и человеческой жизни одновременно связано с достижениями и потерями. «Подобно тому, как существуют две геометрии – Эвклида и Лобачевского, возможны две истории литературы, написанные в двух ключах: одна – говорящая только о приобретениях, другая – только об утратах, и обе будут говорить об одном и том же», – замечал О. Э. Мандельштам («О природе слова», 1922–1923). Однако лишь в переломные, кризисные эпохи ощущение потерь обостряется, становится всеобщим, заставляет забыть о приобретениях. Такие ситуации часто возникают на переломах столетий. Во французской культуре для них существует особое понятие – «fin de siècle», конец века.
Главной жертвой fin de siècle оказывается гуманизм, который культура XIX века воспринимала как основную ценность. Крушение гуманизма, о котором как о свершившемся факте заявит А. Блок уже после войн и революций, начинается во внешне спокойные, «застойные» 1880-е годы. Только тогда оно называется декадансом, а исповедующие его писатели – декадентами.
Возникнув первоначально во французской культуре (во Франции даже выходили журналы «La Decadence» и «Le Decadent»), декадентство стало общеевропейским настроением. Декадентов определяли, скорее, не по формальным, эстетическим, а по мировоззренческим и тематическим признакам.
Тоска, разочарование, неверие в идеалы, болезнь, смерть стали как любимыми темами декадентской литературы, так и психологическими характеристиками их авторов. Группу французских декадентов называли «проклятыми поэтами».
Опору для своих пессимистических умонастроений декаденты находили у философов Ф. Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше. Главным, основополагающим в мировоззрении декадентов становится принцип всеобщей относительности: веры и неверия, добра и зла, высокой любви и физических наслаждений.
Один из первых русских декадентов, Николай Минский (псевдоним H. М. Виленкина, 1856–1937) еще преисполнен сомнений, с болью поддается искушению лукавого соблазнителя:
Мой демон страшен тем, что, душу искушая, Уму он кажется святым. Приветна речь его, и кроток взор лучистый, Его хулы звучат печалью неземной; Когда ж его прогнать хочу молитвой чистой, Он вместе молится со мной. («Мой демон», 1885)Но уже В. Я. Брюсов (1873–1924) декларирует сходные мысли вызывающе и безапелляционно:
Неколебимой истине Не верю я давно, И все моря, все пристани Люблю, люблю равно. Хочу, чтоб всюду плавала Свободная ладья, И Господа, и Дьявола Хочу прославить я… («3. Н. Гиппиус», 1901)Федор Сологуб (псевдоним Ф. К. Тетерникова, 1823–1927), которого называют самым характерным, самым последовательным русским декадентом, словно подхватывает и саму метафору (море жизни), и эту хвалу Дьяволу, уже очевидно выбирая только одну сторону:
Когда я в бурном море плавал И мой корабль пошел ко дну, Я так воззвал: «Отец мой, Дьявол, Спаси, помилуй, – я тону».<…>
И верен я, отец мой Дьявол, Обету, данному в злой час, Когда я в бурном море плавал И ты меня из бездны спас. Тебя, отец мой, я прославлю В укор неправедному дню, Хулу над миром я восставлю, И соблазняя соблазню. («Когда я в бурном море плавал…»,23 июля 1902)Одни современники объясняли декадентство психическим «вырождением» (М. Нордау). Другие представляли его социальным «порождением „бледной немочи“, сопровождающей упадок класса, господствующего в Западной Европе», то есть буржуазии (Г. В. Плеханов). Третьи предъявляли декадентам чисто литературные претензии. Суровый Толстой много цитируя французских декадентов в трактате «Что такое искусство?» (1898) несколько раз повторяет: «…Между новыми поэтами темнота возведена в догмат… <…> Все стихотворения этих поэтов одинаково непонятны или понятны только при большом усилии и то не вполне».
Однако были и писатели за пределами декадентского круга, которые признавали заслуги этих литераторов в обновлении тематики и художественного языка. А. И. Куприн, реалист новой эпохи, вспоминает ироническую похвалу декадентам, услышанную от Чехова: «Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. „Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет, – говорил он решительным тоном. <…> Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, – они все здоровые мужики. Но писать – мастера”» («Памяти А. П. Чехова», 1904).
В чеховской «Чайке» «декадентским бредом» актриса старой школы Аркадина называет новаторскую пьесу сына о мировой душе. Автор с этим не согласен, он тонко стилизует «пьесу Треплева», хотя свои драмы сочиняет совершенно по-иному.
Декадентство было, скорее, настроением, психологической окраской переходного времени. Декаданс не стал в литературе особой эпохой, «чистых» декадентов было немного. Пытаясь художественно осознать свое умонастроение, сформулировать программу, обосновать теорию, декаденты превращаются в модернистов.
Модернизм (культурно, а не хронологически) оказывается уже не концом девятнадцатого, а началом двадцатого века, культурной эпохой, которая приходит на смену реализму и принципиально полемизирует с ним. Соответственно, историки культуры говорят об эпохе модерна, стиле модерн и т. п. Зарождение и расцвет модернизма приходятся на 1890-1910-е годы.
Целью модернизма становится обоснование принципов нового искусства, отвечающего современности. Современность модернисты, вслед за декадентами, понимают как время, когда основные моральные и художественные ценности потеряли прежнее значение, и поэтому искусство нужно строить на новых принципах, искать новые пути. Модернисты ориентируются на городскую, урбанистическую культуру вместо культуры деревенской, пытаются использовать в своем творчестве принципы современной науки (теорию относительности А. Эйнштейна, позднее – психоанализ 3. Фрейда), но, с другой стороны, часто говорят об исчерпанности рационалистического подхода к действительности, характерного для реализма, и воспевают иррациональность бытия, бездны сознания, стихийный порыв.
Модернизм пытался создать целостное мировоззрение из противоположностей: науки и «новой», светской религии, ориентации на старую традицию и разрыва с традицией ближайшей, интереса к глубинам человеческого сознания и воспевания поглощающей личность «массы».
Модернистский круг интересов и комплекс мотивов хорошо представляет поэма Андрея Белого «Первое свидание» (1921), в которой он вспоминает начало века, времена своей юности.
Передо мною мир стоит Мифологической проблемой: Мне Менделеев говорит Периодической системой; Соединяет разум мой Законы Бойля, Ван-дер-Вальса — Со снами веющего вальса, С богами зреющею тьмой: Я вижу огненное море Кипящих веществом существ; Сижу в дыму лабораторий Над разложением веществ.<…>
– «Мир – взлетит!» — Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче… Мир – рвался в опытах Кюри Атомной, лопнувшею бомбой На электронные струи Невоплощенной гекатомбой; Я – сын эфира, Человек, — Свиваю со стези надмирной Своей порфирою эфирной За миром мир, за веком век. Из непотухнувшего гула, Взметая брызги, взвой огня, Волною музыки меня Стихия жизни оплеснула: Из летаргического сна В разрыв трагической культуры, Где бездна гибельна (без дна!), Я ахнув, рухнул в сумрак хмурый…«Мифологическая проблема» в поэме Белого находит попытку разрешения в области современной науки. Его бездна, в отличие от тютчевской, носит совсем иной, модернистский, характер, обосновывается не мифологическими представлениями, а научными гипотезами. Но об открытиях начала века Белый рассказывает на затрудненном, полном темных метафор, задыхающемся поэтическом языке.
На модернизме исследование мира, рвущегося в опытах Кюри и взлетающего в философии Ницше, не заканчивается. Следующий шаг к бездне (или в бездну) делает авангард.
Авангард – очередной этап художественного эксперимента, предельный, радикальный вариант модернизма, новая ступень разрыва с классической традицией, с «миметической поэтикой», основанной на идеях познаваемости мира и искусства как подражания. Крайние авангардисты понимают искусство уже не как художественную деятельность, а как непосредственное действие, прямой способ воздействия на публику, провокацию читателя-зрителя.
Авангардисты воспринимают как своих противников не только писателей-реалистов, но и модернистов, с их точки зрения слишком зависимых от прежних традиций. Начало русского авангарда приходится на 1910-е годы.
«В те времена происходили события более крупные: Игорь Северянин провозгласил, что он „гений, упоенный своей победой“, а футуристы разбили несколько графинов о головы публики первого ряда, особенно желающей быть „эпатированной”», – иронически вспоминал модернист, А. Блок, об оппонентах-авангардистах («Без божества, без вдохновенья», апрель 1921).
Сложные взаимоотношения классической традиции, идущей из глубины веков «миметической поэтики», и модернизма определили русскую литературу почти всего двадцатого века. Декаданс – преддверие и составная часть некоторых модернистских направлений в состоянии кризиса, падения. Авангард – их передовая линия. Лишь в конце XX века появляется новая глобальная эстетическая концепция – постмодернизм.
Декаданс, модернизм, авангард – мировоззренческие и культурологические понятия, имеющие отношения к разным родам искусства. На протяжении XX века они воплощались в конкретных направлениях, школах и художественных методах. Первым модернистским направлением, которое резко перестроило картину русской литературы и фактически открыло литературный XX век, стал символизм.
СИМВОЛИЗМ: ОКНО В ВЕЧНОСТЬ
Русский символизм родился в первой половине 1890-х годов. В 1892 году молодой литератор Д. С. Мережковский (1866–1941) читает публичную лекцию «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (в следующем году она будет издана) и публикует стихотворный сборник «Символы». В 1894–1895 годах выходят три выпуска сборника «Русские символисты», большую часть стихов в которых, как впоследствии оказалось, представил под разными псевдонимами один человек, тоже молодой поэт, Валерий Брюсов. Так началась история символизма.
Девятнадцатый век Мережковский представлял как борьбу научного познания и религиозного чувства, материализма и мистики. «Наше время должно определить двумя противоположными чертами – это время самого крайнего материализма и вместе с тем самых страстных идеальных порывов духа. Мы присутствуем при великой, многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных миросозерцаний. Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний».
Эстетическим выражением опытных знаний для критика были реализм и вырастающий из него натурализм. «Умственная борьба, наполняющая XIX век, не могла не отразиться на современной литературе. Преобладающий вкус толпы – до сих пор реалистический. Художественный материализм соответствует научному и нравственному материализму». В связи с этим Мережковский упоминает о большой известности во Франции и России романов Эмиля Золя.
Новое искусство призвано опровергнуть материализм и вырастающую из него «миметическую поэтику». Идя против течения, противореча вкусам толпы, Мережковский от лица своего «поколения конца XIX века» выдвигает три программных принципа, «три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности».
Расширение художественной впечатлительности (Мережковский употреблял также термин импрессионизм) было самым неопределенным в этой триаде. Оно ведь присуще каждому литературному направлению нового времени и каждому значительному писателю. Но любопытно, что понятие символа у основоположника символизма оказалось столь же неопределенным. Вместо точного определения и анализа критик ограничивается конкретным примером.
В пьесе известного норвежского драматурга Г. Ибсена (1828–1906) во время важного диалога персонажей служанка вносит в комнату лампу. «Сразу в освещенной комнате тон разговора меняется. Черта, достойная физиолога-натуралиста. Смена физической темноты и света действует на наш внутренний мир. Под реалистической подробностью скрывается художественный символ. Трудно сказать почему, но вы долго не забудете этого многозначительного соответствия между переменой разговора и лампой, которая озаряет туманные вечерние сумерки», – продолжает анализ Мережковский. Здесь символом становится деталь, подробность. Но Мережковский называет символами и «колеблющиеся образы» (выражение Гёте) Фауста, Гамлета и Дон Жуана.
Итоговое определение заменяется у критика метафорой, развивающей заимствованную у Ибсена подробность. «В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя».
Парадокс символизма как художественного метода заключается в том, что его главное свойство, доминирующая черта с самого начала была определена не совсем точно. «Разница между реализмом и символизмом (в узком значении этого слова, как известного предреволюционного направления в искусстве) вовсе не структурная, но предметная, содержательная. Символисты просто интересовались другими предметами изображения, не теми, которыми интересуется реализм. Но использование идейно-образной системы… совершенно одно и то же и в полноценном реализме, и у символистов», – заметил, но уже через много лет, философ (А. Ф. Лосев «Проблема символа и реалистическое искусство», 1976).
Разгадку, специфику символизма, следовательно, надо искать в том, что Мережковский называл мистическим содержанием. Именно оно стало тем главным предметом, которым интересовались символисты.
Мистик – человек, который умеет видеть сквозь этот мир какие-то другие сущности, иные миры. «„Декадентству“, чтобы превратиться в „символизм“, не хватало мировоззрения, в силу которого символ есть средство общения с потусторонним миром», – заметил П. Н. Милюков («Очерки истории русской культуры»). В начале 1890-х годов такое мировоззрение сформировалось.
Поэтому главный принцип символизма можно обозначить как двоемирие (или многомирие). По видимым подробностям окружающего мира художник-символист должен был почувствовать и изобразить иной мир, о котором он грезит, который предчувствует и угадывает. Вернувшись к последнему рассуждению Мережковского, мы можем теперь увидеть в нем дважды повторенное ключевое слово: невыраженное мерцает в поэзии сквозь красоту символа; вещество поэзии насквозь просвечивающее стенки амфоры.
Сходное определение, не сговариваясь, повторяли другие символисты.
«Смотреть сквозь что-либо – значит быть символистом. Глядя сквозь, я соединяю предмет с тем, что за ним. При таком отношении символизм неизбежен» (Андрей Белый «Вишневый сад», 1904).
«Солнце наивного реализма закатилось; осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя. <…> Быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него; в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа…» (А. Блок. «О современном состоянии русского реализма», март-апрель 1910).
Эту мысль символисты выражали не только в статьях, но и в стихах-манифестах.
Милый друг, иль ты не видишь, Что все видимое нами — Только отблеск, только тени От незримого очами? («Милый друг, иль ты не видишь…», 1892)Главный учитель русских символистов Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) рассматривает видимое лишь как отблеск, тень незримого. Реальность окружающего мира оказывается для поэта лишь призраком мира Иного. Второй, наряду с Мережковским, основоположник русского символизма – В. Я. Брюсов доводит эту мысль до абсолютной наглядности:
Четкие линии гор; бледно-неверное море… Гаснет восторженный взор, тонет в бессильном просторе. Создал я в тайных мечтах Мир идеальной природы, — что перед ним этот прах: степи и скалы и воды! («Скитания», 1896)Перед созданным воображением художника идеальным миром вечная, казалось бы, природа – бескрайние море и степь, нерушимые скалы – оказывается всего лишь прахом: пылью, сухой гнилью, тленом (такие синонимы дает словарь В. И. Даля).
Символ в этой картине мира становится посредником, инструментом, с помощью которого поэт намекает читателю на ценности другого мира, «раскрывает в вещах окружающей действительности знамения иной действительности» (Вяч. И. Иванов. «Две стихии в современном символизме», 1908).
«Символы – окна в Вечность», – еще короче представляет ту же идею А. Белый («Символизм как миропонимание», 1904).
Символисты, как мы видим, дают сложные или метафорические определения символа. Между тем, в традиционной, старой поэтике было достаточно простое определение, которое может быть полезно и для понимания этой категории у символистов. Символ – многозначное иносказание. Символ – образ, который, в отличие от аллегории, допускает несколько толкований, причем они определяются не только культурным контекстом, но и индивидуальным замыслом автора. Утверждая в общем плане бесконечность, бездонность символа, символисты все равно вынуждены были ограничиваться конечным числом его пониманий, интерпретаций.
Начав с манифестов и странных стихов, вызывавших непонимание, насмешки, даже издевательства, символисты быстро выходят на авансцену русской литературы. Уже к рубежу веков символизм сменяет реализм в качестве доминанты литературного процесса. Символистское движение ширится, привлекает все новых сторонников. Обычно выделяют две группы, два поколения русских символистов.
Старшие символисты, основоположники направления: уже известные нам Д. С. Мережковский, В. Я. Брюсов, главный «декадент от символизма» Ф. К. Сологуб, а также жена Мережковского 3. Н. Гиппиус (1869–1945) и, пожалуй, самый известный символист первого призыва К. Д. Бальмонт (1867–1942).
Младшие символисты: А. А. Блок, Андрей Белый (псевдоним Б. Н. Бугаева, 1880–1934), Вяч. И. Иванов (1866–1949).
Граница между поколениями символистов определяется не столько датами рождения (Вяч. Иванов – ровесник многих старших символистов), сколько временем вхождения в литературу и объяснением, интерпретацией символистских доктрин.
Большинство старших символистов понимали новое искусство как поэзию намеков, оттенков, а поэта как Мастера, с помощью символов воздействующего на читателя, предоставляющего ему новые эстетические впечатления.
Самое знаменитое стихотворение раннего В. Брюсова называется «Творчество» (1 марта 1895).
Тень несозданных созданий Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене. Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски, В звонко-звучной тишине, Вырастают, словно блестки, При лазоревой луне. Всходит месяц обнаженный, При лазоревой луне… Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене.Что за декадентский, символистский бред? – возмущались этим текстом современные критики. Откуда взялись фиолетовые руки? Почему одновременно описываются лазоревая луна и обнаженный месяц? Разве это не одно и то же?
Реальный комментарий к стихотворению, позволяющий разрешить многие загадки, дал в мемуарах о поэте, наверное, лучший историк и интерпретатор символизма В. Ф. Ходасевич. «Дом на Цветном бульваре был старый, нескладный, с мезонинами и пристройками, с полутемными комнатами и скрипучими деревянными лестницами. Было в нем зальце, средняя часть которого двумя арками отделялась от боковых. Полукруглые печи примыкали к аркам. В кафелях печей отражались лапчатые тени больших латаний и синева окон. Эти латании, печи и окна дают реальную расшифровку одного из ранних брюсовских стихотворений, в свое время провозглашенного верхом бессмыслицы».
Оказывается, в стихотворении описывается вполне реальный интерьер одной из комнат брюсовского дома, но с необычной, сознательно зашифрованной точки зрения. Засыпающий в «звонкозвучной тишине» автор в знакомых с детства деталях внешнего мира (раскидистая пальма-латания с отражающимися в синем кафеле печей похожими на руки листьями) пытается уловить, увидеть поэзию, «тень несозданных созданий», и в конце концов ее находит: «Тайны созданных созданий / С лаской ластятся ко мне…»
«Творчество» – стихи о стихах, изображение творческого процесса. Вторым миром у Брюсова оказывается пересозданный творческим воображением мир первый, реальный.
«Цель символизма – рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя, вызвать в нем известное настроение», – утверждал Брюсов в предисловии к сборнику «Русские символисты» (1894).
Той же цели, что и Брюсов, другой старший символист, К. Д. Бальмонт, добивается игрой звуков и прихотливостью ритмов.
«С лодки скользнуло весло. / Ласково млеет прохлада. / „Милый! Мой милый!“ – Светло, / Сладко от беглого взгляда», – пытается он передать с помощью звукописи, повторяющегося в каждом слове звука л, текучесть воды («Влага»).
Я – изысканность русской медлительной речи, Предо мною другие поэты – предтечи, Я впервые открыл в этой речи уклоны, Перепевные, гневные, нежные звоны. Я – внезапный излом, Я – играющий гром, Я – прозрачный ручей, Я – для всех и ничей, —декларативно заявляет он о главной черте своей поэтики, не забывая менять стихотворный размер, использовать инверсии, создавать неологизмы.
«Как определить точнее символическую поэзию? Это поэзия, в которой органически, не насильственно, сливаются два содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота, – сливаются так же легко и естественно, как в летнее утро воды реки гармонически слиты с солнечным светом. Однако, несмотря на скрытый смысл того или другого символического произведения, непосредственное конкретное его содержание всегда закончено само по себе, оно имеет в символической поэзии самостоятельное существование, богатое оттенками», – излагает Бальмонт свою версию символизма, совпадая с Брюсовым в представлении о нем как поэзии оттенков («Элементарные слова о символической поэзии», 1904).
Однако младшие символисты сделали следующий шаг на этом пути. Конкретное содержание стихотворения все больше уступало место содержанию обобщенно символическому. Читателя уже не гипнотизировали с помощью звуков и ритмов, а призывали в иные миры.
В своем первом сборнике «Золото в лазури» Андрей Белый посвящает стихотворение «Автору „Будем как Солнце”», то есть К. Бальмонту. Попробуем сравнить двух певцов солнца.
Вот и солнце, удаляясь на покой, Опускается за сонною рекой. И последний блеск по воздуху разлит, Золотой пожар за липами горит, —рисует Бальмонт в цикле «Голос заката» конкретный пейзаж, словно дополняющий усадебный хронотоп поэзии Фета. И лишь во втором стихотворении этого маленького цикла появляется символическое обобщение, знаменитое бальмонтовское гиперболическое «я», включающее в себя весь мир.
Я – отошедший день, каких немного было На памяти твоей, мечтающий мой брат. Я – предвечернее светило, Победно-огненный закат.Предвечернее светило и закат – здесь уже не детали пейзажа, а символические характеристики Поэта, субъекта этого стихотворения.
Посвященное Бальмонту стихотворение Белого строится совершенно по-иному.
Солнцем сердце зажжено. Солнце – к вечному стремительность. Солнце – вечное окно в золотую ослепительность. Роза в золоте кудрей. Роза нежно колыхается. В розах золото лучей красным жаром разливается. В сердце бедном много зла сожжено и перемолото. Наши души – зеркала, отражающие золото. («Солнце», 1903)В отличие от стихов Бальмонта, в произведении Белого нет практически ни одной предметной детали. Если Бальмонт сначала воссоздавал пейзаж, а потом превращал в символ, то Белый сразу начинает с символики, превращая солнце в образ красоты природы, вечности, освобожденной от зла человеческой души.
Создавая образ поэта как Теурга, религиозного подвижника, светского священника, символисты вернули в искусство один важный принцип, которым когда-то отличались романтики. Вообще, символизм больше всего напоминает романтическое искусство, кажется «вторым изданием» романтизма с его принципом жизни как книги.
О двойственной роли этого принципа хорошо написал В. Ф. Ходасевич. «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства».
Однако эта вечная правда, утверждает Ходасевич, перерастала в великое заблуждение символизма, его смертный грех. «От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное горение, движение – безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью – идти как можно быстрей и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.
Знали, что играют, – но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. „Истекаю клюквенным соком!“ – кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящею кровью» («Конец Ренаты», 1928).
Мемуарный очерк с общей характеристикой символизма Ходасевич посвящает конкретной женщине, Нине Петровской, судьба которой оказывается подтверждением мысли о клюквенном соке, обернувшемся настоящей кровью. Писательница из круга символистов пережила два мучительно-литературных любовных романа с В. Брюсовым и Андреем Белым, «оказалась брошенной да еще оскорбленной», много лет существовала с ощущением «исковерканной жизни» и, в конце концов, несчастная и одинокая, покончила с собой в Париже, открыв газ «в нищенском отеле нищенского квартала».
«Она была истинной жертвою декадентства, – подводит Ходасевич беспощадный итог, связывая две модернистские эпохи. – Декадентство, упадочничество – понятие относительное: упадок определяется отношением к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин декадентство был бессмыслен: это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развились внутри самого символизма, – были по отношению к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови».
Тем не менее символизм как мировоззрение оказался явлением очень жизнестойким. В 1928 году Андрей Белый, второй, наряду с Блоком, крупнейший деятель русского символизма, пишет автобиографический трактат «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития». Д. С. Мережковский, автор первого символистского манифеста, умирает в разгар Второй мировой войны, его жена, поэт и критик 3. Н. Гиппиус – еще позже. Они тоже оставались символистами «во всех фазах» своей жизни. Можно сказать, что русский символизм как явление окончился вместе с последними символистами.
Однако символизм как направление просуществовал приблизительно три десятилетия. Начав с поэзии, он постепенно освоил эпическую область (проза Д. С. Мережковского, В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Белого) и драматургию (лирические драмы А. Блока). Он расцвел в первые годы XX века, испытал кризис в начале 1910-х годов и в основном завершил свое развитие после Октябрьской революции (рубежной датой его истории считают обычно смерть А. Блока).
Примерно в середине этого тридцатилетия не только сами символисты заговорили о кризисе, но и появилось новое литературное поколение, которое начинает – с разных сторон – преодолевать символизм, искать новые литературные пути.
АКМЕИЗМ: ОТ СИМВОЛА К ВЕЩИ
Предложив новую концепцию искусства, став доминирующим направлением современной литературы, пережив всего за десятилетие сложную эволюцию, и – самое главное – обогатив русскую поэзию новыми ритмами, темами, текстами, символисты, тем не менее, чувствуют недовольство и неуверенность, сравнивая свою деятельность с традициями и достижениями русского золотого века.
«Мы, как древние витязи, боремся в этих степях с силой невидимой, где зори будто чарленые половецкие щиты. Хочется крикнуть в степях пророческим возгласом „Слова“: „О русская земля, за шеломенем еси“.
Символический „шеломень“ современности – перевал к неизвестному; и лучшие образы литературы русской, именно образы литературного прошлого, ближе нам хулиганских выкриков современности: там, а не здесь встречает нас наша забота о будущем. Мы, только сейчас, быть может, впервые доросли до понимания отечественной литературы», – объясняет Андрей Белый современную ситуацию с помощью образности «Слова о полку Игореве» («Будущее русской литературы», 1908).
«Солнце над Россией» – называет А. Блок статью, посвященную юбилею «последнего гения» Л. Н. Толстого (1908). И он же через два года констатирует: «Произошло вот что: были „пророками“, пожелали стать „поэтами“. <…> Мы вступили в обманные заговоры с услужливыми двойниками; мы силою рабских дерзновений превратили мир в Балаган; мы произнесли клятвы демонам – не прекрасные, но только красивые… <…> Поправимо или непоправимо то, что произошло с нами? К этому вопросу, в сущности, и сводится вопрос: „Быть или не быть русскому символизму?”» («О современном состоянии русского символизма»)
Позднее, в предисловии к поэме «Возмездие» (12 июля 1919), Блок назовет важным рубежом в истории русской культуры именно этот год. «1910 год – это смерть Комиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. <…> Далее, 1910 год – это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму и друг к другу…» Важно, однако, что эти новые направления появились благодаря тому же символизму.
В 1896 году, в начале русского символизма, В. Я. Брюсов, уже играя роль мэтра, написал стихотворение «Юному поэту».
Юноша бледный со взором горящим, Ныне даю я тебе три завета. Первый прими: не живи настоящим, Только грядущее – область поэта. Помни второй: никому не сочувствуй, Сам же себя полюби беспредельно. Третий храни: поклоняйся искусству, Только ему, безраздумно, бесцельно. Юноша бледный со взором смущенным! Если ты примешь моих три завета, Молча паду я бойцом побежденным, Зная, что в мире оставлю поэта.Поэты 1910-х годов словно разделили намеченные Брюсовым роли. Одно из враждебных символизму направлений объявило своей областью грядущее, другое восприняло как главный завет поклонение искусству.
В 1913 году журнал «Аполлон» (заглавие символическое!) печатает статьи Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и С. М. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии». Статья О. Э. Мандельштама «Утро акмеизма» (1912) была опубликована позднее. Так в русском языке появилось новое слово, а в литературе – новая литературная группа и новое направление: акмеизм.
Ахиллесову пяту, изнанку символистской теории искусства позднее точно определил и иронически изобразил тот же О. Э. Мандельштам. «Символ есть уже образ запечатанный; его нельзя трогать, он не пригоден для обихода. <…> Возьмем к примеру розу и солнце, голубку и девушку. Неужели ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза – подобие солнца, солнце – подобие розы и т. д.? Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического „леса соответствий“ – чучельная мастерская. Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс „соответствий“, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой».
Два десятилетия русской литературы Мандельштам называет эпохой лжесимволизма. «Они [символисты] запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно – ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов…» («О природе слова», 1922).
Говоря о символическом «лесе соответствий», о «намеках и недоговариваниях», Мандельштам фактически подвергает сомнению главный принцип символизма – идею двоемирия и ее религиозный, «литургический» характер. Это было общее мнение нового направления. Оно одновременно стремилось освободиться от мистики и от символики.
«Для внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает. <…> На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от акте – высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь), – во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме» (Н. С. Гумилев «Наследие символизма и акмеизм»).
«Борьба между акмеизмом и символизмом, если это борьба, а не занятие покинутой крепости, есть, прежде всего, борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю. Символизм, в конце концов, заполнив мир «соответствиями», обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще» (С. М. Городецкий «Некоторые течения в современной русской поэзии»).
Но точнее и нагляднее всего пафос акмеизма выразили опять-таки не манифесты, а художественное произведение – короткое шестистишие О. Э. Мандельштама (1912).
Нет, не луна, а светлый циферблат Сияет мне, – и чем я виноват, Что слабых звезд я осязаю млечность? И Батюшкова мне противна спесь: Который час, его спросили здесь, А он ответил любопытным: вечность!Батюшков – образ «символиста», который, отвечая на простой бытовой вопрос, апеллирует к миру иному, к вечности. Дополнительную остроту стихотворению придает то, что в реальности – это ответ уже безумного поэта. Его высокомерной, спесивой позиции лирический субъект предпочитает ценности этого, здешнего мира: светлый циферблат часов, далекие звезды, которые он не просто видит, но осязает (чувство более конкретное, чем зрение или слух).
Вещный, предметный мир – такова основная установка, доминанта, главная тема акмеизма. В него акмеисты включали и физиологию человека, в ней видели и отражение его психологии. «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в „лесу символов“, потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес – божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма. <…> Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма. А = А: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом…» (О. Э. Мандельштам. «Утро акмеизма»).
Не случайно еще одним вариантом названия акмеизма было адамизм. Библейский Адам дал имена «животным полевым и птицам небесным», тем самым подтвердив, зафиксировав их существование. Точно так же акмеисты стремились заново назвать вещи, взглянуть на них свежим, заинтересованным взглядом.
Различие символизма и акмеизма можно представить в системе четких противопоставлений (оппозиций).
Эти противопоставления можно свести к единой формуле: символизм – искусство Иного, акмеизм – поэзия Этого.
Акмеизм в отличие от символизма оказался явлением более локальным и менее долговечным. Первоначально в группу входило всего шесть поэтов: уже упомянутые Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, а также А. А. Ахматова, В. И. Нарбут и М. А. Зенкевич. Они составляли так называемый «Цех поэтов». В некоторых отношениях к акмеизму были близки М. А. Кузмин, статья которого «О прекрасной ясности» (1908) опередила главные акмеистские манифесты, а также И. Ф. Анненский, которого считала своим предшественником и учителем Ахматова. Однако наиболее отчетливо заявленные принципы акмеизма проявились в творчестве трех поэтов: Гумилева, Ахматовой и Мандельштама.
Николай Степанович Гумилев (1886–1921) начинал как поэт-символист, ученик В. Брюсова, первые стихи которого мэтр сопровождал доброжелательно-снисходительными отзывами. Даже само понятие «акмеизм» возникло, как вспоминал Андрей Белый, в кругу символистов, на одном из символистских собраний на Башне В. Иванова, его петербургской квартире у Таврического сада. «Вячеслав раз, помигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу: „Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции нет! Ну, Борис, Николаю Степановичу сочини-ка позицию…“ С шутки начав, предложил Гумилеву я создать „адамизм“; и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово „акмэ“, острие: „Вы, Адамы, должны быть заостренными“. Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положив нога на ногу: «Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию против себя: покажу уже вам „акмеизм“!» Так он стал акмеистом; и так начинался с игры разговор о конце символизма» (Андрей Белый «Начало века», 1933).
Эта игра, как и в случае с символистами, превратилась в жизнь.
Гумилев родился в семье морского врача и с юности был увлечен Музой Дальних Странствий (придуманное им выражение), которой он наградил и Христофора Колумба («Открытие Америки», 1910), и своего соратника по акмеизму С. Городецкого:
Что до природы мне, до древности, Когда я полон жгучей ревности, Ведь ты во всем ее убранстве Увидел Музу Дальних Странствий. («Отъезжающему», 1913)Он путешествовал по Египту, трижды ездил в Африку, позднее, в мировую войну, один из немногих современников, был на фронте. Но главным делом его жизни была все-таки поэзия. «Николай Степанович говорил, что согласился бы скорее просить милостыню в стране, где нищим не подают, чем перестать писать стихи», – вспоминала А. А. Ахматова.
Но в его первых юношеских сборниках «Путь конквистадоров» (1905) и «Романтические цветы» (1908) символистская тайнопись часто заслоняла реальные впечатления. Адамизм-акмеизм стал точкой кристаллизации, позволил Гумилеву осознать себя как оригинального поэта.
Его основным жанром становится баллада, фабульное стихотворное повествование. (Здесь Гумилев многое наследует у русских и европейских романтиков – Байрона, Лермонтова.) Героями баллад поэт обычно выбирает сильных людей, путешественников, авантюристов, подвижников, рыцарей, преодолевающих трудности, смело глядящих в лицо опасности и даже смерти («Одержимый», «Старый конквистадор», «Рыцарь с цепью», «Возвращение Одиссея»). Главным изобразительным средством в стихах Гумилева оказывается экзотическая вещь, предметная деталь, позволяющая передать и своеобразие изображаемого мира, и особенности человеческой психологии (так в творчестве Гумилева реализуется акмеистская доктрина) или же четкая формула, афоризм, тоже по-своему отвечающая принципу прекрасной ясности.
В цикле из четырех стихотворений «Капитаны» (1909) рассказ о бесстрашном покорителе пространства сопровождается подчеркнутыми, данными крупным планом деталями.
И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминает покинутый порт, Отряхая ударами трости Клочья пены с высоких ботфорт, Или, бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так что сыпется золото с кружев, С розоватых брабантских манжет.Движение корабля, спокойствие и щеголеватость капитана, затем – его смелость и резкость представлены Гумилевым предметно, деталь здесь заменяет более подробный рассказ.
Однако решительность и одержимость лирического героя практически исчезает в любовных стихотворениях Гумилева (многие из них посвящены Анне Ахматовой, в 1910–1913 годах бывшей женой поэта). На смену бесстрашному путешественнику приходит робкий влюбленный, с трудом понимающий женскую душу, но с достоинством принимающий свое поражение.
В «Жирафе» (1907) психологическая коллизия лишь угадывается. Герой пытается отвлечь женщину от непонятной грусти, заговорить ее (вместо портрета здесь опять дана предметная деталь, лаконичный жест: «И руки особенно тонки, колени обняв»). Он начинает рассказывать об Африке, о своих путешествиях, прекрасной природе, изысканном жирафе, простых и понятных чувствах («Я знаю веселые сказки таинственных стран / Про черную деву, про страсть молодого вождя») – но все тщетно. Она расстраивается еще больше, а он может лишь беспомощно и механически повторить:
Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад Изысканный бродит жираф.Умеющий покорять пространство, герой так и не способен понять загадочную женскую душу. «Дело в том, что и поэзия, и любовь были для Гумилева всегда трагедией», – со знанием дела говорила Ахматова. Но он был способен к иному: сохранять достоинство даже в безвыходной ситуации.
В одном из последних стихотворений (оно написано редким для поэта верлибром) с гордостью перечисляются его читатели: африканский бродяга, покоритель диких племен; морской лейтенант, водивший в бой корабли; хладнокровный террорист, застреливший императорского посла; множество других, «сильных, веселых, злых». Во второй части Гумилев словно пишет свой «Памятник», выделяет главную, доминирующую черту собственного творчества, привлекающего именно таких читателей.
Я не оскорбляю их неврастенией, Не унижаю душевной теплотой, Не надоедаю многозначительными намеками На содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, Когда волны ломают борта, Я учу их, как не бояться, Не бояться и делать что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, Единственно дорогим во вселенной, Скажет: «Я не люблю вас», — Я учу их, как улыбнуться, И уйти, и не возвращаться больше, А когда придет их последний час, Ровный красный туман застелет взоры, Я научу их сразу припомнить Всю жестокую, милую жизнь, Всю родную, странную землю И, представ перед ликом Бога С простыми и мудрыми словами, Ждать спокойно Его суда. («Мои читатели», 1921)Благородство, чистота, ясность, адамизм чувства объединяют Гумилева-путешественника и Гумилева-влюбленного. Эти свойства предопределили и трагический финал гумилевской судьбы.
В 1918 году он возвращается в Петроград из Парижа, организовывает новый «Цех поэтов», где занимается с молодыми стихотворцами и даже играет с ними в жмурки, пишет собственные стихи, переводит. Поэт и воин, получивший на мировой войне несколько ранений и орденов, особо не скрывает своего отношения к новой власти, но и не выступает против нее. Однако его православие и монархизм ни для кого не являются секретом. 3 августа 1921 года Гумилев был арестован за участие в контрреволюционном заговоре (историки до сих пор спорят, существовал ли он на самом деле), а 25 августа вместе с несколькими десятками других участников так называемого таганцевского дела расстрелян. Его могила неизвестна. Его стихи, запрещавшиеся к публикации, стали ориентиром для многих поэтов советской эпохи. Главные соратники Гумилева по акмеизму, Ахматова и Мандельштам, свято хранили память о нем долгие, глухие десятилетия. «Гумилев – поэт еще не прочитанный. Визионер и пророк. Он предсказал свою смерть с подробностями вплоть до осенней травы», – напишет А. А. Ахматова осенью 1962 года.
Такое предсказание есть во многих стихах поэта, в том числе в «Заблудившемся трамвае» (1920), возможно лучшей балладе Гумилева. Здесь главные мотивы его поэзии вплетаются в таинственно-символическую фабулу, сопровождаются многими скрытыми цитатами из других авторов (Пушкин, Блок, Ахматова, Г. Лонгфелло, Ш. Бодлер, А. Рембо) и акмеистски-точными деталями.
Фабула «Заблудившегося трамвая» строится на визионерстве и пророчестве: вскакивая на подножку внезапно появившегося трамвая, герой мчится через бездну времен («Мы проскочили сквозь рощу пальм, / Через Неву, через Нил и Сену / Мы прогремели по трем мостам»), перевоплощается («Я же с напудренною косой / Шел представляться Императрице…»), встречает уже умерших людей («Бросил нам вслед пытливый взгляд / Нищий старик, – конечно, тот самый, / Что умер в Бейруте год назад»), способен увидеть собственное страшное будущее.
Вывеска… кровью налитые буквы Гласят – зеленная, – знаю, тут Вместо капусты и вместо брюквы Мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, Голову срезал палач и мне, Она лежала вместе с другими Здесь, в ящике скользком, на самом дне.Однако в финале стихотворения ощущение безумия и трагедия гибели отступают перед драмой любви – обращением к то ли тоже умершей, то ли ушедшей героине.
И все ж навеки сердце угрюмо, И трудно дышать, и больно жить… Машенька, я никогда не думал, Что можно так любить и грустить.Главный акмеистский принцип, воплощенный в стихах Гумилева как экзотическая вещь, реализуется у Ахматовой как психологическая вещь, а у Мандельштама – как культурно-историческая вещь (об этих свойствах поэтики пойдет речь в следующих, посвященных этим поэтам, главах).
ФУТУРИЗМ: ОТ СИМВОЛА К СЛОВУ
Акмеисты исповедовали третий брюсовский завет «Юному поэту»: «…Поклоняйся искусству, / Только ему, безраздумно, бесцельно…» Первый же завет – «…не живи настоящим, / Только грядущее – область поэта» – как знамя, подхватило другое литературное направление: футуризм (от лат. futurum – будущее).
Сначала была сделана «Пощечина общественному вкусу» (1912).
«Читающим наше Новое Первое Неожиданное.
Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин – непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.
Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?
Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч., и проч. – нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.
С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!..»
Читавшие эти лозунги в 1912 году могли воспринимать футуристов и как бытовых хулиганов, и как литературных революционеров. Во всяком случае, «Футуризм мертвой хваткой взял Россию», – скажет позднее В. Маяковский («Капля дегтя», 1915).
Уже в этом первом футуристическом манифесте можно увидеть несколько важных особенностей будущего направления, отличающих его даже от ближайших предшественников.
Манифест подписан четырьмя авторами (Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Маяковский, В. Хлебников), то есть выражает коллективное мнение: «Стоять на глыбе слова „мы“ среди моря свиста и негодования». Символисты и акмеисты, основывая направление, писали все-таки свои статьи и манифесты индивидуально.
Футуризм радикально, резко противопоставляет себя традиции как таковой. Для футуристов нет принципиальной разницы между старыми классиками Пушкиным и Достоевским, новым реалистом Буниным, символистами Блоком и Брюсовым, представителями массовой литературы, юмористами Аркадием Аверченко и Сашей Черным. Футуристы устраивают «вселенскую смазь», скопом бросают с парохода современности всю предшествующую литературу. Символизм и акмеизм, отрицая одни традиции, опирались на другие; эти модернистские направления еще жили идеей преемственности. Футуризм – уже не только модернизм, но еще и авангард, главным для него является пафос разрыва с прошлым и бросок в неизвестное будущее.
Футуризм носит сознательно провоцирующий характер, раздражает, эпатирует, дразнит публику. Поэтому, в отличие от символистских и акмеистских статей, предназначенных для чтения, неспешного обдумывания, футуристские манифесты, скорее, были рассчитаны на живую реакцию публики, они либо печатались в виде листовок-брошюр, либо оглашались в выступлениях, с которыми футуристы объездили всю Россию. Футуристы не столько создают аргументированный текст, сколько выдвигают, выкрикивают лозунги, рассчитанные на непосредственное воздействие (чаще всего – отторжение и полемику).
В главке об эволюции модернизма упоминалось ироническое замечание Блока о выступлениях футуристов, разбивших «несколько графинов о головы публики первого ряда». Профессиональным пародистам и юмористам надо было совсем немного усилий, чтобы превратить футуристские тезисы в гротеск. В рассказе «Теоретики» (1916) юморист А. Бухов, соратник по журналу «Сатирикон» упомянутых в «Пощечине общественному вкусу» А. Аверченко и С. Черного, воссоздает, конечно с преувеличениями, атмосферу футуристических выступлений, провокационных препирательств с аудиторией.
«Выходил на трибуну молодой человек с большой подержанной хризантемой, подвязанной к пиджачку, говорил громким голосом и, запивая афоризмы кипяченой водой, слегка потрясал творческие основы.
Доклады были кратки и решительны.
– Мужчины и наоборот! Я вышел, чтобы плюнуть на память Пушкина, которого я не читал. <…> Кроме того, – вспоминал по записочке докладчик, – я еще плюю на Некрасова. Что касается Лермонтова, то на него я уже успел плюнуть в прошлом докладе. Плюю на классиков. И тем не менее плюю на Зибискира Мухортого.
– А это кто такой?
– Мухортый? Человек будущего. Сейчас он на другом докладе ест битое стекло. Тоже футурист. Кроме того, плюю на всех вас.
– Виноват, – вскакивал кто-нибудь из слушателей, – вы плюете на меня?
– Вообще на всех, – упрямо подтверждал докладчик.
– Здесь, между прочим, находится моя невеста. Значит, и на нее?
– Плюю ей в бороду.
– У нее нет бороды.
– Мещанка. У женщин будущего борода будет.
– Вы мне ответите за это.
– Я принимаю в пятницу от двух до трех, в своем особняке, что на Шамшевой улице в доме номер девяносто три, квартира одиннадцать. Вход с черного, – гордо заявлял футурист-докладчик».
Если истоки символизма уходят во французскую литературу, то акмеизм придумали в Италии. Первый «Манифест футуризма» (1909) сочинил итальянский поэт Т. Маринетти (хотя опубликовал его во французской газете). Но, как это часто бывало и раньше, итальянское изобретение стало настолько национальным явлением, что во время посещения Маринетти России (1914) футуристы не признали его своим.
В отличие от символистов и акмеистов футуристы двигались в будущее сразу в нескольких направлениях, ожесточенно полемизируя не только с классиками, но и между собой.
«Пощечина общественному вкусу» – манифест кубофутуристов. Они же называли себя будетлянами (людьми будущего; неологизм предложен В. Хлебниковым) или группой «Гилея» (это название, обозначающее территорию в устье Днепра, один из футуристов нашел в «Истории» Геродота). Это московское отделение футуристов появилось в 1910 году, хотя заявило о себе в 1912-м.
В Петербурге во главе с Игорем Северяниным (псевдоним Игоря Васильевича Лотарева, 1887–1941) действовали эгофутуристы, которых не только московские конкуренты, но и критики, считали самозванцами, повторявшими уже сделанное другими модернистами.
Я, гений Игорь Северянин, Своей победой упоен: Я повсеградно оэкранен! Я повсесердно утвержден! От Баязета к Порт-Артуру Черту упорную провел Я покорил Литературу! Взорлил, гремящий, на престол! («Эпилог», октябрь 1912)Читая подобные «поэзы» (Северянин придумал для своих стихов такой неологизм), ироничный критик К. И. Чуковский спрашивал: «Но где же здесь, ради бога, футуризм? Это старый, отжитой, запыленный „Календарь модерниста“ за 1900 или 1901-й год. „Люблю я себя, как бога“, – это писала еще Зинаида Гиппиус… „И господа и дьявола хочу прославить я“, – писал еще Валерий Брюсов… <…> Вся эта эгопоэзия была именно отрыжкой вчерашнего. Она вульгаризировала до крайних пределов те чувства и мысли, которые лет за двадцать до Северянина принесли в Россию модернисты. Модернисты давно возвестили и этот культ своего я, оторванного от всего мироздания, и это уравнение порока со святостью. Недаром Федор Сологуб и Валерий Брюсов так горячо приветствовали Северянина на первых порах: они почуяли в нем – своего» («Футуристы», 1914).
Правда, в отличие от декадентской мрачности, Северянин изображает свое «эго» в светлых, радостных, восторженных тонах, одновременно внося в стихи самоиронию, которой восторженные поклонники не замечали. (На одном из поэтических вечеров, уже в 1918 году, Северянин голосованием публики был избран Королем поэтов; второе и третье места заняли Маяковский и Бальмонт.) Но его слава поэта была связана не с новаторскими поисками, а с удачным использованием старых схем и стереотипов. Настоящими, подлинными авангардистами оказались лишь кубофутуристы.
Что же предлагали авторы «Пощечины общественному вкусу», бросив всю предшествующую литературу с парохода современности и расчистив место для неизвестного будущего? «Слово как таковое» – так назывался следующий манифест кубофутуристов (1913), подписанный уже только двумя авторами, А. Крученых и В. Хлебниковым, но созданный, вероятно, Алексеем Елисеевичем Крученых (1886–1968), которого называли «букой русской литературы».
Основой манифеста стало такое сопоставление.
«У писателей до нас инструментовка была совсем иная, например:
По небу полуночи ангел летел И тихую песню он пел…Здесь окраску дает бескровное пе… пе… Как картины, писанные киселем и молоком, нас не удовлетворяют и стихи, построенные на па-па-па пи-пи-пи ти-ти-ти и т. п.
Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок. Мы дали образец иного звука и словосочетания:
дыр, бул, щыл, убещур скум вы со бу р л эз(Кстати, в этом пятистишии более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина.)»
Цитируя собственное пятистишие, Крученых одним ударом расправляется и с Лермонтовым (процитировано его стихотворение «Ангел») и с Пушкиным. Оно состоит даже не из слов, а из фонетических сочетаний с разрушенными семантикой и грамматикой. Такой тип речи футуристы называли заумный язык, заумь (термин придуманный Хлебниковым).
«Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык). Этим достигается наибольшая выразительность и этим именно отличается язык стремительной современности, уничтоживший прежний застывший язык…» («Слово как таковое»).
Возможности полноценного использования заумного языка в варианте Крученых были ограниченны. «Кубофутуристы творят не сочетания слов, но сочетания звуков, потому что их неологизмы не слова, а только один элемент слова. Кубофутуристы, выступающие в защиту „слова как такового“, в действительности прогоняют его из поэзии, превращая тем самым поэзию в ничто», – утверждал один из первых критиков футуризма (М. Россиянский «Перчатка кубофутуристам», 1914).
«Бука», однако, не унимался. Еще один его манифест – «Буква как таковая» (1913). В нем Крученых совсем по-символистски утверждает, что поэт (речарь), сам переписывая произведение, воздействует на читателя каким-то мистическим образом. «Почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателю, независимо от слов. Так же должно поставить вопрос о письменных, зримых или просто осязаемых, точно рукою слепца, знаках. Понятно, необязательно, чтобы речарь был бы и писцом книги саморунной, пожалуй, лучше, если бы сей поручил это художнику».
Книги футуристов, часто напечатанные небольшим тиражом, на обойной бумаге, разными шрифтами, с обложкой из мешковины, через много лет стали предметом коллекционирования. Но радикальный, предельный характер авангардистского эксперимента Крученых быстро обнаружил свою исчерпанность. Заумные стихи Крученых и других футуристов были эффектны как одноразовый жест, но невозможны как постоянная художественная практика.
В 1915 году вышел совместный сборник Крученых и Алягрова (под этим псевдонимом скрылся будущий знаменитый лингвист Р. О. Якобсон) «Заумная гнига». В него был включен «Евген. Онегин в 2 строч»:
Ени вони Се и Тея.Представим, что объем этого «Евгения Онегина» (Крученых просто выписал из романа некоторые словосочетания и окончания) равен пушкинскому. Текст заумного «романа в стихах» увеличится количественно, но качественно не изменится. Пятистишием (или даже двустишием) смысл заумного языка практически исчерпан: читателю предъявлены диссонирующие, труднопроизносимые, непонятные звуко– и словосочетания, «тяжелая и грубая» (определения Крученых) «фактура слова», отрицающая прежнюю гармоническую звукопись, тесно связанную со смыслом («И тихую песню он пел»).
Велимир (настоящее имя Виктор Владимирович) Хлебников (1885–1922) пошел другим путем, предлагая «сделать заумный язык разумным». В его варианте заумь – это не освобождение от смысла, а, напротив, тотальная семантизация всех элементов языка, включая фонетику; и не личная причуда, а глубинное, уходящее в историческое прошлое, свойство языка, способное вновь объединить человечество.
«Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы «азбучных истин», и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде закона Менделеева, – утверждает Хлебников («Наша основа», 1919). И показывает на конкретных примерах, как можно этот закон отыскать.
С точки зрения Хлебникова, заумный язык исходит из двух предпосылок: «первая согласная простого слова управляет всем словом, приказывает остальным», а слова, начинающиеся с одной и той же согласной, объединяются каким-то понятием, «летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка». Следовательно, всматриваясь в слова, начинающиеся с одной согласной, мы можем обнаружить ее глубинную, неосознаваемую семантику. «Если взять одно слово, допустим, чашка, то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок и т. д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат, и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением Ч. Сравнивая эти слова на Ч, мы видим, что все они значат „одно тело в оболочке другого“; Ч – значит „оболочка“. И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами азбуке – новым искусством, у порога которого мы стоим».
Потом Хлебников делает резкий бросок от лингвистики к истории: «Таким образом, заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей».
«Плохая физика, но какая смелая поэзия!» – воскликнул Пушкин в примечаниях к «Подражаниям Корану», цитируя священную книгу мусульман. То же самое можно сказать о Хлебникове: это фантастическая лингвистика, но удивительная поэзия. Маяковский после смерти Хлебникова назвал его «Колумбом новых поэтических материков». Действительно, Хлебников был футуристом par sang, по составу крови. Он заглядывал в далекое прошлое и далекое будущее, наряду с поисками всеобщего языка фантазировал о домах будущего, пытался найти математические законы истории и, опираясь на них, составлял «Доски судьбы».
Таким же органическим экспериментатором он был в поэзии. Сравним с пятистишием Крученых хлебниковское «Заклятие смехом» (1908–1909), написанное еще до того, как футуристы объявили о своем существовании.
О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешит надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! Смейево, смейево, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!В отличие от Крученых Хлебников работает с продуктивными словообразовательными моделями, не разрушая, а обогащая языковую семантику. Как фокусник вынимает кролика из пустой шляпы, Хлебников образует от одного корня все новые и новые неологизмы, демонстрируя неисчерпаемое богатство возможностей русского языка. Словообразования Крученых не вышли за пределы его пятистишия, остались индивидуальным экспериментом, понятным лишь в контексте футуристического эпатажа. Слова Хлебникова либо вошли в русский язык (в 1920-е годы издавался журнал «Смехач»; в словари включаются летчик, творяне), либо могут быть поняты читателем, при необходимости включены в собственную речевую практику (Маяковскому смехачи представлялись силачами, смеюнчики – хитрыми, смеево – страной смеха).
Поэзия Хлебникова часто трудна: он постоянно меняет ритм в пределах одного произведения, использует редкие фольклорные и литературные ассоциации. Многие его тексты сохранились лишь в черновых вариантах, поэтому и композицию их трудно восстановить. Маяковский называл Хлебникова поэтом для поэтов.
Но одновременно (чаще всего – в коротких стихотворениях) Хлебников способен создавать образы поразительной простоты и красоты, похожие на пословицу, народную песню, пушкинские стихи.
Когда умирают кони – дышат, Когда умирают травы – сохнут, Когда умирают солнца – они гаснут, Когда умирают люди – поют песни. («Когда умирают кони – дышат…», 1912) Мне мало надо! Краюшку хлеба И каплю молока. Да это небо, Да эти облака! («Мне мало надо…», 1912, 1922)Особое истолкование футуризма предложил В. Маяковский. Являясь активным участником многочисленных футуристских поездок, полемик и выступлений, он дальше всех находился от зауми. Его футуризм был, прежде всего, поэзией города и опытом новой живописи словом и новых ритмов. (О поэзии Маяковского пойдет речь в специальной главе.)
НОВЫЙ РЕАЛИЗМ: АРХАИСТЫ И НОВАТОРЫ
Эстетическое доминирование модернизма на рубеже XIX и XX веков не прерывает реалистическую традицию. В основе реализма (более широко его можно обозначить как миметическую поэтику) – воспроизведение не иных миров, а этого мира, причем, в отличие от акмеистов, не только в его предметном, вещном, но и в историческом и социальном аспектах. Общее определение реалистического искусства предложил в свое время Н. Г. Чернышевский в «Эстетических отношениях искусства к действительности» (1854–1855): «Воспроизведение жизни – общий характеристический признак искусства, часто произведения искусства имеют значение объяснения жизни, часто они имеют значение приговора о явлениях жизни».
«Что такое реализм? Кратко говоря: объективное изображение действительности, изображение, которое выхватывает из хаоса житейских событий, человеческих взаимоотношений и характеров наиболее общезначимое, наичаще повторяющееся, слагает наиболее часто встречающиеся в событиях и характерах черточки и факты и создает из них картины жизни, типы людей. <…> Писатель-реалист склонен к синтезу, к сводке общезначимого, всем людям его эпохи свойственного в единое, целостное. Это единое суть типичное, и помимо своей стройности, красоты – ценности эстетической – оно имеет для нас ценность неоспоримого исторического документа», – пытался объяснить себе и слушателям своих лекций через полвека особенности реализма М. Горький («История русской литературы», 1908–1909).
Реализм, следовательно, ориентирован на действительность, создает картину реальности, отвечающую критериям историзма (типические обстоятельства), как в воспроизведении внешнего, предметного мира (точность деталей), так и человеческой психологии (типические характеры). Реализм ориентирован на критерии обычного «нормального» восприятия: все как в жизни.
Однако этот критерий на самом деле не очень ясен: когда-то для творцов мифа реальностью были боги и герои, для странницы Феклуши у Островского реальностью являются люди с песьими головами и неправославные салтаны Махнут турецкий и Махнут персидский. «Все может быть! Все может быть!» – повторяет герой повести Чехова «Моя жизнь», простодушный маляр Редька (эта поговорка нравилась Л. Толстому).
Классический реализм XIX века был очень широк и разнообразен. Он включал как очевидно «жизнеподобные» повести и романы Толстого, Тургенева, Гончарова, пьесы Островского, так и фантастический реализм Достоевского, гротескный реализм Салтыкова-Щедрина, реалистическую лирику Некрасова, в которых, при сохранении общей установки на воспроизведение, объяснение и приговор реальности, некоторые из привычных критериев реализма существенно нарушались, трансформировались.
Из русских реалистов, начинавших в эпоху натуральной школы, до символизма дожил лишь Лев Толстой. Последним, подкидышем, в семье русских реалистов XIX века, оказывается, как мы помним, Чехов. Он смотрит на реалистическую традицию уже чуть со стороны и реализует ее в иных, чем классические реалисты, формах.
Главные реалисты модернистской эпохи словно распределили между собой обязанности и реалистические принципы. Приговор, отчетливо выраженная идея становилась доминантой произведений позднего Толстого, повестей и притч, социально-идеологического романа «Воскресение» (1899). Чехов, напротив, считает главной задачей как раз воспроизведение жизни, оставляя оценку, приговор, читателю.
«Цель моя – убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь – мы не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнее и умнее меня. Рамка эта – абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, черта, свобода от страстей и проч.» (А. Н. Плещееву, 9 апреля 1889 г.).
«Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам» (А. С. Суворину, 1 апреля 1890 г.).
Чеховский реализм воспринимался современниками уже в новом качестве: как синтез противоположных, конкурирующих эстетических концепций. В творчестве Чехова и реалисты, и модернисты находили близкие себе черты и свойства.
Прочитав «Даму с собачкой», историю о драматически запоздавшей, безнадежной любви на фоне точно воссозданного ялтинского, московского провинциального быта, Максим Горький написал автору: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро – насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время – факт! Дальше Вас – никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После самого незначительного Вашего рассказа – все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И – главное – все кажется не простым, т. е. не правдивым. <…> Да, так вот, – реализм Вы укокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к черту! Право же – настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее. Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала прикрашивать жизнь, и, как только она это начнет, – жизнь прикрасится, т. е. люди заживут быстрее, ярче» (после 5 января 1900 г.).
Андрей Белый словно продолжил эти размышления. В «Вишневом саде» он усмотрел реализм, который, «истончая реальность», «сквозит символами» («Вишневый сад», 1904). А в статье о писателе-модернисте сказал так: «Чехов оказался внутренним, но тайным врагом реализма, оставаясь реалистом» («Сологуб», 1908).
Однако подобные оценки нельзя понимать в прямом, буквальном смысле. «Горьковская формула „вы убиваете реализм“ обозначает, в сущности говоря, нечто прямо противоположное тому, что она значит по своему внешнему смыслу. „Вы убиваете реализм“ – это значит: „Вы даете реализму новую жизнь, вы перестраиваете его”», – объяснял Г. А. Вялый («К вопросу о русском реализме конца XIX века», 1946).
Перестройка реализма в модернистскую эпоху наметилась в двух противоположных направлениях. Одни писатели, используя традиционные формы социально-психологического романа и повести, внесли в них новые социальные мотивы, продолжили панораму современной жизни, опираясь как на марксистские идеи классовой борьбы, так и на общественный заказ, «нужду в героическом».
Этот «героический реализм» в разной степени культивировали сам М. Горький, В. Г. Короленко (1853–1921), А. И. Куприн (1870–1938). Более трезвый, лишенный героических иллюзий, вариант реалистического бытописания представляло раннее творчество Л. Н. Андреева (1871–1919) и И. А. Бунина. Большинство этих писателей, как и многие другие, менее известные (А. С. Серафимович, В. В. Вересаев), публиковались в долгое время руководимом М. Горьким издательстве «Знание» (1898–1913). Поэтому реалистов начала XX века часто называли «знаньевцами».
К ним внимательно присматривались писатели-модернисты. Одна из статей А. Блока посвящена как раз писателям этой группы. В них Блок увидел как «бытовиков», так и «отрицателей быта», однако заметил и общее, объединяющее их свойство: «Почти все они как-то дружно и сплоченно работают над одной большой темой – русской революцией» («О реалистах», 1907).
Блок, как и Андрей Белый на примере Чехова, пытается найти связующие модернистов и реалистов нити, построить мост между двумя «враждебными станами». «Одно из очень характерных явлений нашей эпохи – это „встреча“ „реалистов“ и „символистов“. Встреча холодная, вечерняя, взаимное полупризнание; точно Монтекки и Капулетти, примирившиеся слишком поздно, когда уже не стало Ромео и Джульетты. <…> Реалисты тянутся к символизму, потому что они стосковались на равнинах русской действительности и жаждут тайны и красоты. <…> Символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух „келий“, им хочется вольного воздуха, широкой деятельности, здоровой работы. <…> Движение русского символизма к реализму началось с давних пор, чуть ли не с самого зарождения русского символизма» («О современной критике», 1907).
Критики-марксисты считали реалистов-знаньевцев своими соратниками. «В нашей художественной литературе ныне замечается некий уклон в сторону реализма. Писателей, изображающих «грубую жизнь», теперь гораздо больше, чем было в недавние годы. М. Горький, гр. А. Толстой, Бунин, Шмелев, Сургучев и др. рисуют в своих произведениях не „сказочные дали“, не таинственных „таитян“, а подлинную русскую жизнь со всеми ее ужасами, повседневной обыденщиной», – писал М. Калинин (псевдоним К. С. Еремеева, 1874–1931) в статье «Возрождение реализма» (1914), опубликованной в большевистской газете «Путь правды», считая этот процесс «результатом подъема рабочего движения».
Позднее, уже в советское время, на основе написанных в знаньевскую эпоху произведений Горького (драма «Враги», 1906; роман «Мать», 1906–1907) была создана концепция «социалистического реализма», основоположником которого и объявили «пролетарского писателя» (об этом еще пойдет речь в следующих главах).
Но существовала и вторая версия реализма, в основе которой – не отрицание модернистских экспериментов, а включение их в реалистическую поэтику. Эта концепция связана, прежде всего, с именем Е. И. Замятина (1884–1937). Опираясь на философию, и в то же время активно используя метафорические характеристики, Замятин выстроил диалектическую триаду литературы серебряного века.
Бытовики, реалисты (Горький, Куприн, Чехов, Бунин) – тезис. «У этих писателей – все – телесно, все – на земле, все – из жизни. <…> Писатели этого времени – великолепные зеркала. Их зеркала направлены на землю и их искусство в том, чтобы в маленьком осколке зеркала – в книге, в повести, в рассказе – отразить наиболее правильно наиболее яркий кусок земли. <…> У реалистов, по крайней мере, у старших, – есть религия и есть Бог. Эта религия – земля и этот Бог – человек».
Символисты – антитезис. «В начале XX века русская литература очень решительно отделилась от земли: появились так называемые символисты. <…> Символисты – Федор Сологуб, А. Белый, Гиппиус, Блок, Брюсов, Бальмонт, Андреев, Чулков, Вячеслав Иванов, Минский, Волошин – определенно враждебны быту. <…> На земле символисты не находят разрешения вопросов, разрешения трагедии и ищут его в надземных пространствах. Отсюда – их религиозность. Но, естественно, их Бог уже не человек, а высшее существо. У одних этот Бог со знаком „плюс“ – Ариман, Христос, у других со знаком „минус“ – Ормузд, Дьявол, Люцифер. <…> О писателях-реалистах я говорил, что у них в руках зеркало; о писателях-символистах можно сказать, что у них в руках – рентгеновский аппарат».
Новые реалисты – синтез, итог литературного развития начала XX века. В эту группу Замятин включает как собственно реалистов, прозаиков-бытописателей (А. Толстой, М. Пришвин, И. Шмелев), так и поэтов (акмеистов, С. Есенина и Н. Клюева), и даже «раскаявшихся», перешедших на новую стадию развития символистов (А. Белый, Ф. Сологуб), а также самого себя. Особенности этого скорее не направления, а мировоззрения Замятин опять поясняет с помощью сравнения: «Вы помните пример: облака на вершине высокой горы. Писатели-реалисты принимали облака так, как они видели: розовые, золотые – или грозовые, черные. Писатели-символисты имели мужество взобраться на вершину и убедиться, что нет ни розовых, ни золотых, а только один туман, слякоть. Писатели-новореалисты были на вершине вместе с символистами и видели, что облака – туман. Но спустившись с горы – они имели мужество сказать: „Пусть туман – все-таки весело“. И вот в произведениях писателей-неореалистов мы находим действенное, активное отрицание жизни – во имя борьбы за лучшую жизнь. <…> Реалисты жили в жизни, символисты имели мужество уйти от жизни, новореалисты имели мужество вернуться к жизни. Но они вернулись к жизни, может быть, слишком знающими, слишком мудрыми. И оттого у большинства из них – нет религии. Есть два способа преодолеть трагедию жизни: религия или ирония. Неореалисты избрали второй способ. Они не верят ни в Бога, ни в человека» («Современная русская литература», 1918).
ИТОГИ: НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Идеи Замятина очень пригодились русской прозе 1920-х годов, вынужденной искать новые ориентиры в катастрофически изменившемся мире. Но одновременно они свидетельствовали о более общей, универсальной тенденции: после всех экспериментов, всех отклонений, стрелка литературного компаса вновь указывала на миметическую поэтику, воспроизведение действительности в новых формах.
«Мы вправе стать реалистами в новом смысле…», – напишет Блок К. С. Станиславскому, далее цитируя великого режиссера-реалиста и полностью соглашаясь с ним, – все «измы» в искусстве включаются в «утонченный, облагороженный, очищенный реализм» (9 декабря 1908 г.). Так считал поэт, в своем творчестве до конца оставшийся символистом.
Сделаем поэтому важный вывод. Общие определения помогают нам первоначально разобраться в материале, классифицировать авторов и тексты. Но конкретный смысл произведения выходит за границы породившего его направления. Любой, даже плохой, роман богаче, даже самой правильной, схемы. Мы читаем не направления, а произведения.
«Классицизм в школе (в вузе?) следовало бы изучать по Сумарокову, романтизм по Бенедиктову, реализм по Авдееву (самое большее – по Писемскому), чтобы на этом фоне большие писатели выступали сами по себе». Перечисленные М. Л. Гаспаровым в записи под ироническим заглавием «Изм» писатели не только не изучаются в школе, но и редко «проходятся» в институте. Школьная программа и учебник строятся на больших писателях. А здесь, на вершинах, действуют иные закономерности. Большие писатели могут обменяться шпагами-теориями, как Гамлет и Лаэрт в финале шекспировской пьесы, или вовсе отказаться от теоретического панциря.
Символист А. Блок стремится к реализму в новом смысле. Акмеисты Н. Гумилев и А. Ахматова в конце жизни создают вещи, которыми могли бы гордиться символисты: балладу «Заблудившийся трамвай» и «Поэму без героя». В юности примкнувший к футуризму Б. Пастернак вспоминает о нем с постоянной иронией. Стихи М. Кузмина и М. Цветаевой в антологиях помещаются в разделе «Поэты вне направлений».
Теория ориентирует нас в культурном пространстве, но читаем и любим мы не направления, а писателей «самих по себе»: Ахматову, Блока, Бунина, Гумилева, Мандельштама, Маяковского, Хлебникова…
Александр Александрович БЛОК (1880–1921)
ФИЛОЛОГ: РЕКТОРСКИЙ ФЛИГЕЛЬ И ШАХМАТОВСКИЙ ДОМ
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – афоризмом начинает Л. Н. Толстой семейный роман «Анна Каренина». Но семья – сосуществование нескольких поколений. С течением времени счастье и несчастье могут меняться местами.
Мать Александра Блока, Александра Андреевна Бекетова, родилась в счастливой профессорской семье. Ее отец, Андрей Николаевич, был крупным ученым, ботаником, позднее ставшим ректором Петербургского университета. В юности он увлекался социальными идеями Ш. Фурье, изучал философию, много читал. Позднее, наряду с научной, он занимался общественной работой. Первое в России учебное заведение, дававшее женщинам высшее образование, знаменитые бестужевские курсы (названные по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), могли стать и бекетовскими. Этому помешало то, что профессор в глазах начальства слыл революционером, «Робеспьером».
Действительно, ректор был близок и дружен и с коллегами, и со студентами. Он не только с огромным успехом читал лекции, но хлопотал за арестованных, помогал неимущим. Настоящий интеллигент, идеалист, всю жизнь много трудившийся, он все же страдал комплексом «кающегося дворянина», унаследованным от людей сороковых годов. «В своем сельце Шахматове (Клинского уезда, Московской губернии) дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по той же причине, по которой И. С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, лишь бы отвязались, – вспоминал Блок в автобиографии. – Однажды дед мой, видя, что мужик несет из лесу на плече березку, сказал ему: „Ты устал, дай я тебе помогу“. При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу» («Автобиография», 1915).
Жена А. Н. Бекетова, Елизавета Григорьевна, – дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии, самостоятельно выучила несколько языков, много переводила, сама писала стихи. «Наша мать, бабушка Александра Александровича, была выдающаяся женщина. Своеобразная, жизненная, остроумная и веселая, она распространяла вокруг себя праздничную и ясную атмосферу» (М. А. Бекетова «Александр Блок», 1922).
Вдруг в этом светлом доме появился совсем иной человек: умный, мрачный, нервный, напоминающий то романтических персонажей вроде Демона или Дон Жуана, то героев Достоевского (по семейной легенде, писатель встречался с ним и предполагал изобразить его в романе).
Он, утверждая, отрицал И утверждал он, отрицая. (Всё б – в крайностях бродить уму, А середина золотая Всё не давалася ему!) Он ненавистное – любовью Искал порою окружить, Как будто труп хотел налить Живой, играющею кровью… («Возмездие», первая глава, 1911)Александр Львович Блок окончил юридический факультет, но его интересы не исчерпывались будущей специальностью. Он любил Гёте и Шекспира, Лермонтова и Достоевского, прекрасно играл на фортепьяно, а последние двадцать лет жизни работал над трудом по классификации наук, собираясь написать научное сочинение в стиле Флобера, которого он считал своим учителем.
Александра Андреевна, Ася, познакомилась с «интересным мужчиной» на вечере у гимназической подруги, и ее роман поначалу развертывался по канонам тургеневской прозы. Ее воображение поразил загадочный незнакомец. Он тоже влюбился в юную девушку из университетского Эдема. Родители, понимавшие перспективного молодого человека еще хуже, чем мужиков, дали согласие. 7 января 1878 года в университетской церкви состоялось венчание восемнадцатилетней, так и не закончившей гимназии, девушки, и вместе с мужем она уехала в Варшаву, где Александр Львович получил место.
Однако эта профессорская семья оказалась несчастлива по-своему. В характере А. Л. Блока быстро обнаружились деспотизм и скупость, минуты ласковости в обращении с женой сменялись приступами ревности и гнева.
Развязка драмы последовала через два года.
В семье – печаль. Упразднена Как будто часть ее большая: Всех веселила дочь меньшая, Но из семьи ушла она, А жить – и путанно, и трудно: То – над Россией дым стоит… Отец, седея, в дым глядит… Тоска! От дочки вести скудны… Вдруг – возвращается она… Что с ней? Как стан прозрачный тонок! Худа, измучена, бледна… И на руках лежит ребенок. («Возмездие», первая глава)В психологически точном блоковском изображении есть несколько художественных смещений. В Петербург Блоки приехали вместе, но, пораженные произошедшими с дочерью изменениями, родители уговорили мужа оставить жену у них (тем более что обратно в Варшаву он собирался возвращаться в «зеленом» третьеклассном вагоне без всяких удобств, ссылаясь на отсутствие средств).
Александр Блок родился 16 (28) ноября 1880 года в самом центре Петербурга, в дедовском «ректорском флигеле», с окнами на «державную» Неву, за которой – Зимний дворец, шпиль Адмиралтейства, купол Исаакиевского собора и Сенатская площадь с Медным Всадником – памятником Фальконе как цитатой из пушкинской поэмы.
На лето семья выезжала в подмосковное имение Шахматово. Впервые попавший туда полугодовалым, Блок почти тридцать лет проводил в Шахматово каждое лето.
Всю жизнь поэта, таким образом, определили два противоположных, контрастных пространственных образа: строгая красота европейского Петербурга и обычный среднерусский пейзаж – луга, холмы, лес, высокое небо, уходящая вдаль дорога. Эти два хронотопа стали для Блока родиной, сном, вечной загадкой.
Но перед майскими ночами Весь город погружался в сон, И расширялся небосклон; Огромный месяц за плечами Таинственно румянил лик Перед зарей необозримой… О, город мой неуловимый, Зачем над бездной ты возник?.. («Возмездие», вторая глава) Ты и во сне необычайна. Твоей одежды не коснусь. Дремлю – и за дремотой тайна, И в тайне – ты почиешь, Русь. Русь, опоясана реками И дебрями окружена, С болотами и журавлями, И с мутным взором колдуна… («Русь», 24 сентября 1906)«С первых дней своего рождения Саша стал средоточием жизни всей семьи. В доме установился культ ребенка. Его обожали все, начиная с прабабушки и кончая старой няней, которая нянчила его первое время. <…> Саша был живой, неутомимо резвый, интересный, но очень трудный ребенок: капризный, своевольный, с неистовыми желаниями и непреодолимыми антипатиями. Приучить его к чему-нибудь было трудно, отговорить или остановить почти невозможно», – вспоминала его тетка М. А. Бекетова («Александр Блок», 1922).
Александра Андреевна больше не вернулась к мужу, долго требовала развода, наконец получила его и позднее (сыну было уже девять лет) вышла замуж за человека почти во всем противоположного А. Л. Блоку: скромного военного, поручика гренадерского полка Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттуха.
С отцом Блок встречался лишь в Петербурге. В 1909 году он поедет в Варшаву на его похороны, после которых начнет поэму «Возмездие» с жестоким эпиграфом из драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес»: «Юность – это возмездие».
Доверительных отношений с отчимом тоже не сложилось, Блок так и остался чужим в новой семье. Женское воспитание в его детстве и юности преобладало над мужским влиянием.
В 1891 году Блок поступил в гимназию. Но она не оставила большого следа в его биографии. Главные события, определившие его жизнь, произошли в университетские годы.
Вначале Блок пошел по стопам отца. Но трехлетнее пребывание на юридическом факультете (1898–1901) показалось ему ошибкой. «Окончив курс в СПб. Введенской (ныне – императора Петра Великого) гимназии, я поступил на юридический факультет Петербургского университета довольно бессознательно, и только перейдя на третий курс, понял, что совершенно чужд юридической науке. В 1901 году, исключительно важном для меня и решившем мою судьбу, я перешел на филологический факультет, курс которого и прошел, сдав государственный экзамен весною 1906 года (по славяно-русскому отделению) («Автобиография», 1915).
Филологическое образование, вообще-то не обязательное для поэта, не раз пригодилось Блоку впоследствии. Он издавал стихи А. Григорьева, переводил Гейне, писал многочисленные рецензии, в 1917 году редактировал отчет Следственной комиссии, рецензировал драмы, предназначенные для постановки в Большом драматическом театре. Но все это воспринималось как побочное занятие, как отвлечение от главного дела, призвания, определившегося в самом начале XX века.
ПОЭТ: ПРЕКРАСНАЯ ДАМА И ЛИЛОВЫЕ МИРЫ
Писать стихи Блок начал едва ли не с пяти лет. «С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем» («Автобиография», 1915). Но более осознанное, самостоятельное возвращение к стихам произошло уже в восемнадцатилетнем возрасте.
Интересы юного сочинителя первоначально ограничивались семейными предпочтениями – кругом русских поэтов XIX века: Жуковский, Фет, Полонский, конечно, Пушкин и Лермонтов. Мать с ее здоровым вкусом и чувством юмора была далека от новой поэзии декаданса, «упадка», которая начинает развиваться в последнее десятилетие XIX столетия. «Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой „новой поэзии“ я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева» (автобиография)».
Блок лишь однажды, случайно, увидел знаменитого русского мыслителя, который стал теоретиком, основоположником, столпом «новой поэзии», хотя категорически не принял первых символистских опытов. Но образ Соловьева, идеи Соловьева на десятилетия определили его жизнь и его поэзию. Позднее он придумал парадоксальное определение: рыцарь-монах.
«Что такое огромный книжный труд Соловьева? Только щит и меч – в руках рыцаря, добрые дела – в жизни монаха. Что щит и меч, добрые дела и земная диалектика для того, кто „сгорел душою“? Только средство: для рыцаря – бороться с драконом, для монаха – с хаосом, для философа – с безумием и изменчивостью жизни. Это – одно земное дело: дело освобождения пленной Царевны, Мировой Души, страстно тоскующей в объятиях Хаоса и пребывающей в тайном союзе с „космическим умом”» («Рыцарь-монах», 1910).
Соловьевская попытка преображения земной жизни с помощью мирного духовного подвига становится для Блока примером. Соловьевская Вечная Женственность, Мировая Душа превращается в опорный для ранней лирики Блока образ Прекрасной Дамы.
Бог, поэзия, природа, женская любовь сливаются в восприятии и стихах Блока в единый комплекс.
«Стихи – это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, – в том кроется его настоящий Бог. <…> А если так: есть Бог и во всем тем более – не в одном небе бездонном, айв „весенней неге“ и в „женской любви”», – делает Блок в январе 1902 года наброски так и не завершенной статьи о поэзии. Чуть позднее один из циклов он так и назовет – «Молитвы» (1904).
Поэт для Блока – это теург, тайновидец, рыцарь с золотым солнечным мечом, испытывающий воздействие враждебных лиловых миров, но стремящийся преодолеть его в процессе жизни-творчества.
«Дерзкое и неопытное сердце шепчет: „Ты свободен в волшебных мирах“; а лезвие таинственного меча уже приставлено к груди; символист уже изначала – теург, то есть обладатель тайного знания, за которым стоит тайное действие…<…> Золотой меч погас, лиловые миры хлынули мне в сердце. Океан – мое сердце, все в нем равно волшебно: я не различаю жизни, сна и смерти, этого мира и иных миров (мгновенье, остановись!). Иначе говоря, я уже сделал собственную жизнь искусством…» («О современном состоянии русского символизма»).
Когда-то Лермонтов довел до отточенности и блеска, оправдал, подтвердил романтические клятвы и тезисы, превратил книгу в жизнь. В новую литературную эпоху что-то подобное сделал Блок. Абстрактная философия символизма стала его органическим мировоззрением. Более или менее удачно писавшиеся старшими символистами стихи превратились у него в Книгу жизни.
Первые публикации Блока появились в 1901 году. Они сразу же были замечены и оценены энтузиастами «новой поэзии», в том числе родственниками уже умершего С. М. Соловьева, Андреем Белым, на несколько лет ставшим для Блока «другом-врагом». Вскоре выходит первый сборник Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (1904).
Андрей Белый сразу поставил Блока в ряд крупнейших русских поэтов (из современников был упомянут только В. Брюсов) и, продолжая художественную логику самого поэта, приписал его стихам, его деятельности мистически-религиозный характер. «В поэзии Блока мы повсюду встречаемся с попыткой воплощения сверхвременного видения в формах пространства и времени. Она уже среди нас, с нами, воплощенная, живая, близкая – эта узнанная наконец муза Русской Поэзии, оказавшаяся Солнцем, в котором пересеклись лучи новоявленной религии, борьба за которую да будет делом нашей жизни» («Апокалипсис в русской поэзии», 1905).
А И. Ф. Анненский, поэт старшего поколения, учитель будущих акмеистов, никогда не знавший блоковской известности, подписавший свой первый стихотворный сборник «Ник. Т. О.» (Никто), через четыре года, уже прочитав «Незнакомку», назвал Блока чемпионом наших молодых и увидел в нем неразрывную связь поэта и человека, жизни и искусства: «Это, в полном смысле слова и без малейшей иронии, – краса подрастающей поэзии, что краса! – ее очарование. Не только настоящий, природный символист, но он и сам – символ» («О современном лиризме», 1909).
Поэт угадал поэта. И личную жизнь Блок стремился строить по заветам Соловьева, канонам символизма. Такова история его любви.
В раннем детстве в университетском дворе он не раз сталкивался с девочкой, тоже профессорской дочкой, родившейся в университетских стенах. «Когда Саше Блоку было три года, а Любе Менделеевой – два, они встречались на прогулках с нянями. Одна няня вела за ручку крупную, розовую девочку в шубке и капоре из золотистого плюша, другая вела рослого розового мальчика в темно-синей шубке и таком же капоре. В то время они встречались и расходились незнакомые друг другу. А Дмитрий Иванович, придя в ректорский дом, спрашивал у бабушки: „Ваш принц что делает? А наша принцесса уж пошла гулять”» (М. А. Бекетова «Александр Блок»).
Не только квартира, но и имение знаменитого химика Боблово находилось по соседству от бекетовского Шахматова. Знакомство возобновилось в деревне в гимназическом возрасте. А еще через несколько лет, сразу после окончания гимназии, они сблизились на почве любви к театру, вместе исполняли сцены из «Гамлета» (Блок – Гамлет, Менделеева – Офелия) и «Горя от ума» (он – Чацкий, она – Софья).
Блок увидел в своей избраннице не обычную девушку, пусть образованную и обаятельную, а предсказанный Соловьевым образ Прекрасной Дамы, которой надо было рыцарски служить, Вечной Женственности, перед которой следовало смиренно, монашески преклоняться.
«Ты – мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Ты Первая моя Тайна и Последняя Моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятия принадлежит Тебе с начала и до конца. <…> Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе» (Л. Д. Менделеевой, 10 ноября 1902 г.).
Количество заглавных букв в письме Блока почти равно числу слов.
Этот странный роман, как и роман матери Блока, закончился предложением и венчанием в деревенской церкви (17 августа 1903 г.). Прекрасная Дама в действительности оказалась самостоятельной, своенравной женщиной. Семейная жизнь Блока снова заставляет вспомнить афоризм о счастливых и несчастливых семьях. Отношения Блока и Любови Дмитриевны Менделеевой, начавшиеся как баллада о рыцарской любви и поклонении, превращаются в сложный мучительный психологический роман (Достоевский мог сделать своим героем не только отца, но и сына).
«Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей. Люба создала всю эту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. <…> Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. <…> Люба на земле – страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но – 1898–1902 сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее», – признается себе Блок в записной книжке (18 февраля 1910 г.).
Радость-страданье растянулись на всю жизнь поэта. Уже после смерти Блока Любовь Дмитриевна написала мемуары, объяснение и оправдание, названные «И быль, и небылицы о Блоке и о себе». После знакомства с женской версией произошедшего А. А. Ахматова жестоко и ревниво сказала своей знакомой: «Чтобы остаться Прекрасной Дамой, от нее требовалось только одно: промолчать!» (Н. Ильина «Анна Ахматова, какой я ее видела»)
Существенно менялось отношение Блока не только к Прекрасной Даме, но и к символизму.
«Искусства не нового не бывает. Искусства вне символизма в наши дни не существует. Символист есть синоним художника», – резко возразит он многочисленным противникам символизма («Памяти В. Ф. Комиссаржевской», 1910).
Но одновременно в докладе «О современном состоянии русского символизма», сделанном в кругу союзников, соратников, автор знаменитых «Незнакомки» и «Снежной маски», создатель оригинальных лирических драм заговорил о кризисе литературного направления.
Через три года Блок отмечает в дневнике: «Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше – один, отвечаю за себя, один…» (10 февраля 1913 г.)
Но даже отрекаясь от символизма, Блок по своим творческим установкам оставался символистом. Двоемирие было главным принципом его лирики. Предметные детали – знаками, знаменованиями, намеками, символами процессов, происходящих в иных мирах.
Однако поэт становится все более чутким к социальной реальности, впускает в свои стихи современную городскую жизнь, пытается понять новые культурные явления (воюющих с символистами хулиганов-футуристов, кинематограф, воспринимаемый многими как низкопробное зрелище), много размышляет об истории, о России.
На революцию 1905 года Блок откликнулся стихами «Митинг» (10 октября 1905) и «Сытые» (10 ноября 1905). В письме близкому знакомому он шуточно спросит: «Кто ты? Я – „СОЦИАЛЬ-ДЕМОКРАТ”» (А. В. Гиппиусу, 9 ноября 1905 г.). Но через полтора месяца, в предновогоднем письме отцу, оговорится: «Никогда я не стану ни революционером, ни „строителем жизни“, и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто по природе, качеству и теме душевных переживаний» (30 декабря 1905 г.).
Вскоре после Февральской революции он запишет: «Все будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дождаться» (Ал. Блок. 22.IV.1917).
Вскоре после Октябрьской революции, на вопрос, может ли интеллигенция работать с большевиками, ответит однозначно: «Может и обязана. <…> Вне зависимости от личности, у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков. Интеллигенция всегда была революционна. Декреты большевиков – это символы интеллигенции» (14 января 1918 г.). Через четыре дня будет закончена поэма «Двенадцать» – ответ художника на происходящее в России и мире.
Прошло совсем немного времени и выяснилось, что интеллигенция и большевики, Блок и Маяковский слышат совершенно разную музыку.
МЫСЛИТЕЛЬ: КРУШЕНИЕ ГУМАНИЗМА И ВЕСЕЛОЕ ИМЯ ПУШКИН
Блок – не только поэт, но и оригинальный мыслитель. Опираясь на различные источники (В. С. Соловьев, философ и филолог Ф. Ницше, композитор и философ Р. Вагнер), он создает свою философию культуры, выраженную, однако, в поэтической, метафорической форме.
Сущностью мира является музыка – воплощение гармонии, красоты, свободного человеческого духа. Задача художника заключается в том, чтобы услышать эту музыку и передать ее в произведении. «Дело художника, обязанность художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит „разорванный ветром воздух”», – цитирует Блок любимые гоголевские слова («Интеллигенция и революция», 9 января 1918 г.).
Эту музыку художник-интеллигент подслушивает, находит с трудом. Простой же, неискушенной народной душе она дана сама по себе, от рождения, потому что такая душа ближе к природе, к основам бытия. Поэтому настоящий поэт и народ связаны как сиамские близнецы. Искусство «рождается из вечного взаимодействия двух му зык – музыки творческий личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души массы» (Дневник, 1 июня 1919 г.).
На дух музыки опиралась гуманистическая культура. Возникшая в эпоху Возрождения, проповедовавшая свободу человеческой личности она стала основой великих свершений от Данте и Петрарки до Гёте и Шиллера.
Кризис гуманизма наступил, когда на арене европейской истории «появилась новая движущая сила – не личность, а масса». Тогда на смену естественной, органической культуре, пусть и создаваемой мыслящим меньшинством, пришла цивилизация, для которой характерны всеобщая раздробленность и обособленность, вопиющие социальные противоречия, лихорадочные и бесполезные попытки науки решить свои проблемы за счет все большей специализации.
«Утратилось равновесие между человеком и природой, между жизнью и искусством, между наукой и музыкой, между цивилизацией и культурой – то равновесие, которым жило и дышало великое движение гуманизма. <…> Так великое движение, бывшее фактором мировой культуры, разбилось на множество малых движений, ставших факторами европейской цивилизации» («Крушение гуманизма», март – 7 апреля 1919 г.).
Утверждение цивилизации – и есть для Блока кризис гуманизма. Выход – в очистительном пожаре, стихийном возмущении, революции, которая расправится с болезненными и бесполезными плодами цивилизации, сохранив лишь то, что внутренне отвечает духу музыки.
«Рассматривая культурную историю XIX века как историю борьбы духа гуманной цивилизации с духом музыки, мы должны были бы переоценить многое и извлечь из громадного наследия то, что действительно нужно нам сейчас, как хлеб; нам действительно нужно то, что относится к культуре; и нам не особенно нужно то, что относится к цивилизации. <…> Исход борьбы, которая длилась полтора столетия, внутренно решен: побежденным оказалась гуманная цивилизация, победителем – дух музыки. Во всем мире звучит колокол антигуманизма; мир омывается, сбрасывая старые одежды; человек становится ближе к стихии; и потому – человек становится музыкальнее» («Крушение гуманизма»).
Вырастающая из духа музыки органическая гуманистическая культура перерождается в псевдогуманную, формальную, раздробленную цивилизацию, которая будет сметена очистительной бурей, революцией, возвращающей мир к первоначалам, естественным, природным основам, к изначальной музыке, – такова блоковская диалектика, с помощью которой он объясняет события, происходящие в России в 1917 году.
Блок, таким образом, первоначально воспринимал революцию не как политик, преследующий свои цели, или обыватель, жалующийся на трудности жизни, но как поэт-символист – в системе грандиозных метафор, исторических обобщений, пророческих предчувствий и предсказаний.
Революция – не просто социальный переворот, но природное, стихийное явление, «демократия, опоясанная бурей» (сходным с блоковским будет взгляд на революционные события в «Докторе Живаго» Б. Пастернака). Поэтому программная статья Блока «Интеллигенция и революция», финальный афоризм которой цитировали множество раз, кончается ссылкой не на Ленина, Троцкого или еще кого-то из большевистских вождей, а напоминанием о греческом философе Сократе: «…Дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию». Об этой революционной стихии, очистительном мировом пожаре, музыке мятежа написана поэма «Двенадцать».
Однако в этой же статье Блок выступает не только как поэт-мыслитель, но и как социальный диагност, человек своего класса и своей среды, беспощадно видящий, объясняющий и оправдывающий революционные катаклизмы.
Революция – это возмездие старому миру за все его исторические грехи: высокомерие и близорукость сильных, унижение бедных и слабых, социальное и культурное расслоение. В этих грехах могут быть невиновны конкретные люди, но они должны понять и стойко перенести это родовое проклятие (что-то похожее декламировал в начале века чеховский «вечный студент» Петя Трофимов).
«Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.
Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.
Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью. <…>
Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать „лучшие“. <…>
Что же вы думали? Что революция – идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ – паинька? Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так „бескровно“ и так „безболезненно“ и разрешится вековая распря между „черной“ и „белой“ костью, между „образованными“ и „необразованными“, между интеллигенцией и народом?» («Интеллигенция и революция»)
На эти вопросы Блок и многие его современники, в том числе соратники по символизму, отвечали совершенно по-разному.
Непримиримая 3. Гиппиус видела в происходящем бессмысленное разрушение, бунт взбесившейся черни, не музыку, а дьявольскую какофонию.
Блевотина войны – октябрьское веселье! От этого зловонного вина Как было омерзительно твое похмелье, О бедная, о грешная страна! <…> Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, Смеются пушки, разевая рты… И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, Народ, не уважающий святынь. («Веселье», 29 октября 1917)Блок прозревал в революционных событиях будущую гармонию. «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и – по-новому – великой. <…>
Что же задумано?
Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.
Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, – это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное – называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется революцией» («Интеллигенция и революция»).
Помогать этой революции, работать с большевиками Блок начал с первых же дней Советской власти. На него наваливается множество административных дел и обязанностей. Он служит в учрежденном Горьким издательстве «Всемирная литература», председательствует в дирекции Большого драматического театра, входит во многие другие писательские и культурные организации, рецензирует, пишет заявления, заседает, принимает резолюции. Слово заседание в его дневниках послереволюционных лет встречается много чаще, чем слова стихи или поэзия.
Как и все жители России, Блок претерпевает многочисленные бытовые трудности: голод, тьму и холод, стояние в очередях, внезапные обыски, трудности передвижения по стране и невозможность выехать за границу. Человек, много и с удовольствием занимавшийся не только умственным, но и физическим трудом («Он говорил даже, что работа везде одна: „что печку сложить, что стихи написать…”» – М. А. Бекетова), оказался неспособным к житейской изворотливости, добыванию благ и привилегий. Его квартиру «уплотнили», поэтические вечера, на которые собиралось множество людей, не приносили ему почти никаких средств.
На одном из писательских заседаний К. Чуковский написал шуточные стихи: Поверят ли влюбленные потомки, Что наш магический, наш светозарный Блок Мог променять объятья Незнакомки На дровяной паек.Блок достойно ответил в той же шуточной манере:
Но носящему котомки И капуста – ананас; Как с прекрасной незнакомки, Он с нее не сводит глаз, А далекие потомки И за то похвалят нас, Что не хрупки мы, не ломки, Здравствуем и посейчас (Да-с) («Стихи о предметах первой необходимости», 6 декабря 1919)Ощущение поэтического взлета, полета прошло. На смену цивилизации шла не культура, а новая, даже более тяжелая, форма того же самого, ненавидимого Блоком социального устройства. Творчество жизни обернулось сидением на бесконечных заседаниях и бесплодным прожектерством.
Новая власть быстро обнаружила родимые пятна власти прежней: бюрократизм и формализм, пренебрежение к простому человеку, дух всеобщего разделения и обособления. Привычной оставалась атмосфера вседозволенности, насилия, которое становилось нормой.
«Чего нельзя отнять у большевиков – это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей. Не знаю, плохо это или не особенно. Это – факт», – замечает Блок. Нарисовав неприглядную картину петроградского пригорода (сгоревшие дачи, которые никто не тушил, загаженный лес, оскверненная часовня), он пытается объяснить и это, найти для «народа» смягчающие обстоятельства: «Никто ничего не хочет делать. Прежде миллионы из-под палки работали на тысячи. Вот вся разгадка. Но почему миллионам хотеть работать? И откуда им понимать коммунизм иначе, чем – как грабеж и картеж?» (Дневник, 11 июня 1919 г.)
Куда мучительней было ощущение, что музыка, которую Блок слышал в начале восемнадцатого года, покидает его как художника, что стихи уходят (настоящий поэт не может писать как чиновник, изо дня в день).
На одном из московских выступлений весной 1921 года, где поэт читал старые стихи (когда он что-то забывал, из публики подсказывали: там помнили любимые строчки лучше автора), на трибуне появился слушатель и объявил, что Блок исписался, что он – литературный мертвец. Сидящие в зале протестовали, но некоторым своим знакомым Блок сказал, что выступавший прав: он больше не может писать стихи.
Последней попыткой услышать музыку было выступление на пушкинском празднике в Доме печати.
В статье «О назначении поэта» (10 февраля 1921 г.), через три дня прочитанной на вечере, посвященном 84-й годовщине со дня смерти Пушкина, Блок еще раз напомнил о «веселых истинах здравого смысла», определяющих природу искусства и его собственное творчество.
«Поэт – сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых – освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых – привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих – внести эту гармонию во внешний мир».
Мешает поэту исполнить его миссию не простонародье, «люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, за которым охотятся», а чернь, в пушкинскую эпоху представленная придворной знатью, а позднее смененная чиновничеством, бюрократией.
«Пушкина… убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура», – афористически формулирует Блок.
И конкретизирует мысль, легко переходя от истории к современности, делая предупреждение наследникам Дантеса и Бенкендорфа: «Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл.
Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черви. Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзией Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них.
Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение».
Параллельно с речью Блок высказал сходные мысли в стихах, последнем написанном им лирическом произведении – «Пушкинскому Дому» (11 февраля 1921), сознательно используя, стилизуя и характерный для пушкинский эпохи размер (четырехстопный хорей), и старомодные рифмы (свободу – непогоду, сладость – радость, года – тогда).
Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе! Не твоих ли звуков сладость Вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость Окрыляла нас тогда? Вот зачем такой знакомый И родной для сердца звук — Имя Пушкинского Дома В Академии Наук. Вот зачем, в часы заката Уходя в ночную тьму, С белой площади Сената Тихо кланяюсь ему.Герой стихотворения имеет четко зафиксированную позицию, точку зрения: с Сенатской площади он смотрит через Неву на набережную Васильевского острова.
Стоя на Сенатской площади, Блок прощается не с домом, где он родился (ректорский флигель как раз напротив), а со своей духовной, поэтической родиной, символизируемой Пушкинским домом (в начале двадцатых годов он находился чуть правее университета, в здании Академии наук).
Уходя из литературы, умирая, Блок клянется «веселым именем Пушкина». В пушкинской речи и последних стихах «крушение гуманизма» отменяется. Сладость искусства и радость бытия восстанавливаются в правах. «Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно».
Когда-то, семнадцатилетним, Блок заполнил «Альбом признаний», где своим любимым занятием назвал театр, любимыми героями – Гамлета и Тараса Бульбу, героиней – Наташу Ростову, а на вопрос, каким образом желал бы умереть, ответил: «На сцене от разрыва сердца».
Он умирал медленно и мучительно в своей квартире от какой-то непонятной болезни. 26 мая 1921 года он написал К. Чуковскому, припомнив свои полуторалетней давности шуточные стихи: «Итак, „здравствуем и посейчас“ сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».
7 августа 1921 года сердце Блока остановилось. Близкие заметили, что после смерти он стал похож на Дон Кихота, рыцаря печального образа, всю жизнь защищавшего честь своей Прекрасной Дамы.
Для поэтов следующего поколения он стал тем, кем был для своих ближайших современников и потомков Пушкин: эстетическим ориентиром, человеческим образцом, наиболее полным отражением трагической эпохи.
Он прав: опять фонарь, аптека, Нева, безмолвие, гранит… Как памятник началу века, Там этот человек стоит… (А. Ахматова.«Он прав: опять фонарь, аптека…», 4 июня 1946)ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Блока
ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ: ЛИЦО И МАСКИ
Марина Цветаева (об этом уже шла речь в главе о Фете) делила творцов на поэтов с историей и поэтов без истории.
Вторые рождаются сразу, мгновенно; они пришли в мир не познавать, а сказать; их творчество – варьирование появившихся уже в первых стихах тем и мотивов; оно похоже на круг или реку, вода в которой – одна и та же. Фет, Тютчев – характерные примеры поэтов без истории.
Поэты с историей, напротив, проходят долгий и сложный путь познания, часто разительно меняются; ранние их стихи бывают удивительно непохожи на поздние; их творчество сравнивается с пущенной в бесконечность стрелой.
Тема пути и лирический герой, авторское «я» – характерные черты поэтов с историей.
Блок – идеальный пример такого поэта. Не случайно даже понятие «лирический герой» литературовед Ю. Н. Тынянов впервые применил к его творчеству. «Блок – самая большая лирическая тема Блока. Это тема притягивает как тема романа еще новой, нерожденной (или неосознанной) формации. Об этом лирическом герое и говорят сейчас.
Он был необходим, его уже окружает легенда, и не только теперь – она окружала его с самого начала, казалось даже, что она предшествовала самой поэзии Блока, что его поэзия только развила и дополнила постулированный образ.
В образ этот персонифицируют все искусство Блока; когда говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией невольно подставляют человеческое лицо – и все полюбили лицо, а не искусство» («Блок», 1921).
Но Блоку-поэту было недостаточно собственной биографии и вырастающего из нее лирического героя. Он (и в этом его творчество напоминает некрасовское) часто перевоплощался в других персонажей, создавал ролевую лирику, героями которой становились вечные образы европейской культуры. Наряду со стихотворениями, объединенными образом лирического героя, Ю. Н. Тынянов увидел в лирике Блока много стихотворных новелл. «Новеллы эти в ряду других стихотворных новелл Блока выделились в особый ряд; они то собраны в циклы, то рассыпаны: Офелия и Гамлет, Царевна и Рыцарь, Рыцарь и Дама, Кармен, Князь и Девушка, Мать и Сын» (Ю. Н. Тынянов «Блок», 1921).
И стихи, объединенные образом лирического героя, и многочисленные его перевоплощения, маски ролевой лирики (один из циклов Блока так и называется, «Снежная маска») в конце концов сложились в сложную, уникальную картину, противоречивое единство которой первым осознал сам поэт.
ПУТЬ: ТРИЛОГИЯ ВОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ
«Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, – является чувство пути, – утверждал Блок. – Писатель – растение многолетнее. Как у ириса или у лилии росту стеблей и листьев сопутствует периодическое развитие корневых клубней, – так душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его – только внешние результаты подземного роста души» («Душа писателя», 1909).
Хронологически путь поэта от произведений, вошедших в первый сборник, до «Двенадцати» укладывается в двадцать лет (1898–1918). Однако, опубликовав «Стихи о Прекрасной Даме» в 1904 году, Блок уже через семь лет фактически подводит итоги в трехтомном «Собрании стихотворений».
В предисловии к нему содержится важная подсказка, дающая ключ к правильному восприятию блоковского творчества. «Тем, кто сочувствует моей поэзии, не покажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме стихотворений; многие из них, взятые отдельно, не имеют цены; но каждое стихотворение необходимо для образования главы; из нескольких глав составляется книга; каждая книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу назвать „романом в стихах“: она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых двенадцати лет сознательной жизни» (9 января, 1911 г.).
Порой сочиняя стихотворения очень быстро (есть случаи, когда несколько текстов датированы одним днем), Блок впоследствии включал их в более сложную структуру, в которой они оказывались важной частью целого – «романа в стихах» (несомненны пушкинские истоки этого жанрового определения).
Позднее основное собрание было дополнено старыми и новыми стихотворениями, несколько раз переиздано, но его композиция, определенная самим Блоком, осталась прежней, стала общепринятой, канонической.
Одним из первых в русской поэзии книгу стихов «Сумерки» (1840) составил Е. А. Баратынский. По принципу циклизации и дополнительной художественной организации строились четыре выпуска «Вечерних огней» (1883–1891) и более ранние книги А. А. Фета, «Кипарисовый ларец» И. Ф. Анненского (1910). Целостные сборники стихов составляли и другие символисты («Будем как солнце!» К. Д. Бальмонта, 1903). Но только Блок сделал мышление книгами основой всего лирического творчества. По такому пути пошли многие поэты XX века (Ахматова, Мандельштам, Пастернак), превращавшие отдельные стихотворения в «роман в стихах», включавшие даже неопубликованные книги в общий счет.
Итоговое блоковское собрание состоит из трех книг, включающих стихи 1898–1904, 1904–1908 и 1907–1916 годов. Книги делятся на озаглавленные по разным принципам части-главы.
Книга первая: «Ante lucem» (Перед светом), «Стихи о Прекрасной Даме» (сюда входят шесть нумерованных хронологически датированных разделов, которые Блок тоже называл главами) – «Распутья».
Книга вторая: «Пузыри земли», «Ночная фиалка» – «Разные стихотворения» – «Город», «Снежная маска» (состоящая из разделов «Снега» и «Маски»), «Фаина», «Вольные мысли».
Книга третья: «Страшный мир», «Возмездие», «Ямбы», «Итальянские стихи», «Разные стихотворения», «Арфы и скрипки», «Кармен», «Соловьиный сад», «Родина», «О чем поет ветер».
Но это еще не все. Отдельные главы составляют циклы, которых особенно много в третьем томе: «Пляски смерти», «Жизнь моего приятеля» и «Черная кровь» – в «Страшном мире»; «Флоренция» и «Венеция» – в «Итальянских стихах»; «На поле Куликовом» – в «Родине».
Таким образом, отдельное стихотворение входит как кирпичик в цикл – главу – книгу – наконец, «роман в стихах».
Более конкретно фабулу и смысл этого романа Блок пояснил через несколько месяцев в письме своему соратнику по символизму. «…Таков мой путь… теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе – „трилогия вочеловечения“ (от мгновения слишком яркого света – через необходимый болотистый лес – к отчаянью, проклятиям, „возмездию“ и… – к рождению человека „общественного“, художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный матерьял, вглядываться в контуры, добра и зла“ – ценою утраты части души)» (Андрею Белому, 6 июня 1911 г.).
КНИГА ПЕРВАЯ: МГНОВЕНИЯ СЛИШКОМ ЯРКОГО СВЕТА
Мгновение слишком яркого света – это ожидание Прекрасной Дамы и встреча с ней. Поэтому разделу ранних стихов (в них отразился «курортный роман» 1897 года, влюбленность семнадцатилетнего Блока в женщину, которая была много старше его; с воспоминаниями о ней будет связан цикл «Через двенадцать лет», включенный уже в третью книгу) было дано латинское заглавие «Ante lucem», «Перед светом».
Биографы Блока, опираясь на его дневники и письма, объясняют, что в основе первой книги – развитие отношений поэта с Л. Д. Менделеевой: встречи в Петербурге и Шахматово, свидания, размолвки, счастливый (казалось) финал.
«Пять изгибов сокровенных / Добрых линий на земле…» – начинает Блок стихотворение, написанное 10 марта 1901 года (оно не было включено в основную часть «Стихов о Прекрасной Даме», но в книге есть стихи, написанные в те же дни). И заканчивает не менее загадочно:
Пять изгибов вдохновенных, Семь и десять по краям, Восемь, девять, средний храм — Пять стенаний сокровенных, Но ужасней – средний храм — Меж десяткой и девяткой, С черной, выспренней загадкой, С воскуреньями богам.Загадка разъясняется при обращении к блоковскому дневнику. «…Я встретил Любовь Дмитриевну на Васильевском острове (куда я ходил покупать таксу, названную скоро Краббом). Она вышла из саней на Андреевской площади и шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту – до 10-й линии, я же, не замеченный Ею, следовал позади (тут – витрина фотографии близко от Среднего проспекта). Отсюда появились „пять изгибов”» – вспоминает он, подводя итоги жизни и, возможно, готовя материал к так и не осуществленному комментированному изданию „Стихов о Прекрасной Даме”» (30 августа 1918 г.).
И через две недели еще раз возвращается к этой встрече и своему стихотворению: «Тогда же мне хотелось ЗАПЕЧАТАТЬ мою тайну, вследствие чего я написал зашифрованное стихотворение, где пять изгибов линий означали те улицы, по которым она проходила, когда я следил за ней, незамеченный ею (Васильевский остров, 7-я линия – Средний проспект – 8-9-я линии – Средний проспект – 10-я линия).
Ее образ, представший передо мной в том окружении, которое я признавал имеющим значение не случайное, вызвал во мне, вероятно, не только торжество пророчественное, но и человеческую влюбленность, которую я, может быть, проявил в каком-нибудь слове или взгляде, очевидно вызвавшем новое проявление се суровости» (11 сентября 1918 г.).
Рассказу о реальной встрече предшествует воспоминание о мистическом видении. «В конце января и начале февраля… явно является Она. Живая же оказывается Душой Мира (как определилось впоследствии), разлученной, плененной и тоскующей…»
Она в разных стихах первой книги обозначается как Закатная Таинственная Дева; Голубая царица земли; Дева, Заря, Купина; Величавая Вечная Жена, Солнце и т. п.
Символическая, непостижимая Величавая Вечная Жена и реальная девушка, будущая жена, оказываются разными гранями, ипостасями Прекрасной Дамы.
Но, читая «Стихи о Прекрасной Даме», мы не узнаем ни имени возлюбленной поэта, ни улиц Васильевского острова, ни витрины фотографии, не говоря уже о такой бытовой подробности, как покупка таксы. Высокая поэзия, мистика отодвигает в сторону, «уничтожает» быт.
Герой страдает, преклоняется, ждет, молится, окруженный гармоническим пейзажем: ярким солнцем или тихой ночью, на пустынных улицах и площадях, в гулком мире, где он слышит лишь собственный голос и предчувствует неописуемый облик Ее.
Отдых напрасен. Дорога крута. Вечер прекрасен. Стучу в ворота. Дольнему стуку чужда и строга, Ты рассыпаешь кругом жемчуга. Терем высок, и заря замерла. Красная тайна у входа легла. («Отдых напрасен. Дорога крута…»,28 декабря 1903)Так начинается «Вступление» – первое стихотворение основного раздела первой книги. Все основные его мотивы имеют обобщенный, символический характер. Символична крутая дорога лирического героя и его неутомимость, сказочна рассыпающая жемчуга Царевна (это еще один псевдоним Прекрасной Дамы), условен ее терем с узорным коньком над входом.
Точно так же условны, символичны детали, наверное, самого известного стихотворения книги «Вхожу я в темные храмы…» (25 октября 1902), написанного необычным еще для этой эпохи трехдольником. Вместо терема здесь появляются храмы. Они представлены общеизвестными деталями: темные, с высокими колоннами, красными лампадами и свечами.
Где находятся эти храмы, какому вероисповеданию они принадлежат, когда их посещает лирический герой? Поэтика «Стихов о Прекрасной Даме не предполагает таких вопросов. Перед нами описание психологической ситуации мистического ожидания, в котором каждая подробность изымается из бытовых связей и превращается в условный знак, символ.
О, Святая, как ласковы свечи, Как отрадны Твои черты! Мне не слышны ни вздохи, ни речи, Но я верю: Милая – Ты.У А. Фета есть стихотворение «Жду я, тревогой объят…», тоже связанное с ситуацией ожидания. Фет рисует именно эту «чудную картину», пытается передать поэзию мгновения. Любовное свидание здесь изображено как уникальное событие. Вечная весна становится признаком любимой женщины (хотя ее образ тоже остается лирически неопределенным).
Блок, напротив, любимую девушку представляет как образ вечности, символическое воплощение мистических предчувствий и видений. Ее реальная прогулка превращается в блоковском стихотворении в таинственные изгибы какого-то символического пути.
Все, к чему прикасается лирический герой «Стихов о Прекрасной Даме», превращается в тайный знак. Общесимволистское двоемирие в стихах первого тома становится мироподобием.
В городе колокол бился, Поздние славя мечты. Я отошел и молился Там, где провиделась Ты.<…>
Все отошло, изменило, Шепчет про душу мою… Ты лишь Одна сохранила Древнюю Тайну Свою. («В городе колокол бился…»,15 сентября 1902) Жарки зимние туманы — Свод небесный весь в крови. Я иду в иные страны Тайнодейственной любви. («Голос», 3 декабря 1902)Через много лет Блок, готовя так и не осуществленное комментированное издание, назвал первую книгу «бедное дитя моей юности» и признавался, что при ее чтении он «чувствовал себя заблудившимся в лесу собственного прошлого».
Не отказываясь от прошлого, Блок, тем не менее, чувствовал необходимость выйти из леса, покинуть идеальный мир любви ради иного мира, в котором существуют другие люди.
«„Стихи о Прекрасной Даме“ – ранняя утренняя заря – те сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь. Одиночество, мгла, тишина – закрытая книга бытия, которая пленяет недоступностью, дразнит странным узором непонятных страниц. Там все будущее – за семью печатями», – подводил он итоги своего пути на очередном повороте. – «„Нечаянная Радость“ – первые жгучие и горестные восторги – первые страницы книги бытия. Чаши отравленного вина, полувоплощенные сны. С неумолимой логикой падает с глаз пелена, неумолимые черты безумного уродства терзают прекрасное лицо. Но в буйном восторге душа поет славу новым чарам и новым разуверениям; ей ведомы новые отравы, новый хмель. Готовая умереть, она чудесно возрождается; готовая к полету, срывается в пропасть – и плачет, и плачет на дне. Израненная – поет. Избитая – кричит. Истоптанная – возносится к прозрачной синеве» («Вместо предисловия к сборнику „Земля в снегу“, март 1908).
Стихи из сборника «Нечаянная радость» стали основой второго тома лирики.
КНИГА ВТОРАЯ: ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ И ГОРОД-ПРИЗРАК
В примечаниях к «Стихам о Прекрасной Даме» (январь 1911 г.) Блок заметил, что в этой книге «деревенское преобладает над городским; все внимание направлено на знаки, которые природа щедро давала слушавшим ее с верой».
Во втором томе знаки меняются: на смену светлой вере приходит ироническое или мрачное суеверие. В начинающей вторую книгу главе «Пузыри земли» появляются болотные чертеняки и попик, твари весенние, больная русалка – вечность болот, пришедшая то ли из страшных фольклорных быличек, то ли из Шекспира (эпиграф к разделу взят из трагедии «Макбет», в которой появляются ведьмы-искусительницы).
В других стихотворениях деревенский пейзаж тоже становится иным. Он строится на конкретных, узнаваемых деталях, в которых проявляется новое чувство лирического героя: ожидание, тоска, предчувствие смерти.
Выхожу я в путь, открытый взорам, Ветер гнет упругие кусты, Битый камень лег по косогорам, Желтой глины скудные пласты. Разгулялась осень в мокрых долах, Обнажила кладбища земли, Но густых рябин в проезжих селах Красный цвет зареет издали.(«Осенняя воля», июль 1905)
Центром второй книги, однако, стал раздел «Город» (1904–1908) и вообще городской хронотоп. Теперь блоковский город – не абстрактное пространство с таинственными изгибами, где должна явиться Она, а вполне узнаваемый Петербург, в котором зловещий Медный Всадник («Там, на скале, веселый царь / Взмахнул зловонное кадило…» – «Петр», 22 февраля 1904) сосуществует с кабаками, каморками, углами, напоминающими об урбанистических пейзажах Достоевского и Некрасова.
Белая ночь – привычная деталь, синекдоха парадного образа города пышного («Медный всадник»). Сравним ее изображение в первом и втором томах блоковской лирики.
Белой ночью месяц красный Выплывает в синеве. Бродит призрачно-прекрасный, Отражается в Неве. Мне провидится и снится Исполненье тайных дум. В вас ли доброе таится, Красный месяц, тихий шум?.. («Белой ночью месяц красный…»,22 мая 1901)Белая ночь в этом стихотворении отражается – по сходству – в исполненной «тайных дум» душе лирического героя, ожидающего от этого призрачно-прекрасного мира добра. Фольклорный эпитет (месяц красный) обозначает здесь не столько цвет, сколько идеальное качество предмета. Вообще, Петербург с отраженным в Неве месяцем и тихим шумом напоминает какой-то провинциальный город в глубине России.
С каждой весною пути мои круче, Мертвенней сумрак очей. С каждой весною ясней и певучей Таинства белых ночей. Месяц ладью опрокинул в последней Бледной могиле, – и вот Стертые лица и пьяные бредни… Карты… Цыганка поет. («С каждой весною пути мои круче…»,7 мая 1907)В стихотворении из второго тома пейзаж соотносится с состоянием лирического героя уже не по сходству, а по контрасту. Ясность, певучесть, таинство белых ночей не может победить мертвенного сумрака очей. Отражающая месяц Нева становится его бледной могилой. На смену тихому шуму приходят режущие слух и глаз диссонансы большого города: пьяные бредни, пение цыганки.
Непримиримый конфликт, несовместимость героя и пейзажа приобретает в одной из последующих строф особенную наглядность: «Видишь, и мне наступила на горло, / Душит красавица ночь…»
«Иную, по-новому загадочную, белую ночь дает нам, например, Александр Блок», – заметил И. Ф. Анненский («О современном лиризме»).
Таким образом, во втором томе лирики Блока передний план, изображение этого мира, становится более конкретным. Но исходная установка символизма – двоемирие, намек на мир иной – сохраняется, определяя единство поэтического развития.
Конфликт-контраст реального и воображаемого миров определяет композицию «Незнакомки» (24 апреля 1906), возможно самого знаменитого блоковского стихотворения второго тома.
Первая его часть (шесть строф) строится на сниженных, антипоэтических бытовых деталях: женский визг и детский плач, пошлые прогулки и шутки испытанных остряков, пьяные крики в ресторане на фоне сонных физиономий скучающих лакеев. Даже весенний дух этого петербургского пригорода назван тлетворным, а тихий месяц (на дворе снова – белая ночь?) оборачивается бессмысленной кривой ухмылкой диска.
Но среди этого безобразия во второй части стихотворения (в ней тоже шесть строф) возникает то ли реальная женщина, то ли (что вероятнее) греза пьянеющего и страдающего героя, очередное воплощение Прекрасной Дамы. Незнакомка напоминает светских аристократок пушкинской эпохи, однако, она одета по современной моде: шелковое платье, шляпа с перьями, унизанные кольцами руки, скрывающая лицо вуаль. Ее явление – знак иного мира, мечта о высокой любви, абсолютном понимании и служении.
И странной близостью закованный, Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный И очарованную даль.<…>
И перья страуса склоненные В моем качаются мозгу, И очи синие бездонные Цветут на дальнем берегу.Эта мечта, однако, все время грозит обернуться обманом чувства, похмельной иллюзией, навязчивым предложением падшей кабацкой «этуали». Последняя строфа, кода, выводит на очную ставку грезу и реальность. Но сокровище внутреннего мира оказывается для героя важнее реальности: он повторяет фразу ресторанных пьяниц, потому что вино позволяет ему увидеть «очарованную даль».
В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне! Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине!«Жизнь стала искусством, я произвел заклинания, и передо мною возникло, наконец, то, что я (лично) называю „Незнакомкой“: красавица кукла, синий призрак, земное чудо, – объясняет Блок свой замысел уже не в стихах, а в прозе. – Незнакомка. Это вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это – дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового» («О современном состоянии русского символизма»).
Во втором томе, таким образом, на смену однородной – светлой и мистической – атмосфере тома первого приходят демонические, дьявольские мотивы, сомнения, душевное смятение. Мироподобие сменяется конфликтом, несовместимостью, контрастом земного и нездешнего миров.
В том же цикле «Город» через два текста после «Незнакомки» помещено стихотворение «Холодный день» (сентябрь 1906). Написанное почти на четыре года раньше, оно, легкими штрихами воссоздавая лирическую ситуацию первого тома, окончательно «заземляет» ее, погружает в грубую реальность.
Мы встретились с тобою в храме И жили в радостном саду, Но вот зловонными дворами Пошли к проклятью и труду.Первые два стиха – напоминание о мире первой книги, о деревенском и городском Эдеме (радостный сад и храм). Но они сразу сменяются признаками современного города (эпитет зловонный словно позаимствован из «Преступления и наказания»).
Дальнейшая судьба героев после предназначенной встречи оказывается тяжким, однообразным существованием, мучительно-беспросветной жизнью без идеала.
И вот пошли туда, где будем Мы жить под низким потолком, Где прокляли друг друга люди, Убитые своим трудом.<…>
Нет! Счастье – праздная забота, Ведь молодость давно прошла. Нам скоротает век работа, Мне – молоток, тебе – игла.Выходом из этого состояния тоскливой безнадежности оказывается идея долга, прежде всего – долга Художника.
В стихотворении «Балаган» (ноябрь 1906) лирический герой превращается в бродячего актера, участника труппы исполнителей итальянской народной комедии.
Те же персонажи – Арлекин, Пьеро, Коломбина – появлялись в лирической драме Блока «Балаганчик» (январь 1906). Но там они изображались в горько-иронической манере: Коломбина оказывалась «картонной невестой», паяц истекал клюквенным соком, а мистики рассуждали о пришествии смерти.
В стихотворении на смену иронии приходит патетика, высокий строй мысли. Грубоватый, кажется, эпиграф, заимствованный Блоком из драмы А. Дюма, посвященной знаменитому английскому актеру, сыгравшему многих шекспировских героев, говорит, на самом деле, о честном исполнении профессионального долга.
«Ну, старая кляча, пойдем ломать своего Шекспира!» – говорит выходящий на сцену актер или идущий на урок учитель. Это не ирония, а юмор, скрывающий подлинное, серьезное и глубокое отношение к своему делу.
Тащитесь, траурные клячи! Актеры, правьте ремесло, Чтобы от истины ходячей Всем стало больно и светло! В тайник души проникла плесень, Но надо плакать, петь, идти, Чтоб в рай моих заморских песен Открылись торные пути.Подлинное чувство, оказывается, может высказать себя с помощью банальных, «ходячих» истин. А путь в «рай заморских песен» пролегает по привычному российскому бездорожью.
В цикле «Вольные мысли» (1907) обращаясь к пушкинскому нерифмованному (белому) стиху, Блок воссоздает пейзажи петербургских окрестностей во множестве конкретных деталей, уже без всякого намека на явление Прекрасной Дамы и грезы об иных мирах.
Контраст миру пошлости и безвкусицы («Что сделали из берега морского / Гуляющие модницы и франты? / Наставили столов, дымят, жуют, / Пьют лимонад. / Потом бредут по пляжу, / Угрюмо хохоча и заражая / Соленый воздух сплетнями») здесь тоже традиционно-пушкинский: страстная любовь, природа, искусство.
Хочу, Всегда хочу смотреть в глаза людские, И пить вино, и женщин целовать, И яростью желаний полнить вечер, Когда жара мешает днем мечтать И песни петь! И слушать в мире ветер! («О смерти»)Эта поэтизация простых посюсторонних, «здешних» ценностей бытия – переходный мостик к лирике третьего тома. Второй том был книгой распутий. Третья книга демонстрировала выход на новые пути.
КНИГА ТРЕТЬЯ: ВСЁ СУЩЕЕ – УВЕКОВЕЧИТЬ
Период, когда писались стихи второго тома, Блок определял как венец антитезы («О современном состоянии русского символизма»). Третья книга стала синтезом, не отменяющим, а вбирающим, включающим исходные противоположности. Ее главную тему, доминанту, Блок, как мы помним, определял как «рождение человека „общественного“ художника, мужественно глядящего в лицо миру».
В «Страшном мире» и «Возмездии» мир земной предстает средоточием ужаса и мрака, отпечатком тех дьявольских лиловых миров, которые пришли на смену солнечному миру Прекрасной Дамы.
В «Незнакомке» героиня еще может восприниматься как посланница светлого мира, хотя в прозаическом комментарии Блок выявляет ее демоническую суть, «дьявольский сплав». В написанном несколькими днями раньше стихотворении «В ресторане» (19 апреля 1910), включенном, однако, в раздел «Страшный мир» третьего тома, разрыв между реальностью и мечтой уже совершенно очевиден. Девушка не является, а приходит со спутником в тот же ресторан, надменно отвечает на поэтический жест («Обратясь к кавалеру, намеренно резко / Ты сказала: „И этот влюблен”») и преображается в прекрасное видение лишь в воображении лирического героя.
Ты рванулась движеньем испуганной птицы, Ты прошла, словно сон мой легка… И вздохнули духи, задремали ресницы, Зашептались тревожно шелка.Однако, в отличие от «Незнакомки», стихотворение «В ресторане» оканчивается утверждением права не высокой мечты, а низкой действительности: кабацкие звуки заглушают сон, голос иного мира.
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала И, бросая, кричала: «Лови!..» А монисто бренчало, цыганка плясала И визжала заре о любви.Мотив бессмысленности, гибельности человеческой жизни и усилий варьируется Блоком многократно, приобретая то грандиозный, космический, то очень простой, элементарный – и едва ли не более страшный – характер.
Вот один, гиперболический, образ страшного мира:
Миры летят. Года летят. Пустая Вселенная глядит в нас мраком глаз. А ты, душа, усталая, глухая, О счастии твердишь, – который раз?<…>
Что счастие? Короткий миг и тесный, Забвенье, сон и отдых от забот… Очнешься – вновь безумный, неизвестный И за сердце хватающий полет…Мир Тютчева объединяется образом живой бездны мироздания, гармонического космоса. Вселенная Блока – бездушный механизм, железный волчок, «запущенный куда-то как попало».
И, уцепясь за край скользящий, острый, И слушая всегда жужжащий звон, — Не сходим ли с ума мы в смене пестрой Придуманных причин, пространств, времен… («Миры летят. Года летят. Пустая…»,2 июля 1912)Этому стихотворению предшествует цикл «Пляски смерти» с ключевым вторым стихотворением, написанным всего несколькими месяцами позже (10 октября 1912).
Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Все будет так. Исхода нет. Умрешь – начнешь опять сначала. И повторится все, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь.Простые детали петербургского пейзажа (аптека, которую мог иметь в виду Блок, находится на Петроградской стороне, на берегу Малой Невки, и имеет точный адрес) здесь тоже становятся знаками мирового, вселенского ужаса. Композиционное кольцо подчеркивает идею этой дурной, бессмысленной повторяемости, почти буддийской череды перевоплощений, но без благодетельного отдыха-конца в виде нирваны.
Но после экспозиционных «Страшного мира» и «Возмездия» следуют разделы «Ямбы», «Итальянские стихи», «Арфы и скрипки» и кульминация книги – «Родина», резко меняющие темы, пафос, образность третьего тома.
Мы уже сравнивали две блоковские белые ночи – из первого и второго тома. Вот еще один тематически сходный пейзаж из стихотворения, входящего в раздел «Арфы и скрипки»:
Май жестокий с белыми ночами! Вечный стук в ворота: выходи! Голубая дымка за плечами, Неизвестность, гибель впереди!Это описание только формально, упоминанием о явлении, которое привычно связывают с Петербургом, напоминает о городе и страшном мире. Но его доминирующая эмоция, его пафос противоположны дурной бесконечности стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека…».
Написанное на четыре года раньше, стихотворение поставлено в другой раздел, во второй половине книги. Отдельные произведения пишутся под влиянием разных эмоций. Но располагает их поэт в соответствии с сюжетом «романа в стихах». Приобретая, как и в стихотворении из первого тома, фольклорный, простонародный колорит, пейзаж наполняется весельем, энергией силой.
Хорошо в лугу широком кругом В хороводе пламенном пройти, Пить вино, смеяться с милым другом И венки узорные плести, Раздарить цветы чужим подругам, Страстью, грустью, счастьем изойти, — Но достойней за тяжелым плугом В свежих росах поутру идти! («Май жестокий с белыми ночами!»,28 мая 1908)Первоначально стихотворение называлось «Родине». А под идущим за плугом человеком, как следует из блоковской статьи «Солнце над Россией» (1908), подразумевался Л. Толстой. Белая ночь с которой начинается стихотворение, становится не знаком Петербурга, а символом России.
Художник должен искать выход из страшного мира, и он его находит. В начальном стихотворении «Ямбов» подхвачены размер (четырехстопный ямб) и интонация «Балагана». Но теперь Блок отбрасывает маску бродячего актера и прямо, от первого лица, в форме заклинания определяет задачу художника.
О, я хочу безумно жить: Всё сущее – увековечить, Безличное – вочеловечить, Несбывшееся – воплотить! Пусть душит жизни сон тяжелый, Пусть задыхаюсь в этом сне, — Быть может, юноша веселый В грядущем скажет обо мне: Простим угрюмство – разве это Сокрытый двигатель его? Он весь – дитя добра и света, Он весь – свободы торжество! («О, я хочу безумно жить…»,5 февраля 1914)Образы юноши веселого и поэта как дитя добра и света напоминают о поэтических декларациях Пушкина: «Быть может (лестная надежда!), /Укажет будущий невежда / На мой прославленный портрет / И молвит: то-то был поэт!»; «Чувства добрые я лирой пробуждал»; «Восславил я свободу»).
Чем дальше, тем более значимым для Блока становилось «веселое имя Пушкин».
В безграничном пространстве третьего тома гулко отдаются, легко узнаются темы и образы не только Пушкина, но и Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Толстого (Блок признавался, что стихотворение «На железной дороге» возникло под влиянием одной сцены из романа «Воскресение»).
Для Блока они становятся точками опоры, важными красками новой картины русской и мировой жизни рубежа веков, где уживаются отзвуки Куликовской битвы как предчувствия грядущих катаклизмов («На поле Куликовом», 1905), вечная красота Италии («Итальянские стихи», 1909), воспоминания о юношеской любви («Через двенадцать лет», 1909–1910), трагедия новой мировой войны («Петроградское небо мутилось дождем…», 1 сентября 1914), безумная и безответная любовь к актрисе, играющей цыганку Кармен («Кармен», 1914), смерть другой актрисы («На смерть Комиссаржевской», 1910), гибель летчика, ночного летуна, несущего земле динамит («Авиатор», 1910 – январь 1912), ненависть к богатым и сытым («Вновь богатый зол и рад…», 7 февраля 1914) – и пронзительное, вопреки очевидности, чувство любви к родной земле, выраженное простыми, «стертыми» словами, ходячими истинами.
О, Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь! Наш путь – стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь. Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной, В твоей тоске, о, Русь! И даже мглы – ночной и зарубежной — Я не боюсь. («Река раскинулась. Течет, грустит лениво…»,7 июня 1908) Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые — Как слезы первые любви!<…>
Пускай заманит и обманет, — Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои прекрасные черты… («Россия», 18 октября 1908)На смену сложным метафорическим построениям и загадкам в третьем томе лирики Блока все чаще приходит простота, прекрасная ясность (М. Кузмин).
Г. Иванов, тогда начинающий литератор, сторонник акмеизма (в будущем – один из первых поэтов эмиграции, русской литературы в изгнании), прочитав маленький сборник «Стихи о России» (1915), полностью включенный в третий том, увидел в Блоке-современнике самое главное: он встает в ряд великих, классических поэтов; основной тон его книги – «просветленная грусть и мудрая, ясно-мужественная любовь поэта к России»; простота, совершенство его стихов – преодоленная сложность, учитывающая весь пройденный путь и объединяющая людей самых разных художественных вкусов.
«Это стихи символиста. Но какой реалист… не примет их? Какой акмеист не скажет, что они прекрасны? Последние стихи Блока истинно классичны… <…> Это естественная классичность высокого, прошедшего все искусы творческого пути. Некоторые из них стоят уже на той ступени просветления простоты, когда стихи, как песня, становятся доступными каждому сердцу. Утонченное мастерство совпадает в «Стихах о России» со всем богатством творческого опыта. Любовь, мука, мудрость, вся сложность чувств современного лирика соединены в них с величественной, в веках теряющейся духовной генеалогией» (Г. Иванов «Стихи о России» Александра Блока», 1915).
В «Вольных мыслях», венчающих второй том, лирический герой хотел слушать в мире ветер.
«Дикий ветер / Стекла гнет, / Ставни с петель / Буйно рвет», – начало предпоследнего стихотворения в разделе «Родина» (22 марта 1916).
Заканчивается третья книга короткой главой «О чем поет ветер» (1913), в которой от масштабных размышлений «Родины» поэт возвращается к ценностям частной жизни («Мы забыты, одни на земле. / Посидим же тихонько в тепле…») и восстанавливает характерную еще для первой книги загадочность и двоемирие («И постигать / В обрывках слов / Туманный ход / Иных миров…»).
Ветер опять появится в начале произведения, в котором Блок осмысляет произошедший в России великий перелом – революцию.
Двенадцать (1918)
МИР: БЕЛОЕ, ЧЕРНОЕ, КРАСНОЕ
Современники вспоминали: первая послереволюционная зима была жестокой, морозной. Снег на улицах никто не убирал, пешеходы, как в деревне, протаптывали тропинки от дома к дому. 3 января 1918 года Блок замечает в записной книжке: «К вечеру – ураган (неизменный спутник переворотов)». Через неделю, 8 января, там же зафиксировано: «Весь день – «Двенадцать». <…> Внутри дрожит». Три недели ушло на обдумывание, внутреннюю работу. Создана же поэма, в сущности, за два дня. 29 января Блок записывает: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг… Сегодня я – гений».
Пейзаж, хронотоп «Двенадцати» может вначале показаться точным изображением, бытописанием петроградской зимы восемнадцатого года: ураганного ветра, ночной тьмы, непреодолимых сугробов.
«Завивает ветер / Белый снежок. / Под снежком – ледок. / Скользко, тяжко, Всякий ходок / Скользит – ах, бедняжка!»; «Старушка, как курица, / Кой-как перемотнулась через сугроб» (гл. 1).
Но Блок, как справедливо заметил И. Ф. Анненский, был природным символистом. В первых же стихах, экспозиции поэмы, задан иной масштаб изображения:
Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек. Ветер, ветер — На всем божьем свете!Конкретные детали петроградской зимы становятся у Блока знаками, символами большого мира – космоса, вселенной, состоящей из крайностей, пугающих противоположностей, стихий черного и белого.
В сюжете поэмы каждый из этих опорных мотивов оборачивается то реальной предметной подробностью, то символической характеристикой.
Во второй главе упоминаются винтовок черные ремни, Ванька оказывается черноусым (гл. 4), Катька в восприятии какого-то другого персонажа – чернобровушкой (гл. 7). Однако ночи, проведенные с этой женщиной, Петруха называет черными, хмельными. А черный вечер в конце той же первой главы окончательно превращается из характеристики мира в пейзаж души.
Черное, черное небо. Злоба, грустная злоба Кипит в груди… Черная злоба, святая злоба… Товарищ! Гляди В оба!Прямо названного белого цвета в поэме почти нет. Начальный эпитет повторится лишь однажды, в самом конце: в белом венчике из роз. Но атрибуты белизны вьюга, снег, сугробы – упоминаются также часто.
В конце поэмы вспыхивает еще один цвет: «В очи бьется / Красный флаг» (гл. 11); «Это – ветер с красным флагом…», «Кто там машет красным флагом?» (гл. 12). (Может быть, под влиянием Блока, снимая через несколько лет черно-белый фильм о восстании черноморских революционных матросов в 1905 году, С. М. Эйзенштейн от руки раскрасит кинопленку: в финале над восставшим броненосцем взовьется красный флаг.)
Когда-то Блок видел мир в иных цветах: сине-лиловый мировой сумрак, лиловые миры революции («О современном состоянии русского символизма»). Теперь на смену неопределенно, угрожающему лиловому приходит цвет крови.
Таким образом, символическая палитра поэмы состоит из черного, белого и красного. Другие цветовые эпитеты – серые гетры, блещущие жемчугом зубы, огневые очи и пунцовая родинка Катьки – связаны только с героиней, остаются бытовыми подробностями.
Господствует в этом двойственном – реальном и символическом – мире одна стихия, гуляющие по бескрайнему пространству ветер, вьюга: «Ветер хлесткий!», «Ветер веселый», «Да свищет ветер…» (гл. 1); «Гуляет ветер…» (гл. 2); «Разыгралась чтой-то вьюга, / Ой, вьюга, ой, вьюга! / Не видать совсем друг друга / За четыре за шага!» (гл. 10); «И вьюга пылит им в очи / Дни и ночи / Напролет…» (гл. 11); «Это – ветер с красным флагом / Разыгрался впереди…», «Только вьюга долгим смехом / Заливается в снегах» (гл. 12).
Но тогда, в этой символической перспективе, не стоящий на ногах человек – это тоже не просто гонимый ветром прохожий, но – человек вообще, современник, свидетель, оказавшийся в мире, насквозь продуваемом ветрами истории.
«Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей слабой силой) я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?» – сомневается Блок 14 апреля 1917 года, наблюдая бурную революционную весну.
Когда события логически дошли до революционной зимы, сомнения художника отступили перед ощущением его правоты и визионерства, видением невидимых сущностей из других миров. «…B январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией: например, во время и после окончания „Двенадцати“ я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). <…> Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях – природы, жизни и искусства…» («Записка о „Двенадцати”», 1 апреля 1920 г.)
ЖАНР: ЧАСТУШКА И «КИНОШКА»
К. И. Чуковский, как мы помним, шутил, что Блок «променял объятья Незнакомки на дровяной паек». В «Двенадцати» произошел более существенный, трудновообразимый, почти невозможный обмен. Блок отказался от привычного художественного языка, на котором были написаны и лирическая трилогия, и другие поэмы («Соловьиный сад», «Возмездие»). На смену стилю высокой поэзии приходит голос улицы, в ее самом живом, самом актуальном в начале XX века жанровом преломлении.
Лучше всех понял сделанное поэтом другой поэт. «Поэма „Двенадцать”» – монументальная драматическая частушка (выделено мной. – И. С.). Центр тяжести – в композиции, в расположении частей, благодаря которому переходы от одного частушечного строя к другому получают особую выразительность, и каждое колено поэмы является источником разряда новой драматической энергии, но сила «Двенадцати» не только в композиции, но и в самом материале, почерпнутом непосредственно из фольклора. Здесь схвачены и закреплены крылатые речения улицы, нередко эфемериды-однодневки вроде: «у ей керенки есть в чулке», и с величайшим самообладанием вправлены в общую фактуру поэмы, – написал через год после смерти Блока О. Э. Мандельштам. – Независимо от различных праздных толкований, поэма „Двенадцать“ бессмертна, как фольклор» («А. Блок», 1921–1922).
Действительно, Блок купается в стихии народного языка, играет разными ритмами, «выкидывает коленца», то использует повторы-вариации, то рифмует отдельные строфы, то отказывается от рифм, то просто обращается к междометиям-звукоподражаниям (французский поэт и мыслитель П. Валери вообще считал, что лирика вырастает из междометий, пытаясь словами выразить то, что говорят слезы и поцелуи).
Как пошли наши ребята В красной гвардии служить — В красной гвардии служить — Буйну голову сложить! Эх ты, горе-горькое, Сладкое житье! Рваное пальтишко, Австрийское ружье! (гл. 3) Ужь я времячко Проведу, проведу… Ужь я темячко Почешу, почешу… Ужь я семячки Полущу, полущу… Ужь я ножичком Полосну, полосну!.. (гл. 8)Блок признавался, что поэма начиналась с этого звукового образа: два «ж» в стихе «ужь я ножичком» показались ему очень выразительными.
Наряду с частушкой Блок использует в поэме другие, но тоже массовые, почти фольклорные, жанры: марш («Революционный держите шаг! / Неугомонный не дремлет враг!»), плясовую песню («Эх, эх, попляши! / Больно ножки хороши! <…> Эх, эх, согреши! / Будет легче для души!»), молитву («Упокой, господи, душу рабы твоея…»), городской романс на стихи Ф. Н. Глинки, придавая ему пародийный характер («Не слышно шуму городского / Над невской башней тишина, / И больше нет городового – / Гуляй, ребята, без вина!»).
Только словесными фольклорными жанрами фундамент «Двенадцати» не ограничивается.
Обрывки разговоров, залихватские реплики безымянных персонажей напоминают о народном театре, святочных развлечениях простонародья, балаганных зазывалах, вышучивающих прохожих и привлекающих публику в свое заведение: «А это кто? / – Длинные волосы / И говорит вполголоса…»; «А вон и долгополый – / Сторонкой – за сугроб… / Что нынче невеселый, / Товарищ поп?», «Вон барыня в каракуле / К другой подвернулась: / – Ужь мы плакали, плакали… / Поскользнулась / И – бац – растянулась!»
Изобразительная динамика, быстрая смена эпизодов аналогичны еще одному виду искусства, которому не исполнилось и четверти века и которое воспринималось многими современниками Блока как низкое, «площадное», – кино (в эту эпоху бывшему еще черно-белым и немым). Точно так же, как в кино, короткие эпизоды блоковской поэмы перемежаются надписями-титрами: плакатом «Вся власть Учредительному собранию!» или репликами персонажей.
Большинство блоковских соратников, поэтов-символистов, либо высокомерно презирали «толпу», любимые ею формы и жанры – городской романс, частушку, кинематограф (В. Брюсов, Вяч. Иванов), либо, напротив, познав первый успех, эксплуатировали понравившиеся публике формы (К. Бальмонт). В своем пути Блок соединил эти крайности.
И в лирике он, сохраняя привязанность старым поэтам (Жуковский, Полонский, А. Григорьев), не чуждался массовых форм и жанров. В «Двенадцати» он, подобно Маяковскому, подслушал и отразил язык охваченной стихией бунта петроградской улицы. Но одновременно он остался в кругу высокой символистской мысли, не изменил своим темам и основам своего художественного мира. Поэма тем и отличалась от скороспелых агитационных произведений, что, используя новый художественный диалект, она продолжала вечные для русской литературы темы. И здесь Блок оказывается окружен привычными «проклятыми» вопросами: Россия и революция, интеллигенция и народ, верность духу музыки и крушение гуманизма.
ДВЕНАДЦАТЬ: РАЗБОЙНИКИ ИЛИ АПОСТОЛЫ?
Система персонажей поэмы тоже весьма необычна. В «Двенадцати» отсутствует создающий единство «трилогии вочеловечивания» лирический герой, он растворяется в изображенном мире, в чужом слове. Если предположить, что поэма, подобно «Слову о полку Игореве», дошла до нас как анонимный текст, авторство Блока вряд ли мог бы установить любой его знаток и поклонник.
С другой стороны, нет в поэме и подробных характеристик, биографий, фабульных историй большинства персонажей (они присутствуют, например, в «Медном всаднике» или поэмах Некрасова). Блоковские герои, как и изображенный мир, походят на маски народного театра или персонажей кинофильма, появляющихся в одном эпизоде, на несколько минут, и потому они представлены броско, эффектно, одной заметной и, может быть, вполне случайной чертой.
Вот бедная, не разбирающаяся в политике, старушка: она ругает большевиков, но не понимает и их противников, вывесивших бесполезный плакат: «Сколько бы вышло портянок для ребят…»
Вот длинноволосый писатель, «вития», толкующий о том же, что и старушка, но более высокопарно: «Предатели! / – Погибла Россия!»
Вот буржуй на перекрестке, поп, барыня в каракуле, обсуждающие свои дела «сотрудницы» публичного дома, бродяга. Едва ли не вся социальная вертикаль взбудораженной революцией России представлена в первой главе. Но главный герой, вынесенный в заглавие, появляется лишь в главе второй.
Гуляет ветер, порхает снег. Идут двенадцать человек.Мы даже не знаем имен десяти из них. В сцене погони (гл. 6) упомянуты только Андрюха и Петруха, драма Петрухи раскрывается в следующей главе. Остальные остаются нерасчлененной массой, коллективным героем, реплики и оценки можно приписывать любому из них.
Кто такие эти двенадцать?
В бытовой фабуле – отряд красногвардейцев, несущий дежурство на ночных улицах Петрограда. «Как пошли наши ребята / В красной гвардии служить…» (гл. 3) «Вперед, вперед, вперед, / Рабочий народ!» (гл. 10). Американский журналист Д. Рид в очерковой книге «Десять дней, которые потрясли мир» вспоминал, что патрули действительно часто состояли из двенадцати человек.
Но Блок с разных сторон так подсвечивает это грозное шествие, что на воображаемых экранах возникают огромные тени, символические проекции этих персонажей в иных мирах.
«Жило двенадцать разбойников», – напоминает Блок на одной из страниц черновика некрасовские стихи – балладу «О двух великих грешниках», входящую в поэму «Кому на Руси жить хорошо». Это один символический ключ, один ряд, в который легко включаются блоковские персонажи. «В зубах – цыгарка, примят картуз, / На спину б надо бубновый туз!» (гл. 2). «Запирайте етажи, / Нынче будут грабежи! / Отмыкайте погреба / Гуляет нынче голытьба!» (гл. 7)
В зачетной студенческой работе «Поэзия заговоров и заклинаний» (октябрь 1906) Блок вспоминал и еще одну «чертову» дюжину: «Заклинатели Халдеи вызывали астральных демонов, число которых колебалось между двенадцатью и семью. В христианской культуре эти духи демоны превратились в злых лихорадок…»
В другой символической перспективе число красногвардейцев совпадает с числом пошедших за Христом его первых учеников, апостолов. Да, они идут без «имени святого», они собираются «пальнуть пулей в святую Русь». Однако, раздувая мировой пожар, они привычно просят благословения: «Мировой пожар в крови – / Господи, благослови!» (гл. 3) И в финале поэмы (к чему мы еще вернемся) появляется фигура, которая подтверждает не разбойничьи, а апостольские ассоциации.
Но финалу предшествует трагическая любовная история, героями которой оказываются уже не двенадцать, а трое.
ПЕТЬКА С КАТЬКОЮ: ЖЕСТОКИЙ РОМАНС И ТРАГЕДИЯ
Композиционно «Двенадцать» отчетливо делятся на три части. В первых трех главах вертится колесо обозрения, творится уличный театр, появляются разнообразные персонажи, изображается коллективное шествие двенадцати.
Возвращение к общему плану (кинематографический термин в данном случае оказывается очень уместным) происходит в восьмой главе (два монолога безымянных персонажей в восьмой и девятой главах входят, как вставные эпизоды, в общую картину продолжающегося шествия).
В центральной же части этого «триптиха» появляется крупный план: персонажи получают имена, их взаимоотношения, их история прописана более подробно. Ванька с Катькой гуляют в кабаке, мчатся на лихаче по улице, героиня гибнет от пули Петрухи, который тоже любил ее и оказался ее невольным убийцей.
Еще одним жанром, на который ориентирована поэма, оказывается жестокий романс, история любви, измены и смерти. И в этом любовном треугольнике изобразительные характеристики распределяются неравномерно. Истории мужчин рассказаны более схематично. Ванька – черноусый, плечистый и речистый бывший фронтовик (в шинелишке солдатской), который разбогател, отошел от своих товарищей и теперь прожигает жизнь в кабаках, видимо наверстывая потерянное время и подражая буржуям.
Петька был когда-то влюблен в девушку («Ох, товарищи, родные, / Эту девку я любил… / Ночки черные, хмельные / С этой девкой проводил…»), страдал от ее измены, еще больше страдает после убийства, но постепенно успокаивается, подбадриваемый товарищами («Он головку вскидавает, / Он опять повеселел…»).
Подробнее обрисована героиня. В разных местах дается несколько ее портретных деталей: толстоморденькая, жемчужные зубы, огневые очи, пунцовая родинка, шрам на шее и царапина под грудью. Детальнее рассказана и ее история: помимо Петрухи и Ванюхи, она «с офицерами блудила», получала от них подарки, накопила денег (в никому не нужных теперь керенках).
Образ героини для Блока, кажется, был не менее важен, чем характеристика двенадцати. В письме Ю. П. Анненкову, который иллюстрировал поэму, Блок словно вглядывается в нее, прибавляя новые черты. «Катька – здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая – здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется..<…> „Толстомордость“ очень важна (здоровая и чистая, даже – до детскости). <…> Хорошо тоже, что крестик выпал…» (12 августа 1918 г.).
Судьбу лирического героя трилогии вочеловечивания определяла, прежде всего, любовь, отношение к женщине. Прекрасная Дама чудилась в Незнакомке, она надевала снежную маску, превращалась в Фаину, донну Анну, Кармен или простую русскую девушку, ожидавшую счастья у железной дороги.
Детски простодушная, страстная, религиозная («крестик выпал») Катька – еще один вариант Вечной Женственности и еще одна трагедия женской судьбы, которая определяет структуру «Двенадцати». «Любовью, грязью иль колесами / Она раздавлена – все больно» («На железной дороге»).
«Товарищ, винтовку держи, не трусь! / Пальнем-ка пулей в Святую Русь».
У двенадцати оказывается много врагов, от повесившего нос буржуя до шелудивого пса. Но они вызывают лишь злую усмешку.
Их врагом оказывается и кто-то невидимый, может быть Бог. Но он – «от пули невредим».
Гибнут в поэме только двое: где-то за кадром – безымянный офицер («Помнишь, Катя, офицера – / Не ушел он от ножа…») и красивая женщина «из народа».
Катька убита из винтовочки одного Петрухи. Но в символическом плане она – жертва бури, ветра, вселенского катаклизма. Ее вина только в том, что она пыталась жить и выжить в эпоху, когда выжить оказывается очень трудно.
Меняя язык, Блок не изменяет своим главным темам, продолжающим темы великой русской литературы XIX века. Философской масштабностью, принципом контраста, трагической неразрешимостью основного конфликта «Двенадцать» вдруг напоминают «Медный всадник», проблемой «крови по совести» – «Преступление и наказание».
У Пушкина Параша гибнет по произволу стихии, хотя вину несчастный герой возлагает на грозного властелина, железной волей которого был основан город. Катька гибнет от руки человека своего круга, бывшего любовника. Власть на какое-то историческое мгновение из силы, стоящей над людьми, превратилась в насилие над ближним, над своим. Итог для маленького человека, почти ребенка, оказался тем же самым: внезапная и бессмысленная гибель.
А Катька где? – Мертва, мертва! Простреленная голова! Чту, Катька, рада? – Ни гу-гу… Лежи ты, падаль, на снегу! Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!Причем ему удается решить и проклятый вопрос о крови по совести. Он верит увещеваниям товарищей («Поддержи свою осанку! / – Над собой держи контроль! / – Не такое нынче время, / Чтобы няньчиться с тобой! / Потяжеле будет бремя / Нам, товарищ дорогой!») и снова включается в общее движение. («И Петруха замедляет / Торопливые шаги… / Он головку вскидавает, / Он опять повеселел…»).
И сразу же после преодоления мук совести в поэме возникает разбойничья тема: «Эх, эх! / Позабавиться не грех!»
Но завершается это упорное и настойчивое движение двенадцати все-таки в иной символической реальности.
ИСУС ХРИСТОС: ЗА И ПРОТИВ
Явление этого персонажа в финале, последней строфе, последнем стихе, удивило не только многих современников (как принимавших, так и отрицавших блоковское создание), но, кажется, и самого поэта. В комментариях, в разговорах Блок словно вглядывался в бушующую вьюгу и подтверждал: все так, все увидено правильно.
«…„Христос с красногвардейцами“. Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелье и думавших о нем. <…> Разве я „восхвалял“? <…> Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь „Исуса Христа“. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак» (Дневник, 10 марта 1918 г.).
Преступая через кровь, красногвардейцы идут дальше «без имени святого», хотя в незримом сопровождении Христа.
Об отношении двенадцати и простонародного Исуса, отдельных деталях финала поэмы велись разнообразные споры.
Благословляет ли Христос красногвардейцев и возглавляет ли движение своих апостолов?
Убегает ли он, а они преследуют и стреляют в невидимый призрак?
Несет ли он сам кровавый флаг или полотнище развевается само по себе?
Блок-комментатор и критик помнит об ограниченности своих возможностей, когда объясняет Блока-поэта. Он сам с удивлением вглядывается в созданную картину, с трудом пытается понять, что ему надиктовало вдохновение, однако настаивает на своей художественной правоте.
«О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. „Христос с флагом“ – это ведь – „и так и не так“. Знаете ли Вы (у меня – через всю жизнь), что, когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и главное – за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как – не умею сказать). Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в „Двенадцати“ (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики)» (Ю. П. Анненкову, 12 августа 1918 г.).
Поэту ясно только одно: прошлое (безродный пес старого мира), настоящее (двенадцать апостолов-разбойников), возможное будущее (невидимый призрак под красным флагом и в «белом венчике из роз») оказываются в одном символическом пространстве-времени, посреди вьюги, с памятью о невинной жертве. «Если бы из левого верхнего угла „убийства Катьки“ дохнуло густым снегом и сквозь него – Христом, – это была бы исчерпывающая обложка» (Ю. П. Анненкову, 12 августа 1918 г.).
Оригинальное объяснение финала поэмы предложил М. М. Пришвин. Он частично объединил различные точки зрения на героев и ввел в мир поэмы самого автора. «Наконец, я понял теперь, почему в „12-ти“ впереди идет Христос, – записывает Пришвин в дневнике 9 декабря 1922 года, – это он, только Блок, имел право так сказать: это он сам, Блок, принимал на себя весь грех дела и тем, сливаясь с Христом, мог послать Его вперед убийц: это есть Голгофа – стать впереди и принять их грех на себя».
«Двенадцать» продолжают традицию великих книг XIX века с открытым финалом. Бесспорны только стихии: черный вечер, белый снег, мировой пожар в крови. Но чем все кончится, пока не знает никто.
Главный мотив поэмы точно выделил и описал еще один поэт, в романе которого о революции явно отзывается блоковская стихия.
Тот ветер, проникший под ребра И в душу, в течение лет. Недоброю славой и доброй Помянут в стихах и воспет. Тот ветер повсюду. Он – дома, В деревьях, в деревне, в дожде, В поэзии третьего тома, В «Двенадцати», в смерти, везде. (Б. Пастернак «Ветер (Четыре отрывка о Блоке)», 1956)Иван Алексеевич БУНИН (1870–1953)
ДО: ПРАВЕДНИК СРЕДИ ГРЕШНИКОВ
«Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих… Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу».
Таким (печальным или оптимистическим?) размышлением начинается одна из глав автобиографической книги Бунина «Жизнь Арсеньева» (кн. 2, гл. 16).
Согласно другим бунинским воспоминаниям, у его писательской колыбели сошлись Случай и Предопределение.
«То, что я стал писателем, вышло как-то само собой, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-нибудь „на роду написано“. <…> От некоторых писателей я не раз слышал, что они стали писателями случайно. Не думаю, что это совсем так, но все-таки могу представить себе их и не писателями, а вот самого себя не представляю», – утверждал Бунин («Из записей», 1927).
Но внешний толчок, выявивший это призвание, оказался «странным», неожиданным, даже смешным. Уже в конце жизни писатель вспоминал, что в восемь лет он увидел в какой-то книжке изображение уродливого человека, карлика с палкой, и прочел подпись под картинкой, поразившую непонятным последним словом: «Встреча в горах с кретином».
«В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?» – спрашивает Бунин. И не удерживается от иронического и горького замечания: «Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с кретинами… <…> Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории» («Автобиографические заметки», 1950).
Эта необыкновенная жизнь оказалась и очень долгой. Бунин стал таким же писателем-Мафусаилом XX века, каким в веке XIX-м был обожаемый им Л. Н. Толстой.
Иван Алексеевич Бунин родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже в старинной дворянской семье. Он гордился своей родословной, восходящей к XV веку, и не раз упоминал, что среди его предков были поэтесса начала XIX века А. П. Бунина и даже В. А. Жуковский (незаконный сын помещика И. А. Бунина).
Но эти сладостные воспоминания не отменяли неприглядного настоящего. В отличие от своих знаменитых соседей Тургенева и Толстого, имения которых находились неподалеку, в той же черноземной, глубинной России, Бунин оказался помещиком, дворянином лишь по рождению, но не воспитанию, образованию, образу жизни.
Отец, получивший небольшое наследство, окончательно разорился. Поэтому трехлетнего ребенка из Воронежа увезли на глухой хутор в Орловской губернии. «Тут, в глубочайшей полевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной» («Автобиографическая заметка», 1915). (Даже в одном предложении виден Бунин-писатель: предметных деталей, описания внешнего мира здесь больше, чем психологических признаний.)
Но поэзия природы, раннее бессистемное чтение, первые стихотворные опыты не могли заменить систематического образования. Вместо толстовских гувернеров и тургеневских поездок в Париж этот дворянин имел лишь странного воспитателя, учившего «чему попало и как попало».
В 1891 году Бунин поступил в Елецкую гимназию. «Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные, – известно, что такое русская, да еще уездная гимназия, и что такое уездный русский город! Резок был и переход от совершенно свободной жизни, от забот матери к жизни в городе, к нелепым строгостям в гимназии и к тяжкому быту тех мещанских и купеческих домов, где мне пришлось жить нахлебником» («Автобиографическая заметка»).
Через пять лет Бунин уходит из гимназии, не закончив ее. Вся его последующая жизнь – это жизнь странника, вечного скитальца, обитателя гостиниц и чужих квартир, так и не дожившего до собственного дома.
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому, Когда я уходил с отцовского двора, Сказать прости родному дому! У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце, горестно и громко, Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом С своей уж ветхою котомкой! («У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…»,25 июня 1922)«Я тогда жил, несмотря на свою внешнюю общительность, вне всякого общества. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам…)», – передавал Бунин сходное ощущение уже не в стихах, а в прозе.
С ранней юности он вел жизнь, скорее, не дворянина, а разночинца, лишенного прочных корней и привязанностей, зарабатывающего на жизнь собственным трудом. Этим трудом стала литература в разных ее формах и проявлениях.
Бунин не любил чеховский «Вишневый сад», но «вечный студент», сын аптекаря Петя Трофимов, мог быть его старшим братом, спутником по странствиям «из Вологды в Керчь» и «из Керчи в Вологду». «Я же чуть не с отрочества был „вольнодумец“, вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею…» («Автобиографическая заметка»)
После ухода из гимназии Бунин занимается самообразованием со старшим братом Юлием, опять живет в деревне, много сочиняет, публикует первые стихи и рассказы (с 1887 года), начинает работать в газете «Орловский вестник». В Орле, вспоминал он впоследствии, «меня сразила, к великому моему несчастью, долгая любовь» («Автобиографическая заметка»). Страстные и мучительные отношения нищего журналиста с дочерью елецкого врача Варварой Владимировной Пащенко через пять лет (1894) окончились разрывом. Девушка вышла замуж за друга Бунина. Эта драматическая история через много лет станет центральным событием автобиографической хроники «Жизнь Арсеньева», где Варвара превратится в Лику.
Подзаголовок этой книги – «Юность». Бунин не случайно расстается со своим персонажем на этом пороге. «Дальнейшие дни и годы моей жизни, – написал он уже о самом себе, – образуют, при всей их разности, нечто все-таки более однородное, более простое, обыденное, более близкое мне теперешнему, нежели переменчивость, давность, легендарность детства, отрочества, юности, первой молодости. Присказка всегда поэтичнее сказки».
Через несколько лет Бунин женился на Анне Николаевне Цакни, но и этот брак оказался недолгим (1898–1899). В 1906 году писатель познакомился с дочерью известного общественного деятеля Верой Николаевной Муромцевой. Через год она стала женой Бунина, прожила с писателем почти пятьдесят лет, после его смерти написала мемуарные книги «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью».
Переживая личные драмы, Бунин, тем не менее, много работает, его произведения появляются в серьезных журналах, он переселяется в Москву, знакомится со многими известными писателями, в том числе А. П. Чеховым, В. Г. Короленко, А. И. Куприным, В. Я. Брюсовым, М. Горьким. Кажется, Бунин угадал свое призвание, занял в современной литературе прочное место: издавал книги, получал премии, был даже избран почетным членом Академии наук, стал писателем-академиком. Но он все время чувствовал себя обойденным, родившимся не вовремя.
Дар Бунина был изобразительным, пластическим. Он великолепно чувствовал природу, рисовал пейзаж, многосторонне воспроизводил быт и характеры. Не случайно больше всего среди русских писателей он ценил Толстого и Чехова. Он написал книгу-размышление «Освобождение Толстого» (1937) и до последних дней работал над мемуарно-биографической книгой о Чехове, изданной уже после смерти (1955).
В XIX веке, среди писателей-реалистов, Бунин чувствовал себя своим. Но в модернистскую эпоху, в серебряном веке такая поэзия и поэтика казались несовременными, устаревшими. Одним – потому, что в произведениях Бунина не было лиловых миров и взгляда сквозь. Другим – потому, что у него отсутствовала, как у «новых реалистов» М. Горького и Л. Н. Андреева, даже его друга А. И. Куприна, отчетливая публицистическая установка, лозунг, призыв.
Одним современникам Бунин казался излишне бытовым писателем, другим – недостаточно идейным. А он всю жизнь отстаивал право художника, прежде всего, изображать человеческие характеры, вписанные в мир Божий и неотделимые от него.
В статье «На поучение молодым писателям» (1928) Бунин спорит с критиком Г. Адамовичем, который признавался в своей нелюбви к «внешней изобразительности», «описательству», «бытовизму» и призывал молодых писателей обратиться к «изображению внутреннего мира». Бунин принимает поучения на свой счет, но не понимает такого механического разделения и такой нелюбви к миру внешнему. «Но люби, не люби, как все-таки обойтись без этой изобразительности? <…> Но как же все-таки обойтись в музыке без звуков, в живописи без красок и без изображения (хотя бы и самого новейшего, нелепейшего) предметов, а в словесности без слова, вещи, как известно, не совсем бесплотной? Это очень старо, но, право, не так уж глупо: „Писатель мыслит образами“. Да, и всегда изображает. <…> А потом – что же делать и с этим внутренним миром, без изобразительности, если хочешь его как-то показать, рассказать? Как его описать без описательства? Одними восклицаниями? Нечленораздельными звуками?»
Здесь – главная коллизия творческой жизни Бунина. Он ощущает себя одиноким наследником великой традиции, посланником девятнадцатого века в двадцатом. Он страдает и за себя, и за настоящее искусство, которое, с его точки зрения, декаденты и модернисты подменяют фокусами, кривляньем, пошлостью и патологией.
К. И. Чуковский на много лет запомнил один мучительный ночной монолог Бунина. «Он с первых же слов стал хулить своих литературных собратьев: и Леонида Андреева, и Федора Сологуба, и Мережковского, и Бальмонта, и Блока, и Брюсова… <…> Он говорил о писателях так, словно они, ради успешной карьеры, кривляются на потеху толпы. Леонида Андреева, который в то время был своего рода властителем дум, он сравнивал с громыхающей бочкой – и вменял ему в вину полнейшее незнание русской жизни, склонность к дешевой риторике. Бальмонта трактовал как пошляка-болтуна. Брюсова – как совершенную бездарность, морочившую простаков своей мнимой ученостью. И так дальше. И так дальше. Все это были узурпаторы его собственной славы.
В ту ночь, слушая его монолог, я понял, как больно ему жить в литературе, где он ощущает себя единственным праведником, очутившимся среди преуспевающих грешников» (К. Чуковский, «Дневник», март 1968).
Тяжелую травму непризнания, литературного одиночества, Бунин не мог изжить до конца жизни. Жестокие оценки большинства современников он и через полвека повторит в «Воспоминаниях» (1950) – в другую эпоху и в другой стране.
РЕВОЛЮЦИЯ: ОКАЯННЫЕ ДНИ
Бунин великолепно знал деревенскую жизнь, как в деталях (одного критика он упрекал в том, что тот не может отличить рожь от пшеницы, и даже Чехову возражал, что в дворянских имениях никогда не было сплошь вишневых садов и они не росли около дома), так и в ее социальной и психологической сути. Автор жестоких и беспощадных повестей «Деревня» (1910) и «Суходол» (1911) не мог поэтому с энтузиазмом воспринимать ни Первую мировую войну, ни Февральскую революцию, ни, тем более, Октябрьскую.
«Радость жизни убита войной, революцией», – записано в дневнике 22 октября 1917 года, за несколько дней до новой, третьей революции.
Бунин оказался в числе самых яростных, непримиримых противников Октября. Одним из важных документов эпохи стала книга «Окаянные дни», дневник московских (1918) и одесских (1919) наблюдений революционных лет. Она была опубликована за границей, при советской власти не печаталась и упоминалась только в негативном контексте, а в СССР появилась лишь через семьдесят лет, в 1989 году, накануне исчезновения государства, возникшего в результате Октябрьской революции.
Во взгляде на революцию реалист Бунин и символист Блок вдруг оказались не только эстетическими, но и идейными антиподами.
Блок услышал в произошедшем музыку революции, Бунин – какофонию бунта. «Блок слышит Россию и революцию, как ветер…» О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем».
Блок видел простодушное стихийное творчество восставшего народа. – Бунин – кровавое безумие и повальное сумасшествие, вдохновляемое новой властью. «Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: „Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм!“ И вывеска эта еще долго будет висеть – пока совсем крепко не усядутся они на шею народа».
Блок мечтал о грядущей «справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизни». – Бунин оплакивал прошлую жизнь, на которую он недавно смотрел трезвым, беспощадным взглядом, как счастливую и прекрасную, как утраченный Эдем, земной русский рай.
Блок написал о произошедшем символическую поэму, привычно переводя проблему в философский, метафизический план. – Бунин, забыв о художестве, впервые обратился к прямому слову, к публицистике, поражая читателя множеством шокирующих деталей и резких оценок.
Блок остался и умер в России. Бунин в 1920 году вместе с остатками разгромленных белых войск на пароходе покинул Одессу. Как оказалось – навсегда.
«Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что – я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России – конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?» («Конец», 1921)
Эти строчки были написаны уже во Франции, в Париже, где писателю довелось провести больше тридцати лет, всю оставшуюся жизнь.
ПОСЛЕ: ЛЕТОПИСЕЦ РУССКОЙ АТЛАНТИДЫ
«Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки… Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой – или благословенной – Богом стране. <…> Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была – Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу» («Косцы», 1921).
Достаточно сравнить этот образ России с теми картинами, которые сам Бунин рисовал в «Деревне», «Суходоле», «Захаре Воробьеве», других деревенских рассказах, как обнаружится его поэтический, идеализированный характер. Но именно такая Россия нужна писателю как точка опоры в перевернувшемся мире.
Бунин провел во Франции много лет. Большую часть года он с В. Н. Буниной жил в Париже, лето обычно проводил на юге, в Ницце. Но французские темы и сюжеты, даже жизнь русских эмигрантов, почти не нашли отражения в его прозе. Прекрасная Франция была для Бунина местом жизни, но не источником творчества.
Прежние социальные мотивы также почти исчезают из бунинского творчества. Оставаясь непримиримым к новой власти и к новому государству, СССР, в своем творчестве Бунин, к счастью, забывал и о царе, и о большевиках, и о миссии русской эмиграции, и о развращенных, позабывших «заветы» писателях-современниках. Он уже не воспроизводил с натуры, а заново воссоздавал дореволюционный мир, который невозможно было сверить с оригиналом.
Старая Россия, ушедшая на дно, как Атлантида, сохраняется в бунинской прозе в ее красоте и своеобразии.
«Что вообще остается в человеке от целой прожитой жизни?» – спрашивает Бунин. И сразу же отвечает: «Только мысль, только знание, что вот было тогда-то то-то и то-то, да некоторые разрозненные видения, некоторые чувства. Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга – восторга счастия или несчастия, яркого сознания приобретения или потери; еще – в минуты поэтического преображения прошлого в памяти».
Главная бунинская книга «Жизнь Арсеньева. Юность» (1927–1929,1933), герой которой в значительной степени автобиографичен, открывается торжественной фразой из книги старообрядца-проповедника XVIII века Ивана Филиппова, своеобразным эпиграфом, варьирующим тот же мотив памяти: «Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии…»
Это одушевление, поэтическое преображение прошлого в памяти становится теперь главной задачей Бунина. «Мой отец, моя мать, братья, Маша пока в некотором роде существуют – в моей памяти. Когда умру, им полный конец… Все живее становится для меня мое прошлое… Боже, как все вижу, чувствую!» (Дневник, 22 сентября 1942 г.)
Еще в большей степени, чем раньше, Бунин ощущает себя последним художником. Причем художником, философией которого становятся зрение и слух – краски, запахи, звуки и голоса прекрасного Божьего мира. Эту Россию в красках Бунин и унес с собой в эмиграцию и живописал до последних дней жизни.
После публикации первых четырех книг романа «Жизнь Арсеньева» (1930) Бунин получает Нобелевскую премию по литературе (1933). Он был первым русским писателем, получившим эту самую авторитетную в мире награду. На торжественной церемонии в Стокгольме писатель отметил особенность своего положения и еще раз напомнил о своих творческих принципах. «Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, – она для него догмат, аксиома» («Нобелевские дни»).
«Блажен кто посетил сей мир / В его минуты роковые…» – писал Тютчев, живший в относительно спокойные исторические времена. Бунин, на долю которого выпало немало роковых минут, мечтал о другом. «Да, уж слишком много дала нам судьба „великих, исторических“ событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за нею 17-й год и его продолжение Ленина, Сталина, Гитлера. Как не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него…» («Автобиографические заметки»)
Вторая мировая война настигла Бунина на чужбине. Он живет на юге Франции, в маленьком городке Грасс, некоторое время находившемся под немецкой оккупацией. Вместе с женой и несколькими русскими эмигрантами-литераторами он переживает все трудности военного времени: незащищенность, холод и голод (Нобелевская премия давно растрачена, в том числе на помощь многочисленным нуждающимся русским эмигрантам). Его противостоянием войне становится книга о любви «Темные аллеи» (1937–1945).
Одновременно писатель внимательно следит – по газетам и радио – за тем, что происходит на восточном фронте. Его неприятие советской власти, большевиков теперь отступает перед тревогой за судьбу России. Поворот в Отечественной войне, наступление советской армии он воспринимает как личную радость. «Взят Псков. Освобождена уже вся Россия! Совершено истинно гигантское дело!» – записано в дневнике 23 июля 1944 года. И еще через несколько месяцев, 24 марта 1945 года: «Полночь. Пишу под радио из Москвы – под „советский“ гимн. Только что говорили Лондон и Америка о нынешнем дне, как об историческом – „о последней битве с Германией“, о громадном наступлении на нее, о переправе через Рейн, о решительном последнем шаге к победе. Помоги, Бог! Даже жутко!»
Однако послевоенные события в СССР (преследование Зощенко и Ахматовой, борьба с «космополитизмом») снова резко изменили его позицию. Защищая писательскую свободу, Бунин отказался вернуться в СССР, несмотря на все заманчивые предложения, которые власти делали единственному русскому нобелевскому лауреату.
Возвращение на родину происходит лишь в воображении. Не названный по имени повествователь рассказа «Поздний час» (19 октября 1938) понимает, что «нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда», в лунную ночь переходит через мост и попадает в пахнущий яблоками город своей юности, в счастливый, идиллический мир не знающей о своем будущем России. «Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет Божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой плясовую трель».
Идя по городу, герой узнает родные места, вспоминает ночное свидание с любимой девушкой. «А потом ты проводила меня до калитки и я сказал: „Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле”».
Это путешествие в прошлое, однако, оканчивается печально. Лунная дорога приводит героя на городское кладбище. «И так, с остановившимся сердцем, неся его в себе, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти, я шел прямо по проспекту – ив самом конце его остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная».
Бунин умер в Париже 8 ноября 1953 года. Его похоронили в пригороде Парижа на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, некрополе русских эмигрантов первого и второго поколения.
В одном из последних рассказов, «Бернар» (1952), Бунин вспоминает французского моряка, спутника Мопассана, последняя фраза которого, произнесенная перед смертью, звучала так: «Думаю, что я был хороший моряк».
«А что хотел он выразить этими словами? – размышляет Бунин. – Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намеренье, направленное к тому, чтобы все в этом мире „было хорошо“ и что усердное исполнение этого божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость».
Бунин завершает этот рассказ полными скромной гордости словами: «Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар».
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир Бунина
РЕАЛИЗМ: СОЦИАЛЬНОЕ И ВСЕЛЕНСКОЕ
В «Жизни Арсеньева» есть, несомненно, автобиографическое, признание. «Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…» (кн. 2, гл. 15) Знакомая Бунина вспоминает сходное высказывание: «У меня не глаз, а настоящий фотографический аппарат. Чик-чик и готово. Навсегда запечатлел» (Т. Д. Муравьева-Логинова. «Живое прошлое»).
Зрение, слух, обоняние становятся главным бунинским инструментом. Писатель неистощим и изобретателен именно в описательстве, в изображении мира. В воспоминаниях о Чехове Бунин рассказывает, что их сближало «выдумывание художественных подробностей». В этом соревновании, кажется, выигрывал старший товарищ. Бунинская страсть к подробностям удивляла Чехова и даже казалась избыточной. Рассказ «Сосны» (1901) он сравнил со «сгущенным бульоном» (письмо Бунину, 15 января 1902 г.).
Но свист сурка или запах ландыша – только начало, исходная точка в постижении мира. А. Н. Толстой передает рассказ М. Горького (Бунин не раз гостил у него в Италии): «Тогда в моде была такая игра. Сидят в ресторане, зашел человек, и вот дается 3 минуты, чтобы посмотреть и разобрать его. Горький посмотрел и говорит: он бледный, на нем серый костюм, узкие красивые руки и все. Андреев смотрел 3 минуты и понес чепуху, даже цвет костюма не успел заметить. А вот у Бунина был очень зоркий глаз. Посмотрел и за 3 минуты все успел схватить, он даже детали костюма описал, что галстук с такими-то крапинками, что неправильный ноготь на мизинце, даже бородавку успел заметить» («Слово есть мышление»).
Писатель вспомнил о бытовом эпизоде, а философ Ф. А. Степун обобщал: «Не надо забывать, что греческое слово „теория“ означает не мышление, а созерцание. Талант Бунина это помнит. Бунин думает глазами и лучшие страницы его наиболее глубоких вещей являются живым доказательством того, что созерцание мира умными глазами стоит любой миросозерцательной глубины. У Бунина же зрение предельно обострено; ему отпущены не только орлиные глаза для дня, но и совиные для ночи. Поистине он все видит» («Иван Бунин», 1934).
Этот хищный интерес к внешнему миру делает Бунина реалистом по складу таланта. Но искусство всегда говорит о человеке. Игра в подробности не самоцельна, она переходит в угадывание и изображение характера. Продолжим рассказ Горького – Толстого: «Все это он подробно описал, а потом сказал, что это международный жулик. Почему – этого он не знает, но жулик. Тогда они позвали метрдотеля и спросили, кто этот человек. Метрдотель сказал, что этот человек откуда-то появляется часто в Неаполе, что он собой представляет – не знает, но у него дурная слава. Значит, Бунин совершенно точно сказал».
Однако Бунину недостаточно социальных объяснений, идеи зависимости человека от среды, которая была основополагающей среди реалистов XIX века. Он находит в классической традиции другую линию: взгляд на человека как страстное, чувственное существо, заброшенное в этот мир, как в космос, и мучительно пытающееся его постичь.
Не устану воспевать вас, звезды! Вечно вы таинственны и юны. С детских дней я робко постигаю Темных бездн сияющие руны. В детстве я любил вас безотчетно, — Сказкою вы нежною мерцали. В молодые годы только с вами Я делил надежды и печали. Вспоминая первые признанья, Я ищу меж вами образ милый… Дни пройдут – вы будете светиться Над моей забытою могилой. И быть может, я пойму вас, звезды, И мечта, быть может, воплотится, Что земным надеждам и печалям Суждено с небесной тайной слиться! («Не устану воспевать вас, звезды!..»,1901)Бунинское бытописание избирательно, ориентировано на вечные темы.
Поэтому, с одной стороны, Бунин все время отталкивается от писателей-публицистов, от навязываемой ему роли обличителя социальных язв и общественных пороков (хотя в начале 1910-х годов он пишет несколько повестей и рассказов, которые воспринимались как острая социальная критика русской жизни). С другой же – продолжает бесконечный спор с символистами, для которых внешний мир («быт») был лишь призрачной прозрачной паутиной, сквозь которую просвечивало бытие.
«А за мостом, в нижнем этаже большого дома, ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешанная богатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешанной сверху донизу. „Социальные контрасты!“ – думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины… На Московской я заходил в извозчичью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам… Наблюдение народного быта? Ошибаетесь, – только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!» – иронически возражает он писателям-общественникам, противопоставляя социальным контрастам зеркальную витрину колбасной лавки, а сочувствию к народу – созерцание мокрой веревочки на чайнике («Жизнь Арсеньева», кн. 5, гл. 11).
В книге «О Чехове» Бунин доказывает, что старая реалистическая литература тоже обновлялась и успешно осваивала темы, которые символисты считали своими: «Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература „зашла в тупик“, стала чахнуть и сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описания действительности… Но давно ли перед тем появились, например, „Братья Карамазовы“, „Клара Милич“, „Песнь торжествующей любви“? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда „Вечерние огни“ Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных „народных“ сказках, о „Смерти Ивана Ильича“, „Крейцеровой сонате“? И так ли уж были не новы – и по духу и по форме – как раз в то время выступившие Гаршин, Чехов?» («О Чехове», ч. 2)
Обозначая близкую ему традицию, Бунин в одной ранней статье назвал ее реализмом в самом высшем смысле слова («Памяти сильного человека», 1894).
Через тридцать пять лет Бунин исповедуется молодой писательнице Галине Кузнецовой: «С тех пор как я понял, что жизнь – восхождение на Альпы, я все понял. Я понял, что все пустяки. Есть несколько вещей неизменных, органических, с которыми ничего поделать нельзя: смерть, болезнь, любовь, а остальное – пустяки» (Г. Кузнецова «Грасский дневник», 2 мая 1929 г.).
Чем дальше, тем больше бунинское творчество сосредоточивается на этих немногих органических вещах.
«ЛИСТОПАД» И «ОДИНОЧЕСТВО»: ПОЭЗИЯ КАК ПРОЗА
Бунин-поэт стал известен раньше Бунина-прозаика. На рубеже веков он опубликовал несколько томов стихотворений. За одну из этих книг – сборник «Листопад» (1903) он даже получил половинную Пушкинскую премию.
«Листопад» (1900) – одно из характернейших бунинских произведений. По объему оно может считаться поэмой, лишь вдвое уступая «Медному всаднику» или «Двенадцати». Но оно совсем по-иному построено. «Листопад» – не поэма с характеристикой персонажей, конфликтом, отчетливой фабулой, которую можно пересказать, а, скорее, «большое стихотворение», развернутый пейзаж.
Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Веселой, пестрою стеной Стоит над светлою поляной.Уже в этом экспозиционном четверостишии заявлено сравнение-лейтмотив (лес – терем) и представлено характерное для Бунина буйство красок и оттенков (из семи эпитетов шесть имеют наглядный, изобразительный характер, и лишь один – психологический смысл). Композиция стихотворения строится на смене пейзажных картин, движении времени от осени к зиме, переданном с помощью развернутого, неоднократно повторенного олицетворения.
Лес пахнет дубом и сосной, За лето высох он от солнца, И Осень тихою вдовой Вступает в пестрый терем свой.Такой предстает олицетворенная Осень в начале поэмы.
Вот стало холодно и бело Среди полян, среди сквозной Осенней чащи помертвелой, И жутко Осени одной В пустынной тишине ночной.Так изображается приближение зимы.
И наконец, последнее появление этого образа в «Листопаде»:
Дорога на далекий юг: Туда от зимних бурь и вьюг, От зимней стужи и метели Давно уж птицы улетели; Туда и Осень поутру Свой одинокий путь направит И навсегда в пустом бору Раскрытый терем свой оставит.В развитии стихотворения тихая вдова Осень что-то узнает и предчувствует, таит печаль, пугается, даже выходит на крыльцо, наконец, вслед за птицами направляет свой путь на юг (то ли уходит, то ли улетает).
Но главное в том, что этот лейтмотивный персонифицированный образ, напоминающий о Тютчеве, даже о поэзии XVIII века Бунин отягощает множеством подробностей, примет осени, не скупясь и не принимая упреков в излишней описательности.
Толстой восхищался деталью в тютчевском стихотворении «Есть в осени первоначальной..». Паутины тонкий волос в философски-обобщающих стихотворениях Тютчева резко выделялся, был дан крупным планом.
У Бунина в начале «Листопада» тоже встречаются воздушной паутины ткани. Но они сразу же сравниваются с «сетью из серебра», дополняются мотыльком, похожим на «белый лепесток», янтарным блеском листвы, квохчущим дроздом, скворцами… Образ никак не выделен, а, напротив, утоплен, спрятан в сплошном потоке, густом «бульоне» разнообразных подробностей.
Поэтическое «я» (его невозможно назвать лирическим героем, потому что мы ничего не узнаем о подробностях его биографии и психологии), явная эмоция лирического субъекта, появляется лишь однажды, в начале последней части «Листопада». «Прости же, лес! Прости, прощай…» – восклицает он, сразу переходя к обстоятельному перечислению примет приближающейся зимы и увенчивая теперь уже зимний пейзаж метафорой пожара полярного сияния.
Короткие стихотворения Бунина строятся по такому принципу: только число подробностей ограничено объемом текста: здесь их не сотни, а десятки (или десяток).
О предметном, описательном характере бунинской поэзии свидетельствуют даже заглавия стихотворений. Их у Бунина множество (это нечастое свойство лирического поэта) и они, как правило, четко обозначают тему стихотворения: место, явление природы, персонажа, точку зрения: «В степи», «В открытом море», «Стамбул», «Венеция», «Ковыль», «Костер», «Последняя гроза», «Сторож», «С обезьяной», «Сквозь ветви» и т. п.
Главная для Бунина задача изображения может дополняться другими. В стихотворении «Густой, зеленый ельник у дороги» (1905) облик могучего оленя воссоздается по приметам (натоптанные тропинки, след зубов, осыпавшиеся ветки). Но в последнем стихе сцена бегства животного от собачьей стаи вдруг оборачивается символом: спасением красоты от смерти.
О, как легко он уходил долиной! Как бешено, в избытке свежих сил, В стремительности радостно-звериной, Он красоту от смерти уносил!Но бунинский символ не отменяет картину, а осмысляет ее. Каждая предшествующая подробность полновесна в своем предметном, изобразительном значении.
Другой способ использования бунинской изощренной наблюдательности – психологическое осмысление изображения. В таком случае описание-пейзаж превращается в стихотворную новеллу. Таково «Одиночество» (1903), одно из самых известных стихотворений Бунина.
В прихотливом, редком размере (его точное обозначение – трехсложник с вариациями анакруз) Бунин снова воссоздает осенний пейзаж (дождик, ветер, лужи, размытый след у крыльца). Одновременно проясняются черты героя, от лица которого написано стихотворение: он – художник, видимо проводивший лето на даче, на пленэре.
Но в отличие от «Листопада» и других чисто пейзажных стихотворений Бунина, смена картин заменяется здесь движением лирического сюжета. Стихотворение фиксирует развязку любовной истории. Лето кончилось; любимая женщина, которая могла стать женой, покидает героя; вчера состоялось, вероятно, последнее свидание, впереди его ожидает одиночество, может быть не до весны, а до самой смерти.
Пейзаж неуютной поздней осени точно отражает состояние героя. Восклицание «Хорошо бы собаку купить» – сдержанная жалоба, сдавленный крик о труднопереносимом одиночестве.
В двадцать четыре стихотворных строки компактно уложился сюжет психологического рассказа или даже повести. Через тринадцать лет, в рассказе «Сны Чанга» (1916), история словно продолжится: верная собака станет спутником одинокого, всеми забытого капитана, свидетелем его смерти, и верным хранителем памяти о нем; другом капитана будет как раз художник; в одной из сцен упомянута даже такая деталь, как нетопленый камин.
Рецензируя бунинский сборник, А. Блок назвал «Одиночество» «безупречным и единственным в своем роде» стихотворением и привел его целиком. В той же рецензии была точно определена основная черта, доминанта бунинской лирики: «Так знать и любить природу, как умеет Бунин, – мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко, и красочные и слуховые его впечатления богаты. Мир его – по преимуществу – мир зрительных и слуховых впечатлений и связанных с ними переживаний». Одновременно Блок противопоставил поэзию Бунина ведущей модернистской тенденции, отметил «бедность мировоззрения и отсутствие тех мятежных исканий, которые вселяют тревожное разнообразие в книги „символистов”» («О лирике», 1907).
Обращенная, прежде всего, к внешнему миру, представляющая образец объективной лирики, поэзия Бунина часто вторгается на территорию прозы и потому легко перерастает в нее.
«АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ»: ПРОЗА КАК ПОЭЗИЯ
Сам писатель не разделял непреодолимой чертой лирические и эпические произведения. В статье с условным заглавием «Как я пишу» (1929) Бунин признавался: «Свои стихи, кстати сказать, я не отграничиваю от своей прозы. И здесь, и там одна и та же ритмика… – дело только в той или иной силе напряжения ее».
Объединяет разные литературные роды свойство, которое Бунин называет изначальный звук. «Не готовая идея, а только самый общий смысл произведения владеет мною в этот начальный момент – лишь звук его, если можно так выразиться. И я часто не знаю, как я кончу: случается, что оканчиваешь свою вещь совсем не так, как предполагал вначале и даже в процессе работы. Только, повторяю, самое главное, какое-то общее звучание всего произведения дается в самой начальной фазе работы…»
Если бунинская лирика тяготеет к прозе, то его эпические произведения, повести и рассказы, напротив, стремятся к поэтическому звучанию. Фабула и персонажи в них часто подчинены эмоции, настроению, звуку. Один из современников, С. А. Венгеров, использовал для обозначения бунинских рассказов тургеневское жанровое определение: стихотворения в прозе.
«Антоновские яблоки» (1900) на много лет стали самым известным, главным, фирменным произведением Бунина-прозаика.
«…Вспоминается мне ранняя погожая осень». Рассказ начинается с многоточия, словно после вздоха, как продолжение только что прерванного разговора. Как и в «Листопаде», повествование движется от ранней погожей осени к зиме. Но здесь меняются не просто пейзажи, а жанровые картинки, создающие целостный образ дворянской жизни за целый век, от Пушкина до современности.
«Да, были люди в наше время…» – вздыхал старый солдат в «Бородино». «Была игра!» – мечтательно говорил герой пьесы А. В. Сухово-Кобылина, шулер Расплюев. Бунин не фиксирует внимание ни на повествователе, ни на других героях. Темой его рассказа, как в лирическом стихотворении, становится само движение, теперь уже не только природного, но исторического времени.
Было время, когда в дворянских усадьбах кипела жизнь, со смехом и азартом убирали яблоки и хлеб («„Ядреная антоновка – к веселому году“. Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился… Вспоминается мне урожайный год», гл. 2), время шумной, веселой торговли и тихих ночей, время, когда повествователь был юношей-барчуком и с надеждой смотрел в будущее: «Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!» (Гл. 1)
Бунин настаивает на одной социальной черте деревенской жизни: ее экономическом и нравственном единстве. «Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, – очень недавно, – имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию». (Через семнадцать лет, в эпоху «Окаянных дней», его точка зрения изменится на противоположную: он обнаружит не просто границу, но пропасть, бездну между дворянами и поверившим лозунгам большевиков «народом».)
Спокойное домовитое существование подошло к концу, превратившись из образа жизни в забаву. «За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охота» (гл. 3). Описав лишенное прежнего размаха занятие (сравним хотя бы сцену охоты в «Войне и мире»), повествователь в начале последней главы подводит безрадостный итог: «Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч… Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!» (Гл. 4)
Она сохраняет в миниатюре прежние занятия (охота, молотьба, вечерние встречи с пением под гитару «как в прежние времена») и тоже не лишена прелести и поэзии. «Хороша и мелкопоместная жизнь!» – еще раз, словно уговаривая себя, повторяет рассказчик. «Эх, кабы борзые!» – в форме чужого слова воспроизводит он реплику какого-то мелкопоместного.
Но не случайно финал рассказа приурочен к зиме: «Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок…» В отличие от символа у символистов, бунинская символика ненавязчива, почти незаметна. Однако и во времени года, и в характеризующих песню заключительных эпитетах («подхватывают с грустной, безнадежной удалью») есть отчетливый символический намек.
Дворянская культура, наследником которой чувствует себя повествователь, – уже в прошлом. «А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из „Евгения Онегина“. И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою… Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза…» (Гл. 3)
Прежние люди стали книгами и портретами, «старинная мечтательная жизнь» превратилась в воспоминание. Одновременно с «Антоновскими яблоками» Бунин пишет рассказ «Эпитафия» (1900). В нем в той же манере неспешного рассказа изображено, как исчезает мужицкий мир: пустеет деревня, падает поставленный когда-то крест, зарастают лебедой поля. «Ни души! – сказал ветер, облетев всю деревню и закрутив в бесцельном удальстве пыль на дороге».
Этот рассказ повествователь оканчивает риторическими вопросами и надеждой на цивилизацию, которая, возможно, построит на месте исчезнувшей новую жизнь (редкая для Бунина мысль). «Руда! Может быть, скоро задымят здесь трубы заводов, лягут крепкие железные пути на месте старой дороги и поднимется город на месте дикой деревушки. И то, что освящало здесь старую жизнь – серый, упавший на землю крест будет забыт всеми… Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чье благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?»
Звук же «Антоновских яблок» – светлая печаль. Рассказ часто называли элегией в прозе, хотя сам автор позднее протестовал против такого определения.
«Антоновские яблоки» – эпилог и эпитафия к важной традиции русской литературы. Усадебный хронотоп Пушкина, Тургенева, Фета – уже в прошлом. Через три года в пьесе Чехова начнут рубить вишневый сад и раздастся звук лопнувшей струны. В «Темных аллеях» Бунин будет писать это прошлое уже по памяти, как затонувшую Атлантиду.
«ГОСПОДИН из САН-ФРАНЦИСКО»: САТИРА И ПРИТЧА
Именно потому, что Бунин часто писал с натуры, он особенно ценил выдумку и тянулся к ней. В специальных записках «Происхождение моих рассказов» он признался, что один из самых лучших его рассказов возник вроде бы случайно: проходя мимо витрины книжного магазина в Москве, он увидел русское издание повести Томаса Манна «Смерть в Венеции», но так и не купил эту книгу, прочитав ее много позднее. «А в начале сентября 1915 года, живя в имении моей двоюродной сестры, в селе Васильевском, Елецкого уезда, Орловской губернии, почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостиницу „Квисисана“, где мы жили в тот год, и тотчас решил написать „Смерть на Капри“, что и сделал в четыре дня – не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию сереньких и уже довольно коротких и свежих дней и тишине в усадьбе и в доме… <…> Заглавие „Смерть на Капри“ я, конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал первую строку: „Господин из Сан-Франциско…“ И Сан-Франциско, и все прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в „Квисисане“) я выдумал». Но эта выдумка, как всегда у Бунина, опирается на прочную бытовую основу. Множество точных подробностей не возникли бы без опыта его жизни в Италии и далеких путешествий на океанских пароходах.
История смерти богатого американца на солнечном острове писалась, таким образом, в глухой деревне. Из глубины России Бунин предлагает свой взгляд на судьбу всей современной цивилизации.
Эта цивилизация представлена обитателями парохода с говорящим названием «Атлантида». Пароход – современный ковчег, где, окруженные небывалой роскошью, плывут в Европу хозяева мира: великий богач, знаменитый писатель, всесветная красавица, наследный азиатский принц, множество других декольтированных дам и мужчин во фраках и смокингах. Среди них – и семья главного героя, господина из Сан-Франциско с женой и дочерью, имени которого «никто не запомнил».
Герой – человек не только без имени, но и без биографии. Неизвестно, как, каким образом он заработал свое богатство и положение упомянуто лишь, что для этого понадобились «китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами».
Зато подробно рассказано о планах героя. Завоевав прочное положение, он собирается объехать весь мир – Италию, Францию, Испанию, Англию, Грецию, Палестину, Египет и даже Японию. Господин предполагает наслаждаться солнцем и «любовью молодых неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной», предаваться разнообразным удовольствиям «отборного общества», включая стрельбу в голубей и участие в папской мессе.
Но путешествие заканчивается, едва успев начаться. Господин из Сан-Франциско внезапно умирает на острове Капри, и его теперь никому не нужное и всех пугающее тело, помещенное в ящик из-под содовой воды, совершает обратное путешествие через океан в трюме того же парохода в сопровождении безутешных жены и дочери.
В отличие от многих других рассказов, в «Господине из Сан-Франциско» Бунин добавляет к своей привычной описательности сатирический пафос и открытую идею.
Обычный быт парохода «Атлантида» изображен с сатирической злостью и мрачной символичностью. Хозяева жизни утопают в роскоши, целый день едят и спят, развлекаются на вечерних балах, совершенно не обращая внимания на многочисленных молчаливых и незаметных людей, которые обеспечивают, ухаживают, прислуживают, доставляют: «…Великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах»; «Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их».
Защищенные богатством, ослепленные ярким электрическим светом, эти люди не видят символических предзнаменований и не верят во что-то превосходящее их возможности. Между тем, рыжего капитана Бунин сравнивает с огромным языческим идолом, трюм парохода – с недрами преисподней, девятым кругом ада, а в конце повести появляется и сам Дьявол, следящий со скал Гибралтара за уходящим кораблем.
Примечательно, что все обитатели «Атлантиды» – люди без имен. Имена Бунин дает только простым итальянцам: коридорному слуге Луиджи, танцорам Кармелле и Джузеппе, лодочнику Лоренцо. Неаполь и Капри представлены Буниным как противоположный полюс изображенного мира, полюс бедной, но естественной и гармоничной жизни.
На пароходе, развлекая пассажиров, танцует красивая фальшивая пара, нанятая «играть в любовь за хорошие деньги». На Капри два простых итальянца, спускаясь с гор, останавливаются у иконы Богоматери и поют «наивные и смиренно-радостные хвалы… солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной…» (Бунин вспоминал: «…Взволновался я и писал даже сквозь восторженные слезы только то место, где идут и славословят мадонну запоньяры».)
Слуги на пароходе невидимы и безответны. Бойкий коридорный Луиджи, с «гримасами ужаса», «с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью», на самом деле смеется над господином.
«Огненные несметные глаза» верхних этажей и «багровое пламя» в утробе парохода противопоставлены совсем иной цветовой гамме: «Шли они – и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово».
«Господина из Сан-Франциско» называют самым толстовским рассказом Бунина. Действительно, у позднего Толстого есть прямо перекликающиеся с бунинской повесть «Смерть Ивана Ильича» и притча «Много ли человеку земли нужно?». Как и Толстой, Бунин противопоставляет фальшь богатства естественному простодушию бедняков. Подобно Толстому, он сатирически смотрит на цивилизацию, которую благословляет Дьявол.
Бунин изображает ужас внезапной смерти. Но столь же ужасно-бессмысленна оказалась жизнь господина из Сан-Франциско, который только собирался жить, который думал, что ему покорен весь мир, но ему оказывается достаточно лишь большого и длинного ящика. «Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене…»
В «Господине из Сан-Франциско» Бунин судит Страшным судом всю европейскую цивилизацию. Рассказ становится притчей о фальши современного мира, который на корабле «Атлантида», созданном гордыней Нового Человека, под предводительством языческого идола-капитана плывет в неизвестное будущее, сопровождаемый пристальным взглядом Дьявола, оставляя за кормой прекрасную солнечную страну и смиренную молитву.
Звук этого рассказа-притчи – мрачное предупреждение: «В самом низу, в подводной утробе „Атлантиды“, тускло блистали сталью, синели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля. <…> А средина „Атлантиды“, столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке – красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу…»
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»: ГРАММАТИКА ЛЮБВИ
Бунин, как мы помним, – объективный художник. Поэтому тематический подход к действительности привычен для него. Наряду со стихотворениями и рассказами о природе, социально-психологическими произведениями о загадках национального характера (в «Деревне» Бунин видел «начало целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы»), рассказами-притчами о судьбе современной цивилизации (кроме «Господина из Сан-Франциско», к ним можно отнести «Братьев» и «Старуху»), в его творчестве, начиная с 1910-х годов, все заметнее становится любовная тема, чтобы в последней книге стать основной.
Тридцать восемь рассказов «Темных аллей» (отдельное издание – 1946) написаны, большей частью, в оккупированной фашистами Франции, посреди второй мировой войны, о русской жизни, которая давно исчезла, оставшись только в памяти писателя. Сочиняя книгу о самом индивидуальном, интимном человеческом чувстве, Бунин словно противопоставляет его массовому безумию мировой бойни.
Заглавие подсказало Бунину стихотворение Н. П. Огарева «Обыкновенная повесть», которое, видимо, он запомнил с юности. Его прозрачная символика объяснена в письме писательнице Тэффи: «Вся эта книга называется по первому рассказу – „Темные аллеи“, – в котором „героиня“ напоминает своему возлюбленному, как когда-то он все читал ей стихи про „темные аллеи“ („Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи“), и все рассказы этой книги только о любви, о ее „темных“ и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях» (23 февраля 1944 г.).
Еще в рассказах, написанных накануне революции, Бунин нашел несколько важных художественных формул, определяющих его восприятие темы.
В центре рассказа «Легкое дыхание» (1916) – трагедия юной девушки, гимназистки Оли Мещерской, веселой, легкой, ожидающей счастья, однако соблазненной старым ловеласом, другом своего отца, и провоцирующей после этого собственное убийство. «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».
Герой другого рассказа, «Грамматика любви» (1915), «некто Ивлев», находит в имении соседа-помещика, всю жизнь любившего свою внезапно умершую горничную, старинную книгу и внимательно читает написанные на последней странице стихи: «Тебе сердца любивших скажут: / „В преданьях сладостных живи!“ / И внукам, правнукам покажут / Сию Грамматику Любви».
В написанном уже в эмиграции рассказе «Солнечный удар» (1925) юный поручик встречает на пароходе незнакомку, проводит с ней всего одну ночь и после того, как женщина уезжает, понимает, что пережил, вероятно, главное событие своей жизни: «Да что же это такое со мной? И что в ней особенного и что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар!»
В рассказе «Муза» (17 октября 1938 г.), включенном в книгу, есть короткий диалог между героями:
«– Воображаю что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь.
– Любовь?
– А как же иначе это называется?»
В «Темных аллеях» идет поиск и этого слова, и этого языка: сочиняется грамматика солнечных ударов.
В заглавном рассказе «Темные аллеи» (20 октября 1938) Бунин цитирует Н. П. Огарева. В «Холодной осени» (3 мая 1944) появятся цитаты из стихотворения А. А. Фета (стихи Фета щедро использованы раньше, в «Жизни Арсеньева»). Композиция рассказа «В одной знакомой улице…» (25 мая 1944) подчинена развитию лирического сюжета в стихотворении Я. П. Полонского «Пленница».
Имя Фета особенно важно для Бунина. Именно Фет делает хронотоп усадьбы центром мироздания, вписывая в него мгновенный любовный роман.
Только в мире и есть, что тенистый Дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый Детски задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый Милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый Влево бегущий пробор. («Только в мире и есть, что тенистый…», 3 апреля 1883)Та же картина мира, но в иной эмоциональной тональности, становится опорной для Бунина: старый дом, аллея темных лип, озеро или река, уходящая на станцию или в провинциальный городок размытая дорога, которая приведет то на постоялый двор, то на пароход, то в московский трактир, то на погибельный Кавказ, то в роскошный вагон идущего в Париж поезда.
Чехов советовал: героев в рассказе не должно быть много – он и она вполне достаточны для сюжета. Большинство рассказов «Темных аллей» строятся по этой схеме. Но связи между персонажами, как правило, асимметричны. Он (герой) – это взгляд и слово, чувствующая и преломляющая призма. Она (героиня) – предмет чувства, живописания и исследования. Он – художник, Пигмалион, она – модель, Галатея.
Главными в бунинской книге становятся разнообразные женские образы. Не случайно поэтому многие рассказы названы собственными именами, прозвищами, характерными приметами героинь: «Руся», «Красавица», «Дурочка», «Зойка и Валерия», «Таня», «Галя Ганская», «Натали», «Кума», «Барышня Клара». «Степа» и «Генрих» – это тоже не мужские имена, а имя и псевдоним главных героинь.
Как и символисты, поздний Бунин пишет о непостижимом, о загадке Вечной Женственности (если воспользоваться фразеологией не любимых писателем символистов). Но для него она существует не в лиловых мирах, а в лиловом блеске чернозема, не в Незнакомке с синими бездонными очами на дальнем берегу, а в случайно встреченной на волжском пароходе жене секретаря земской уездной управы.
Смысл бунинской философии любви хорошо объяснил поэт и критик В. Ф. Ходасевич, сопоставив Бунина с его современниками-символистами: «Предмет бунинского наблюдения и изучения – не психологическая, а иррациональная сторона любви, та ее непостижимая сущность (или та непостижимая часть ее сущности), которая настигает, как наваждение, налетает Бог весть откуда и несет героев навстречу судьбе. <…> Не внешние, но внутренние события этих рассказов иррациональны, и характерно для Бунина, что такие иррациональные события всегда им показаны в самой реалистической обстановке и в самых реалистических тонах. <…> Если в этом пункте сравнить Бунина с символистами, то заметим, что у последних мир, окружающий героев, всегда определяется отчасти их собственными переживаниями, отчасти же (и еще более) – тем, как автор переживает переживания своих героев. Поэтому вся обстановка повествования, весь „пейзаж“ (в широком смысле слова) у символистов подчинен фабуле. <…> Обратное – у Бунина. У него события подчинены пейзажу. У символистов человек собою определяет мир и пересоздает его, у Бунина мир, данный и неизменный, властвует над человеком. Поэтому бунинские герои так мало стремятся сами себе дать отчет, каков смысл с ними происходящего. Они по природе не философичны и не религиозны в глубоком смысле этого слова. <…> Всякое знание о происходящем принадлежит не им, а самому миру, в который они заброшены и который играет ими через свои непостижимые для них законы» («Бунин. Собрание сочинений», 1934).
В «Темных аллеях» есть рассказы светлые, радостные, гармоничные. В «Качелях» (10 апреля 1945 г.) он и она говорят о Толстом и Л. Андрееве, качаются на качелях в конце аллеи, гуляют по той же аллее. Эта прогулка завершается поцелуем, который даже не описан, а процитирован:
«– Данте говорил о Беатриче: „В ее глазах – начало любви, а конец – в устах“. Итак? – сказал он, беря ее руку.
Она закрыла глаза, клонясь к нему опущенной головой. Он обнял ее плечи с мягкими косами, поднял ее лицо.
– Конец в устах? – Да…
Когда они шли по аллее, он смотрел себе под ноги…»
Бытовые подробности у Бунина, в отличие, например, от Чехова с его «осетриной с душком» («Дама с собачкой»), не противопоставлены отношениям персонажей, а аккомпанируют им.
«– Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц, зеленое небо, запах росы, запах из кухни, – верно, опять мои любимые битки в сметане! – и синие глаза и прекрасное счастливое лицо…
– Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни уже не будет…»
Запах из кухни и битки в сметане вместе с молодым месяцем и запахом росы оказываются поэтическими элементами легкой любовной игры, за которой еще не видно никаких катастроф. «Пусть будет только то, что есть… Лучше уж не будет».
В рассказе «Волки» (7 октября 1940) влюбленные юноша и барышня, спасаясь от стаи волков, мчатся на телеге, она падает и рассекает щеку. И опять эта любовь и чувство опасности остается ее лучшим воспоминанием. «Дела давно минувших дней! – говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи, молотьбу на гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновенные дуги падающих звезд. – Волки испугали, лошади понесли, – говорила она. – А я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их…
Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную улыбку».
Но не случайно Бунин писал о мрачных и жестоких аллеях. В книге есть этюды о счастливой любви, но нет рассказов о любви долгой и счастливой, нет своих Филемона и Бавкиды или старосветских помещиков. Бунинскому миру неизвестна формула: «Они жили долго и умерли в один день».
Разлука, как часовой механизм, встроена в самую счастливую встречу. Сумасшедшая судьба караулит за каждым углом. Мрак сгущается в темных аллеях. Любовь и голод правят миром? Миром «Темных аллей» правят любовь и смерть. Солнечный удар имеет, как правило, две развязки: расставание (надолго или навсегда) или смерть (расставание навеки).
В «Чистом понедельнике» (12 мая 1944) религия, искусство, весь с необычайной щедростью изображенный московский культурный быт (лекция Андрея Белого, концерт Шаляпина, капустник Художественного театра, поездка в Новодевичий монастырь и прогулка по Кремлю) оказываются лишь фоном для эксцентрического поступка героини – внезапного разрыва неопределенно-любовных отношений и ухода в монастырь («И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь»).
В рассказе «В одной знакомой улице» (25 мая 1944) стержнем композиции становится стихотворение Я. П. Полонского «Затворница».
«Весенней парижской ночью шел по бульвару (кто? он? я? – субъект повествования размыт и обозначится лишь позднее. – И. С.) в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал:
В одной знакомой улице Я помню старый дом С высокой темной лестницей, С завешенным окном…– Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня!»
Далее на полутора страничках, благодаря вспоминаемым по строфам чудесным стихам, воспроизводится история любви со всеми ключевыми мотивами: встреча, порыв страсти, бытовые и исторические детали (прозрачное от голода лицо, зеленые вагоны на Курском вокзале) – и караулящая за занавеской судьба.
«Придя в себя, она вскакивала, зажигала спиртовку, подогревала жидкий чай, и мы запивали им белый хлеб с сыром в красной шкурке, без конца говоря о нашем будущем, чувствуя, как несет из-под занавески зимой, свежим холодом, слушая, как сыплет в окно снегом…»
Финальная точка рассказа – расставание на вокзале. «Помню, как… мы говорили, прощались и целовали друг другу руки, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов… Больше ничего не помню. Ничего больше и не было».
Между той Москвой и ночью на парижском бульваре была, очевидно, целая жизнь (война? революция? изгнание?). Но на невидимых весах памяти все перевешивают эти свидания и эти стихи.
Так и героиня «Холодной осени», подводя итоги в безрадостной Ницце, вспомнит тридцатилетней давности последнее свидание, прогулку по саду под чистыми ледяными звездами с любимым, через месяц убитым в Галиции. «Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер, Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, – остальное ненужный сон».
Противоречивость, парадоксальность бунинского изображения любви проявляется даже стилистически, в разнообразных, лейтмотивом проходящих через всю книгу оксюморонах: заунывный, безнадежно-счастливый вопль; она радостно плакала («Кавказ»), недоумение счастья («Поздний час»), нестерпимое счастье («Руся»), веселая ненависть («Антигона»), восторг своей любви и погибели («Натали»), порочный праздник («Месть»), все та же мука и все то же счастье («Чистый понедельник»).
Завершает каноническое издание книги короткий лирический рассказ «Часовня» (2 июля 1944). Сквозной сюжет «Темных аллей» (любовь-смерть) свернут здесь до двух коротких реплик детей, заглядывающих в окно часовни, где «в железных ящиках лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застрелил»: «А зачем он себя застрелил? „Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют в себя…”»
Фоном для этого диалога является роскошный летний пейзаж, построенный на противопоставлениях усадьбы и часовни, жары и холода, света и тьмы, неба и поля, движения и покоя. Объединяет все эти оппозиции контраст жизни и смерти, их вечной неравной схватки. «В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна».
Бунин считал: прошлое существует, пока есть тот, кто помнит. «И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!» («Роза Иерихона», 1924)
«Хотя разве бывает несчастная любовь? – сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. – Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья?» («Натали») Россия во всю ее историческую глубину оказывается у Бунина огромной заколдованной территорией любви. «Темные аллеи» – восстановление мгновенного времени любви в вечном времени России, ее природы, ее застывшего в своем ушедшем великолепии прошлого.
Максим ГОРЬКИЙ (1868–1936)
НИЖЕГОРОДСКИЙ «БОСЯК»: ПУТЬ К ВЕРШИНАМ
Господа! Если к правде святой Мир дорогу найти не умеет, — Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой!Балладу Беранже «Безумцы» с упоением декламирует Актер в пьесе «На дне». В этом четверостишии сконцентрированы важные мотивы, которые многое определяют не только в произведениях, но и в жизни писателя: святая правда, мир, дорога, безумец, человечество, сон золотой.
Горький – первый из больших русских писателей, у которого псевдоним победил фамилию (случай Салтыкова – иной, там псевдоним Щедрин скромно присоединился к фамилии). «Они жили вместе – Горький и Пешков. Судьба кровно, неразрывно связала их. Они были очень похожи друг на друга и все-таки не совсем одинаковы. Иногда случалось, что они спорили и ссорились друг с другом, потом снова мирились и шли по жизни рядом. Их пути разошлись только недавно: в июне 1936 года Алексей Пешков умер, Максим Горький остался жить» (Е. И. Замятин «М. Горький», 1936).
Алексей Максимович Пешков, известный лишь близким людям, подписывающий собственным именем только документы, для всего мира стал Максимом Горьким, писателем, слава которого временами превосходила известность всех русских классикой XIX века.
Семья и среда, из которой вышел Алексей Пешков, мало заботились о прошлом, о сохранении семейных архивов и даже преданий. Память здесь не распространялась дальше дедов. Первая горьковская фотография сделана в девятнадцатилетнем возрасте (1887). В первой автобиографии (1897), написанной в период, когда Пешков только превращался в Горького, даже дата рождения указывалась с ошибкой.
Позднее Горький много писал о себе. Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты» сопровождается многочисленными мемуарами о других людях, дневниковыми заметками, письмами. Но здесь история детства и юности нижегородского сироты из мещанской семьи увидена в перспективе будущего, глазами всемирно знаменитого писателя. Конец горьковской жизни связан с другими, уже страшными, тайнами.
В итоге в биографии Горького действительно бывшее, правду святую, трудно отделить от легенды, от золотого сна. Слишком уникальна, безумно-неправдоподобна оказалась судьба этого человека, связавшая безвестного повара Смурого с европейскими писателями-интеллектуалами Р. Ролланом и Г. Уэллсом, босяков с игравшими их великими актерами, членов императорской семьи с советскими вождями, Льва Толстого, родившегося в 1828 году, и Леонида Леонова, ушедшего из жизни в 1994 году.
Алексей Максимович Пешков родился 16 (28) марта 1868 года в нижегородской мещанской семье. Среди его родственников были разные, иногда довольно состоятельные, мастеровые: столяр-краснодеревщик, красильщик, обойщик. Отец в конце недолгой жизни получил должность управляющего пароходной конторой, но семья не успела воспользоваться благами нового положения. Максим Пешков вскоре умер от холеры, заразившись от собственного сына (1871).
После смерти матери (1879), которая так и не смогла простить ребенку смерти мужа, Алеша остался круглым сиротой. Бабушка, «изумительно добрая и самоотверженная старуха, о которой я всю жизнь буду вспоминать с чувством любви и уважения» («Автобиография», 1897), не смогла преодолеть воли скупого и равнодушного деда. «Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне: „Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди…“ И пошел я в люди» – так заканчивается повесть «Детство» (1913).
Он был отправлен в люди как чеховский Ванька Жуков, как тысячи других детей из бедняцких семей. «По смерти матери, дедушка отдал меня в магазин обуви… <…> Из „мальчиков“ сбежал и поступил в ученики к чертежнику, – сбежал и поступил в иконописную мастерскую, потом на пароход, в поварята, потом в помощники садовника. В сих занятиях прожил до 15 лет…» – вспоминал Горький это время, когда оно было еще близко («Автобиография», 1899). Потом он подробно опишет эту эпоху в повести «В людях» (1914).
В это время первых скитаний в главных чертах сформировался его характер. Решающее событие (Горький будет вспоминать его многократно) произошло во время службы поваренком на пароходе. «Михаил Антонов Смурый, человек сказочной физической силы, грубый, очень начитанный; он возбудил во мне интерес к чтению книг. Книги и всякую печатную бумагу я ненавидел до этой поры, но побоями и ласками мой учитель заставил меня убедиться в великом значении книги, полюбить ее» («Автобиография», 1897). «Ну, прощай! Читай книги – это самое лучшее!» – говорит ему повар при прощании» («В людях», гл. 6).
В русской культуре, наверное, не было более неистового читателя и почитателя книги. «Книга для меня – чудо», – скажет Горький уже в конце жизни. Книги заменили ему домашнее образование и гувернеров, гимназию и университет. Все общавшиеся с писателем дружно отмечали его фантастическую начитанность и особое отношение к литературному творчеству. «А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!» (И. А. Бунин «Горький», 1936)
«На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. <…> Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал. <…> Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот – написано, создано, вымышлено» (В. Ф. Ходасевич. «Горький», 1936).
К. И. Чуковский, еще один интеллигент-самоучка, с некоторой завистью еще при жизни писателя вспоминал шуточную гиперболу одного неназванного писателя: «Думают, он буревестник… А он – книжный червь, ученый сухарь, вызубрил всю энциклопедию Брокгауза от слова „Аборт“ до слова „Цедербаум”» («Горький», 1928). (Энциклопедия Брокгауза – это 86 огромных томов, нет вероятно, в мире человека, который прочитал бы ее целиком.)
Книги были для Горького спасительным контрастом «свинцовым мерзостям», жестокости и несчастьям окружающей жизни. Художественная логика – преодолением иррациональности мира. Писатель – учителем жизни, почти святым (тем яростнее он относился даже к гениальным авторам, например Достоевскому, в которых усматривал измену этому призванию).
«Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильною жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них…
Другой, крещенный святым духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно и, как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию» («В людях», гл. 20).
Обратим внимание: и в той и в другой версии жизни горьковский двойник не обходится без книг. Но святой дух честных и мудрых книг, зовущий на спор и бой, значит для него много больше, чем мирное уединение с теми же книгами.
После недолгого пребывания под родной крышей и окончившегося неудачей «свирепого желания» поступить в Казанский университет начинается новый цикл странствий по Руси: встречи с разными людьми, участие в народнических кружках, множество случайных занятий.
В декабре 1887 года Горький предпринимает попытку самоубийства. В записке, найденной в его кармане, намеренная грубость мастерового сочеталась с романтической позой неистового читателя: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. <…> Останки мои прошу взрезать и осмотреть, какой черт во мне сидел последнее время». Генрих Гейне называл зубной болью в сердце любовь, а как лучшее средство от нее предлагал свинцовую пломбу (пулю) и изобретенный Бертольдом Шварцем зубной порошок (порох).
Опасная рана, к счастью, быстро зажила. Характерен вывод, который Горький делает из своего поступка через много лет. «Стало мучительно стыдно, и я, с той поры, не думаю об самоубийстве, а когда читаю о самоубийцах – не испытываю к ним ни жалости, ни сострадания».
Горьковский Человек все время хочет превратиться в Сверхчеловека, избавиться от жалости и страдания, построить новую гармоническую жизнь на абсолютно разумных основаниях.
Впечатлений, накопленных за годы скитаний, Горькому хватило на всю оставшуюся жизнь. С этим временем он связывал и причудливый список четырех своих учителей: повар-солдат Смурый; нижегородский адвокат Ланин; человек «вне общества», революционер-народник Калюжный; известный писатель и общественный деятель В. Г. Короленко. Вопреки всем испытаниям эти юношеские годы позднее казались Горькому едва ли не самыми счастливыми: тогда все еще было впереди. В конце двадцатых годов в Италии он делает запись для себя: «Вчера, в саду, разжег большой костер, сидел перед ним и думал: вот так же я, тридцать пять лет тому назад, разжигал костры на Руси, на опушках лесов, в оврагах, и не было тогда у меня никаких забот, кроме одной – чтобы костер горел хорошо…»
В 1892 году, оказавшись в Тифлисе (Тбилиси), Алексей Пешков публикует свой первый рассказ «Макар Чудра», подписанный «М. Горький». Так впервые появился этот псевдоним. Прошло несколько лет, Горький написал еще несколько десятков рассказов и очерков – и стал известен почти каждому читающему человеку, причем не только в России. Писательская слава Горького на какое-то время затмила имена и Чехова, и даже Л. Толстого, не говоря уже о Бунине или Блоке.
«До сей поры еще не написал ни одной вещи, которая бы меня удовлетворяла, а потому произведений моих не сохраняю…» – признавался Горький в автобиографии (1897), написанной по просьбе литературоведа-библиографа С. А. Венгерова. Но Венгеров, причем в словарной статье для знаменитого энциклопедического словаря Брокгауза, который Горький будто бы выучил наизусть, вынужден был корректировать автора: «Между тем, уже через V года Пешков, подобно Байрону, мог сказать, что в одно прекрасное утро он проснулся знаменитостью. <…> Успех Пешкову создала исключительно публика… <…> Впервые за все время существования русской книжной торговли томики Пешкова стали расходиться в десятках тысяч экземпляров, в общем достигнув колоссальной цифры 100 000. Вышедшая в 1900 г. отдельным изданием пьеса «Мещане» в 15 дней разошлась в количестве 25 000 экз. Впервые также публика стала высказывать небывалый интерес к личности писателя. Каждое появление Пешкова в публике возбуждало настоящую сенсацию; ему проходу не давали интервьюеры, его восторженно провожали и встречали на вокзалах, ему посылали с литературных вечеров телеграммы, его портреты и даже статуэтки появлялись во всевозможных видах» («Горький»).
В повести В. В. Вересаева «На повороте» (1901) в описании комнаты одного из «идеологических» персонажей появляется такая подробность: «Вошли через сенцы в тесную комнату с грязными, полуоборванными обоями. Везде валялись книги. К стене были пришпилены булавками портреты Маркса, Чернышевского и Горького».
Горький попадает в интеллигентские святцы, не завершив и первое десятилетие писательской деятельности.
Что же искала публика, раскупая сотни тысяч сборников Горького? Кого восторженно приветствовали на вокзалах, чьи портреты висели на стенах интеллигентских квартир?
В русской культуре и общественной жизни великий перелом Настоящего Двадцатого Века предчувствуется уже с последнего десятилетия века девятнадцатого. Составляющими горьковского успеха стали общественные настроения и тема, герой и автор, читательские ожидания и стиль.
Во втором действии «Вишневого сада», сразу после спора о будущем и первого загадочного звука лопнувшей струны, появляется странный персонаж. «Показывается Прохожий в белой потасканной фуражке, в пальто; он слегка пьян». Спросив для начала дорогу, он произносит короткий, видимо, отрепетированный монолог: «Чувствительно вам благодарен. (Кашлянув.) Погода превосходная… (Декламирует.) Брат мой, страдающий брат… выдь на Волгу, чей стон… (Варе.) Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать». Получив отповедь от Лопахина («Всякому безобразию есть свое приличие!») и золотой от Раневской прохожий навсегда исчезает.
В пророческую чеховскую пьесу на мгновение ворвался горьковский герой – бродяга, пьяница, нарушающий нормы «образованного общества» и в то же время ловко пользующийся его сочувствием и жалостью к «падшим» (кто же не знает стихов знаменитого С. Я. Надсона и «кающегося дворянина» Некрасова и не откликнется на них?).
Чеховские персонажи оплакивают вишневый сад, но автор показывает неизбежность его гибели. В. Г. Короленко, как мы помним, один из учителей Горького, примерно в это же время утверждал: «Настало время нужды в героическом».
На фоне этих ожиданий героем в двух смыслах – литературным героем и героем времени – оказался горьковский босяк, человек выпавший из социальной структуры общества и отрицающий ее.
Почти одновременно с Горьким на подобного героя обратил внимание А. И. Куприн. В цикле «Киевские типы» (1896) появляется очерк «Босяк».
«В Петербурге его называют „вяземским кадетом“, в Москве – „золоторотцем“, в Одессе – „шарлатаном“, в Харькове – „раклом“.
В Киеве имя ему – «босяк».
Жалкая фигура с зеленым, опухшим и лоснящимся лицом, украшенным синяками и „кровоподтеками“, с распухшим носом, отливающим фиолетовым цветом, с потрескавшимися синими губами…»
В кратком очерке Куприн, тем не менее, успевает довольно детально описать занятия и образ жизни этого персонажа, упомянуть о различии летнего и зимнего босячества, рассказать о босяках обычных и «интеллигентных». Рассказывая о них, Куприн приводит фразы, похожие на речь чеховского прохожего.
«Иные, прося милостыню, бьют на оригинальность, прибегая или к возвышенному слогу, или к наивно-бесстыдной откровенности. „Господа почтенные, – обращается босяк к подгулявшей компании, – пожертвуйте пятачок на выпивку бедному учителю, изгнанному из службы за многочисленные пороки“. Если же он бывший офицер, то непременно прибегнет к французскому языку: „Доне келькшоз пур повр офисье“. (Подайте что-нибудь бедному офицеру)».
Точный физиологический очерк Куприна, подобный «Петербургским шарманщикам» Д. В. Григоровича, мало кого мог увлечь. Горьковские персонажи принадлежат совсем к иной традиции. Босяки оказываются родственниками эксцентричных и романтических персонажей: благородных разбойников, идеологических преступников, бродяг-философов.
«Жизнь сера, а русская в особенности; но зоркий глаз Горького скрашивает тусклость обыденщины. Полный романтических порывов, Горький сумел найти живописную яркость там, где до него видели одну бесцветную грязь, и вывел пред изумленным читателем целую галерею типов, мимо которых прежде равнодушно проходили, не подозревая, что в них столько захватывающего интереса. <…> Существующий порядок горьковский босяк, как социальный тип, сознательно ненавидит всей душой», – замечал С. А. Венгеров.
Но природу этого типа и этой ненависти критики и публика понимали по-разному, он отвечал противоположным ожиданиям.
Ранним русским марксистам Челкаш, Коновалов и другие «бывшие люди» казались пролетариями, бунтарями-разрушителями, революционерами, провозвестниками будущего. Писатели-модернисты, поклонники Ницше, увидели в горьковском герое сверхчеловека, отрицающего общественные идеалы и социальные табу (запреты) во имя высшей философии и нравственности.
«Философия этих босяков – своеобразнейшая амальгама жесткого ницшеанского поклонения силе с тем безграничным, всепроникающим альтруизмом, который составляет основу русского демократизма. Из ницшеанства тут взята только твердость воли, из русского народолюбия – вся сила стремления к идеалу. В результате получилось свежее, бодрое настроение, манящее к тому, чтобы сбросить ту апатию, которой характеризуется унылая полоса 80-х годов», – констатировал С. А. Венгеров.
Босяцкий Гомер (так назвал писателя один недоброжелательный критик) и сам на какое-то время попадает под обаяние созданного им типа. Образ бывшего босяка, взявшегося за перо, вскоре превращается в горьковскую маску (или привычную роль), которую с восторгом воспринимает публика. Его привычной одеждой становятся темная рубашка русского покроя, длинное пальто или крылатка, сапоги с высокими голенищами. Людей, подражающих Горькому в костюме (а среди них были писатель Леонид Андреев и знаменитый певец, земляк Горького, Ф. И. Шаляпин) называют подмаксимовиками.
Но мода на писателя быстро вышла за пределы интеллигентского круга. «Когда слава Горького выросла до огромных размеров, имя его стало употребляться как нарицательное имя: всех босяков, называли «Максимами Горькими», товаро-пассажирские поезда железных дорог с вагонами 4-го класса так же получили название «Максим Горький…» – вспоминал Н. Д. Телешов («Записки писателя», 1943).
Новыми казались не только горьковский герой-босяк, отождествляемый с автором, и пафос отрицания, совпадающий то с марксистской, то с ницшеанской идеологией, но и стиль горьковских рассказов. И. Бабель, новатор советской прозы 1920-х годов, всю жизнь считавший Горького своим учителем и покровителем, в ранней статье «Одесса» (1916) утверждал, что «в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца». Солнечный пейзаж – яркий, красочный, эффектный, праздничный, нарядный – появился только теперь. «Первым человеком, заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно, – был Горький. Горький – предтеча и самый сильный в наше время».
Далеко не все современники были в таком же восторге от горьковского природоописания. Бунину, ревнителю классической традиции, этот стиль казался вычурным, неправдоподобным, безвкусным. Достаточно критически относился к ранним горьковским рассказам и Чехов, предпочитая им бытовую, очерковую «Ярмарку в Голтве». Но многочисленные метафоры, послушно выстраивающиеся в ряды и постоянно переходящие в олицетворения, энергия нанизывания все новых и новых слов – заражали читателя, уже отвыкшего после Толстого и Чехова от пышной стилистики романтического повествования.
«Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов… Вдруг она вырвалась из их толпы, и море – бесконечное, могучее – развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков – лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые… Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блестеть над сонным морем миллионами своих золотых очей – разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск» («Челкаш», 1894).
Своими первыми книгами Горький ответил на многочисленные ожидания. Перед ним открывалось множество дорог. За десятилетие превратившись из нижегородского босяка в знаменитого писателя, в начале века он сделал выбор, который предопределил следующие повороты его фантастической судьбы.
ПЕТРОГРАДСКИЙ ЕРЕТИК: БОРЬБА ЗА ГУМАНИЗМ
Все большее общественное признание писателя сопровождается преследованиями и знаками государственного неодобрения. К 1901 году Горький знаком с Толстым, Чеховым, Л. Андреевым, И. Е. Репиным, переведен на множество языков, организовал издательство «Знание», существенно повысившее писательские гонорары, издает первое собрание сочинений. Но в марте за участие в демонстрации у Казанского собора его арестовывают и освобождают под домашний арест лишь по ходатайству Толстого.
В 1902 году Горького избирают почетным академиком по Отделению русского языка и словесности, но после резолюции императора Николая «Более чем оригинально!» выборы отменяют; в знак протеста академию покидают Чехов и Короленко.
Из прозаика Горький превращается в драматурга, пишет пьесы «Мещане» (1901), «На дне» (1902), «Дачники» (1904), которые с огромным успехом ставятся в России и Европе. Но в январе революционного 1905 года за публикацию написанного после расстрела петербургских рабочих воззвания к общественному мнению России и Европы его арестовывают в Риге и на полтора месяца заключают в Петропавловскую крепость. После общеевропейских протестов Горького освобождают под залог, он присутствует на премьере очередной пьесы «Дети солнца» (1905).
С 1905 года начинается активное сотрудничество Горького с большевиками – роман, который растянулся на двенадцать лет, а потом, через некоторое время, продолжился уже в СССР. Осенью 1905-го он вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). 27 ноября 1905-го года в Петербурге, на заседании ЦК РСДРП происходит знакомство с В. И. Лениным. Тогда еще никто не подозревал, какое место займет этот человек в русской и мировой истории XX века. Для горьковской судьбы эта встреча оказалась более значимой, чем отношения с Толстым, Чеховым и вообще с кем бы то ни было из его современников.
К этому времени уже написаны аллегорические «Песня о Соколе» (1899) и «Песня о Буревестнике» (1901) с ее знаменитым лозунгом «Пусть сильнее грянет буря!». Они печатаются в подпольных типографиях и распространяются как листовки, революционные прокламации. У радикальной русской интеллигенции появились новые символы: несломленный сокол и гордый буревестник пришли на смену печальной чеховской чайке.
Горький много помогает большевикам и материально, как из собственных гонораров, так и собирая деньги в агитационных поездках. В 1906 году с этой целью он отправляется в Америку. Потом, ненадолго вернувшись в Россию, проводит едва ли не самые счастливые творческие годы (1906–1913) в эмиграции, на итальянском острове Капри.
Европа доживает последние годы затянувшегося XIX века. В Италию приезжает уже не босяк-недоучка, неудачливый самоубийца, начинающий автор, а всемирно известный писатель с огромным опытом, демократ, русский интеллигент. «Горький постепенно становился интеллигентом и занимал в рядах интеллигенции все более высокое место. <…> Роман с интеллигенцией у Горького гораздо длительнее, чем роман с босяками», – писал А. В. Луначарский, друживший с Горьким в итальянские годы.
На Капри Горький заканчивает начатый еще в Америке роман «Мать» (1906–1907). Эта не самая лучшая горьковская книга долгие годы пользовалась огромной популярностью, в советское время была объявлена первым произведением нового художественного метода, социалистического реализма, стала обязательной для школьного изучения. В Павле Власове увидели пришедшего на смену романтическим босякам нового героя, последовательного пролетария, борца с самодержавием. Страшные пророчества романа («Когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся из терпения, – что это будет? Небо кровью забрызгают, и земля в ней как мыло вспенится…») до поры до времени останутся неуслышанными.
В Италии Горький пишет или начинает повесть «Городок Окуров» (1909), цикл рассказов «По Руси» (1912–1917), первую часть автобиографической трилогии «Детство» (1913–1914), продолжает работу над драмами (однако ни одна из них не имеет успеха, выпавшего на долю «На дне»).
Помня о своем пути в литературу, он подхватывает традицию учительства. На Капри создается партийная школа для рабочих, где, наряду с экономическими и политическими лекциями, Горький сам читает подробный курс по истории русской литературы.
В каприйские годы возникает первый серьезный конфликт с Лениным. Вместе с другими партийными интеллигентами, А. А. Богдановым и А. В. Луначарским, Горький создает философию богоискательства и богостроительства. Ее отголоски можно найти в романе «Мать», ее иллюстрации посвящена повесть «Исповедь» (1908). Люди сначала ищут, а потом придумывают, создают, «строят» Бога в своем сознании, без этого существование общества невозможно. «Господа нашего Иисуса Христа не было бы, если бы люди не погибли во славу его…» – думает Пелагея Ниловна в конце первой части романа. И в финале она повторяет эту «охмеляющую» мысль: «Ведь это – как новый бог родится людям!» Ленин увидел в подобной философии отказ от революционной борьбы, «заигрывание с боженькой».
В 1913 году, после политической амнистии, Горький возвращается в Россию. Мировую войну, февраль и октябрь 1917 года он переживает в Петрограде – и совсем не с теми мыслями и поступками, которых от него ожидали победители, давние соратники-большевики.
Февральскую революцию приветствовали почти все. Манифест об отречении Николая II вынудили подписать в том числе и монархисты. Октябрьская революция обозначила глубокий раскол (в чем-то он не преодолен и сегодня, когда после тех событий прошло почти столетие).
Блок призывал слушать музыку революции. Бунин с ужасом отшатнулся от ее какофонии. Горький в эпоху крушения гуманизма оказывается «критически мыслящей личностью», еретиком-интеллигентом, который пытается найти третью правду, отделить музыку от шума, суть произошедшего от случайных обстоятельств: вмешаться, предостеречь, исправить, сохранить.
Еще в 1915 году он пишет программную статью «Две души», в которой противопоставляет философию Запада и Востока как свободу и рабство, борьбу и смирение, творческий труд и подневольную деятельность. «У нас, русских, две души, – заключал Горький, – одна – от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя, убежденного в том, что „Судьба – всем делам судья“, „Ты на земле, а Судьба на тебе“, „Против Судьбы не пойдешь“, а рядом с этой бессильной душою живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая, и мало способна к самозащите от ядов, привитых ей, отравляющих ее силы». Лечиться от пессимизма, от «азиатских наслоений в нашей психике» Горький предлагал «безбоязненной критикой» и поиском «ростков доброго, которые, развиваясь при помощи нашей воли, должны будут изменить к лучшему нашу трудную и обидную жизнь».
В апреле 1917 – июле 1918 годов. Горький и ведет такую безбоязненную критику, тем более болезненную, что она исходит от своего, «великого пролетарского писателя», больше десятилетия активно сотрудничавшего с большевиками. Писатель публикует в газете «Новая жизнь» цикл статей «Несвоевременные мысли», а после того, как газета вместе с большинством дореволюционных изданий была закрыта новой властью, издает их книгой с подзаголовком «Заметки о революции и культуре» (1918).
В Октябрьской революции Горький увидел не долгожданное освобождение и бросок на Запад, а, напротив, бунт Востока, неподготовленный эксперимент большевиков во главе с Лениным, санкционирующих и развязывающих низкие инстинкты, затаптывающих даже те «ростки доброго», которые уже существовали.
«Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу Нечаева… <…> Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России – русский народ заплатит за это озерами крови. <…> Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников – его рабов. Жизнь во всей ее сложности не ведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он – по книжкам – узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем – всего легче – разъярить ее инстинкты. <…> …Он работает как химик в лаборатории, с тою разницей, что химик пользуется мертвой материей, но его работа дает ценный для жизни результат, а Ленин работает над живым материалом и ведет революцию к гибели» (10/23 ноября 1917 г.).
Страстная полемика великого книгочея, естественно, не могла обойтись без культурных параллелей и ассоциаций. Горький вспоминает не только русского заговорщика, который стал одним из прототипов романа Ф. М. Достоевского «Бесы» и французского императора, который, как мы помним, привлекал внимание Пушкина, Лермонтова, того же Достоевского, но и почти цитирует «Медного всадника»: «Россию поднял на дыбы».
В ситуации всеобщей катастрофы Горький пытается спасти то, что еще можно спасти. «Задача демократической и пролетарской интеллигенции – объединение всех интеллектуальных сил страны на почве культурной работы. <…> Надо работать, почтенные граждане, надо работать, только в этом наше спасение и ни в чем ином» (18 апреля/1 мая 1918 г.).
И он работает как огромное учреждение, «неофициальный министр культуры» (Замятин): организовывает издательство «Всемирная литература» и Комиссию по улучшению быта ученых (КУБУЧ), способствует открытию Дома искусств и Дома ученых, читает доклады и лекции, пишет многочисленные ходатайства за арестованных, просто селит в своей квартире на Кронверкском проспекте гонимых людей (некоторое время у него живет один из членов императорской семьи). «Я знаю: человека-Горького с благодарностью вспоминают многие в России, и особенно в Петербурге. Не один десяток людей обязан ему жизнью и свободой» (Е. И. Замятин «М. Горький»).
В условиях всеобщей разрухи и голода Горькому приходилось решать самые неожиданные вопросы. «Неужели у него штанов нет? Нужно будет достать… Нужно будет достать..» – смущенно бормочет он, узнав, что одному талантливому молодому писателю, в будущем – лауреату всяческих премий не в чем выйти на улицу (К. И. Чуковский. «Горький», 1928).
У Горького сложились очень плохие отношения с всесильным диктатором, начальником Северной коммуны Г. Е. Зиновьевым. Но прежняя репутация, отношения с Лениным, который, несмотря на все горьковские нападки, считал, что писатель свой и непременно вернется к большевикам, охраняли Горького. Он не попал повторно в находящуюся поблизости от его последней квартиры Петропавловскую крепость, хотя и пережил несколько обысков.
В 1921 году по настоянию Ленина, советовавшего отдохнуть от петроградских ужасов, посмотреть на происходящее из спокойного далека, Горький уезжает в недавно ставшую заграницей Финляндию, а потом – в знакомую Италию. Начинается его вторая, шестилетняя эмиграция.
МОСКОВСКИЙ ПЛЕННИК: МАКСИМАЛЬНО ГОРЬКАЯ ЭПОХА
На Капри Горькому жить не разрешили. Теперь он поселился в Сорренто и вернулся к прежнему образу жизни: собственная работа, бесконечное чтение газет, чужих книг и рукописей, поток посетителей, существенную часть которых составляли молодые литераторы, приезжавшие из СССР.
Горький говорил, что на Капри, в первой эмиграции, он чувствовал себя «примерно, как бы в уездном русском городке». Сходный образ возникает и во время второй эмиграции, Горький признается, что четыре года (1925–1928) «прожил в тишине более устойчивой и глубокой, чем тишина русской дореволюционной деревни».
Эта тишина не только помогала «лучше работать»: в Италии Горький оканчивает роман «Дело Артамоновых» (1925), начинает писать эпическую хронику «Жизнь Клима Самгина» (1925–1936), которую так и не успеет завершить.
«Выталкивая» Горького из России, Ленин оказался прав: на расстоянии, в европейской тишине, проблемы, конфликты, ужасы послереволюционной русской жизни стали казаться менее значительными, а успехи, достижения, о которых Горький узнавал в основном из газет, напротив, значительно вырастали в масштабе.
Горький уезжал непримиримым, К. И. Чуковский, много общавшийся с ним в Петрограде, вспоминал, что тот упорно называл большевиков они и признавался: «Никогда прежде я не лукавил, а теперь, с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, притворяться» (Дневник, 3 октября 1920 г.). С течением времени Горький психологически примиряется и практически сближается с новой властью.
После смерти Ленина писатель просит возложить к его гробу венок с надписью: «Прощай, друг! М. Горький». В воспоминаниях «В. И. Ленин» (1924,1930) вместо образа безумца, который ведет Россию к гибели («Несвоевременные мысли»), появляется другой образ, напоминающий легенду о Данко: «Нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира».
Проходит совсем немного времени – и новый вождь, И. В. Сталин, сменивший Ленина, становится горьковским личным другом и постоянным, эпистолярным и непосредственным, собеседником. «Дорогой Иосиф Виссарионович!» – начинается одно из горьковских писем. «Крепко жму Вашу лапу», – такова его концовка (29 ноября 1929 г.).
«Он верит в знанье друг о друге / Предельно крайних двух начал», – написал Б. Л. Пастернак в стихотворении «Художник» (1936), разумея, как он сам объяснял, «Сталина и себя» и сравнивая вождя с «поступком ростом в шар земной».
В случае Сталина и Горького тяготение двух противоположных начал казалось даже более естественным.
Сталин хорошо понимал значение Горького. Ему нужен был авторитет всемирно известного писателя, его обширный круг знакомств среди европейских интеллигентов, его слово, которому поверят и политики, и обычные люди.
Горький был ослеплен мечтой о построенной на разумных основаниях счастливой жизни. Поэтому, забыв о несвоевременных мыслях, раскаиваясь в них, он постепенно уверился, что новое общество наконец-то появилось, его можно увидеть своими глазами, стоит лишь пересечь границу СССР.
«Когда от жестокого разрушения революция перешла к постройке нового, Горький вернулся в Россию. То, что вызвало его отъезд, видимо, было забыто. Когда я попытался заглянуть внутрь его и узнать, что теперь думает (вернее, чувствует) „Пешков“, я услышал ответ: „У них – очень большие цели. И это оправдывает для меня все”» (Е. И. Замятин «М. Горький»).
Перед Горьким встала вечная проблема цели и средств. В тридцатые годы он начал оправдывать любые средства для достижения благородной цели.
Горький впервые посетил СССР в 1928 году (в 1921 году он уезжал еще из России). Это был год его шестидесятилетия.
В 1919 году (Горький еще не знает точной даты своего рождения) его пятидесятилетие скромно отмечается на заседании издательства «Всемирная литература». Этот вечер описал К. И. Чуковский. На юбилейные славословия Горький отвечал с иронией: «Конечно, вы преувеличиваете… Но вот что я хочу сказать: в России так повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в сорок или этак в тридцать пять лет (то есть теперь он не написал бы ни «Челкаша», ни «Сокола». – Примеч. Чуковского). Что делать, но это так! <…> Я вообще не каюсь… ни о чем не жалею, но кому нужно понять, тот поймет…» Автор дневника замечает еще один забавный эпизод. Фотографируясь с его девятилетним сыном, Горький шутит: «Когда тебе будет 50 лет, не празднуй ты юбилеев, скажи, что тебе 51 или 52 года, а все печенье сам съешь» («Дневник», 30 марта 1919 г.).
Через десятилетие уже не до шуток. Шестидесятилетие Горького становится не общественным делом, а государственным мероприятием. Его особый характер отмечает еще один автор не предназначенного к печати дневника, писатель М. М. Пришвин: «Юлия Цезаря так не встречали, как Горького. <…> Надо сказать, что юбилей его сделан не обществом, не рабочими, крестьянами, писателями и почитателями, а правительством, совершенно так же, как делаются все советские праздники. Правительство может сказать сегодня: „целуйте Горького!“ и все будут целовать, завтра скажет: „плюйте на Горького!“ и все будут плевать. <…> Юбилей этот есть яркий документ государственно-бюрократического послушания русского народа» (1 июня 1928 г.).
А в конце того же года Пришвин добавит: «Читал фельетон Горького „Механическим гражданам“, в котором он самоопределяется окончательно с большевиками против интеллигенции» (7 октября 1928 г.).
На рубеже 1920-1930-х годов Горький делит время между СССР и Италией. Туберкулез, которым он болен, мешает ему жить зимой в России. Но в 1933 году он окончательно возвращается в СССР, получая в свое распоряжение предоставленный правительством бывший особняк купца-миллионера Рябушинского и дачу в Подмосковье.
Горький по-прежнему существует как человек-учреждение: создает новые журналы и книжные серии («Жизнь замечательных людей» и «Библиотека поэта» существуют и сегодня), возглавляет созданный по его инициативе Союз советских писателей, поддерживает старых и молодых авторов, разыскивает людей, которые когда-то помогали ему в молодости. Но в общественной жизни СССР собеседника Толстого и Чехова затмевает его двойник: публицист, автор газетных статей и фельетонов, поющий панегирики Сталину и неистово обличающий многочисленных врагов нового общества.
В прозе Горький давно отказался от романтических контрастов и стилистической пышности. В его поздних произведениях, особенно в мемуарах, создается объемный образ дореволюционной жизни, воспроизводятся сложные характеры, преобладает объективная манера повествования.
В горьковской публицистике последних лет, напротив, торжествует стилистика плаката, черно-белый взгляд на мир, не допускающий оговорок, сомнений, иной точки зрения. Рассчитывая на самого неподготовленного читателя, Горький не размышляет, а как гвозди вбивает в сознание запоминающиеся и оттого особенно опасные лозунги.
«Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм – революционного пролетариата – гуманизм силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, жадности, пошлости, глупости – от всех уродств, которые на протяжении веков искажали людей труда. <…> Мы выступаем в стране, освещенной гением Владимира Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина» («Вступительная речь на открытии Первого всесоюзного съезда советских писателей», 1934). И никто уже не мог спросить писателя, как можно освободить мир от глупости, как сделать всех людей одинаково умными.
«Десятилетие 1907–1917 вполне заслуживает имени самого позорного и бесстыдного десятилетия в истории русской интеллигенции», – сказано о времени Блока, Куприна, бывших друзей Бунина и Л. Андреева («Доклад на Первом всесоюзном съезде советских писателей», 1934).
«Музыка толстых» – определен джаз, вопреки его происхождению и эстетическому значению («О музыке толстых», 1928).
Общая картина мира приобретает у Горького однозначно-плакатный вид: буржуазный ад (включая Италию, где мирно прожито столько лет) и светлый мир СССР (все недостатки которого объясняются происками «вредителей» и зарубежных врагов или «пережитками прошлого»).
«Приближается время, когда революционный пролетариат наступит, как слон, на обезумевший, суетливый муравейник лавочников, – наступит и раздавит его. Это – неизбежно. Человечество не может погибнуть оттого, что некое незначительное его меньшинство творчески одряхлело и разлагается от страха пред жизнью и от болезненной, неизлечимой жажды наживы. Гибель этого меньшинства – акт величайшей справедливости, и акт этот история повелевает совершить пролетариату. За этим великим актом начнется всемирная, дружная и братская работа народов мира, – работа свободного, прекрасного творчества новой жизни» («Пролетарский гуманизм», 1934).
Особенно устрашающий характер приобрел этот лозунг классовой борьбы, обращенный не вовне, а внутрь собственной страны. 15 ноября 1930 года две главные советские газеты – «Правда» и «Известия» – публикуют статью, заглавие которой стало лозунгом наступающего десятилетия. «Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод, кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями, – против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдается, – его истребляют» («Если враг не сдается, его истребляют», 1931).
Когда-то, в эпоху «Несвоевременных мыслей», Горький с ужасом цитировал матроса Железнякова, который «переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить и миллион людей» (17/30 января 1918 г.) Теперь он сам обращается к массе с похожими лозунгами, предлагая жертвовать миллионами русских людей для будущего счастья оставшихся.
Через год в письме Сталину (кстати, в связи с разговором о М. Булгакове) Горький делает важное уточнение к первоначальному лозунгу: «Врага надобно или уничтожить, или перевоспитать» (И. В. Сталину, 12 ноября 1931 г.). Но произнесенное зажило собственной жизнью. Сталин стал соавтором горьковского изречения, заменив первоначальное истребляют на уничтожают. Но главное – он использовал лозунг для развязывания новой гражданской войны в деревне и городе. Число внутренних врагов советской власти в тридцатые годы стремительно росло. Врагом можно было объявить кого угодно.
Последние годы жизни Горького трагичны и полны тайн. Благоволение власти приобретает гомерические масштабы. В 1932 году его награждают орденом Ленина. В его честь переименовывают Нижний Новгород (теперь получалось, что Горький родился в городе Горьком). Именем Горького называют автозавод, театры, улицы, пароходы (последнюю поездку по Волге он совершает на «Максиме Горьком»).
В доме на Большой Никитской у Горького часто появляется Сталин и другие вожди. Здесь читаются литературные произведения, решаются важные государственные проблемы. Но отношения Горького с властью постепенно портятся. Кажется, он начал осознавать, что в отличие от Николая, посадившего писателя в Петропавловскую крепость, или Ленина, вытолкнувшего его за границу, новый вождь душит его в своих объятиях. Роскошный дом-особняк обернулся комфортабельной тюрьмой. Все контакты, поездки, переписка Горького тщательно контролировались.
Наблюдая эпидемию переименований, один остроумный современник предложил заодно включить в «список переименований» и всю эпоху: «Эпоха переименована в максимально горькую».
Он тяжело заболел в первый день лета. Бюллетени о его болезни две недели печатались в газетах, но для него самого готовили специальный номер «Правды», без бюллетеня. За десять дней до смерти его посетили Сталин и Молотов, о чем тоже стало широко известно.
Максим Горький умер 18 июня 1936 года. «Конец романа – конец героя – конец автора», – была его последняя фраза. После огромного траурного митинга, сопровождавшегося артиллерийскими залпами и пением «Интернационала», урна с прахом писателя была замурована в Кремлевской стене. Следующий год после его смерти историки назовут годом Большого террора. На одном из судебных процессов лечащие врачи, несдавшиеся враги, обвинялись в убийстве великого пролетарского писателя. О причинах и обстоятельствах смерти Горького и до сих пор ведется полемика.
В потоке фальшивых и искренних откликов трезво и точно прозвучал голос из Парижа одного из лучших критиков эмиграции Георгия Адамовича. Писатель следующего поколения, начинавший в среде акмеистов, Адамович, в соответствии с русской традицией, увидел в судьбе Горького драму не просто писателя, но – гражданина и человека.
«Был ли это очень большой писатель? Наиболее требовательные и компетентные из сверстников Горького оспаривали такое утверждение, оспаривают его и до сих пор. Следующее поколение отнеслось к Горькому иначе. На расстоянии открылась самая значительная в нем черта: наличие исключительной натуры, самобытной и щедрой личности. <…> В Горьком важно то, что это – первоисточник творчества. За каждой его строкой чувствуется человек, с появлением которого что-то изменилось в мире…» («Максим Горький», 1936)
Но Адамович знает о роли, сыгранной писателем в последние годы, поэтому с горечью добавляет: «…Он всегда претендовал – и претендовал основательно – на авторитет не только узкохудожественный, но и моральный… он был у самой черты духовного величия – и потерпел под конец жизни ужасное крушение…»
Максим Горький остается самой сложной и самой спорной фигурой в русской литературе XX века.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
На дне (1902)
ГЕРОИ: БОСЯКИ КАК ФИЛОСОФЫ
В начале двадцатого века, уже получив большую известность как прозаик, Горький обращается к драматургии. «Вы знаете: я напишу цикл драм. Это – факт, – радостно сообщает он другу-издателю, которому и посвятит пьесу „На дне“. – Одну – быт интеллигенции. Куча людей без идеалов, и вдруг! – среди них один – с идеалом! Злоба, треск, вой, грохот. Другую – городской, полуинтеллигентный – рабочий – пролетариат. Совершенно нецензурная вещь. Третью – деревня. <…> Еще одну: босяки. Татарин, еврей, актер, хозяйка ночлежного дома, воры, сыщик, проститутки. Это будет страшно. У меня уже готовы планы, я вижу – лица, фигуры, слышу голоса, речи, мотивы действий – ясны, все ясно! Жаль – у меня две руки и одна голова. В этой голове все путается, в ней – шумит, как на ярмарке, порою вкатывается в один клубок, скипается в одну бесформенную груду, становится мне тогда тошно, досадно, сердце давит мысль о том, что не успеешь, а я хочу успеть. Здоровая, славная штука – жизнь! Вы чувствуете это?» (К. П. Пятницкому, между 13 и 17(26 и 30) октября 1901 г.)
Мрачные сюжеты Горький, как мы видим, задумывал в состоянии подъема, творческого воодушевления: славная штука – жизнь!
Три из четырех сюжетов задуманного цикла Горький осуществил. Не была написана только драма о деревне. Пьесой о городском полуинтеллигентном рабочем стали «Мещане» (1901). Быт интеллигенции был показан в «Дачниках» (1903) и последовавших за ними «Детях солнца» (1905). Еще одной драмой стала «На дне» (1902), главная пьеса Горького-драматурга. В ней Горький, кажется, возвращается к началу своей литературной деятельности. Однако за десять лет изменились не только жанр, но и поэтика, принципы изображения «бывших людей».
Челкаш и другие герои ранних рассказов были живописны и горды. Они с презрением относились к миру торгашей, по-аристократически носили свои лохмотья, их окружала прекрасная природа – смеющееся море, яркое солнце. Этих горьковских героев называли романтическими и сопоставляли с благородными разбойниками и таинственными беглецами романтических поэм. Персонажи множества рассказов легко сливались в обобщенный тип Босяка. Поэтому ранний Горький и получил прозвище «босяцкого Гомера».
Перенесенные из яркого роскошного пейзажа, моря и степи, в мрачную ночлежку, персонажи, кажется, потеряли прежний романтический масштаб, стали похожи на реальных золоторотцев из очерка Куприна. Они по-бытовому «пьют, дерутся и плачут». Но главное в том, что в пьесе обобщенный тип раздробляется на несколько разных характеров, людей со своей драмой и судьбой.
Население горьковской пьесы в главных чертах воспроизводит структуру русского общества. Казалось бы уравненные своим положением на нарах ночлежки, герои приносят с собой память о прошлом положении, свою историю. На дне жизни, наряду с новыми, тлеют прежние конфликты и страсти, сохраняется своя иерархия.
Дворянин Барон, свалившийся с каких-то заоблачных вершин, вспоминает о временах Екатерины, сотнях крепостных и кофе, который ему подавали в постель.
Актер когда-то под гром аплодисментов выходил на сцену под сценическим псевдонимом Сверчков-Заволжский. Сатин до убийства и тюрьмы, в которой он стал карточным шулером, вероятно, был ученым: он еще знает слова «макробиотика» и «трансцендентальный», но уже забыл их смысл. Это местная интеллигенция.
Пролетариям, слесарю Клещу, картузнику Бубнову, крючникам Татарину и Кривому Зобу, чтобы попасть в ночлежку, надо было, вероятно, просто перейти улицу.
Больше всех напоминают прежних горьковских героев, «отбросов общества», «вор, воров сын» Васька Пепел и сапожник Алешка, принципиальный бродяга, отвергающий все общепринятые законы жизни: «На, ешь меня! А я – ничего не хочу! Я – отчаянный человек! Объясните мне – кого я хуже? <…> Я – пойду… пойду лягу середь улицы – дави меня! Я – ничего не желаю!»
А возвышаются над всеми страшная семья мелких собственников, капиталистов, хозяев здешней жизни: Костылев, его жена Василиса, и поддерживающая здешний порядок власть – полицейский Медведев.
Герои драмы также довольно отчетливо распределяются на три поколения.
Костылев, Медведев – старики, приближающиеся к концу жизненного пути, они живут только сегодняшним днем.
Основная группа 35–40-летних персонажей еще строит планы, хотя понимает, что в жизни уже трудно что-то изменить. Это горьковские отцы, хотя в большинстве они не имеют ни семей, ни детей.
Пепел, Настя, Наташа ждут, мечтают, влюбляются, собираются вырваться, бежать из ночлежки. Это – горьковские дети, только начинающие жизнь, но уже остро чувствующие ее безысходность.
Однако это только одна сторона, одна важная характеристика горьковских героев. Наряду с возрастными и социальными различиями, индивидуальными психологическими характеристиками есть то, что их объединяет. Почти все они активно осмысляют и свое положение, и устройство жизни в целом.
Уже в ранних рассказах, наряду с картинностью, пышностью пейзажа, критика заметила тяготение автора к игре словом, афористичности. В пьесе «На дне» Горький передает тягу к острословию едва ли не всем персонажам. Образованные и необразованные, картузник и вор, даже отвратительная семья хозяев ночлежки не уступают друг другу в словесном щегольстве, умении выразиться эффектно, броско, глубокомысленно. (В этом отношении «На дне» вдруг начинает перекликаться с «Горем от ума»: там афористичность тоже была всеобщей стихией.)
«Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! Когда труд – обязанность, жизнь – рабство!» (Сатин) – «Работай, коли нравится… чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить… тогда лошадь лучше всякого человека… возит и – молчит!» (Пепел) – «Ты везде лишняя… да и все люди на земле – лишние…» (Бубнов) – «Прохожий… тоже! Говорил бы – проходимец… все ближе к правде-то…» (Василиса) – «Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта – она превыше всех благ. А долг твой мне – это так и есть долг! Значит, должен ты его мне возместить… Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана…» (Костылев)
Горьковские босяки – домашние философы. Они не только припоминают пословицы и поговорки, привычную мудрость столетий, но сами размышляют над проблемами, волновавшими великих мыслителей, упрощая их до чеканных афоризмов. «Все мы на земле странники… Говорят, – слыхал я, – что и земля-то наша в небе странница» (Лука). – «Нет у меня здесь имени… Понимаешь ли ты, как это обидно – потерять имя? Даже собаки имеют клички… <…> Без имени – нет человека…» (Актер)
Эта двуплановость персонажных характеристик находит подтверждение и на других уровнях художественного мира пьесы.
МИР: НОЧЛЕЖКА И ПЕЩЕРА ПЛАТОНА
Когда пьеса «На дне» готовилась к постановке в Московском художественном театре, режиссер К. С. Станиславский, привыкший к воссозданию на сцене небывалого правдоподобия обстановки, деталей, костюмов, отправился вместе с актерами на Хитров рынок, главное пристанище московских «золоторотцев». Возглавлял эту «экспедицию» (словечко Станиславского) знаменитый московский репортер, друг Чехова, знаток Москвы В. А. Гиляровский.
Станиславский, великий режиссер и актер (он должен был играть Сатина), вырос в богатой купеческой семье, потом практически все свое время проводил в театре и плохо представлял себе жизнь, которая течет за его стенами. В «Театральном романе» М. Булгакова режиссер Иван Васильевич, прототипом которого был Станиславский, пугается даже звука выстрела на сцене и просит автора, чтобы герой – во время гражданской войны! – тихо закололся кинжалом.
Отправляясь в «самую гущу жизни бывших людей», Станиславский воображал босяков, скорее всего, по ранним рассказам Горького: «Религия босяка – свобода; его сфера – опасности, грабежи, приключения, убийства, кражи. Все это создает вокруг них атмосферу романтики и своеобразной дикой красоты, которую мы в то время искали».
Беседы с хитровцами лишь отчасти оправдали ожидания. Среди них оказался красивый элегантный конногвардеец, говоривший на многих языках, который прокутил все свое состояние, оказался на дне, потом выбрался оттуда, «снова стал человеком», но через несколько лет вернулся в ночлежку. Но в основном посетители видели «большие дортуары с бесконечными нарами, на которых лежало множество усталых людей, похожих на трупы». Когда же они познакомились с «босяцкой интеллигенцией», переписчиками ролей для актеров, и рассказали о цели своего визита, то услышали от них не романтические монологи о свободе, а реплики забитых маленьких людей. «Какой чести удостоились! – воскликнул один из них. „Да что же в нас интересного, чего ж нас на сцену нести?“ – наивно дивился другой. Разговор вращался на теме о том, что вот, мол, когда они перестанут пить, сделаются людьми, выйдут отсюда и т. д., и т. п.» (К. С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве», 1926).
Спектакль «На дне» в конце концов получился. Но эта экспедиция отчетливо обнаружила расхождение между жизнью и искусством. Похожих на трупы, усталых, бессвязно говорящих людей невозможно было просто перенести на сцену. Даже реализм воссоздает, художественно преображает жизнь в соответствии с авторской задачей, а не просто копирует ее.
Горькому не надо было устраивать таких экскурсий. Он хорошо помнил этот быт и подробно воссоздает его в ремарках к каждому действию.
Пьеса начинается утром (первый акт), захватывает два вечера (второй и третий акт) и заканчивается ночью (четвертый акт). Течение времени словно подчиняется песне, которую поют в начале второго действия и в финале: «Солнце всходит и заходит… / А в тюрьме моей темно…»
Герои приходят в ночлежку после тюрьмы (Сатин), опасаются тюрьмы (Лука), воспринимают тюрьму как дом родной (Пепел), но, в сущности, их ежедневный быт немногим отличается от тюремного. «Возьмите и меня… в тюрьму меня! Христа ради… в тюрьму меня!..» – в финале третьего отчаянно кричит Наташа. Искалеченной и потерявшей всякую надежду девушке кажется, что там хуже уже не будет.
Мрачный образ ночлежки-тюрьмы создают разные детали: нары по стенам, свет сверху, исковерканный самовар, растрепанная книжка, распоротые брюки, изодранная картонка из-под шляпы, тряпье и грязь. Третье действие происходит на улице, но ночлежникам все равно не удается позабыть о своем пристанище: они сидят с другой стороны той же стены, на заросшем бурьяном и засоренном хламом «пустыре», напоминающем тюремный двор.
В пьесе много и других конкретно-исторических деталей: упоминания о голоде (их сразу же выбрасывала цензура, потому что очередной голодный год, 1901-й, выдался в России накануне работы Горького над пьесой), отсутствии работы («Работы нет… пристанища нету»), «отчаянных» студентах (они недавно бунтовали в Петербурге и Киеве).
Но первое предложение огромной обстановочной ремарки в начале первой картины вызывает и другие ассоциации. «Подвал, похожий на пещеру». Критик Ю. И. Айхенвальд (вообще-то недоброжелательно относившийся к Горькому) в книге «Силуэты русских писателей» сделал интересное наблюдение: «И если, по ремарке автора, жители „Дна“ населяют подвал, „похожий на пещеру“, то это – пещера Платона. Они все философы. Их у Горького целая академия. Большинство из них, бродяги, странники, беглецы – философы-перипатетики. Они идут по миру, – во всяческом смысле, и в продолжение своих странствий решают мировые вопросы, от своей личной судьбы и страданий все время приходят к обобщениям, в монотонной беседе отвлеченно-этического характера только и говорят о правде, о душе, о совести. Герои Горького занимаются миросозерцанием».
Пещера Платона – знаменитый образ великого греческого философа из трактата «Государство» (4 в. до н. э.). Вот как кратко передает содержание фрагмента платоновского диалога немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788–1860), в юности внимательно прочитанный Горьким: «…Мы подобны людям, которые сидят в темной пещере и так крепко связаны, что не могут даже повернуть головы, и при свете горящего позади них огня видят на противоположной стене только силуэты действительных вещей, которые проходят между ними и огнем, – и даже друг друга и самого себя каждый видит лишь как тень на этой стене» («Мир как воля и представление», 1819–1844).
Перипатетики – наследники другого греческого мудреца, Аристотеля, занимавшиеся толкованием его сочинений и преподававшие в философской академии, Ликее (лицее).
Айхенвальд придает горьковскому сравнению символический смысл. Но сделано это небезосновательно. Босяки в горьковской пьесе все время оборачиваются философами, ночлежка – платоновской пещерой. Такой же коварно-двусмысленной оказывается и жанровая природа пьесы.
ЖАНР: СОЦИАЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛОСОФСКАЯ ДРАМА?
В жанровом отношении пьеса Горького тоже двупланова. Она колеблется между социально-психологической драмой и философской притчей.
Некоторые критики удивлялись: почему Горький не воспользовался прекрасным материалом и не написал эффектную мелодраму о страстях, роковой любви, борьбе соперниц, убийстве?
Молодая жена старика-хозяина ночлежки, влюбленная в вора Ваську Пепла, предлагает ему «убрать» опостылевшего мужа и занять его место (на подобной фабуле построен известный рассказ Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). Но Пепел влюблен в сестру хозяйки Наташу и мечтает начать с ней новую, честную, жизнь. Подслушав их объяснение, Василиса мстит сопернице, ошпаривая ей ноги кипятком (подобный мотив встречался в чеховской повести «В овраге», где жестокая Аксинья таким же образом убивала маленького ребенка, наследника состояния, на которое она тоже рассчитывала). В возникшей ссоре Пепел все-таки убивает Костылева, ему грозит тюрьма, а Василиса добивается своей цели, оставаясь единственной хозяйкой ночлежки.
«Васька Пепел… должен был бы быть истинным героем пьесы», – заканчивал критик свой пересказ фабулы (С. А. Адрианов. «„На дне“ Максима Горького», 1903).
Однако «На дне» не случайно имеет жанровый подзаголовок «картины». Горький не делает изложенную фабулу основой драмы. Он по-чеховски децентрализует события, насыщает пьесу драматическими судьбами других персонажей. Параллельно с историей Василисы, Наташи и Пепла показываются и семейная жизнь Клеща с его безуспешными попытками найти работу, вырваться из ночлежки, и книжные мечты Наташи о прекрасном возлюбленном, и карточное шулерство Сатина, и фиглярство Алешки. У каждого героя оказывается своя драма, свой фрагмент общей картины жизни.
И. Ф. Анненский, поэт и критик более внимательный и тонкий, чем С. А. Адрианов, увидел в обитателях ночлежки «сплоченную и странную семью», а жанр горьковской пьесы первоначально обозначил как социальную драму. В статье «Три социальные драмы» (1906) «На дне» анализируется вместе с «Горькой судьбиной» А. Ф. Писемского и «Властью тьмы» Л. Н. Толстого.
Анненский, а не только критики-марксисты, обнаруживает непримиримую антибуржуазность горьковской пьесы. «Все основы буржуазного строя и счастья сведены на дне к такой элементарности, что нельзя сомневаться в том, как автор драмы к ним относится.
Вот семья – ее эмблема, конечно, Василиса Костылева… Вот религия – это лампада ее мужа и средства для ее наполнения… и наконец, вот правительство… бутарь Медведев в его буколических отношениях к обывателям… Но есть среди этих, им намеченных основ буржуазного благополучия одна, с которой не так легко сладить на словах, потому что она давно и красиво идеализирована нашим сознанием, это – труд. <…> Среда Горького тоже не знает благословенного труда, потому что она знает ненавистный и проклятый труд… <…>
Работник Клещ – самый злой человек во всей ночлежке. <…> Сатину, этому субъективнейшему из персонажей Горького, неприятна мысль о работе, но не потому, что он пьяница, сбившийся с толку бывший человек, который боится говорить о прошлом, а потому, что его нравственной природе противен труд: во-первых, как потуга буржуазного счастья, а во-вторых, как клеймо рабства. <…> Труд не уравнивает, а разобщает людей, деля их на Клещей и Костылевых».
Но, убедительно показав социальный характер горьковской пьесы, Анненский на этом не останавливается. При более глубоком подходе «На дне» оказывается философской драмой судьбы.
«Драматургия пьесы „На дне“ имеет несколько характерных черт. В пьесе три главных элемента: 1) сила судьбы, 2) душа бывшего человека и 3) человек иного порядка, который своим появлением вызывает болезненное для бывших людей столкновение двух первых стихий и сильную реакцию со стороны судьбы».
Постепенное выявление обобщенного, символического, притчевого характера горьковской пьесы подчеркивает даже эволюция ее заглавия. В рукописях она называлась «Без солнца», «Ночлежка», «Дно», «На дне жизни». Последнее заглавие даже стояло на обложке первого издания (Берлин, 1902). Но в конце концов бытовое заглавие («Ночлежка») и прямолинейно-символические («Без солнца», «На дне жизни») были побеждены символом без подсказки. Заглавие «На дне» впервые появилось на афише Художественного театра и стало каноническим. Теперь дно могло приобретать самые разные смыслы: ночлежка – пещера – корабль жизни, движущийся куда-то в неизвестное будущее (вспомним символику бунинского «Господина из Сан-Франциско»).
Для проявления символического смысла Горькому понадобился человек иного порядка, который направил жизнь ночлежки в новое русло, прорубил в зарослях афоризмов босяцких философов отчетливую тропу, направил на стену платоновской пещеры резкий луч света, обозначил проблему, о которой уже больше столетия размышляют читатели и зрители.
СМЫСЛ: ПРАВДА ИЛИ СОСТРАДАНИЕ?
Социальная драма приобретает иной характер после появления Луки. Он присутствует в пьесе чуть более половины сценического времени: с середины первого действия, до конца третьего. Но именно этот персонаж становится центральным в проблемной, философской сюжетной линии драмы.
Лука – самый загадочный персонаж в пьесе. В отличие от других бывших людей, которые пунктирно воссоздают истории своей доночлежной жизни, он – человек без прошлого. В его рассказах возникает лишь несколько деталей-намеков. «Гляди – какой я? Лысый… А отчего? От этих вот самых разных баб… Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было…» – признается он Пеплу (д. 2). «Мяли много, оттого и мягок…» – отвечает он на реплику Анны о своей ласковости, мягкости. А историю о праведной земле он связывает с Сибирью, упоминая ученого-ссыльного.
Даже имя персонажа загадочно-двойственно. С одной стороны, оно совпадает с именем третьего евангелиста. С другой, Пепел обыгрывает его в негативном ключе: «Что, Лука, старец лукавый, все истории рассказываешь?»
Лука – странник (это единственное в списке действующих лиц, афише, непрофессиональное и несемейное обозначение персонажа), прохожий, проходящий (так был назван позднее сквозной герой горьковской книги «По Руси»), однако особой природы. В отличие от бегунов, которых он упоминает, уходящих, скрывающихся от мира, Лука полон интереса к людским судьбам, он воспринимает жизнь как зрелище. «Мне – все равно! Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха – не плоха: все – черненькие, все – прыгают…» – такова его вторая реплика в пьесе, произнесенная сразу после приветствия.
И все дальнейшее его поведение демонстрирует, с одной стороны, бытовую предупредительность, внимание к людям (особенно к больной Анне), с другой – способность, их глубокого понимания и утешения.
В случайных обмолвках и интимных беседах он узнает и угадывает заветные мечты или страхи обитателей ночлежки и предлагает лекарство: надежду или утешение.
Умирающую Анну он утешает надеждой на вечный покой и загробную справедливость: «Ничего, милая! Ты – надейся… Вот, значит, помрешь, и будет тебе спокойно… ничего больше не надо будет, и бояться – нечего! Тишина, спокой… лежи себе! Смерть – она все успокаивает… она для нас ласковая. <…> Призовут тебя к господу и скажут: господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна…» (д. 2) Оскорбленную Настю успокаивает верой в ее фантазии: «Я – знаю… Я – верю! Твоя правда, а не ихняя… Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь… значит – была она! Была!» (д. 3) Впавшего в уныние Актера воодушевляет рассказом о волшебной лечебнице, после которой тот сможет вернуться к своему ремеслу: «Ну, чего? Ты… лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат… такая уж лечебница устроена для пьяниц… чтобы, значит, даром их лечить… Признали, видишь, что пьяница – тоже человек… и даже – рады, когда он лечиться желает! <…> Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись!., возьми себя в руки и – терпи… А потом – вылечишься… и начнешь жить снова… хорошо, брат, снова-то!» (д. 2)
Даже Пепел, вначале не поддающийся проповеди Луки и задающий ему вопрос: «Старик! Зачем ты все врешь?», вскоре принимает его советы и собирается начать новую жизнь с Наташей: «Я – не каюсь… в совесть я не верю… Но – я одно чувствую: надо жить… иначе! Лучше надо жить! Надо так жить… чтобы самому себя можно мне было уважать…» (д. 3)
Проблему Луки Горький четко обозначил в одном газетном интервью вскоре после написания «На дне» (1903): «Основной вопрос, который я хотел поставить, это – что лучше, истина или сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как Лука? Это вопрос не субъективный, а общефилософский…»
Заметим, что Горький ставит вопрос асимметрично. Прямые антонимы (истина – ложь; бездушие, жестокость – сострадание) он заменяет сложной формулировкой: сострадание, доведенное до лжи, ложь как форма сострадания. (Не забудем также, что в русском языке существует серьезное различие между понятиями «истины» и «правды»: в самой пьесе ни разу ни говорится об истине, зато многократно встречается «правда».)
Наиболее отчетливо и резко эта проблема поставлена в рассказанной Лукой истории о праведной земле (д. 3). (В народных легендах этот утопический хронотоп обозначается как Беловодье или невидимый град Китеж.) Человек, которому вера в праведную землю помогала переносить жизненные тяготы, убивает себя, когда ему точно доказывают, что такой земли не существует.
«Вот… ты говоришь – правда… Она, правда-то, – не всегда по недугу человеку… не всегда правдой душу вылечишь…» – предваряет свою притчу моралью сам Лука.
Любопытно, как реагируют на нее другие персонажи. Циник и скептик Бубнов привычно усмехается: «Все – сказки… <…> Все – выдумки… тоже! Хо-хо! Праведная земля! Туда же! Хо-хо-хо!» Зато мечтающая об иной жизни Наташа произносит странную фразу: «Не стерпел обмана…» Для нее обманом оказывается доказательство ученого, а вера в праведную землю – правдой.
В отношении к проповедям Луки персонажи довольно четко делятся на три группы. Они не затрагивают хозяев ночлежки, Медведева, Бубнова, Барона. Их принимают, в них верят Анна, Наташа, Актер. Между этими крайностями оказываются Пепел и Сатин. Пепел, как мы видели, колеблется: начиная с недоверия, он все же отзывается на слова Луки. Умный шулер и циник Сатин лично не затронут речами Луки, но зато в большом монологе из четвертого действия демонстрирует понимание его позиции, но одновременно и ее ограниченность.
Прочитавший «На дне» как социальную драму, С. А. Андрианов считал, что пьеса вообще могла окончиться третьим действием. «Катастрофа третьего акта дает такую естественную и исчерпывающую развязку, что зритель ушел бы из театра совершенно удовлетворенным, если бы четвертого акта и совсем не было».
В четвертом действии философская линия сюжета окончательно отодвигает в сторону социальную. Оно превращается в дискуссию об исчезнувшем Луке и полезности или вреде его проповеди.
«Хороший был старичок!.. А вы… не люди… вы – ржавчина!» – защищает Луку Настя. «И вообще… для многих был… как мякиш для беззубых…» – высмеивает ее Сатин. «Как пластырь для нарывов…» – подхватывает Барон. «Он… жалостливый был… У вас вот… жалости нет…» – вмешивается Клещ. «Старик хорош был… закон душе имел! Кто закон душа имеет – хорош!» – словно подхватывает слова Насти татарин.
Синтезом этой полемики ночлежных философов в пещере Платона оказываются два больших монолога Сатина. В первом идея спасительной лжи конкретизирована, поставлена в зависимость от характера, от возможностей человека: «Старик – не шарлатан! Что такое – правда? Человек – вот правда! <…> Я – понимаю старика… да! Он врал… но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему… я – знаю! я – читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая… <…> Кто слаб душой… и кто живет чужими соками, – тем ложь нужна… одних она поддерживает, другие – прикрываются ею… А кто – сам себе хозяин… кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека!»
Изначальный контраст лжи и правды в монологе Сатина восстановлен, а жалость стала способом лжи во спасение. Тем самым поведение Луки, кажется, оправдано.
Но дальше Сатин превращается в оппонента Луки и развивает свою философию человека в образе, отчасти напоминающем «мировую душу» из пьесы А. П. Чехова «Чайка» (1896). «Человек может верить и не верить… это его дело! Человек – свободен… он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум – человек за все платит сам, и потому он – свободен!.. Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они… нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… в одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Понимаешь? Это – огромно! В этом – все начала и концы… Все – в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга! Че-ло-век! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!»
«Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека! – Человек – это звучит гордо!» Такие звонкие фразы с подписью «М. Горький» любят публицисты и составители словарей афоризмов. Но не надо забывать контекст, в котором они возникают, и персонажа, которому принадлежат. В ответ на одобрительное суждение Барона после первого своего монолога Сатин иронически соглашается: «Барон. Браво! Прекрасно сказано! Я – согласен! Ты говоришь… как порядочный человек! Сатин. Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди… говорят, как шулера?» Второй же монолог предваряется не менее самокритичной репликой: «Когда я пьян… мне все нравится».
На фоне тонкого понимания людей, которое демонстрирует Лука, речи Сатина выглядит красиво-беспредметными. Это отчасти признавал и сам Горький: «В пьесе много лишних людей и нет некоторых – необходимых – мыслей, а речь Сатина о человеке-правде бледна. Однако – кроме Сатина – ее некому сказать, и лучше, ярче сказать – он не может. Уже и так эта речь чуждо звучит его языку. Но – ни черта не поделаешь!» (К. П. Пятницкому, 14 или 15 (27 или 28) июля 1902 г.).
Кульминацией пьесы становится все-таки не речь Сатина, а финальный эпизод. Ночлежники запевают. «Со-олнце всходит и захо-оди-ит… / A-а в тюрьме моей темно-о!» Вошедший Барон кричит о смерти Актера. И – после мучительной паузы – звучит негромкая последняя реплика Сатина: «Эх… испортил песню… дур-рак!»
Неоднозначность последней реплики пьесы отметил В. Ф. Ходасевич: «На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее обоих, потому что оба виноваты в порче песни. В этом – весь Горький».
Последний жест Актера повторяет поступок человека из притчи Луки, признавшего, что праведной земли не существует. Но его причины остаются неясными.
Виновен ли в этой смерти Лука, поманивший его рассказом о лечебнице для пьяниц и надеждой на возвращение на сцену? Или, напротив, Сатин, разрушивший эту надежду? («Пойдешь – так захвати с собой Актера… Он туда же собирается… ему известно стало, что всего в полуверсте от края света стоит лечебница для органонов…») Понял ли он бессмысленность своего существования? Или это была минутная слабость пьяного человека?
Последние слова Актера тоже не дают никакого ключа, никакой разгадки. «За меня… помолись… <…> Помолись… за меня!.. – говорит он Татарину. – Ушел!»
И. Ф. Анненский, взвесив все аргументы, не выбрал позицию одного из оппонентов, а обнаружил, продемонстрировал противоречивость каждой точки зрения.
«Скептик и созерцатель, Лука заметил, что на навозе похвалы всякая душа распускается и больше себя показывает. <…> Лука привык врать, да без этого в его деле и нельзя. А в том мире, где его носит, без лжи, как без водки, люди не могли бы, пожалуй, и водиться. Лука утешает и врет, но он нисколько не филантроп и не моралист. Кроме горя и жертвы, у Горького „На дне“ Лука ничего за собой и не оставил… Но что же из этого следует? Во-первых, дно все-таки лучше по временам баламутить, что бы там из этого ни выходило, а во-вторых… во-вторых, чем бы, скажите, и была наша жизнь, жизнь самых мирных филистеров, если бы время от времени разные Луки не врали нам про праведную землю и не будоражили нас вопросами, пускай самыми безнадежными».
«Слушаю я Горького-Сатина и говорю себе: да, все это, и в самом деле, великолепно звучит. Идея одного человека, вместившего в себя всех, человека-бога (не фетиша ли?) очень красива. Но отчего же, скажите, сейчас из этих самых волн перегара, из клеток надорванных грудей полетит и взовьется куда-то выше, на сверхчеловеческий простор дикая острожная песня? Ох, гляди, Сатин-Горький, не страшно ли уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он – все, и что все для него и только для него?..»
Драма судьбы не возлагает вины на конкретного человека. Сладкая ложь-надежда Луки и гиперболический индивидуализм-человекобожие Сатина кажутся Анненскому равно притягательными и равно опасными – будоражащими, страшными, безнадежными – для души современного человека.
Любопытно, что автор финальных монологов оказывается для Анненского Сатиным-Горьким. Спор о героях и проблематике пьесы неизбежно переходил в выяснение отношений с автором.
СУДЬБА: СПОР ГЕРОЯ И АВТОРА
В 1893 году начинающий прозаик Максим Горький написал короткий рассказ-притчу «О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины», в ней поставлена та же проблема, которая станет основой пьесы.
Скромный чиж увлекает других птиц «смелыми и свободными» песнями, зовущими в страну счастья, «туда, в это чудное „вперед!”». Однако недоверчивый дятел разоблачает певца: «Все эти песни и фразы, слышанные вами здесь, милостивые государи, не более как бесстыдная ложь. <…> Рассмотрим беспристрастно, что есть там – впереди, куда зовет нас господин Чиж. Все вы вылетали на опушку рощи и знаете, что сейчас же за нею начинается поле, летом голое и сожженное солнцем, зимой покрытое холодным снегом; там, на краю его, стоит деревня, и в ней живет Гришка, человек, занимающийся птицеловством. Вот первая станция по пути „вперед“, о котором так много наговорил здесь господин Чиж!.. <…> Предполагая, что мы благополучно минуем сети Гришки и пролетим мимо деревни, мы опять-таки очутимся в поле; а на конце его снова встретим деревню, а потом снова – поле, – деревня, – поле… и так как земля кругла, то мы должны будем необходимо долететь до той самой рощи».
Птицы отворачиваются от обманщика, а чиж, плача, объясняет: «Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там, за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо!.. Я же только и хотел пробудить веру и надежду, – и вот почему я солгал… Он, дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья?»
Авторская позиция здесь совершенно ясна: зовущая вперед ложь чижа для автора выше, благороднее, прекраснее, чем скучная правда крепкоголового дятла, которая камнем ложится на крылья.
Через десятилетие, в объективной драме, растворенная в психологии персонажей, разложенная на голоса и точки зрения, проблема истины – лжи и ее носителей приобрела загадочно-неоднозначный характер. Работавший в Художественном театре В. Э. Мейерхольд (его мнение известно в передаче одного корреспондента Чехова) отметил странное расхождение автора и театра: «В художественном театре Луку поняли как тип положительный… но в этом весь курьез, так как с точки зрения Горького Лука есть тип отрицательный».
Похожую неоднозначность в оценке Сатина и Луки заметил и В. Ф. Ходасевич: «Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного – своим живым чувством любви и жалости к людям».
Чем дальше, тем настойчивее Горький боролся с Лукой, трактуя свою драму в однозначно-притчевом плане басни о чиже и дятле, но – с обратным знаком: теперь любитель истины становится главным его героем, приобретая актуально-социальные черты, иногда прямо отождествляясь с советскими вождями.
«Товарищи! Вы спрашиваете: «Почему в пьесе „На дне“ нет сигнала к восстанию?» Сигнал этот можно услышать в словах Сатина, в его оценке человека, – серьезно отвечает он из Сорренто курским красноармейцам. – Почему я взял именно „бывших“ людей и заставил именно их говорить то, что они говорят в пьесе? Потому, что эти люди оторвались от класса своего, свободны от мещанских предрассудков, им уже ничего не жалко, но – в этом и все их лучшее. К восстанию ради свободы труда они органически не способны. Ничего нового внести в жизнь не могут, как не могут этого и наши эмигранты, тоже „бывшие“ люди. Но из утешений хитрого Луки Сатин сделал свой вывод – о ценности всякого человека» (Письмо курским красноармейцам, 1928).
«Есть весьма большое количество утешителей, которые утешают только для того, чтобы им не надоедали своими жалобами, не тревожили привычного покоя ко всему притерпевшейся холодной души. <…> Утешители этого рода – самые умные, знающие и красноречивые. Они же поэтому и самые вредоносные. Именно таким утешителем должен был быть Лука в пьесе „На дне“, но я, видимо, не сумел сделать его таким, – занимается он „самокритикой“ перед молодыми драматургами, заявляя, что его пьеса „устаревшая, и, возможно, даже вредная в наши дни“. – Исторический, но небывалый человек, Человек с большой буквы, Владимир Ленин, решительно и навсегда вычеркнул из жизни тип утешителя, заменив его учителем революционного права рабочего класса» («О пьесах», 1933).
Поздний Горький пытается свести собственную сложную философскую драму к притче. Притча как литературный жанр требует четкой, однозначной авторской идеи. Близкая родственница притчи – басня, идея, мораль которой прямо высказывается автором («У сильного всегда бессильный виноват»).
«Много ли человеку земли нужно?» – задавал вопрос Л. Н. Толстой в известной притче, герой которой стремился захватить побольше земли, а удовольствовался – после безвременной смерти от жадности – тремя аршинами, необходимыми для могилы. Чехов на вопрос толстовской притчи отвечал принципиально по-иному: человеку (а не трупу) нужен весь земной шар.
Но даже в притче однозначность авторской идеи не мешает дальнейшим размышлениям и ответам прямо противоположным. Хорошая притча ставит вечные вопросы (притчами часто поясняет свою проповедь Иисус Христос).
Чехов говорил: задача писателя – правильно поставить вопрос, а решать его должны читатели-присяжные. В конце жизни Горький пытается свести свою драму вопросов к однозначному ответу, превращает пещеру Платона в школьный класс. Но книги-вопросы обычно живут дольше, чем книги-ответы. «На дне» – самое вопрошающее произведение М. Горького. Не случайно новые – и удачные – постановки пьесы предпринимались уже в театре XXI века.
СОВЕТСКИЙ ВЕК: две русские литературы или одна? (1920–1930-е гг.)
ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ: ПОЭТЫ И ВОЖДИ
Лицо Настоящего Двадцатого Века, начавшегося в европейской истории Первой мировой войной, в России окончательно определилось в 1917 году. Две революции, произошедшие в начале и конце одного года, не только изменили название страны, но и на многие десятилетия определили новые правила ее жизни.
Октябрьская революция была событием великим, огромным, эпохальным – это объективно осознавали люди противоположных убеждений. Такая позиция была естественной для ее сторонников. Маяковский благословляет ее в «Оде революции» (1918) и начинает сотрудничать в «Окнах Роста», сочиняя рассчитанные на красноармейцев агитационные стихи и плакаты. Блок призывает слушать «музыку революции» и утверждает, что интеллигенция «может и обязана» сотрудничать с новой властью.
Но и М. Булгаков, воспринимавшийся другими и сам ощущавший себя внутренним эмигрантом, скажет в письме Правительству СССР: «Пасквиль на революцию вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать НЕВОЗМОЖНО» (28 марта 1930 г.).
И М. Цветаева, которая вслед за мужем – белым офицером уехала в эмиграцию, заметит: «Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос – нет» («Поэт и время», 1932).
Отношения писателей к революции оказались частью общей проблемы, которую Цветаева обозначила в заглавии своей статьи: поэт и время.
В строительстве нового социалистического общества большевики огромную роль отводили культуре. В 1923 году В. И. Ленин предложил программу культурной революции, продолжающей революцию политическую и экономическую (позднее она наряду с индустриализацией и коллективизацией будет названа одним из главных достижений социалистического строя). Задачей очередной революции стало как достижение всеобщей грамотности, так и переработка и освоение всей предшествующей культуры «с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры».
Борьба за новую культуру в эпоху «диктатуры» (на самом деле не пролетариата, а победившей большевистской партии) началась со всяческого ущемления, а часто просто уничтожения культуры прежней. Уже в первые месяцы после Октябрьской революции практически все старые журналы и газеты, в которых печатались Салтыков-Щедрин и Чехов, Блок и Горький, перестали существовать.
В 1922 году было организовано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), могущественное цензурное учреждение, которое почти семьдесят лет определяло судьбы журналов, книг, отдельных писателей. С этого времени в СССР установилась предварительная цензура: обязательное рассмотрение всех печатных изданий до их публикации. В условиях свободы, таким образом, русская литература жила меньше двух десятилетий: цензура была отменена во время революции 1905 года.
Новые советские журналы, большинство из которых просуществует весь XX век, были идеологичны уже начиная с заглавий: «Красная новь», «Новый мир», «Октябрь», «Звезда», «Знамя». Их редакторами назначались люди, которым приходилось руководствоваться не только литературными вкусами, но и политическими интересами: за любое реальное или мнимое упущение они могли быть отставлены от должности или даже подвергнуться преследованиям.
Сразу после революции, в эпоху гражданской войны и военного коммунизма, новая власть еще не могла активно влиять на литературу: у нее хватало других дел. Писатели, как и другие граждане, выживали, с трудом приспосабливаясь к реалиям нового «каменного» века.
Е. И. Замятин в рассказе «Пещера» (1920) представляет петербургскую квартиру холодной, ледяной пещерой. Герой рассказа, интеллигент, крадет дрова у соседа, чтобы спасти умирающую жену.
Словно продолжая Замятина, поэт В. А. Зоргнефрей пишет стихотворение «Над Невой» (1920).
Сумрак тает. Рассветает. Пар встает от желтых льдин, Желтый свет в окне мелькает. Гражданина окликает Гражданин: – Что сегодня, гражданин, На обед? Прикреплялись, гражданин, Или нет? – Я сегодня, гражданин, Плохо спал: Душу я на керосин Обменял.В это время, когда книгоиздание почти прекратилось, появились странные книги: поэты, как древние летописцы, сами переписывали их, оформляли и продавали. Рукописные книги создавали Андрей Белый и Н. Гумилев, Ф. Сологуб и М. Цветаева. Особенно много таких книг в голодной Москве написал-наиздавал писатель и библиофил М. А. Осоргин (вскоре он будет выслан из России на так называемом «философском пароходе»). Среди них были не только рассказы, очерки, но и книжки «полезных советов»: «Копчение академической селедки в самоварной трубе» («Цена на выбор – 1 фунт сливочного масла или 1 фунт сахару»), «Легчайший способ уехать за границу», «Как добыть дров», «Как прожить ни в чем не нуждаясь и не нарушая декретов».
По мере утверждения советской власти большевики обращают на литературу все более пристальное внимание. Вожди революции еще с императорских времен занимались литературным трудом. Литераторами в той или иной мере были и В. И. Ленин, и Л. Д. Троцкий, и Н. И. Бухарин. Первым народным комиссаром просвещения стал литературный критик и драматург А. В. Луначарский.
Отношения между поэтами и политиками в первые годы советской власти могли быть дружески-покровительственными. Ленин более всех ценил Горького и даже какое-то время прощал ему враждебные выпады против революции в «Несвоевременных мыслях». Луначарский симпатизировал Маяковскому, которого Ленин как раз не любил за футуризм. Есенин мог находить покровительство у Троцкого, Пастернак и Мандельштам – у Бухарина.
Однако дружеское расположение оканчивалось там, где начинались жестокая политика и настоящая литература. Приведенное выше наблюдение об отношениях поэта и времени Цветаева продолжает так: «Тема Революции – заказ времени. Тема прославления Революции – заказ партии». Настоящие поэты, даже констатируя крушение гуманизма и отстаивая необходимость сотрудничества с новой властью, отвечали на заказ времени. А партия давала социальный заказ и пыталась сделать литературу «частью общепартийного дела» (эта старая идея Ленина из статьи «Партийная организация и партийная литература» приобрела после Октября опасный и угрожающий характер, потому что поддерживалась всей мощью государства).
Ситуация, в которой оказалась литература в послереволюционную эпоху, гротескно, но точно описана в статье Е. И. Замятина «Я боюсь» (1921). Он выделяет в современной литературе юрких «придворных поэтов», которые прислуживают власти, и молчащих подлинных литераторов. «Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни – в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во „Всемирной литературе“, несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте, Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить – жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей, – Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре „Ревизора“, Тургеневу – каждые два месяца по трое „Отцов и детей“, Чехову – в месяц по сотне рассказов».
Но опасность для настоящей литературы Замятин видит не в бытовых трудностях, а в государственном диктате: «Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумные отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики». Если болезнь-боязнь еретического слова неизлечима, то «я боюсь, что у русской литературы есть одно только будущее: ее прошлое», – заканчивал Замятин свой анализ-диагноз.
Когда-то в семнадцатом веке произошел раскол русской церкви: его последствия сказываются более трех столетий. После революции такой же великий раскол переживают русская культура и русская литература: его последствия придется изживать весь двадцатый век.
ЛИТЕРАТУРА В СССР: ПРОЛЕТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ, ПОПУТЧИКИ И НИЧЕВОКИ
Одну из первых обобщающих работ о послереволюционной литературе написал Л. Д. Троцкий. В книге «Литература и революция» (1923) он представил схему современного литературного процесса, которая использовалась и после того, как автор был отстранен от власти и выслан из СССР. Троцкий радостно объявляет о «крушении дооктябрьской литературы» и «трупном разложении эмиграции». Для Е. Замятина и других писателей, оставшихся в России, но скептически относившихся к новой власти, была найдена кличка «внутренний эмигрант», что выглядело еще опаснее, потому что они были под рукой и в любой момент могли подвергнуться преследованиям.
Авторов же в разной степени принявших новые реалии, новый порядок жизни, Троцкий разделил на пролетарских писателей и попутчиков. Эти группы находились в неравном положении.
Пролетарскую культуру мечтатель, теоретик перманентной (непрерывной) революции Троцкий видит как краткий переход к бесклассовой культуре будущего, которую он представляет как радикальную, полную переделку не только общества, но и человека: «Человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, протянуть провода воли в подспудное и подпольное и тем самым поднять себя на новую ступень – создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно – сверхчеловека. <…> Искусства – словесное, театральное, изобразительное, музыкальное, архитектурное – дадут этому процессу прекрасную форму. <…> Человек станет несравненно сильнее, умнее, тоньше.
Его тело – гармоничнее, движения ритмичнее, голос музыкальнее, формы быта приобретут динамическую театральность. Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гёте, Маркса. Над этим кряжем будут подниматься новые вершины».
На фоне таких блестящих перспектив положение «литературных попутчиков революции» выглядело уязвимым. «Они все более или менее склонны через голову рабочего глядеть с надеждой на мужика. <…> Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой станции? <…> В двойственности мироощущения попутчиков, порождающей беспокойную неуверенность в себе, постоянная опасность, художественная и общественная в одно и то же время».
Положение писателей, их общественная репутация в двадцатые годы зависели, таким образом, не столько от их творчества, сколько от того, в какой лагерь их заносила критика. Пролетарских писателей лелеяли и поддерживали, попутчиков – постоянно одергивали и воспитывали.
Главной заслугой пролетарских писателей было их «правильное» социальное происхождение. Искренне поверившие в революцию и не очень образованные авторы писали, как правило, подражательные стихи, в которых к тому же обнаруживалось явное влияние «буржуазных» символистов или футуристов. Однако Советская власть именно с такими «творцами», а не с Блоком или Замятиным первоначально связывала надежды на великую литературу, которая прославит революцию и новое социалистическое общество.
В 1917–1925 годах особую активность проявил Пролеткульт (сложносокращенное слово от «пролетарская культура»), литературно-художественная и просветительская организация, которая организовывала кружки и литературные студии по всей России и даже за границей, проводила творческие встречи, издавала журналы.
Идеолог Пролеткульта, старый большевик, ученый и фантазер, автор утопических романов об идеальном социалистическом обществе, А. А. Богданов (настоящая фамилия Малиновский, 1973–1928) утверждал: «Пролетариату необходимо искусство коллективистское, которое воспитывало бы людей в духе глубокой солидарности, товарищеского сотрудничества, тесного братства борцов и строителей, связанных общим идеалом. И такое искусство зарождается. Мы имеем его в России в виде молодой пролетарской поэзии» («Пролетариат и искусство», 1920).
Одним из самых известных, подававших надежды, пролетарских поэтов считался В. А. Александровский (1897–1934). Вот фрагмент его стихотворения «Мы» (1922):
На смуглые ладони площадей Мы каждый день расплескиваем души; Мы каждый день выходим солнце слушать На смуглые ладони площадей…<…>
Мы пьем вино из доменных печей, У горнов наши страсти закаляем, Мы, умирая, снова воскресаем, Чтоб пить вино из доменных печей…Легко заметить, что в этом стихотворении беспорядочно, эклектично соединяются городская тематика Маяковского, солнечные мотивы Бальмонта, напевная интонация Блока. Некоторые тропы явно противоречат авторскому замыслу. «Мы», пьющие вино из доменных печей, вызывают не высокое, патетическое чувство, на которое рассчитывал поэт, а, скорее, улыбку. Грандиозные гиперболы Маяковского подобного побочного эффекта лишены. «Пролетарским» в стихотворении Александровского оказывается лишь заглавие да некоторые редко используемые в поэзии термины (горн, доменная печь).
Такова вообще была драма искусства Пролеткульта: мы в их поэзии было пустым, абстрактным, поэтому его трудно было изобразить; а малая образованность поэтов вела к использованию самых элементарных, лежащих на поверхности, приемов «старой» поэзии, которую они теоретически отрицали.
Другой пролетарский поэт, С. А. Обрадович (1892–1956), призывает собратьев:
Полно говорить о соловьях и луне По транспаранту Надсона и Фета, Когда корчится в роковом огне В муках земная планета… И вот пришли – не в покорном трауре, На площади боль прошлого расплескав, Буйные, в дыму и зареве — Синеблузые поэты от станка.<…>
Слышите ль в громовом прибое строк Разрушающее и созидающее «Мы»? Это слитность сил, как млечный звездный поток По черному асфальту тьмы. («Пролетарские поэты», 1922)Отбрасывая, вслед за Маяковским, «транспарант», образец Фета и Надсона, «поэт от станка» использует ритмику, интонацию и образность самого Маяковского, повторяет мысль, более мощно и точно высказанную у непролетарского футуриста:
Как вы смеете называться поэтом и, серенький, чирикать, как перепел! Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе! («Облако в штанах», 1914–1915)К идее чисто пролетарской культуры критически относились не только писатели, но и некоторые вожди. Ленин, который еще с дореволюционных лет вел с Богдановым философские споры, защищал от пролеткультовцев старую культуру и отрицал за ними право на самостоятельную деятельность. В 1925 году Пролеткульт был включен в профсоюзы, а в начале 1930-х годов прекратил существование. Богданов отошел от культурной деятельности, занялся наукой, организовал Институт переливания крови и в конце двадцатых годов погиб, проводя эксперимент на себе.
Культурная роль Пролеткульта была не только отрицательной. Из этих организаций в советскую литературу пришли несколько талантливых писателей. Автор великих «Чевенгура» и «Котлована» А. П. Платонов в юности участвовал в воронежской организации Пролеткульта (еще под своей настоящей фамилией Климентов). Но Платонов стал Платоновым, перестав быть пролеткультовцем. «Правильное» происхождение не могло заменить такой необходимой вещи, как талант.
Дело Пролеткульта продолжил РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), организованный в 1925 году. Рапповцы подхватили основную идею Пролеткульта: искусство имеет классовый характер, настоящие произведения способны создать лишь писатели с передовым, пролетарским мировоззрением и «диалектико-материалистическим методом» (теорию прямой зависимости творчества писателя от его социального происхождения позднее назовут вульгарным социологизмом).
В РАПП входили некоторые уже известные к тому времени писатели: бывший комиссар чапаевской дивизии, автор романа «Чапаев» (1923) Д. А. Фурманов (1891–1926), создатель «Разгрома» (1926) А. А. Фадеев (1901–1956). Но наиболее активными рапповцами были литературные критики (Л. Л. Авербах, В. В. Ермилов), претендовавшие на партийное руководство литературой.
РАПП больше хотел не создавать, а командовать. Обычными мишенями рапповцев в журнале «На литературном посту» были самые талантливые писатели двадцатых годов, попутчики и внутренние эмигранты: М. А. Булгаков, Б. А. Пильняк, Е. И. Замятин. Литературные споры рапповцы зачастую переводили в политическую плоскость, выдвигая против писателя обвинения, которые могли стоить ему не только отлучения от литературы, но и свободы и даже жизни.
«Рассказ Платонова – идеологическое отражение сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии. В нем есть двусмысленность, в нем имеются места, позволяющие предполагать те или иные „благородные“ субъективные пожелания автора. Но наше время не терпит двусмысленности; к тому же рассказ в целом вовсе не двусмысленно враждебен нам! – победоносно уличал писателя Авербах после публикации посвященного коллективизации иронического рассказа „Усомнившийся Макар“. – Писатели, желающие быть советскими, должны ясно понимать, что нигилистическая распущенность и анархо-индивидуалистическая фронда чужды пролетарской революции никак не меньше, чем прямая контрреволюция с фашистскими лозунгами. Это должен понять и А. Платонов» («О целостных масштабах и частных Макарах», 1929).
После публикации этой рецензии («Усомнившийся Макар» не понравился и Сталину) Платонов на несколько лет был лишен возможности печатания, а сама повесть повторно появилась в СССР лишь через шестьдесят лет. Понятие рапповская дубинка (или, по заглавию журнала: напостовская дубинка) для многих писателей двадцатых годов были полны печального смысла.
Однако первое десятилетие советской власти было еще, как шутила А. А. Ахматова, вегетарианским временем. Литература продолжала развиваться в привычных формах или восстанавливала их после революционных потрясений, как ящерица восстанавливает утраченные части тела.
В наступившую после гражданской войны эпоху нэпа вновь появляются частные и кооперативные издательства. Некоторые вновь возникшие журналы («Красная новь») проводят собственную издательскую политику и полемизируют с «неистовыми ревнителями» из РАППа. Оживляются контакты с зарубежьем: многие советские писатели печатают книги в Германии, а произведения эмигрантов, в том числе мемуары белых генералов, напротив, публикуются в советских издательствах, правда с «разъясняющими» предисловиями или послесловиями (переиздается даже книжка яростных сатирических рассказов А. Т. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», о которой в 1921 году похвально-отрицательно отозвался Ленин). И конечно, продолжают (или начинают) существование ставшие привычными в серебряном веке объединения литераторов по эстетическим признакам. Попутчики образовывают свои литературные группы. Литературная борьба продолжается одновременно с политической, временами приобретая не менее острые формы.
Символизм так и не смог занять прежнее положение после кризиса 1910-х годов. История символизма в послереволюционную эпоху продолжается как история отдельных символистов (Блока, Белого, Брюсова, Мережковского). Но постсимволистские направления пытаются восстановить организационные формы. Н. Гумилев после революции организует литературную студию, воспитывает новое поколение поэтов, ориентированных на эстетику акмеизма. Некоторые из студийцев Гумилева (Г. В. Иванов, Г. В. Адамович) позднее стали известными поэтами в эмиграции, «поздними акмеистами».
Еще более заметно заявляет о себе футуризм. Не только Маяковский становится поэтом революции. Футуристы в целом объявляют себя союзниками большевиков (поэтому Замятин в статье «Я боюсь» включает их в число «наиюрчайших»). В 1923 году под предводительством Маяковского создается ЛЕФ (левый фронт искусств), куда, кроме «старых» футуристов, входят поэты Б. Л. Пастернак, H. Н. Асеев, С. И. Кирсанов, художники, литературные критики. Продолжая авангардистские идеи отрицания культурных традиций, ЛЕФ, как и Пролеткульт, выдвигает весьма «революционную» концепцию производственного искусства.
В буржуазном обществе считалось, что художник творит, отражает жизнь, служит красоте. Социалистическому обществу не нужны традиционные стихи, картины, спектакли. Все это – обреченное акстарье (академическое старье). Новое искусство должно выйти на площадь, стать частью быта, превратиться в обычный вид трудовой деятельности. «Погибнут художники, которые умеют только „творить“ и „где-то там служить красоте“. Есть другие художники. Они умеют делать нечто большее. Они умеют исполнять художественные работы.
Эти художники умеют писать картины, декорации, расписывать потолки и стены, изготовлять статуи, памятники и многое другое, смотря по надобности. <…> Такой труд дает художнику право встать рядом с другими трудовыми группами Коммуны, с сапожниками, со столярами, с портными. Он служит залогом, что искусство не погибнет, но найдет место в общем строе коммунальной жизни» (О. М. Брик «Художник и коммуна», 1919).
Лефовцы отрицали искусство ради ремесла, вместо того чтобы попытаться найти границы между ними и способы их сосуществования. Настоящих поэтов такие теории возмущали или смешили.
Б. Л. Пастернак, первоначально согласившийся войти в ЛЕФ из симпатии к Маяковскому, рассказывает об одной из лефовских конференций в письме О. Э. Мандельштаму: «Ничтожнее, забавнее и доказательнее зрелища я в жизни не видел. <…> Это демонстрировался вывод из ряда ложных долголетних допущений. Это был абсурд в лицах, идиллический, пастушеский абсурд. Они только что не объявили искусством чистки медных дверных ручек, но уже Маяковский произнес целую речь о пользе мела в чаянье возможности такого провозглашения» (31 января 1925 г.).
С. А. Есенин тоже задевает производственные интересы Маяковского, иронизируя над его рекламной работой:
Мне мил стихов российский жар. Есть Маяковский, есть и кроме, Но он, их главный штабс-маляр, Поет о пробках в Моссельпроме. («На Кавказе», сентябрь 1924)Лефовские теории помешали многим художникам, вынужденным под влиянием производственных теорий отказываться от склонностей к живописи в пользу плаката или литературного творчества в пользу очерка. С другой стороны, они способствовали развитию прикладных искусств: фотографии, художественной росписи, оформлению тканей и пр.
Есенин, однако, тоже не смог избежать искушения теорией. Вместе с немногочисленными сторонниками в 1919 году он создает группу имажинистов, объявляя центральной категорией поэтики образ (подробнее об этой теории мы поговорим в главе о Есенине).
В двадцатые годы существуют также эвфонисты (заявляющие, что поэт должен придумывать новые рифмы), презентисты (утверждающие, что образ должен быть, прежде всего, конкретным), экспрессионисты (призывающие объединить все футуристские достижения, «создать полистрофику и достигнуть высшей евфонии»), чуть позднее – конструктивисты (предлагающие конструировать тему из наиболее сопричастных ей слов и ритмов).
Итогом этого «абсурда в лицах», авангардистских требований к искусству, которые авторы манифестов часто не успевали и не умели исполнить, становится «Декрет о ничевоках в поэзии» (1921). «Жизнь идет к осуществлению наших лозунгов, – объявляли шесть членов творничбюро. – Ничего не пишите! Ничего не читайте! Ничего не говорите! Ничего не печатайте!» Подписавшие этот декрет авторы выполнили призывы: не оставили в литературе никакого следа.
Оппозицией авангардистской лихорадке изобретательства стали еще две литературные группы: «Перевал» и «Серапионовы братья».
«Перевал» (1923–1932) возник при первом советском журнале «Красная новь», организованном после закрытия прежней «буржуазной» прессы. Редактор журнала – старый большевик, А. К. Воронский (1884–1937), тем не менее, делал ставку на попутчиков. Воронский привлекал в «Красную новь» не благонадежных пролетарских, а талантливых авторов. Воспринимая искусство, прежде всего, как познание жизни, призывая писателей изображать современность, Воронский постоянно напоминал, что настоящая литература может появиться не на голой земле, а внутри определенной традиции. Поэтому он призывал «серьезно учиться у классиков», даже если они исповедовали совсем чуждые современности идеи.
В противоречии с господствующими настроениями эпохи Воронский защищал не мастерство, а творчество, не расчет, а вдохновение, не Сальери, а Моцарта. «Классики всегда стояли на уровне своей эпохи, а многие из них были ясновидцами и прозорливцами будущего. Они были глубоко идейны; им были созвучны лучшие идеалы человечества их времени. В основе их творчества всегда лежали большие эмоции, любовь к человеку, к угнетенным, ненависть к угнетателям, ко всему исковерканному, пошлому, мертвому, мизерному, в них жила тоска по обновленной, преобразованной жизни… <…> Нашей современной художественной прозе, да и поэзии, как общее правило, не хватает этих больших и глубоких чувств и мыслей, которые Чехов называл богом живого человека. Произведения наших писателей не замешаны на великих эмоциях и страстях. Они не пишутся оттого, что писатель не может молчать. У нас все больше вещи „делают“, „работают“ над ними, а не творят, не создают их. <…> Упускается при этом одно немаловажное обстоятельство: истинное творчество и вдохновение, в сущности, покоится на том, что художник должен уметь полновесно чувствовать, мыслить, страдать и блаженствовать, переправляя это в образы, в соответствии с действительностью» («На перевале», 1925). В «Перевал» в разное время входили поэты Э. Г. Багрицкий, М. А. Светлов, прозаики М. М. Пришвин, Артем Веселый, А. П. Платонов.
«Серапионовы братья» появились не благодаря журналу, а на основе личных, дружеских связей. В 1921 году в Петрограде собралась компания увлеченных литературой молодых людей, позаимствовавшая название своей группы из романа немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана. Они имели разный жизненный опыт, по-разному относились к революции и классической традиции. Объединяла их лишь установка на оригинальность и искренность, опора на эстетические, а не идеологические критерии.
«У каждого из нас есть идеология, есть политические убеждения, каждый хату свою в свой цвет красит. Так в жизни. И так в рассказах, повестях, драмах. Мы же вместе, мы – братство – требуем одного, чтобы голос не был фальшив. Чтоб мы верили в реальность произведения, какого бы цвета оно ни было. <…> Пора сказать, что некоммунистический рассказ может быть бездарным, но может быть и гениальным. И нам все равно, с кем был Блок – поэт, автор „Двенадцати“, Бунин-писатель, автор „Господина из Сан-Франциско“. <…> С кем же мы, Серапионовы братья? Мы с пустынником Серапионом» (Л. Н. Лунц. «Почему мы Серапионовы братья», 1922).
Такая позиция, естественно, вызывала рапповскую критику. Но несомненную талантливость серапионов видел Горький, поддержавший многих братьев в начале их пути. Совсем скоро большинство кружковцев заняли заметное место в советской литературе. В группу входили самый популярный писатель двадцатых годов М. М. Зощенко, поэт, последователь Гумилева H. Н. Тихонов, прозаики В. А. Каверин, К. А. Федин, В. В. Иванов.
«Здравствуй, брат, писать очень трудно…» – так, по легенде, обращались друг к другу серапионы в письмах (позднее так назовет книгу воспоминаний В. А. Каверин). Быть литературными братьями оказалось тоже нелегко. В 1929 году группа распалась, хотя дружеские связи между бывшими членами сохранялись еще много лет.
Подход, характерный для «Перевала» и «Серапионовых братьев», в конце концов побеждает в литературе. Читая книгу, мы действительно воспринимаем прежде всего реальность произведения, мысль и страсть автора и лишь опосредованно – его идеологические убеждения. Образ послереволюционной эпохи в совокупности создавался писателями разных направлений и взглядов, но больше всего среди них было попутчиков.
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА: ОБРАЗЫ ЭПОХИ
Первые произведения советской эпохи были поэтическими. Среди слабых публицистических стихов поэтов Пролеткульта выделялись произведения Маяковского и «Двенадцать» Блока. Написанные в эти годы стихи Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака были настолько индивидуальны, что не воспринимались как часть общей картины современной поэзии, их подлинное значение выявится позднее. Кроме того, многие стихотворения этих поэтов, дающие образ времени, своевременно опубликованы не были.
Уже с начала двадцатых годов роль литературного хроникера эпохи от поэзии переходит к прозе. Будучи отражением и познанием жизни, она отзывается на главные проблемы времени, изображает революцию, гражданскую войну, совершенно иную, катастрофическую, атмосферу Настоящего Двадцатого Века.
Первый значительный роман, появившийся в советскую эпоху, был посвящен, как это ни парадоксально, не настоящему и даже не прошлому, а будущему.
Е. И. Замятин (1884–1937) получил известность еще до революции повестями о русской провинции («Уездное», 1913) и армии («На куличках», 1914), в которых обнаруживалось влияние Гоголя и Лескова. Замятин был членом большевистской партии, сидел в тюрьме, во время мировой войны, будучи по основной профессии инженером-кораблестроителем, наблюдал в Англии за постройкой предназначенных для русского флота кораблей. Сразу после революции вернувшись в Россию, он, как и Горький, оказался «еретиком». (Замятин любил это слово, считая, что именно еретики, бунтари, несогласные являются движущей силой прогресса.)
Замятин признавался, что был влюблен в революцию, когда она была «юной, огнеглазой любовницей», но разочаровался в ней, когда она превратилась в «законную супругу, ревниво блюдущую свою законную монополию на любовь». Он оказывается последовательным противником большевиков, борцом за свободу человеческой личности и писательского высказывания, слово которого было тем более весомо, потому что исходило не от аполитичных Бунина или Ахматовой, а от своего, революционера, даже большевика.
В 1920 году в «пещерном» Петрограде Замятин пишет роман «Мы», который воспринимается как протест против тоталитарного общества, против того, что происходит в России после революции. Эту книгу обсуждали и осуждали критики, но так и не опубликовали на родине при жизни писателя. В переводе на английский язык роман появился в 1924 году, на русском языке в Париже – в 1929 году, а в СССР – лишь в 1988 году, почти через семьдесят лет после создания.
Замятин протестовал против понимания книги как фельетона, памфлета на большевиков и революцию. Его цели были значительнее. В современности он усматривал зародыши куда более мощного подавления личности, абсолютного подчинения государственному «мы», на стороне которого – огромная техническая и пропагандистская мощь. Противопоставить этому будущие люди-номера XXIX века могут немногое, но вечное: природу, любовь, искусство (его символом в романе становится Пушкин).
Автор упорно повторял: «Близорукие рецензенты увидели в этой вещи не больше, чем политический памфлет. Это, конечно, неверно: этот роман – сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства – все равно какого» (интервью Ф. Лефевру, апрель 1932 г.). В «Мы» Замятин создает новый жанр романа-антиутопии, который становится очень важным для литературы XX века.
Первый значительный отклик на события Гражданской войны тоже был неожиданным. В 1923–1925 годах только что вернувшийся из армии Буденного журналист и начинающий писатель И. Э. Бабель (1894–1940) опубликовал более трех десятков коротких текстов, которые составили сборник «Конармия». Это была поразительная книга. Только что окончившаяся Гражданская война (Бабель участвовал в польском походе буденновской армии) предстала в острофабульных новеллах (своим учителем Бабель считал Мопассана) как грандиозная битва то ли гомеровских героев, то ли кентавров, людей на лошадях.
В «Конармии» резко сочетались, композиционно сталкивались несколько художественных пластов: натуралистические эпизоды, передающие ужас войны; бытовые картины еврейской провинциальной жизни, напоминающие об истории этих мест, об истребляемой войной культуре; удивительной красоты метафорические пейзажи, представляющие истинные ценности, не замечаемые участниками кровавой битвы.
После публикации книги командарм 1-й Конной армии С. М. Буденный обвинял автора в клевете, а М. Горький, защищая писателя, наоборот, утверждал: «Бабель украсил бойцов… изнутри, и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». В этом споре прав оказался писатель: «Конармия» осталась одной из лучших, оригинальных книг о Гражданской войне.
Но в наибольшей степени отвечающей задачам советской литературы считалась другая книга: почти одновременно с Бабелем молодой писатель А. А. Фадеев (1901–1956) пишет роман «Разгром». Главный герой романа – настоящий большевик, комиссар Левинсон, которого быстро сделали положительным образцом. В романе были отражены и роль рабочего класса, и колебания мужиков, и предательство образованного интеллигента. История поражения, гибели партизанского отряда читалась как рассказ о моральной победе большевистской идеи. Важно, что роман казался традиционным повествованием в толстовском духе, на котором не отразились никакие модернистские влияния, реализующим тем самым лозунг учебы у классиков.
Однако книга сохранила значение не только пропагандистского образца, удобного материала для школьных сочинений. В романе ощутимы мотивы героической баллады о человеческом упорстве и стойкости, а также проблематика европейской литературы «потерянного поколения». За счет экзистенциальных, общечеловеческих мотивов книга пережила свое время и осталась в истории русской советской литературы.
Но самым популярным автором двадцатых годов был, как мы уже говорили, один из серапионовых братьев, М. М. Зощенко (1894–1958). Начав с книги, героем которой был простодушный свидетель мировой войны и революции («Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова», 1921–1922), Зощенко одним из первых перешел к изображению «мирной» (на самом деле, совсем не мирной) послереволюционной жизни. Он быстро нашел своего героя – простодушного человека (его обзывали «мещанином»), претерпевающего трудности «самоцветного быта». Его основным жанром становится повествование от первого лица, выполненное в сказовой манере. Множество коротких рассказов за десятилетие сложились в разнообразную, очень смешную и грустную летопись современности, намного более правдивую, чем официальные документы, очерки и заказные социальные романы. Позднее писатель и сам объединил некоторые рассказы в «Голубую книгу» (1935), дополнив ее историческими сюжетами и философскими размышлениями.
Одновременно с рассказами Зощенко создал цикл «Сентиментальные повести» (1923–1930), в которой представил настоящую энциклопедию классических сюжетов и героев, перенесенных в современность. По страницам повестей проходят тени Пушкина, Достоевского, Гончарова, Чехова и, конечно, более всего любимого Зощенко Гоголя.
Зощенко в шутку называл себя исполняющим обязанности настоящего «пролетарского писателя». Но официальные критики относились к нему с подозрением, постоянно упрекая его за мелкотемье и негероических персонажей. Зато его бесконечно любил простой читатель, человек с улицы, похожий на его героя. Однако и выходцы из серебряного века, модернисты, узнали в Зощенко своего: писателя изощренного, глубокого, озабоченного не только бытом, но и метафизическими проблемами.
Прочитав самые первые рассказы Зощенко, А. М. Ремизов сравнил его с Гоголем. О. Э. Мандельштам говорил, что запоминает многие места сентиментальных повестей как стихи. Позднее он оценил произведения Зощенко еще выше, увидев в них гоголевский пафос писателя-моралиста, судьи времени: «У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду» («Четвертая проза», 1930).
А. П. Платонов (1899–1951), начинавший как правоверный пролеткультовец, совсем скоро становится еще одним свидетелем и судьей времени. После очерков и рассказов (среди них был и подвергнутый критике «Усомнившийся Макар», 1929) на рубеже тридцатых годов он создает тип повествования, в котором реалистическое изображение переворотившейся послереволюционной жизни сочетается с безудержной фантастикой, гротеском и символом, сатира – с лирикой, утопия – с антиутопией, верность лозунгам революции – с их глубочайшей критикой.
Своеобразная платоновская трилогия оказалась настолько непривычной, непохожей на существующую литературу, что в ее публикации отказали все, от цензоров до М. Горького. «Чевенгур» (1926–1929), «Котлован» (1930), «Ювенильное море» (1932) были напечатаны лишь через много десятилетий. Но эти «задержанные» произведения оказались едва ли не самой значительной, великой прозой XX века, написанной на русском языке.
В двадцатые годы начинается работа еще над двумя великими романами, «Тихим Доном» М. А. Шолохова и «Мастером и Маргаритой» М. А. Булгакова, которые символически будут закончены в одном и том же 1940 году (о них пойдет речь в специальных главах).
Но литература в СССР была лишь частью литературного процесса. Уже в двадцатые годы сформировалась и другая его часть – русская литература в изгнании.
ЛИТЕРАТУРА В ЭМИГРАЦИИ: В ИЗГНАНИИ ИЛИ В ПОСЛАНИИ?
После революции и Гражданской войны за границей России-СССР оказалось (по разным подсчетам) от одного до трех миллионов эмигрантов. Одни задержались там еще с императорских времен, другие уехали в начале революционных катаклизмов, третьим разными путями удалось бежать уже из Советской России. Самая значительная часть эвакуировалась после разгрома белых армий в Гражданской войне. В 1921 году появляется декрет, лишающий эмигрантов гражданства РСФСР и превращающий их в апатридов (лиц без гражданства).
Последняя большая партия интеллигентов высылается из России по специальному партийному решению в 1922 году. Этой операции ГПУ (Главного политического управления) предшествовала анонимная статья в главной партийной газете «Правда» – «Демократия, где твой хлыст?». Новая власть словно напоминала о временах крепостничества, когда подданных можно было безнаказанно драть на конюшне.
Так называемый «философский пароход» (на самом деле их было два), доставивший летом и осенью 1922 года из Петрограда в Германию русских философов, университетских профессоров, нескольких литераторов, стал ладьей Харона. Эти люди под страхом смертной казни были лишены права на возвращение на родину.
Надежды на скорое возвращение в Россию с каждым годом таяли. «Вчерашние русские» (как скажет в «Хорошо» Маяковский) начали как-то налаживать жизнь на чужбине. Большие группы русских беженцев оказались в Чехословакии, на Балканах, в Германии и Франции. В начале двадцатых годов столицей русского зарубежья был Берлин. В тридцатые годы эта роль перешла к Парижу. Так возникла литература первой волны эмиграции.
Есть известный афоризм: «Нельзя увезти родину на подошвах сапог». Русские эмигранты пытались увезти и сохранить свою Россию и свою культуру, которая в значительной степени была продолжением культуры серебряного века. Они переиздавали классику XIX века и активно изучали ее, писали труды по истории, философии, лингвистике. Современную литературу публиковал, прежде всего, выходивший в Париже журнал «Современные записки» (1920–1940), даже в названии которого обозначалась связь с двумя главными журналами XIX века – «Современником» и «Отечественными записками».
Гордостью эмигрантской литературы были писатели, получившие известность еще в России. Символисты Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, К. Д. Бальмонт, реалисты И. А. Бунин, И. С. Шмелев (1873–1950), Б. К. Зайцев (1881–1972). Одним из наиболее читаемых авторов был исторический романист и публицист М. А. Алданов (1886–1957), в романах и исторических очерках создавший панораму русской и европейской жизни от эпохи наполеоновских войн («Святая Елена, маленький остров», 1921) до русской революции и ее последствий («Ключ», 1930; «Бегство», 1932).
Однако большинство этих авторов – и Бунин в «Жизни Арсеньева» и «Темных аллеях», и Зайцев в автобиографических книгах и художественных биографиях Тургенева (1932), Жуковского (1951), Чехова (1954), и Шмелев в книге «Лето Господне; праздники – радости – скорби» (1933) – жили памятью о прошлом. Писатели молодые, начинающие, у которых не было ни этой памяти, ни литературной репутации, оказывались в положении драматическом.
Эмигрантские газеты, журналы, издательства были очень слабы, тиражи – невелики, читатели – немногочисленны и склонны, после тяжелой, выматывающей борьбы за существование, скорее к развлекательному чтению, чем к серьезной работе, духовному отклику, которым были избалованы писатели XIX и серебряного века. Новая литература оказывалась словно в безвоздушном пространстве, «без читателя» (так называлась статья Г. В. Иванова, 1931) и почти без средств к существованию.
В. Ф. Ходасевич, один из самых известных поэтов и критиков эмиграции, в 1933 году ставил драматический диагноз: «Русская литература разделена надвое. Обе ее половины еще живут, подвергаясь мучительствам, разнородным по форме, но одинаковым по последствиям. <…> В условиях современной жизни, когда писатель стал профессионалом, живущим на средства, добываемые литературным трудом, читатели необходимы ему не только как аудитория, но и просто как потребители. Вот такого-то потребительского круга эмиграция для своих писателей не составляет. <…> Малый тираж влечет за собой удорожание издания, а дороговизна книг в свою очередь еще более сокращает их распространение. Получается порочный круг, из которого выхода не видится.
Печатание книг становится почти невозможно. Уже в Варшаве выходят брошюры, отпечатанные на гектографе, а один писатель с крупным и заслуженным именем пытается продавать свои мелкие сочинения в виде автографов. Если немногочисленным нашим читателям угрожает голод только литературный, то перед нами стоит и физический» («Литература в изгнании»).
Но это была лишь одна сторона проблемы. На другое, уже не материальное, а духовное обстоятельство обратил внимание сам молодой писатель, Гайто (Георгий Иванович) Газданов (1903–1971). В статье «О молодой эмигрантской литературе» (1936), он, как когда-то Чехов, видит главную проблему своих сверстников в отсутствии мировоззрения, без которого нет большого писателя: «У нас нет нынче тех социально-психологических устоев, которые были в свое время у любого сотрудника какой-нибудь вологодской либеральной газеты… и с этой точки зрения, он, этот сотрудник, был богаче и счастливее его потомков, живущих в культурном – сравнительно – Париже. <…> Если предположить, что за границей были бы люди, способные стать гениальными писателями, то следовало бы, продолжая эту мысль, прийти к выводу, что им нечего было бы сказать; им помешала бы писать „честность с сами собой”».
Вывод Газданова беспощаден и безнадежен: «Не надо требовать от эмигрантских писателей литературы – в том смысле слова, в каком литературой называли творчество Блока, Белого, Горького. Выполнение этого требования не только непосильно, но и невозможно. <…> Речь… о молодой эмигрантской литературе совершенно беспредметна. Только чудо может спасти это молодое литературное поколение; и чуда – еще раз – не произошло».
С Газдановым много спорили, главным образом – писатели старшего поколения. Но его собственная литературная судьба подтвердила точность диагноза. В первом коротком романе (скорее, повести) «Вечер у Клэр» (1930) критики увидели влияние Достоевского, Бунина, Пруста (которого, как позднее признавался Газданов, он не читал) и назвали автора надеждой эмигрантской прозы. Но Газданов надолго замолчал, работал грузчиком, мойщиком паровозов, несколько десятилетий – парижским таксистом. Его литературное наследие в конце концов составили девять романов, но ни один из них так и не достиг высот и успеха первой, юношеской книги.
Единственный автор, которого Газданов выделял в молодой эмигрантской прозе, – В. В. Набоков (1899–1977). «Но он оказался возможен только в силу особенности, чрезвычайно редкого вида его дарования – писателя, существующего вне среды, вне страны, вне остального мира». В Набокове (ранние вещи он публиковал под псевдонимом Сирин) еще одна молодая писательница, H. Н. Берберова (1901–1993), видела даже оправдание не только поколения, а эмигрантской словесности вообще.
Но это действительно было показательное исключение, уникальная особенность писательского «Дара» (так называется последний – и лучший – написанный им на русском языке роман, 1937–1938). Набоков выстроил свой художественный мир, где изгнание стало главной темой, автопсихологический образ поэта, художника – доминантой мира, память о России – лейтмотивом. В конце концов он эмигрировал еще раз, уже из русской литературы: превратился в американского профессора и англоязычного писателя.
При всех трудностях эмигрантские писатели ощущали долг перед русской культурой. Присуждение Нобелевской премии И. А. Бунину было воспринято как торжество всей русской литературы. В нобелевской речи Бунин благодарил за присуждение премии изгнаннику и защищал «свободу мысли и совести» как догмат, аксиому писательского труда.
Десятилетием раньше он произнес в Париже речь «Миссия русской эмиграции» (1924). Эту миссию писатель видел в неприятии всего произошедшего на родине и в борьбе «за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся».
Девизом и опорой многих русских литераторов, оказавшихся в эмиграции, стал (чуть перефразированный) афоризм из поэмы H. Н. Берберовой: «Мы не в изнаньи, мы в посланьи». Свое творчество писатели воспринимали не просто как слово, обращенное к немногочисленным читателям в эмиграции, но и как брошенное в сторическое море письмо в бутылке, послание, обращенное в более или менее отдаленное будущее.
Когда мы в Россию вернемся…о, Гамлет восточный, когда? Пешком по размытым дорогам, в стоградусные холода, Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком, Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем… (Г. В. Адамович. «Когда мы в Россию вернемся… о,Гамлет восточный, когда?», 1936)«Эта зарубежная русская литература есть временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который – придет время – вольется в общее русло этой литературы», – предсказывал историк эмигрантской литературы Г. П. Струве («Русская литература в изгнании», 1956).
Язык и человеческое измерение, верность классическим традициям (даже если внешне они отрицались) – вот что объединяло русскую литературу в железный век поверх железного занавеса. Она существовала в разных условиях, но была одна – русская литература XX века.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В 1926 году, в статье «О нынешнем состоянии русской литературы», даже своим обобщающим заглавием напоминающей о традициях критики XIX века, один из лучших эмигрантских историков литературы Д. П. Святополк-Мирский (1890–1939), перечислив более двух десятков молодых дарований (здесь были Маяковский, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Есенин, Бабель, Зощенко), с удивлением заметил, что «из стольких имен только одно совсем белое» и что «волевая заразительность», «волевая форма», так необходимая для воспитания нации, более характерна для современной литературы, чем для литературы дореволюционной, и очевиднее проявляется в СССР, чем в эмиграции. «Надо учиться у своих врагов, – заключал Мирский. – Все-таки остается факт, что русская литература находит больше радости жизни после Революции, чем находила до Революции».
Критик описывал объективный процесс. Но с начала тридцатых годов советское государство пытается придать ему жесткие формы, организовать литературную «фабрику оптимизма», одновременно изолировав ее от внешнего мира.
Еще в двадцатые годы советские писатели много ездят на Запад, издают книги в Берлине, какие-то произведения эмигрантов попадают в Россию. В свою очередь, и в эмиграции возникает так называемое сменовеховство (от заглавия вышедшего в Праге сборника «Смена вех», 1921), идеологическое течение, призывающее интеллигенцию к примирению с новой властью во имя сильной России, возвращающейся к «нормальному» пути развития.
Но к началу следующего десятилетия от этих надежд и контактов почти ничего не остается. Железный занавес опускается все быстрее. В общественной и литературной жизни происходят события, которые практически обрывают связи между двумя ветвями русской литературы.
Начав индустриализацию и проведя мучительную коллективизацию, партия всерьез озаботилась «неорганизованным» литературным трудом. В 1932 году Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии большевиков, ЦК ВКП(б) принимает постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», согласно которому все прежние литературные организации было приказано распустить и «объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем».
В августе 1934 года собирается Первый всесоюзный съезд советских писателей, на котором было объявлено о едином методе художественного творчества, получившем название социалистический реализм (в отталкивании от него реализм XIX века дополнительно определяли как критический).
М. Горький, который был на съезде главным докладчиком и стал первым председателем писательского союза, декларировал: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого – непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле».
В уставе Союза советских писателей социалистический реализм был определен как «основной метод» литературы, искусства и критики, требующий от художника «правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии» и ставящий задачу «воспитания трудящихся в духе социализма».
Почти семьдесят лет социалистический реализм считался основным методом советской литературы. Ему была подыскана благородная предыстория (первым произведением и образцом метода считался роман М. Горького «Мать»), представлены его великие завоевания (поэзия Маяковского, «Разгром» А. А. Фадеева, «Поднятая целина» М. А. Шолохова, «Как закалялась сталь» Н. А. Островского), обнаружено его международное значение (творчество французского писателя Л. Арагона, турка Н. Хикмета, чилийца П. Неруды).
Однако характеристика метода и способы его использования резко отличали его от предшественников. Классицизм, романтизм, реализм сначала возникали как художественная реальность, в конкретных произведениях, а потом получали эстетическое осмысление. Социалистический реализм был сначала сконструирован, объявлен, а потом последовали попытки его воплощения в жизнь. Конкретные требования этого метода к искусству – изображение действительности с точки зрения идеала, четкое противопоставление «добра» и «зла», обязательное наличие «положительного героя» – противопоставляют этот метод классическому реализму XIX века и обнаруживают совсем другого его родственника.
«По своему герою, содержанию, духу социалистический реализм гораздо ближе к русскому XVIII веку, чем к XIX. Сами того не подозревая, мы перепрыгиваем через голову отцов и развиваем традиции дедов» (А. Д. Синявский «Что такое социалистический реализм», 1957). С этой точки зрения новый метод оказывается возвращением в прошлое, социалистическим классицизмом.
Еще важнее была другая особенность метода. Существенное значение в нем с самого начала имели не только художественные, но и идеологические характеристики (революционное развитие, воспитание трудящихся). Социалистический реализм часто понимался как почетный знак, которым награждали писателя за усердие и хорошее поведение. Позднее защитники метода всячески расширяли его значение, говоря о «народности», «социалистическом гуманизме», «эстетически открытой системе», но так и не смогли ответить на два важных вопроса: В чем принципиальное отличие этого реализма от реализма классического? Почему многие великие писатели советской эпохи, причем прожившие жизнь в СССР, так и не удостоились чести стать социалистическими реалистами?
Все-таки социалистический реализм – не миф, но реальность советской литературы 1930-1970-х годов. Но параллельно существовало множество писателей, которые не разделяли его принципы или были просто равнодушны к ним. Значение художественного метода в литературе XX века вообще и в советской литературе в частности становится иным. Большие поэты и писатели используют огромное богатство литературных приемов, выработанных в разные эпохи, и создают оригинальные произведения, в которых важнее оказывается не характеристика метода или направления, а индивидуальный замысел.
Лагерь поэтов и прозаиков «вне направлений» чрезвычайно расширяется, в него попадают Цветаева, Пастернак, Булгаков, Платонов. Метод, «неистовым ревнителям» ранних советских лет представлявшийся расширяющимся континентом, который в конце концов заполнит весь земной шар, оказался маленьким островом, смытым историческими тайфунами конца XX столетия. «Социалистический реализм», который считали вершиной развития всей мировой литературы, с течением времени превратился в историко-литературное понятие, мало что поясняющее не только в настоящем, но и в прошлом.
ЛИТЕРАТУРА И ВЛАСТЬ: МАРТИРОЛОГ XX ВЕКА
После создания Союза советских писателей литература становится важной частью государственного механизма. Ее целью объявляется воспитание народа в новом социалистическом духе. «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно – право писать плохо», – красиво высказался на Первом съезде писателей Л. С. Соболев.
Однако этот афоризм было легко оспорить: партия и правительство не могли дать писателю самого главного – таланта, от которого в искусстве и зависят оценки «хорошо – плохо». Но государство могло иное: назвать хорошей ту литературу, которую оно считало правильной, и предоставить ей всяческие преимущества и льготы.
На смену еретикам и безумцам, о которых когда-то говорил Замятин, в советскую эпоху явились многочисленные «исполнительные благонадежные чиновники», послушно выполняющие разнообразные социальные заказы (Ю. К. Олеша придумал подхваченную многими метафору: «инженеры человеческих душ»). «Нужные» писатели получают мощную государственную поддержку. Советское государство в небывалых масштабах играет роль, которую в предшествующие эпохи исполняли литературные меценаты.
И. А. Бунин вспоминает о встрече в Париже в середине 1930-х годов с вернувшимся из эмиграции, обласканным властью А. Н. Толстым: «„Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России…“ Я перебил, шутя: „Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены“. Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью: „Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету… Ты что ж, воображаешь, что тебе, на сто лет хватит твоей нобелевской премии?“ Я поспешил переменить разговор…» («Третий Толстой», 1949)
Нобелевской премии Бунину действительно хватило ненадолго (еще и потому, что он помогал многим нуждающимся). Но он так и не соблазнился материальными посулами, оставшись непримиримым к происходящему на родине.
В СССР в это время наибольшее подозрение вызывали даже не «юркие», а искренние сторонники советской власти, которые, однако, не выполняли социальный заказ, а пытались искренне увидеть и выразить в творчестве особенности нового общества. Такими были, прежде всего, «исполняющий обязанности пролетарского писателя» М. М. Зощенко и бывший пролеткультовец, рабочий-интеллигент, великий А. П. Платонов. Во времена, когда обласканный властью писатель мог собирать уникальную коллекцию английских трубок, Платонов, по одной из легенд, работал дворником в Литературном институте, где обучались молодые дарования, а Зощенко после партийного постановления, посвященного его «пошлым» произведениям, распродавал мебель и пытался шить сапоги.
С двадцатых годов начинает накапливаться библиотека «потаенной литературы», которая приоткроется в 1960-е, а по настоящему откроется лишь в конце 1980-х годов.
Из созданных в два первых советских десятилетия замечательных произведений читатели нескольких поколений так и не узнали «Мы» Е. И. Замятина, «Собачье сердце», «Мастера и Маргариту», «Записки покойника» («Театральный роман») и многие пьесы М. А. Булгакова, «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море» и многие другие тексты А. П. Платонова, рассказы о коллективизации И. Э. Бабеля, сатирическую комедию H. Р. Эрдмана «Самоубийца», стихи О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. А. Клюева. Естественно, им не были доступны и практически все произведения, созданные в эмиграции.
Еще трагичнее складывались судьбы не самих произведений, а многих их творцов.
Когда-то А. И. Герцен составил мартиролог (список мучеников) русской литературы, в который входили Рылеев, Пушкин, Лермонтов, А. А. Бестужев-Марлинский. Герцен утверждал несовместимость настоящей литературы и императорской власти. Не случайно его книга имела заглавие «О развитии революционных идей в России» (1850); литература, с его точки зрения, была главным элементом общественных изменений.
Вскоре после гибели Маяковского его товарищ, известный филолог Р. О. Якобсон (тот самый «Ромка Якобсон», который упоминается в стихотворении «Товарищу Нетте – пароходу и человеку»), словно продолжил мартиролог – уже XX века. «Расстрел Гумилева (1886–1921), длительная духовная агония, невыносимые физические мучения, конец Блока (1880–1921), жестокие лишения и в нечеловеческих страданиях смерть Хлебникова (1885–1922), обдуманные самоубийства Есенина (1895–1925) и Маяковского (1893–1930). Так в течение двадцатых годов века гибнут в возрасте от тридцати до сорока вдохновители поколения, и у каждого из них сознание обреченности…» – перечислял погибших поэтов Якобсон.
Объяснение трагедии было в статье поэтически-неопределенным: «Мы слишком порывисто и жадно рванулись к будущему, чтобы у нас осталось прошлое. Порвалась связь времен. Мы слишком жили будущим, думали о нем, верили в него, и больше нет для нас самодовлеющей злобы дня, мы растеряли чувство настоящего. Мы – свидетели и соучастники великих социальных, научных и прочих катаклизмов. Быт отстал. <…> Будущее, оно тоже не наше. Через несколько десятков лет мы будем жестко прозваны – люди прошлого тысячелетия» («О поколении, растратившем своих поэтов», май-июнь 1930).
Однако, кроме быта, в гибели поэтов (в широком смысле, то есть литераторов вообще) были виновны вполне конкретные социальные обстоятельства: искажение исходной идеи справедливого общества, которая вдохновляла их в первые послереволюционные годы, или прямое насилие государства как месть за честное осознание обстоятельств, за их слово.
«Чего ты жалуешься, – говорил Мандельштам жене, – поэзию уважают только у нас – за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают…» (Н. Я. Мандельштам «Воспоминания»)
«Растрата» поэтов продолжилась в последующие десятилетия: арест, расстрел или гибель в лагере самого Мандельштама, И. Э. Бабеля, П. Н. Васильева, Н. А. Клюева, пролетарских поэтов и литераторов из «Перевала», самоубийство М. И. Цветаевой, лагерные сроки В. Т. Шаламова и А. И. Солженицына.
Размышляя о состоянии советской литературы, русский философ-эмигрант Ф. А. Степун утверждал: «Нет никаких сомнений, советская литература (поскольку она действительно литература, а не макулатура) и советский строй (поскольку он не жизнь в Советской России, а проводимый мир идей), как бы они временно ни уживались в одной берлоге, по существу непримиримые враги» («Мысли о России», очерк 6, 1925).
Степун оказался прав: настоящая литература и советская власть постоянно обнаруживали свою несовместимость, хотя многое в этой литературе было вызвано революцией и идеями Октября. В противостоянии жестокому веку и осмыслении его рождалась великая литература XX века, достойное продолжение века девятнадцатого.
Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ (1893–1930)
ФУТУРИЗМ: ЖЕЛТАЯ КОФТА
Три основных модернистских направления серебряного века можно противопоставить не только эстетически, но и географически.
Символизм был «столичной штучкой»: его основные деятели родились в Москве и Петербурге, происходили из интеллигентных семей, сами заканчивали университеты, преподавали, писали серьезные научные труды, подобно деятелям золотого века, организовывали кружки и салоны; проводили религиозные собрания.
Акмеизм возникает в этом же интеллектуальном кругу, но на его периферии. Мандельштам родился в Варшаве, Гумилев – в Кронштадте, Ахматова – под Одессой. Однако их эстетической колыбелью можно считать петербургские пригороды («Поедем в Царское Село…») и русскую культуру, включая тот же символизм. Эту культуру, однако, акмеисты осваивали иным путем: университет им заменило серьезное самообразование.
Футуризм – детище провинциальной России и другой, низовой, культуры. Крученых родился в селе Херсонской губернии, Хлебников – в улусе губернии Астраханской, Василий Каменский и вообще – в пути, на пароходе, плывшем из Перми в Нижний Новгород. Футуристы, как правило, не окончили не только университетов, но и гимназий, бравируя своей антикультурностью, необразованностью, «дикостью».
Первые этапы биографии главного русского футуриста четко отражают эту тенденцию. «Птенец человечий / чуть только вывелся – / за книжки рукой, / за тетрадные дести. / А я обучался азбуке с вывесок, / листая страницы железа и жести. <…> Юношеству занятий масса. / Грамматикам учим дурней и дур мы. / Меня ж / из 5-го вышибли класса. / Пошли швырять в московские тюрьмы» («Люблю», главы «Мой университет» и «Юношей»). С таким багажом было легче «бросать» Пушкина и прочих с парохода современности.
В 1922 году Маяковский написал автобиографию «Я сам», а в 1928 году дополнил ее. В очень коротких юмористических главках рассказана почти вся его жизнь. Третья главка – «Главное»: «Родился 7 июля 1894 года (или 93 – мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше). Родина – село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия».
Мнение послужного списка оказалось точнее. Будущий певец «адища города» родился 7 (19) июля 1893 года в глухой провинции Российской империи в семье лесничего. Отца Маяковский потерял в тринадцать лет. Владимир Константинович умер внезапно и нелепо: после укола булавкой у него началось заражение крови. Психологическая травма осталась у сына на всю жизнь. Он опасался инфекции: всегда возил с собой пластмассовый индивидуальный стакан, избегал рукопожатий, тщательно протирал платком дверные ручки и другие предметы, к которым надо было прикоснуться.
В гимназию Маяковский поступал в Кутаиси. «Священник спросил – что такое „око“. Я ответил: „Три фунта“ (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что „око“ – это „глаз“ по-древнему, церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу – все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм» («Я сам», «Экзамен»). Слово «ненависть» часто повторяется в автобиографии: и в прозе поэт демонстрирует контрастность, предельность чувств.
Там же, в Кутаиси, начинается революционная деятельность Маяковского: он читает нелегальную литературу, посещает марксистский кружок, во время революции 1905 года участвует в митингах, считая себя социал-демократом.
После смерти отца семья переезжает в Москву, бедствует («С едами плохо. Пенсия – 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды»). Но революционная работа оказывается привлекательнее учебы: «Перевелся в 4-й класс пятой гимназии. Единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под партой „Анти-Дюринг“ (знаменитая философская работа Ф. Энгельса. —И. С.)».
В 1908 году Маяковский вступает в РСДРП, большевистскую партию, ведет партийную работу под псевдонимом «товарищ Константин». В том же году его впервые ненадолго арестовывают, потом – еще раз. А третий арест оказывается уже продолжительным: более шести месяцев тюрьмы.
Только в тюрьме Маяковский по-настоящему познакомился с современной литературой. «После трех лет теории и практики – бросился на беллетристику. Перечел все новейшее. Символисты – Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось так же про другое – нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво».
В этой же главке, «11 бутырских месяцев» (срок, проведенный в Бутырках, преувеличен), Маяковский не упускает возможности еще раз уколоть литературу старую, классическую: «Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга – „Анна Каренина“. Не дочитал. Ночью вызвали „с вещами по городу“. Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась».
После тюрьмы Маяковский отходит от революционной работы, признаваясь товарищу, что хочет «делать социалистическое искусство». Однако эти мечты осуществились лишь через десятилетие.
«Я прервал партийную работу. Я сел учиться». В Училище живописи, зодчества и ваяния, куда поступил Маяковский, появился новый студент, Давид Бурлюк. Маяковский вспоминает одну «памятнейшую ночь», когда они сбежали от скуки с концерта Рахманинова. «У Давида – гнев обогнавшего современников мастера, у меня – пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм» («Я сам», «Памятнейшая ночь»).
Маяковский, конечно, сознательно совмещает рождение направления и рождение себя как поэта. «Днем у меня вышло стихотворение. Вернее – куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю – это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: „Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!“ Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом» («Я сам», «Следующая»).
С этого времени эстетика надолго отодвинула в сторону политику. На смену социализму Маяковского пришел футуризм.
Младенец, как известно, с самого начала оказался смелым и крикливым. Поддерживаемый похвалами и деньгами друга («Бурлюк сделал меня поэтом. <…> Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая») Маяковский пишет несколько десятков стихотворений, находит себе новых друзей и – после «Пощечины общественному вкусу» (1912) – начинает гастрольно-поэтическую деятельность. Тогда и появляется знаменитый, раздражающий противников, знак нового искусства – желтая кофта.
«Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы – гнуснейшего вида. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке – галстук. Очевидно – увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое» («Я сам», «Желтая кофта»).
В 1913 году компания кубофутуристов-гилейцев (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Каменский) проводит огромное турне по всей России с изложением футуристической теории и чтением стихов. Успех этого предприятия был огромный, но преимущественно скандальный. Поведение футуристов заслоняло их творчество. «Вчера на Сумской улице творилось нечто сверхъестественное: громадная толпа запрудила улицу. Что случилось? Пожар? Нет. Это среди гуляющей публики появились знаменитые вожди футуризма – Бурлюк, Каменский, Маяковский, – описывал события харьковский репортер. – Все трое в цилиндрах, из-под пальто видны желтые кофты, в петлицах воткнуты пучки редиски. Их далеко заметно: они на голову выше толпы и разгуливают важно, серьезно, несмотря на веселое настроение окружающих. <…> Сегодня в зале Общественной библиотеки первое выступление футуристов. <…> Харьковцы ждут очередного „скандала”».
Естественно, и само выступление изображалось в сходных тонах: собравшиеся понимали стихи как провокацию, абсурд, нарушение разнообразных запретов. «Верзила Маяковский в желтой кофте, размахивая кулаками, зычным голосом „гения“ убеждал малолетнюю аудиторию, что он подстрижет под гребенку весь мир, и в доказательство читал свою поэзию: „парикмахер, причешите мне уши“. Очевидно, длинные уши ему мешают», – иронизировал харьковский корреспондент, дождавшийся ожидаемого скандала.
«Для комнатного жителя той эпохи Маяковский был уличным происшествием. Он не доходил в виде книги. Его стихи были явлением иного порядка», – отметил позднее Ю. Н. Тынянов («О Маяковском», 1930).
В конце 1913-го, как говорил сам Маяковский, «веселого года» в Петербурге состоялась премьера «трагедии» «Владимир Маяковский», поставленной режиссером-экспериментатором В. Э. Мейерхольдом (1874–1940). В списке действующих лиц значились «Старик с черными сухими кошками», «Человек без головы» и «Человек с двумя поцелуями». Главный персонаж – «Владимир Маяковский (поэт 20–25 лет) – начинал свою исповедь уже в прологе:
Вам ли понять, почему я, спокойный, насмешек грозою душу на блюде несу к обеду идущих лет. С небритой щеки площадей стекая ненужной слезою, я, быть может, последний поэт.Мотивы одиночества, вселенской боли, самоубийства отчетливо звучат в этой необычной лирической трагедии, героем которой, в сущности, является один человек.
Главную роль в спектакле исполнил сам Маяковский. «Просвистели ее до дырок», – иронически определял он провал постановки. Однако позднее другой поэт, Б. Л. Пастернак, проницательно увидел в трагедии важное свойство всего творчества Маяковского: «Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья».
Уже с первых шагов Маяковский всей совокупностью своих стихов начинает выстраивать образ лирического героя, имеющего то же имя, Владимир Маяковский, с небывалой ранее подробностью вводит в лирику свои реальные адреса, фамилии родных, друзей, литературных противников. Он обустраивает художественный мир как собственный дом. Особое место в нем занимает образ женщины, героини, любимой.
ЛЮБ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
В автобиографии «Я сам» есть главка «Радостнейшая дата», состоящая из одной строки: «Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками». Это знакомство сыграло в дальнейшей судьбе Маяковского, пожалуй, даже большую роль, чем общение с Д. Бурлюком и другими футуристами.
В 1914–1915 годах, на фоне начавшейся мировой войны, драматических личных переживаний, Маяковский пишет поэму «Облако в штанах», главную вещь футуристического периода, которая, на много лет, если не навсегда, стала его визитной карточкой. В ней уже окончательно сложились особенности поэтики Маяковского (система стиха, язык и тропы, образ лирического героя). Поэма синтезировала главные темы и мотивы Маяковского, характерный для футуризма пафос борьбы, отрицания, разрушения. В предисловии ко второму изданию (1918) Маяковский назовет поэму «катехизисом сегодняшнего искусства» и определит ее смысл так: «Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» – четыре крика четырех частей.
Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжиревший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердца лоскут; досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней! Мир огромив мощью голоса, иду – красивый, двадцатидвухлетний.<…>
Хотите — буду от мяса бешеный – и, как небо, меняя тона — хотите — буду безукоризненно нежный, не мужчина, а – облако в штанах!Иронически-вызывающее заглавие «Облако в штанах» появилось вместо запрещенного цензурой вызывающе-кощунственного «Тринадцатый апостол». Отрицая вашу религию, поэт претендовал на статус еще одного ученика Христа, провозвестника новой веры, представляющегося то искусителем Бога, то богоборцем.
– Послушайте, господин бог! Как вам не скушно в облачный кисель ежедневно обмакивать раздобревшие глаза? Давайте – знаете — устроимте карусель на дереве изучения добра и зла!<…>
Я думал – ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты! Жмитесь в раю! Ерошьте перышки в испуганной тряске! Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски!Но главной темой, главным криком поэмы был вопль о неразделенной любви. Простая история девушки, которая с опозданием приходит на свидание и сообщает, что выходит замуж за другого, превращается в поэме в грандиозное, космическое событие, в котором участвуют Бог, ангелы, человеческие толпы, терпящие крушение пароходы, тушащие «пожар сердца» пожарные.
И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая — большая или крошечная?<…>
Всемогущий, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова, — отчего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать?!Еще до публикации Маяковский привычно читал поэму в разных аудиториях. Одно из таких чтений стало переломным в его судьбе.
«Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме. Из внутреннего кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался. Потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию, прочел пролог и спросил – не стихами, прозой – негромким, с тех пор незабываемым голосом:
– Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе.
Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда.
Маяковский ни разу не переменил позы. Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы между частями».
Когда чтение было окончено, один из слушателей (О. М. Брик) назвал Маяковского «величайшим поэтом, даже если ничего больше не напишет». А сам поэт, никак не реагируя на похвалы, сделал странный жест. «Маяковский взял тетрадь из рук Осипа Максимовича, положил ее на стол, раскрыл на первой странице, спросил: „Можно посвятить вам?“ – и старательно вывел над заглавием: „Лиле Юрьевне Брик”» (Л. Ю. Брик «Из воспоминаний»).
Маяковский переживает свой солнечный удар. Мольба о любви в «Облаке в штанах» («Образ женщины был собирательный; имя Мария оставлено им как казавшееся ему наиболее женственным») вдруг нашла конкретного адресата.
Позднее Маяковский и Брик обмениваются перстнями-печатками. На внутренней стороне ее перстня Маяковский выгравировал инициалы ЛЮБ, которые при чтении по кругу превращались в слово ЛЮБЛЮ.
С этого времени практически все лирические стихи он посвящает одной женщине. Поэма «Люблю» (ноябрь 1921 – февраль 1922) была написана во время двухмесячного расставания по ее инициативе. «Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи», – вспоминает одна из современниц реплику Л. Ю. Брик. Ее фотография появляется на обложке поэмы «Про это» (1923).
Блоковское служение Прекрасной Даме кажется не таким уж ревностным на фоне безмерного, безумного обожания Маяковским реальной женщины. Он удовлетворяет все ее желания и капризы, рассказывает о ней всем влюбленным в него и симпатизирующим ему женщинам. В отношениях с Л. Ю. Брик знаменитый поэт, укрощавший огромные аудитории, превращался в робкого, нервного, стеснительного мальчишку.
«Помню, как-то Маяковский пришел в „Привал комедиантов“ с Лилей Брик. Она ушла с ним. Потом Маяковский вернулся, торопясь.
– Она забыла сумочку, – сказал он, отыскав маленькую черную сумочку на стуле.
Через столик сидела Лариса Михайловна Рейснер, молодая, красивая. Она посмотрела на Маяковского печально.
– Вы вот нашли свою сумочку и будете теперь ее таскать за человеком всю жизнь.
– Я, Лариса Михайловна, – ответил поэт (а может быть, он сказал Лариса), – эту сумочку могу в зубах носить. В любви обиды нет» (В. Б. Шкловский «Жили-были», 1962).
Но это была странная любовь, заставляющая вспомнить, с одной стороны, о воззрениях «новых людей» 1860-х годов, отрицавших ревность как устаревшее «собственническое» чувство (роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» был последней книгой, которую читал Маяковский), а с другой – об экспериментах 1920-х годов, когда традиционная семья рассматривалась как «пошлость», «обывательщина», «буржуазный предрассудок».
Л. Ю. Брик была обвенчана с О. М. Бриком. Ко времени знакомства с Маяковским брак стал чистой формальностью, хотя бывшие супруги продолжали жить вместе. Брик тоже полюбил стихи Маяковского, подружился с поэтом, помог в издании «Облака в штанах» и не собирался расставаться ни с бывшей женой, ни с ее новым любимым. Так возник «тройственный союз», просуществовавший до самой смерти поэта. На дверях квартир, которые они снимали, обычно висела заказанная Маяковским медная табличка: «БРИК МАЯКОВСКИЙ».
Свою версию этих отношений Л. Ю. Брик представила в предисловии к публикации писем к ней Маяковского: «Осип Максимович был моим первым мужем. Я встретилась с ним, когда мне было 13 лет. Обвенчались в 1912 году. Когда я сказала ему о том, что Маяковский и я полюбили друг друга, все мы решили никогда не расставаться. Маяковский и Брик были тогда уже близкими друзьями, людьми, связанными друг с другом близостью идейных интересов и совместной литературной работой. Так и случилось, что мы прожили нашу жизнь, и духовно, и большей частью территориально, вместе».
Современница, наблюдавшая эту жизнь вблизи, так определила распределение ролей в любовном треугольнике. «Трагедия двух людей из того „треугольника“, который Маяковский называл своей семьей, заключалась в том, что Лиля любила Осипа Максимовича. Он же не любил ее, а Володя любил Лилю, которая не могла любить никого, кроме Оси. Всю жизнь, с тринадцати лет, она любила человека, равнодушного к ней» (Г. Д. Катанян. «Азорские острова»).
Через много лет актриса Ф. Г. Раневская рассказала о своей встрече с Л. Ю. Брик: «Вчера была Лиля Брик, принесла „Избранное“ Маяковского и его любительскую фотографию. <…> Говорила о своей любви к покойному… Брику. И сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю. Я спросила: „Отказались бы и от Маяковского?“ Она не задумываясь ответила: „Да, отказалась бы и от Маяковского, мне надо было быть только с Осей“. Бедный, она не очень его любила… <…> Мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому. И даже физически заболело сердце».
Сюжет этих взаимоотношений очень напоминает историю влюбленного Тургенева и снисходительно-равнодушной Полины Виардо, которая «его, Тургенева, не столько любила, сколько допускала жить в своем доме…» (В. Б. Шкловский)
Л. Ю. Брик понимала, с кем имеет дело, внимательно следила за тем, чтобы оставаться в жизни Маяковского единственной женщиной-вдохновительницей. А он мучился и писал хорошие стихи.
А там, где тундрой мир вылинял, где с северным ветром ведет река торги, — на цепь нацарапаю имя Лилино и цепь исцелую во мраке каторги. («Флейта-позвоночник», 1915)Без Маяковского Л. Ю. Брик проживет еще несколько жизней. Она будет признана одной из наследниц Маяковского, станет публиковать его стихи и письма. К ней приходили влюбленные в Маяковского молодые поэты. Она дружила с известными писателями, композиторами, режиссерами. В 1978 году, получив обычную старческую травму, она покончит с собой, приняв огромную дозу снотворного.
Могилы ЛЮБ не существует: она просила развеять ее прах в подмосковном поле.
СОЦИАЛИЗМ: КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Реакция Маяковского на Октябрьскую революцию однозначна: «Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось».
Футуризм с его пафосом разрушения воспринимался теперь как эстетическое предсказание революции. Больше, чем лирическими поэмами, Маяковский гордился «любимейшим стихом», частушкой, которую будто бы (кто это мог проверить?) пели матросы, шедшие на штурм Зимнего дворца: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, / день твой последний приходит, буржуй».
Сразу после взятия Зимнего и установления советской власти Маяковский пишет «Наш марш» (1917):
Бейте в площади бунтов топот! Выше, гордых голов гряда! Мы разливом второго потопа перемоем миров города.Только что совершившееся на глазах современников событие, перспективы и последствия которого еще не ясны, воспринимается Маяковским в ореоле библейских ассоциаций, как переломная дата, рубеж мировой истории.
Здесь Маяковский совпадает с Блоком. Но в отличие от автора «Двенадцати», с их сложной позицией и неоднозначной символикой (красногвардейцы-апостолы-разбойники; Христос возглавляющий шествие или убегающий от преследования), и новый строй, и ближайшее будущее Маяковский видит в светлых, радостных тонах. Футурист-будетлянин оправдывает свое прозвище: он не скептик, а оптимист.
К первой годовщине Октября Маяковский сочиняет, а режиссер В. Э. Мейерхольд, тоже всецело перешедший на сторону революции, ставит пьесу «Мистерия-буфф» (1918, вторая редакция – 1920–1921). Это была революционная комедия, использующая знакомую массам религиозную символику.
Местом действия мистерии, театрального представления на библейские сюжеты, сочетающего патетические, серьезные и комические сцены, оказались вся вселенная, ковчег, ад, рай и земля обетованная. Сюжет ее строился на совместном путешествии в ковчеге бежавших от «второго», революционного, потопа семи пар чистых (российский спекулянт, немец, поп, дипломат и пр.) и семи пар нечистых (красноармеец, прачка, эскимос-рыбак и пр.) героев. Нечистые, естественно, раскрывают социальный обман чистых, устраивают революцию и устанавливают советскую власть. Но в конце пьесы, в отличие от разрушенной войной и революциями России 1918 года, они видят огромный и прекрасный Град Социализма и поют «Интернационал» в новой футуристской редакции.
Труда громадой миллионной тюрьму старья разбили мы. Проклятьем рабства заклейменный, освобожден сегодня мир. Насилья гнет развеян пылью, разбит и взорван, а теперь коммуна-сказка стала былью. Для всех коммуны настежь дверь. Этот гимн наш победный, вся вселенная, пой! С Интернационалом воспрянул род людской.Позднее, подводя итоги в «первом вступлении в поэму» «Во весь голос» (1930), Маяковский признавался:
Я, ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный, ушел на фронт из барских садоводств поэзии — бабы капризной.Действительно, Маяковский откладывает в сторону собственные замыслы, «приравнивает» перо к штыку и, выполняя социальный заказ, делает поэзию способом утверждения и прославления новой власти. Формально не восстановившись в большевистской партии («Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань»), Маяковский, в сущности, оказывается главным партийным, советским поэтом, пытающимся соединить большевистское прошлое, футуристскую новизну и служение социалистическому искусству.
В годы Гражданской войны он работает в РОСТА (Российском телеграфном агентстве): рисует плакаты и сочиняет к ним стихотворные надписи, лозунги и частушки. Он пишет «Советскую азбуку» (1919), где освоение грамоты сочетается с политграмотой, разъяснением политики советской власти, разоблачением капиталистов, смехом над поверженными противниками: «Большевики буржуев ищут / Буржуи мчатся верст за тыщу»; «Деникин было взял Воронеж. / Дяденька, брось, а то уронишь»; «Корове трудно бегать быстро. / Керенский был премьер-министром».
Позднее он сочиняет рекламу о чем угодно, лозунги и призывы к чему угодно: рекламирует галоши, соски, чай, и советские магазины («Нигде кроме, / Как в Моссельпроме»), призывает соблюдать технику безопасности и мыть руки перед едой («Товарищи, /мылом и водой / мойте руки / перед едой»).
Он публикует в газетах «агитстихи» ко всем советским праздникам, активно откликается на текущие политические события. Он возобновляет гастрольную деятельность, выступая с докладами и чтением стихов по всему СССР. Он организует ЛЕФ (левый фронт искусств), редактирует одноименный журнал, в котором публикуются многочисленные полемические статьи, его стихи, произведения других авторов (ЛЕФ, к примеру, открыл И. Э. Бабеля). Он участвует в многочисленных литературных и общественных дискуссиях, призывая то разрешить, то запретить пьесы Булгакова.
Вот его отчет о творческой деятельности за 1926 год: «Пишу в „Известиях“, „Труде“, „Рабочей Москве“, „Заре Востока“, „Бакинском рабочем“ и других. Вторая работа – продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д., и т. д., и т. д.» («Я сам»).
Вершиной этой политико-поэтической деятельности стали две поэмы: «Владимир Ильич Ленин» (1924), написанная после смерти первого советского вождя, и «Хорошо!» (1927), созданная к десятилетию Октябрьской революции.
Послеоктябрьская поэзия и позиция Маяковского вызывали самую разнообразную реакцию. Новая власть вовсе не единодушно приветствовала добровольного союзника и возглавляемый им фронт левого искусства. Маяковского ценили нарком просвещения А. В. Луначарский, «малые вожди» Н. И. Бухарин и Л. Д. Троцкий (который парадоксально утверждал, что не революционные стихи и поэмы, не сатира, а «Облако в штанах, «поэма невоплощенной любви, есть художественно наиболее значительное, творчески наиболее смелое и обобщающее произведение Маяковского»).
Но главный вождь, В. И. Ленин, которому Маяковский вскоре посвятит поэму, явно предпочитал отвергаемых футуристами классиков, мимоходом одобрил стихотворение «Прозаседавшиеся» (1922), а по поводу «агитпоэмы» «150 000 000» написал А. В. Луначарскому, который выступал за ее издание большим тиражом: «Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и чудаков. А Луначарского сечь за футуризм» (6 мая 1921 г.).
Похожей была ситуация и среди коллег-литераторов. Маяковский имел множество почитателей и подражателей. Над неумелыми «агитстихами» он часто сам смеялся в прозе, стихах, публичных выступлениях. Но его общественный пафос, его отрицание «лирического вздора», вызывало недоумение и неприятие даже у соратников.
Б. Л. Пастернак в юности входил в футуристскую группу «Центрифуга» (1913–1917). Но 1917 год он встретил книгой любовной и пейзажной лирики «Сестра моя – жизнь». Маяковскому она была подарена с такой надписью:
Вы заняты нашим балансом, Трагедией ВСНХ, Вы, певший Летучим голландцем Над краем любого стиха! Я знаю, ваш путь неподделен, Но как вас могло занести Под своды таких богаделен На искреннем вашем пути? («Маяковскому», 1922)Чуть позднее Сергей Есенин огрызнулся на упреки Маяковского в «Юбилейном» («Ну Есенин, / мужиковствующих свора. / Смех! / Коровою / в перчатках лаечных. / Раз послушаешь… / но это ведь из хора! / Балалаечник!).
Мне мил стихов российский жар. Есть Маяковский, есть и кроме, Но он, их главный штабс-маляр, Поет о пробках в Моссельпроме. («На Кавказе», сентябрь 1924)Маяковский, продолжая давний спор, отвечает на подобные упреки в поэме «Во весь голос» (1930).
И мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас — доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне.Политическая, агитационная поэзия Маяковского в двадцатые годы оказалась уникальным явлением. «Он дал этой власти дар речи. Не старая улица, а новая власть так бы и корчилась безъязыкая, не будь у нее Маяковского», – писал позднее критик, резко не принимавший подобную поэзию и сыгранную поэтом общественную роль. Но он сразу же вынужден был признать: «С ним, еще долго об этом не зная, она [власть] получила в свое владение именно то, чего ей не хватало: величайшего мастера словесной поверхности, гения словесной формулы. „Точка пули“, „хрестоматийный глянец“, „наступал на горло“, „о времени и о себе“… Это ведь в языке останется, хотим мы того или нет» (Ю. А. Карабчиевский «Воскресение Маяковского»).
Но даже в рассчитанных на прикладную задачу, прямолинейных текстах появлялись главы, фрагменты, «куски», поражавшие самых искушенных мастеров, совершенно далеких от идеологии Маяковского.
Хлопнув дверью, сухой, как рапорт, из штаба опустевшего вышел он. Глядя на ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске. Город бросили. На молу — голо. Лодка шестивесельная стоит у мола. И над белым тленом, как от пули падающий, на оба колена упал главнокомандующий. Трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестил. Под пули в лодку прыгнул… – Ваше превосходительство, грести? – Грести! («Хорошо!», гл. 16)М. И. Цветаева, прославившая белое движение в книге «Лебединый стан», после революции оказавшаяся в эмиграции с мужем-офицером, увидела в «октябрьской поэме» «Хорошо!» не грубую «агитку», вышедшую из противоположного лагеря, а подлинный эпос: «Вспомним… гениальные строки о последнем Врангеле, встающем и остающемся как последнее видение Добровольчества над последним Крымом, Врангеле, только Маяковским данном в росте его нечеловеческой беды, Врангеле в рост трагедии» («Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак», 1932).
Маяковскому, следовательно, удавалась не только трагедия ВСНХ!
Такими же замечательными сценами оказываются свидание с Блоком на фоне тонущего ночного Петербурга и сцены стихийного «русского бунта», явно напоминающие о «Двенадцати» (гл. 7), история жизни семьи Маяковского («Четверо в помещении – Лиля, Ося, я и собака Щеник») во время Гражданской войны (гл. 13–14).
Присяга красному знамени не мешала поэту писать хорошие стихи. Но новый образ лирического героя, «ассенизатора и водовоза, революцией мобилизованного и призванного», оказался тоже чреват трагедией.
ФИНАЛ: ТОЧКА ПУЛИ
Все чаще думаю — не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт. («Флейта-позвоночник», 1915)Эти стихи написаны «красивым, двадцатидвухлетним». Мотив самоубийства часто появляется в ранних стихах Маяковского. Но вставший под красное знамя поэт революции, славящий коммуну из стали и света, преисполненный оптимизма, резко меняет точку зрения.
В 1926 году покончил с собой Сергей Есенин. В статье «Как делать стихи?» (1926) Маяковский вспоминал: «Утром газеты принесли предсмертные строки:
В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей.После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.
Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно – стих, подведет под петлю и револьвер.
И никакими, никакими газетными анализами и статьями этот стих не аннулируешь.
С этим стихом можно и надо бороться стихом, и только стихом.
Так поэтам СССР был дан социальный заказ написать стихи об Есенине».
Смысловым итогом стихотворения «Сергею Есенину» (1926) являются финальные строки, прямо полемизирующие с есенинскими:
Для веселия планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней.Наставительность и патетика в этом стихотворении сочетались с иронией, Маяковский пытается предостеречь «колеблющихся» от повторения есенинского поступка, но одновременно отказывается давать определенный ответ о его причинах.
Почему? Зачем? Недоуменье смяло. Критики бормочут: – Этому вина то… да сё… а главное, что смычки мало, в результате много пива и вина. — Дескать, заменить бы вам богему классом, класс влиял на вас, и было б не до драк.Для Маяковского какие-то личные, тайные, трудноопределимые мотивы самоубийства оказываются важнее, чем очевидное социальное или бытовое объяснение: здесь поэт понимает поэта:
Не откроют нам причин потери ни петля, ни ножик перочинный. Может, окажись чернила в «Англетере», вены резать не было б причины. Подражатели обрадовались: бис! Над собою чуть не взвод расправу учинил. Почему же увеличивать число самоубийств? Лучше увеличь изготовление чернил! Навсегда теперь язык в зубах затворится. Тяжело и неуместно разводить мистерии. У народа, у языкотворца, умер звонкий забулдыга подмастерье.Через три с половиной года, 14 апреля 1930-го, Маяковский выстрелил в себя в рабочей комнате на Лубянке. Это самоубийство казалось еще более поразительным и загадочным, чем есенинское.
«Не верили, – считали – бредни, / Но узнавали от двоих, / Троих, от всех», – начинает Б. Л. Пастернак стихотворение, по-лермонтовски названное «Смерть поэта» (1930). И предлагает собственное объяснение, перефразируя ранние стихи Маяковского:
Ты спал, постлав постель на сплетне, Спал и, оттрепетав, был тих, Красивый, двадцатидвухлетний, Как предсказал твой тетраптих.Последние стихи Есенина были написаны за два дня до смерти взятой из вены собственной кровью. Маяковский оставил короткое письмо, тоже написанное за два дня до гибели:
«Всем.
В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.
Мама, сестры и товарищи, простите – это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.
Лиля – люби меня.
Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.
Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.
Как говорят — «инцидент исперчен», любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид.Счастливо оставаться.
Владимир М а я к о в с к и й.
12/IV-30 г.»
Далее следовали две короткие приписки: о критике, с которым поэт «не доругался», о налоге, который надо заплатить, получив деньги в издательстве.
«Но бывает – / жизнь / встает в другом разрезе, / и большое / понимаешь / через ерунду», – писал Маяковский в посвященном Пушкину «Юбилейном» (1924).
Читавших завещание Маяковского поражало сочетание «большого» и «ерунды»: принимающий страшное решение человек, думает о каких-то мелочах: налогах, критике.
Биографы Маяковского находят много причин, которые оказывали влияние на настроение Маяковского, могли подтолкнуть его к трагическому шагу.
Чтобы быть «ближе к пролетариату», Маяковский покинул ЛЕФ и перешел в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей). После этого многие старые друзья порвали с ним. На устроенную поэтом выставку-отчет «Двадцать лет работы» пришла только молодежь: прежние соратники и официальные лица отсутствовали.
Из уже подготовленного к печати номера журнала «Печать и революция» был вырезан портрет с подписью, в которой Маяковский назывался «великим революционным поэтом, замечательным революционером поэтического искусства».
Поставленная в театре имени Мейерхольда пьеса «Баня» (1930) провалилась. «Надо прямо сказать, что пьеса вышла плохая и поставлена она у Мейерхольда напрасно», – писала газета «Комсомольская правда», в которой много лет сотрудничал Маяковский.
Поэт чувствует, что начинает терять голос, поэтому определившийся еще с футуристической юности способ его общения с публикой оказывается под вопросом. Как и Блок, во время последних выступлений он сталкивается с откровенной грубостью и насмешками, на которые уже не имеет сил ответить остроумно. «„Маяковский, из истории известно, что все хорошие поэты скверно кончали: или их убивали или они сами… Когда же вы застрелитесь?“ – „Если дураки будут часто спрашивать об этом, то лучше уж застрелиться…”» (Л. А. Кассиль «Маяковский – сам»)
Но все эти причины и мотивы отсутствуют в письме «Всем». Главной там оказывается строчка: «Любовная лодка разбилась о быт».
В конце двадцатых годов личная жизнь Маяковского оказывается совершенно запутанной, еще более странной, чем раньше. По-прежнему отрицая «буржуазные предрассудки», существуя в вызывающем сплетни «треугольнике» (отсюда в письме: «пожалуйста, не сплетничайте»), он чувствует исчерпанность прежних отношений: «.. вот и любви пришел каюк, / дорогой Владим Владимыч» («Юбилейное»).
В это время Маяковский, наверное, хорошо понял бы другого поэта: «Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Il n’est de bonheur que dans les voies communes. (Счастье можно найти лишь на проторенных путях – франц.) Мне за 30 лет. <…> Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей (Пушкин – Н. И. Кривцову, 10 февраля 1931 г.).
В 1925 году во время американской поездки у Маяковского начинается роман с американкой русского происхождения Элли Джонс (Елизаветой Зибер). Через три года, в октябре 1928-го, он встречается в Ницце с ней и своей трехлетней дочерью Патрицией. (Только через много лет американский профессор психологии откроет тайну своего рождения и приедет в Россию. Стихи Маяковского его дочь могла читать только в переводе.)
Но, вернувшись после этого свидания в Париж, Маяковский влюбляется и впервые за много лет пишет стихи, посвященные другой женщине. «Письмо Татьяне Яковлевой» (1928) заканчивается предложением и предсказанием:
Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся и зимуй, и это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем.Но эта любовь тоже закончилась драматически: Маяковский не получил французскую визу, Татьяна Яковлева вышла замуж и через много лет тоже оказалась в Америке. Стихи, ей посвященные, стали известны читателям лишь через тридцать лет (1956).
Последним шансом, последней попыткой починить любовную лодку стали для Маяковского отношения с актрисой Художественного театра Вероникой Витольдовной Полонской. Выстрел 14 апреля раздался сразу после долгого, мучительного разговора с ней. Брики в это время были в Англии.
Может быть, лучше всего объясняют трагедию Маяковского слова писателя, роман которого он хорошо знал и читал незадолго до гибели. 5 ноября 1856 года Н. Г. Чернышевский признавался Некрасову: «Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни – потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе и истинная радость для каждого из нас. Это я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы – не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами, – я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли…»
«Разумный эгоист» постиг глубокую истину: убеждениями нельзя вылечить душевные травмы.
Мировые вопросы и личные мотивы сплелись в последние годы жизни Маяковского в клубок, распутать который было невозможно. Его любили многие, но спасти мог только один человек. «Товарищ правительство» решило вопрос наследства, но у него не было возможностей выполнить просьбу: «Лиля – люби меня».
В отличие от В. В. Полонской Л. Ю. Брик наряду с матерью и сестрами была признана членом семьи Маяковского. В 1935 году благодаря ее хлопотам появляется резолюция И. В. Сталина, «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление».
Дальнейшую судьбу поэта афористически описал Б. Л. Пастернак: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен» («Люди и положения», 1956).
Однако, вопреки идеологическим и эстетическим различиям, лучшие писатели серебряного века увидели в Маяковском родственника, приняли его в свою семью.
Все, чего касался ты, казалось Не таким, как было до тех пор, То, что разрушал ты, – разрушалось, В каждом слове бился приговор. Одинок и часто недоволен, С нетерпеньем торопил судьбу, Знал, что скоро выйдешь весел, волен На свою великую борьбу. (А. А. Ахматова «Маяковский в 1913 году», 1940) Превыше крестов и труб, Крещенный в огне и дыме, Архангел-тяжелоступ — Здорово, в веках Владимир! (М. И. Цветаева. «Маяковскому»,18 сентября 1921)ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Маяковского
КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ: ФОРМУЛА КРИКА
Маяковский подписывал первые футуристские манифесты, в которых провозглашалась идея слова как такового. Он даже предпринимал собственные критические изыскания в этом направлении. В парадоксальной статье «Два Чехова» (1914) утверждалось, что писатель, вопреки общепринятым представлениям, был настоящим футуристом: «Мне… хочется приветствовать его достойно, как одного из династии Королей Слова. <…> Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои – безразлично. Идей, сюжетов – нет. Каждый безымянный факт можно опутать изумительной словесной вязью. <…> Все произведения Чехова – это решение только словесных задач».
Однако в поэтической практике Маяковский, в отличие от Хлебникова и Крученых, не использовал заумную речь, заумь. Его объединяет с радикальными будетлянами лишь внимание к словесной фактуре, постоянные стилистические эксперименты. Но стиховое и языковое новаторство Маяковского тоже опирается на традиции, правда порядком позабытые в начале двадцатого века.
Чуткие современники, не только читавшие, но и слушавшие стихи Маяковского, не сговариваясь, отмечали важное свойство его поэзии.
«Маяковский бил с кафедры ором и желтою кофтою в лоб», – вспоминает Андрей Белый («Начало века», 1933).
«Маяковский ничего не боялся, стоял и орал, и чем громче орал – тем больше народу слушало, чем больше народу слушало, тем громче орал – пока не доорался до „Войны и мира“ и многотысячной аудитории Политехнического музея – а затем и до 150-миллионной площади всея России. (Как про певца – выпелся, так про Маяковского: выорался.)», – словно подхватывает М. И. Цветаева, выводя из гиперболы более строгое определение: первый русский поэт-оратор» («Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак»).
Мотив крика найден поэтами-критиками у самого Маяковского. «Я вышел на площадь, / выжженный квартал / надел на голову, как рыжий парик. / Людям страшно – у меня изо рта / шевелит ногами непрожеванный крик» («А все-таки», 1914). – «Знаете что, скрипка? / Мы ужасно похожи: / я вот тоже / ору – / а доказать ничего не умею!» («Скрипка и немножко нервно», 1914). «Мой крик в граните времени выбит, / и будет греметь и гремит…» («Я и Наполеон», 1915). Поэму «Облако в штанах» (1915), как мы помним, поэт тоже определял как «четыре крика четырех частей».
Историко-литературное объяснение этого свойства поэзии Маяковского дал филолог и писатель Ю. Н. Тынянов. «Маяковский сродни Державину. Геологические сдвиги XVIII века ближе к нам, чем спокойная эволюция XIX века. <…> Маяковский возобновил грандиозный образ, где-то утерянный со времен Державина. Как и Державин, он знал, что секрет грандиозного образа не в „высокости“, а только в крайности связываемых планов – высокого и низкого, в том, что в XVIII веке называли „близостью слов неравно высоких“, а также „сопряжением далековатых идей“.
Его митинговый, криковой стих, рассчитанный на площадный резонанс (как стих Державина был построен с расчетом на резонанс дворцовых зал), был не сродни стиху XIX века; этот стих породил особую систему стихового смысла» («Промежуток», 1924).
Маяковского объединяет с Державиным и другими поэтами XVIII века жанровая традиция и стиховая интонация.
Восемнадцатый век был веком оды с характерными для этого жанра высоким стилем и ораторской интонацией, рассчитанной на произнесение вслух, на «резонанс дворцовых зал». Маяковский подхватывает эту старую традицию, но действительно как будто выходит на площадь, поет песни (буквальный перевод греческого слова «ода») революции («Ода революции», 1918) и сатирические гимны («Гимн судье», «Гимн ученому», «Гимн критику» – все 1915), отдает «Приказы по армии искусств» (1918, 1921), чеканит «Наш марш» (1917), «Левый марш» (1918), «Урожайный марш (1929).
Ораторская интонация оды проявляется даже в самых интимных, самых личных стихах Маяковского: эмоциональные восклицательные и вопросительные знаки гораздо естественнее для поэта, чем спокойная точка. Его стих, как правило, рассчитан на громкое произнесение, обращен к большой аудитории, массе, толпе. «Послушайте! / Ведь, если звезды зажигают – / значит – это кому-нибудь нужно? («Послушайте!», 1914). – «Бросьте! / Конечно, это не смерть. / Чего ей ради ходить по крепости? / Как вам не стыдно верить / нелепости?!» (Великолепные нелепости, 1915). – «Эй! / Россия, / нельзя ли / чего поновее?» («Эй!», 1916).
Даже с любимой женщиной поэт говорит с интонацией не шепота, но – крика.
Нет. Это неправда. Нет! И ты? Любимая, за что, за что же?! Хорошо — я ходил, я дарил цветы, я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!<…>
Любовь! Только в моем воспаленном мозгу была ты! Глупой комедии остановите ход! Смотрите — срываю игрушки-латы я, величайший Дон-Кихот! («Ко всему», 1916)Своеобразие лирики Маяковского в том, что ораторскую интонацию он делает универсальной, применяет ее и к темам, которые были обычными для элегии и послания. Маяковский громко говорит о том, о чем было принято говорить тихо. «Речь Маяковского есть громкая, устная, публичная речь. Ее естественное поприще – трибуна, эстрада, площадь. Но в то же время – это речь фамильярная, и именно это сочетание фамильярности и публичности придает языку Маяковского его специфичность и своеобразие», – замечал лингвист Г. О. Винокур («Маяковский – новатор языка», 1943).
В поисках формулы крика Маяковский ломает привычную ритмическую структуру стиха. Ода – от Ломоносова до Державина, – как правило, писалась одним и тем же размером и строфой (десятистишие четырехстопного ямба так и называли – одическая строфа). В статье «Как делать стихи?» Маяковский, как и положено футуристу-разрушителю заявляет: «Говорю честно. Я не знаю ни ямбов, ни хореев, никогда не различал их и различать не буду. Не потому, что это трудное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с этими штуками не приходилось иметь дело».
Это задиристая шутка. Прочитаем тот же текст страницей выше: «Безнадежно складывать в 4-стопный амфибрахий, придуманный для шепотка, распирающий грохот революции!
Герои, скитальцы морей, альбатросы, Застольные гости громовых пиров, Орлиное племя, матросы, матросы, Вам песнь огневая рубиновых слов. (Кириллов)Нет! Сразу дать все права гражданства новому языку: выкрику – вместо напева, грохоту барабана – вместо колыбельной песни:
Революционный держите шаг! (Блок) Разворачивайтесь в марше! (Маяковский)»Таким образом, поэт хорошо знал четырехстопный амфибрахий. А пятью годами раньше в статье «Как делать стихи?» написано стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920).
В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла — на даче было это.Записав строфу в виде привычного четверостишия и проскандировав ее, мы увидим, что это классическая строфа, с чередованием четырехстопного и трехстопного хорея. Но обычные размеры сравнительно редки у Маяковского и опознаются с трудом, потому что воспринимаются на основе совсем иной ритмической системы.
Дым табачный воздух выел. Комната — глава в крученыховском аде. Вспомни — за этим окном впервые руки твои, исступленный, гладил. («Лиличка!», 26 мая 1916)Такой «рваный» стих, основой которого становится только урегулированность числа ударений в каждом стихе, называется акцентным. Количество безударных слогов между ударениями, в отличие от классических размеров, становится свободным и варьируется от О до 8 слогов (обычный межударный интервал – от 0 до 4 слогов).
«Лиличка!» написана четырехударным акцентным стихом (четырехударником). Маяковский использует и трехударник. Но часто он варьирует в одном тексте стихи разной длины, прибегает к полиметрии. Тем самым стих приближается к разговорной речи, достигает искомой футуристом свободы. Основой стиховой речи Маяковского становится, таким образом, ритмически выделенное слово.
Поначалу такое «раздробление», членение целого стиха на интонационные куски, стиховые синтагмы Маяковский выделял столбиком (как в цитированных выше стихотворениях «Ко всему» и «Лиличка!», а также в «Облаке в штанах» и других ранних поэмах). Но с 1923 года он придумал иной графический прием передачи интонации:
Гражданин фининспектор! Простите за беспокойство. Спасибо… не тревожьтесь… я постою… У меня к вам дело деликатного свойства: о месте поэта в рабочем строю. («Разговор с фининспектором о поэзии», 1926)Теперь интонационные куски располагаются лесенкой, и способ выделения в акцентном стихе отдельных речевых отрезков становится более наглядным. Эксперименты такого рода начал еще символист Андрей Белый. Но освоил их, сделал своими поэт-футурист. В истории поэзии такой способ записи стихотворения так и называется: лесенка Маяковского.
Ограничить, обуздать приобретенную поэтом свободу помогает рифма. Рифма имела для стиха Маяковского исключительное значение. «Улавливаемая, но еще не уловленная за хвост рифма отравляет существование: разговариваешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму. <…> Без рифмы (понимая рифму широко) стих рассыплется. Рифма возвращает вас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее, заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе. <…> Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало. В результате моя рифмовка почти всегда необычайна и уж, во всяком случае, до меня не употреблялась, и в словаре рифм ее нет. Рифма связывает строки, поэтому ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки», – признавался Маяковский в статье «Как делать стихи?».
Действительно, поэт необычайно расширил в этом направлении возможности русского стиха: наряду с точными использовал рифмы неточные, составные, каламбурные, рифмовал начала и концы строк, использовал внутренние рифмы и т. п.
Поскольку Маяковский рифмует «характерные слова», его рифма приобретает не только звуковой, но смысловой, тематический характер. Список рифм любого стихотворения становится своеобразным его оглавлением, композиционным стержнем.
Посмотрим с этой точки зрения на перечень рифм «Левого марша» (1918): марше – ваше, кляузе – маузер, законом – загоним, Евой – левой, рейте – рейде, или – кили, короной – покоренной, лев вой – левой, горя – море, непочатый – печатай, нанятой – Антантой, леевой – левой, орлий – горле, пялиться – пальцы, бравой – правой, оклеивай – левой. Поэт использует и привычные, точные рифмы (или – кили, бравой – правой), и неточные (пялиться – пальцы, нанятой – Антантой), и составные (лев вой – левой). Но в целом они действительно дают четкое представление о тематике, конкретном содержании «Левого марша».
Во внутреннем содержании стиха Маяковского тоже обнаруживаются свои предпочтения, своя доминанта. Напряженная ораторская интонация, формула крика, требовала и соответствующего стиля. Главными стилистическими средствами Маяковского становятся неологизм, гипербола, сравнение и вырастающая из него метафора.
«Богатство словаря поэта – его оправдание» – под этим тезисом из предисловия к футуристскому сборнику «Садок судей» (1914) стояла и подпись Маяковского. Неологизмы очень важны для его стилистической системы, но он более систематически, чем Хлебников (не говоря уже о Крученых), использует продуктивные словообразовательные модели. Свои «самовитые слова» Маяковский, как правило, создает, используя «мелочишку суффиксов и флексий», поэтому его «словоновшества» понятны из контекста и в то же время эмоционально заразительны. «Адище города окна разбили / на крохотные, сосущие светами адки» («Адище города», 1913). «Мыслишки звякают лбенками медненькими» («Люблю», 1922). «А по-моему, / осуществись / такая бредь…» («Сергею Есенину», 1926)
Неологизм – наиболее простой выход за пределы нормы. Еще один шаг на этом пути – гипербола. Маяковский гиперболически преувеличивает все: слеза у него оказывается размером с море, прокуренная комната становится адом, закат пылает в сто сорок солнц.
Андрей Белый, ненадолго переживший Маяковского, но успевший исследовать творчество поэта с историко-литературной точки зрения, сравнил его гиперболизм с гоголевским, но тоже гиперболически преувеличил его: «Маяковский побил никем до него не побитый рекорд гоголевского гиперболизма, сперва ожививши гиперболу Гоголя; потом уже он пустился возводить ее в квадраты и в кубы. „Гиперболшца“ Маяковского – невиданный зверь. Маяковский его приручил…» («Мастерство Гоголя», 1934). Другой критик-современник (В. Л. Львов-Рогачевский) остроумно объединил ораторство и гиперболизм Маяковского: «В его устах гипербола стала рупором».
Следующий шаг – превращение гиперболического сравнения или метафоры в развернутую картину, материализация ее. В поэме «Облако в штанах» (1915) в целую сцену превращается метафора «пожар сердца». В поэме «Про это» (1923) материализуется и превращается в отдельную тему ожидание телефонного звонка. В поэме «Во весь голос» (1930) тщательно развертывается сравнение разных стихотворных жанров с родами войск. В начале стихотворении «Товарищу Нетте – пароходу и человеку» (1926) воспоминанию о дипкурьере предшествует разговор с человеком.
Ораторская интонация (расположенный лесенкой крик) – гипербола и метафора (часто материализованная, реализованная) – оригинальная рифма, связывающая разбегающиеся слова, – таков каркас, фундамент, на котором строится лирический мир Маяковского.
«ОБНАКНАВЕННЫЙ ВЕЛИКАН»: ГРОМАДА-ЛЮБОВЬ – ГРОМАДА-НЕНАВИСТЬ
Говоря о Маяковском, М. И. Цветаева вспомнила «чудное ярмарочное слово» владельца балагана: «Чего глядите? Обнакнавенный великан!»
Гипербола в стихах Маяковского – не только основной троп, но и способ построения образа лирического героя. Он действительно – обыкновенный великан, Гулливер в стране лилипутов.
Он тысячекратно превосходит подвиги Наполеона.
Сегодня я – Наполеон! Я полководец и больше. Сравните: я и – он! <…> Он раз, не дрогнув, стал под пули и славится столетий сто, — а я прошел в одном лишь июле тысячу Аркольских мостов! («Я и Наполеон», 1915)Богатства его души несоизмеримы с состоянием знаменитого миллионера.
Сколько лет пройдет, узнают пока — кандидат на сажень городского морга — я бесконечно больше богат, чем любой Пьерпонт Морган. («Дешевая распродажа», 1916)Тема любви и в стихотворениях («Лиличка!»), и в поэмах («Облако в штанах», «Флейта-позвоночник») в разных вариантах решается как тема трагическая. (Только однажды, в стихотворении «Послушайте!» возникает намек на гармонию.) Любимая выходит замуж за другого, она равнодушна и холодна, ее просто не существует.
Если б был я маленький, как Великий океан, — на цыпочки б волн встал, приливом ласкался к луне бы. Где любимую найти мне, такую, как и я? Такая не уместилась бы в крохотное небо! («Себе, любимому, посвящает эти строки автор», 1916)Оскорбленный и преданный в любви, лирический герой Маяковского вступает в сражение с самим Богом и, кажется, побеждает его.
Я думал – ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты! Жмитесь в раю! Ерошьте перышки в испуганной тряске! Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски! («Облако в штанах», 1914–1915)Если интонация лирики Маяковского напоминает об одической традиции, то его лирический герой – гиперболизация, предельное заострение романтического персонажа с его прямо противоположным, контрастным отношением к миру и такой же противоречивостью, смятенностью душевной жизни. Он мгновенно переходит от любви к ненависти, от презрения к людям – к жалости и состраданию ко всем, даже животным и предметам («Скрипка и немножко нервно», «Хорошее отношение к лошадям»).
Один из критиков – современников Маяковского подыскивал его лирическому герою и более далекие аналогии. «Это был поистине уличный поэт, с трубной глоткой, вооруженный кастетом и настоящей силой кулачного борца. От его поэзии пахнуло эпохой Возрождения с ее яркой грубостью нравов, яркой одаренностью, с ее художниками, переходящими от шпаги к кисти и от кисти к шпаге. В одном лице сочетались и разбойник с большой дороги, и поэт шумной столичной улицы» (В. Л. Львов-Рогачевский «Футуризм», 1925).
Для этого персонажа характерна ненависть к «богатым и сытым». Как французский поэт и вор Франсуа Вийон, он с большим сочувствием и размахом рисует – еще до революции – сцены бунта, восстания, социального насилия.
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы, как у каждого порядочного праздника — выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников. («Облако в штанах»)Но в то же время в его ранней лирике возникают эпатирующие, декадентские, кощунственные строки, которые позднее он и сам объяснял как-то неуверенно и неубедительно.
Темой короткого цикла из четырех стихотворений «Я» (1913) вновь является одиночество лирического героя. Этот мотив очевиден уже в первом стихотворении:
Где города повешены и в петле о́блака застыли башен кривые выи — иду один рыдать, что перекрестком ра́спяты городовые.В финале цикла он вновь возвращается, приобретает привычный гиперболический характер: «Я одинок, как последний глаз / у идущего к слепым человека!» Но это четвертое стихотворение цикла, «Несколько строк обо мне самом», начинается такой строфой:
Я люблю смотреть, как умирают дети. Вы прибоя смеха мглистый вал заметили за тоски хоботом? А я — в читальне улиц — так часто перелистывал гроба том.Смерть, тоска, одиночество – характерные мотивы раннего Маяковского. Но при чем тут умирающие дети? Как это соотносится с самоотречением по отношению к любимой («Дай хоть / последней нежностью выстелить / твой уходящий шаг»), с «хорошим отношением к лошадям»?
Один из учеников и собеседников поэта вспоминает уличную сценку: «Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дернул за язык, тихо проговорил:
– Я люблю смотреть, как умирают дети…
Мы пошли дальше.
Он молчал, потом вдруг сказал:
– Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?»
Но Маяковский так и не объяснил: почему, когда, для кого? А стихи – остались. Поэт отвечает за каждое написанное им слово.
Грандиозный и противоречивый образ лирического героя, имеющего конкретное имя и адрес («Я живу на Большой Пресне, / 36, 24. / Место спокойненькое. / Тихонькое. / Ну?» – «Я и Наполеон»), включается, вписывается у Маяковского в особую картину мира.
В автобиографии «Я сам», в главке с характерным заглавием «Необычайное», Маяковский рассказал, как его поразил впервые уведенный электрический свет: «Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами – ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь».
Лирический персонаж по имени «Владимир Маяковский» существует в «адище города», уличная толпа представляется ему как «стоглавая вошь» («Нате!», 1913). Он читает «железные книги» вывесок («Вывескам», 1913), шарахается от «рыжих дьяволов» автомобилей («Адище города», 1913), идет разгонять тоску «в кинематографы, в трактиры, в кафе», целует «умную морду трамвая» («Надоело», 1916).
Футуризм Маяковского проявляется, прежде всего, как его урбанизм. Маяковский продолжает городскую линию, городской хронотоп русской литературы (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок). Но он делает предметом изображения уже не конкретный Петербург в его узнаваемых чертах (как акмеисты-«вещественники» А. А. Ахматова и О. Э. Мандельштам), а Большой Город вообще. Это детище цивилизации в стихах Маяковского живописуется не со стороны, как пейзаж, а изнутри, как привычная среда обитания в ее ужасных и прекрасных чертах.
В новой поэзии Маяковский предлагает и опыты новой живописи (неоконченное художественное образование тоже пригодилось ему). «Первое профессиональное, печатаемое» стихотворение «Ночь» (1912), которым Маяковский всегда открывал свои сборники, начинается загадочной картинкой:
Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты.Но стоит лишь поместить себя внутрь этого городского пейзажа, на место наблюдателя, как все изображенное приобретет четкие контуры и мотивировки: багровый закат и видимые на небе белые облака сменяются темнотой, в зелени бульвара или парка вспыхивают яркие круги электрических фонарей, черные прямоугольники окон после включения света в квартирах тоже меняют цвет на желтый.
Картина ночной улицы может приобрести и более экспрессивный, нервный характер:
Ветер колючий трубе вырывает дымчатой шерсти клок. Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок.Но иной среды существования герой Маяковского для себя не представляет. «Неусовершенствованная», нерукотворная природа появляется в его лирике нечасто и преимущественно в ироническом освещении.
От этого Терека в поэтах истерика. Я Терек не видел. Большая потерийка. Из омнибуса вразвалку сошел, поплевывал в Терек с берега, совал ему в пену палку. («Тамара и Демон», 1924)Одним из ключевых, «формульных» стихотворений Маяковского оказывается «А вы могли бы?» (1913).
Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?Детали природы и искусства (океан, ноктюрн, флейта) переводятся здесь на язык городской обыденности (блюдо студня, жестяная рыба уличной вывески, водосточные трубы). Поэт превращается в «обнакнавенного великана», Гулливера, способного сыграть (понять) музыку города.
(В этом стихотворении иногда видят вариацию шекспировского мотива. В «Гамлете» главный герой предлагает Гильденстерну, который пытается выведать его тайну, сыграть на флейте, а когда тот ссылается на неумение, говорит: «Что ж вы думаете, я хуже флейты? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя». Лирический герой Маяковского может играть даже на такой неподходящей флейте, как водосточная труба.)
Город Маяковского противопоставлен живой природе, но может быть расширен до пределов вселенной, космоса. Ни разу, как Бунин или Есенин, не описав подробно осенний лес или тишину деревенской улицы, Маяковский по-свойски обращается с мирозданием. Звезды для него то «плевочки» («Послушайте!»), то «клещй» («Облако в штанах»), солнце заходит к нему на чай («Необычайное приключение…»), весь мир представляется продолжением Невского проспекта, а вселенная – добродушным медведем.
Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего. Желтую кофту из трех аршин заката. По Невскому мира, по лощеным полосам его, профланирую шагом Дон-Жуана и фата. Пусть земля кричит, в покое обабившись: «Ты зеленые весны идешь насиловать!» Я брошу солнцу, нагло осклабившись: «На глади асфальта мне хорошо грассировать!» («Кофта фата», 1914) Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду! Глухо. Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо. («Облако в штанах»)Поэт не восхищается гармонией сфер, как одописцы XVIII или философы XIX века. Он делает мироздание площадкой, местом действия трагедии по имени «Владимир Маяковский».
БУДЕТЛЯНСКОЕ БУДУЩЕЕ: МЫ И Я
Ранний Маяковский – поэт обиды, одиночества, жалобы и жалости. Он настолько поглощен своими чувствами, настолько занят выяснением отношений с любимой, людьми, миром и Богом, что перспектива будущего для него закрыта. В этом смысле он не оправдывает звание футуриста. Пытаясь узреть будущее, он ощущает лишь собственную боль.
Святая месть моя! Опять над уличной пылью ступенями строк ввысь поведи! До края полное сердце вылью в исповеди! Грядущие люди! Кто вы? Вот – я, весь боль и ушиб. Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души. («Ко всему», 1916)В конце времен («Маяковский векам» – называется глава из поэмы «Человек», 1916–1917), как в зеркале, он видит вечное настоящее: самого себя, своих знакомых, свою любимую.
Погибнет все. Сойдет на нет. И тот, кто жизнью движет, последний луч над тьмой планет из солнц последних выжжет. И только боль моя острей — стою, огнем обвит, на несгорающем костре немыслимой любви.Только революция делает Маяковского настоящим футуристом-будетляниным. Он начинает служить не только новой власти. Он (как и многие в двадцатые годы) воспринимает советскую власть как осуществление многовековых грез человека о справедливом мироустройстве, реализацию утопии.
В «Приказе по армии искусств» (1918) выкрикнут лозунг: «Только тот коммунист истый, / кто мосты к отступлению сжег. / Довольно шагать, футуристы, / в будущее прыжок!» В написанном чуть позднее «Левом марше» уже дан мимолетный набросок, контур будущего: «Там / за горами горя / солнечный край непочатый».
Потом эта метафора развертывается в непрерывный ряд из стихотворений, поэм, драм: «Мистерия-буфф» (1918–1921), «150 000 000» (1920), «Про это» (1923), «Немножко утопии. Про то, как пройдет метрошка» (1925), «Выволакивайте будущее» (1925), «Клоп» (1928–1929), «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» (1929), «Баня» (1929–1930), «Во весь голос» (1930). Почти все большие произведения Маяковского двадцатых годов в той или иной степени посвящены изображению будущего, содержат утопические проекты.
Это будущее датируется по-разному. Поэт пытается заглянуть вперед на десятилетия или даже столетия: «Москва – 940–950 года во всем своем великолепии» («Пятый Интернационал», 1922); 12 мая 1979 года, когда размораживают доставленного из прошлого мещанина Присыпкина («Клоп»); 2125 год («Летающий пролетарий», 1925), тридцатый век («Про это»).
В других случаях будущее почти сближается с настоящим: «Через четыре года здесь будет город-сад» («Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»). Иногда это будущее приобретает сказочнобезразмерный характер: «Год с нескончаемыми нулями. / Праздник, в святцах не имеющий чина. / Выфлажено все. И люди и строения. / Может быть, Октябрьской революции сотая годовщина, / может быть просто изумительнейшее настроение» («150 000 000»).
Но даже точное указание на время действия не имеет большого значения. Картина будущего во всех произведениях Маяковского обладает внутренним единством. Обетованная земля («Мистерия-буфф»), над которой солнцем встает бытие иное («150 000 000»), находится в конце времен, вне истории, поэтому столетие туда-сюда – какая разница.
В истории утопии сложилось два основных образа идеального будущего: деревенская, патриархальная утопия и утопия городская, урбанистическая. Естественно, человек, который с детства предпочитал неусовершенствованной природе электричество («Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге», – говорил Маяковский Б. Л. Пастернаку), безоговорочно выбирает второй вариант.
Уже в «Мистерии-буфф», первой большой послереволюционной вещи, солнечный край открывающийся за горами горя, выглядит так: «Ворота распахиваются, и раскрывается город. Но какой город! Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи, автомобили, а посредине – сад звезд и лун, увенчанный сияющей кроной солнца» (Д. 6, ремарка).
Немного раньше в монологе Фонарщика авторская ремарка детализируется и динамизируется:
Домов стоэтажия земли кроют! Через дома перемахивают ловкие мосты! Под домами едища! Вещи горою. На мостах поездов ускользающие хвосты! <…> Лампы глаза электрические выкатили! В глаза в эти сияние миллионосильные двигатели льют! Земля блестит и светит!В других утопических текстах и фрагментах подобная картина будущего повторяется, дополняясь все новыми и новыми техническими подробностями: радиобудильники, дирижабли, аэропланы и аэросипеды, озелененная Сахара, парение по небу, свидание под Большой Медведицей, управление искусственными тучами, наконец – «мастерская человечьих воскресений» («Про это»).
Одновременно с Маяковским Е. Замятин в антиутопии «Мы» (1920) рисовал похожий даже в деталях город будущего с прямо противоположной целью: дать «сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства – все равно какого». Маяковский не опасается ни техники, ни нового государства. В его описаниях будущего иногда появляется добродушно-юмористическая интонация:
Завод. Главвоздух. Делают вообще они воздух прессованный для междупланетных сообщений. Кубик на кабинку – в любую ширь, и сутки сосновым духом дыши. Так — в век оный из «Магги» делали бульоны. Так же вырабатываются из облаков искусственная сметана и молоко. Скоро забудут о коровьем имени. Разве столько выдоишь из коровьего вымени! («Летающий пролетарий»)Но преобладает все-таки гиперболически-восторженный пафос, восхищение прекрасным новым миром. «Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее („сыры не засижены – лампы сияют, цены снижены“)», – объяснял Маяковский свой метод в применении к поэме «Хорошо» («Я сам»).
Параллели такой картине будущего находятся, с одной стороны, в волшебной сказке. Сметана из облаков или обещание человека будущего в «Мистерии-буфф», что на корнях укропа у него будут расти ананасы, конечно, недалеки от молочных рек с кисельными берегами.
С другой стороны, будущее Маяковский рассматривает как реализацию проектов мечтавших о справедливости социалистов-утопистов всех времен (В. И. Ленин тоже рассматривал их как предшественников марксизма и, значит, Октябрьской революции):
Глаз — восторженный над феерией рей! Реальнейшая под мною вот она — жизнь, мечтаемая со дней Фурье, Роберта Оуэна и Сен-Симона. («Пятый Интернационал»)«Реальнейшая жизнь» и есть осуществление извечных человеческих идеалов. Путь к ним для Маяковского неизбежно лежит через революции: социальную и духовную.
Смотрите — ряды грядущих лет текут. Взрывами мысли головы содрогая, артиллерией сердец ухая, встает из времен революция другая — третья революция духа. («Четвертый Интернационал»)Наиболее развернуто эта революция и мир после нее изображены в «агитпоэме» «Летающий пролетарий». Как и в «Мистерии-буфф» и «150 000 000», все здесь начинается с последнего решительного боя и окончательной победы над пиром капитала. Объявление о мобилизации пишет на небе «обычный самопишущий аэропланчик Аэростата». Потом люди летят с женами в районный совет. С Красной площади поднимается «походная коминтерновская трибуна». Летчик объясняет пионерам и октябрятам «из-за чего тревога и что – к чему». И тут же радиороста вычерчивает в небесах последнюю телеграммищу: «Мир! Народы кончили драться / Да здравствует минута эта! / Великая Американская федерация / присоединяется к Союзу Советов. / Сомнений – ни в ком / Подпись: „Американский ревком”».
Во второй части поэмы – «Будущий быт» – Маяковский, выполняя задачи агитационной поэмы, продолжает игру с читателем неологизмами советской эпохи и стоящими за ними политическими реалиями.
«Вбегает сын, здоровяк-карапуз. / – До свидания, улетаю в вуз. / – А где Ваня? / – Он в саду порхает с няней».
«Вылетел. Детишки. Крикнул: – Тише! – / – Нагнал из школы летящих детишек. / – Куда, детвора? Обедать пора! / – Никакой кухни, никакого быта! / Летают сервированные аэростоловые Нарпита».
Урок по атеизму тоже проводится прямо в космосе:
А младший весь в работу вник. Сидит и записывает в дневник: «Сегодня в школе — практический урок. Решали — нет или есть бог. По-нашему — религия опиум. Осматривали образ — богову копию. А потом с учителем полетели по небесам. Убеждайся – сам! Небо осмотрели и внутри и наружно. Никаких богов, ни ангелов не обнаружено».Многочисленные неологизмы бюрократического языка советской эпохи (РОСТА, ревком, вуз, нарпит, КУБУ) используются юмористически, но без особой критики. В комедии «Баня» монолог прибывшей из будущего Фосфорической женщины наполнен сходными «советизмами», но они, по авторскому замыслу, имеют патетический характер: «…Я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых и сейчас высится у нас образцом коммунистической стройки и жизни. <…> Только сегодня из своего краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшей так быстро в счастье наше и в радость всей планеты».
В поэме «Во весь голос», произведении-завещании, своеобразном «Памятнике», Маяковский произнесет схожие слова уже от первого лица.
Явившись в Це Ка Ка идущих светлых лет, над бандой поэтических рвачей и выжиг я подыму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек.Юный Маяковский, глядя в будущее, видел там, как в зеркале, самого себя, отражение собственной боли. Теперь он видит там идеализированное отражение советского общества. Светлое будущее оказывается технически усовершенствованным бесконечно продленным по оси времени настоящим. Как будто и там, в сияющем будущем, в «мире без Россий и Латвий», наряду с мастерскими человечьих воскрешений и полетами на Марс, сохранятся в неприкосновенности и Центральная контрольная комиссия, и партийные чистки с вопросом «Чем вы занимались до трехтысячного года?», а главным документом во веки веков останется большевистский партбилет, партийная книжка.
Вторую часть поэмы «Пятый Интернационал» Маяковский начинает главкой «Для малограмотных»:
Пролеткультцы не говорят ни про «я», ни про личность. «Я» для пролеткультца все равно что неприличность. И чтоб психология была «коллективной», чем у футуриста, вместо «я-с-то» говорят «мы-с-то». А по-моему, если говорить мелкие вещи, сколько ни заменяй «Я» – «Мы», не вылезешь из лирической ямы. А я говорю «Я», и это «Я» вот, балагуря, прыгая по словам легко, с прошлых многовековых высот, озирает высоты грядущих веков. Если мир подо мной муравейника менее, то куда ж тут, товарищи; различать местоимения?!Это был принципиальный спор о роли личности в новом обществе и роли искусства, художества для человека. Однако, отстаивая перед «неистовыми ревнителями» права личности, Маяковский одновременно растворяет ее в «социальном заказе», заслоняет рекламой, «агитками», другой поденной работой. Тем самым поэт часто превращает гордое «Я» в пустое, абстрактное «Мы-с-то».
М. И. Цветаева проницательно увидела ахиллесову пяту «обнакнавенного великана»: «Все творчество Маяковского – балансировка между великим и прописным. <…> Общее место, доведенное до величия – вот зачастую формула Маяковского».
Маяковский ощущает подобную опасность, поэтому, вопреки собственным заявлениям, регулярно падает в «лирическую яму»: в поэмах «Люблю» и «Про это», в стихах, посвященных Пушкину и Лермонтову, в постоянных проговорках, приоткрывающих в монументальном образе образцового советского Гулливера прежние и новые тоску, страдание, боль.
Дорожное стихотворение «Мелкая философия на глубоких местах» (1925), написанное в Атлантическом океане по пути в Америку, в целом выдержано в ироническом духе.
Здесь насмешливо упомянуты Толстой и журналист Стеклов, а кит сравнивается с поэтом Д. Бедным («Только у Демьяна усы наружу, а у кита внутри»). Но финальная строфа напоминает элегический вздох старых поэтов:
Я родился, рос, кормили соскою, — жил, работал, стал староват… Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова.Маяковский все послереволюционные годы настаивал на противопоставлении Поэта и Гражданина, лирики («Я») и «социального заказа» («Мы»). Но его отношение к этим образам и полюсам менялось.
«Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю „Нигде кроме как в Моссельпроме“ поэзией самой высокой квалификации. <…> В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают – однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому, кроме супруги, не интересно», – с гордостью рассказано в автобиографии «Я сам».
И мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас — доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне, —с горечью признается поэт в первом вступлении в поэму «Во весь голос».
Но его последние черновые строчки – словно возвращение к «Облаку в штанах»: не про то, а про это, почти лермонтовские стихи про трагическую любовь, одиночество, звезды в небе, а не молнию в электрическом утюге.
Уже второй. Должно быть, ты легла. В ночи Млечпуть серебряной Окою. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась о быт. С тобой мы в расчете. И не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданью.Четверостишие из этого наброска с существенной заменой («С тобой мы в расчете» – «Я с жизнью в расчете») и попало в письмо-завещание.
«Маяковский первый новый человек нового мира, первый грядущий. Кто этого не понял, не понял в нем ничего», – утверждала Цветаева. Но этот мир сам менялся, обнаруживая все большую несовместимость с идеалом Маяковского, все большую утопичность, неосуществимость.
Товарищи юноши, взгляд – на Москву, на русский вострите уши! Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.Строки из стихотворения «Нашему юношеству» (1927) долгое время были советским лозунгом, их заучивал наизусть каждый школьник. Через полстолетия поэт следующего поколения, Б. А. Слуцкий, написал свои стихи, в которых не только вступил в диалог с этим стихотворением Маяковского, но и бросил трезвый взгляд на дело, с которым Маяковский себя отождествлял, которому служил.
Мировая мечта, что кружила нам голову, например, в виде негра, почти полуголого, что читал бы кириллицу не по слогам, а прочитанное землякам излагал. Мировая мечта, мировая тщета, высота ее взлета, затем нищета ее долгого, как монастырское бдение и медлительного падения.«Без меня народ неполный…» – говорил герой А. Платонова. Без Владимира Маяковского неполным оказывается русский серебряный век и ранняя советская история.
Сергей Александрович ЕСЕНИН (1895–1925)
ПУТЬ НАВЕРХ: РЯЗАНСКИЙ ЛЕЛЬ
Несмотря на авангардистские призывы «бросить Пушкина с парохода современности», для поэтов XX века он оставался собеседником, идеалом, мерой эстетического вкуса и совершенства. Но у каждого был свой Пушкин («Мой Пушкин» – называлось эссе М. И. Цветаевой, 1937).
Блок заканчивает свой путь стихами «Пушкинскому дому» и апологией пушкинской тайной свободы в речи «О назначении поэта» (1921). Маяковский пишет «Юбилейное» (1924), где говорит с Пушкиным очень лично, как с соратником («Были б живы – стали бы по Лефу соредактор»), и в то же время – как памятник с памятником. Сергей Есенин в том же юбилейном году использует сходный прием: общение с памятником. Но он видит на пьедестале и в жизни совсем иного поэта:
Мечтая о могучем даре Того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, В легендах ставший как туман, О Александр! ты был повеса, Как я сегодня хулиган. («Пушкину», 1924)Блоковский Пушкин – Поэт, сын гармонии, поэтический Моцарт, Пушкин Маяковского – Мастер, напоминающий Сальери: он владел «хорошим слогом», но может, если нужно, бросить «ямб картавый», и освоить агитки и рекламу, «жиркость и сукна».
Пушкин у Есенина – хулиган и повеса, вошедший в легенды, представший в бронзе выкованной славы. В коротком стихотворении Есенин дважды повторяет слово судьба: Пушкин для него – не только поэтический образец, но и жизненный идеал, модель поведения: «Я умер бы сейчас от счастья, / Сподобленный такой судьбе».
Однако сюжет есенинской судьбы заставляет, скорее, вспомнить о Лермонтове. Жизнь Есенина, как и лермонтовская, стала книгой, еще одним томом собрания его сочинений. Однако она сложилась по законам есенинского художественного мира: не как романтическая баллада, а как волшебная сказка, но – с трагическим концом. В таком жанре увидел есенинскую судьбу Б. Л. Пастернак: «Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он Иван-Царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве» («Люди и положения», 1956).
Эта сказка начиналась в прозаической обстановке. Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (4 октября) 1895 года в рязанском селе Константинове. Отношения между родителями были сложными: отец и после женитьбы продолжал работать в Москве, мать вынуждена была служить прислугой в Рязани. У него было типичное крестьянское детство, без гувернеров и гимназии, но с обычными для деревенского ребенка радостями и опасностями.
«С двух лет, по бедности отца и многочисленности семейства, был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку.
Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: „Эх, стерва! Ну куда ты годишься?“ „Стерва“ у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо я был выучен лазить по деревьям. Из мальчишек со мной никто не мог тягаться. Многим, кому грачи в полдень после пахоты мешали спать, я снимал гнезда с берез, по гривеннику за штуку. Один раз сорвался, но очень удачно, оцарапав только лицо и живот да разбив кувшин молока, который нес на косьбу деду.
Средь мальчишек я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах» («Сергей Есенин». 1922).
В том же году Есенин вспомнит о детстве и в стихах:
Худощавый и низкорослый, Средь мальчишек всегда герой, Часто, часто с разбитым носом Приходил я к себе домой. И навстречу испуганной маме Я, цедил сквозь кровавый рот: «Ничего! Я споткнулся о камень, Это к завтраму все заживет». («Все живое особой метой…», февраль 1922)Но была в жизни Есенина и другая, необычная, сторона, предсказывающая, угадывающая будущее призвание. «Мы часто ездили… на Оку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов» («Автобиография», 1924). Луна станет одной из главных «героинь», одним из доминирующих образов поэзии Есенина. Из детства она более 150 раз приплывет в его стихи, в том числе в абсолютно напоминающем детское впечатление виде: «Нынче луну с воды / Лошади выпили» («Небесный барабанщик», 1918).
Читать Есенин научился в пять лет. Через несколько лет он уже пытается сочинять сам. «Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки. Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, и я их переделывал на свой лад. Стихи начал писать, подражая частушкам» («Автобиография», 1923).
В 1904 году мальчик поступил в четырехклассное Константиновское земское училище, потом окончил двухлетнюю учительскую школу. На этом его официальное образование завершилось. «Родные хотели, чтоб из меня вышел сельский учитель. Надежды их простирались до института, к счастью моему, в который я не попал» («Автобиография», 1924).
Правда, приехав в Москву в 1912 году «без гроша денег», Есенин какое-то время посещает вечерний университет, но ни средств, ни времени на лекции не хватает. Он служит вместе с отцом приказчиком в мясной лавке, но вскоре резко порывает и с родителем, и с мясным делом, перейдя в более близкую и привлекательную книжную торговлю.
Уже в это время сочинительство становится его главным делом (первые публикуемые в его сборниках стихи помечены 1910-м годом). Поначалу Есенин общается с так называемыми «крестьянскими поэтами» из Суриковского кружка, идеалом которых были А. Кольцов, И. Никитин, И. Суриков, а основными мотивами – трудная доля бедняка, одиночество, тоска. Но вдруг из во многом подражательного, вторичного крестьянского поэта вырастает просто поэт, желающий, чтобы его судили по высоким критериям современной литературы.
В марте 1915 года Есенин отправляется в Петербург и сразу же в день приезда приходит к Блоку. «Днем у меня рязанский парень со стихами, – отмечает Блок в записной книжке 9 марта 1915 года. – Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые…».
С этой встречи Есенин начинает завоевание Петербурга и современной поэзии. При этом он учитывает два обстоятельства: вечные ожидания талантливого поэта «из народа», на которого «кающиеся интеллигенты» возлагали особые надежды, и опыт футуристов-авангардистов, использовавших для приобретения популярности театральные приемы: публичные выступления, необычную одежду, эпатирующие высказывания. Есенин не столько был крестьянином (в сущности, он никогда, даже в раннем детстве, не жил обычной крестьянской жизнью), сколько талантливо играл крестьянина.
Многие современники заметили и описали появление Есенина в известном символистском салоне Д. С. Мережковского и 3. Н. Гиппиус (Есенин тоже вспоминает о нем в фельетоне «Дама с лорнетом», 1924–1925). Вот как – по-толстовски сопоставляя видимое, сказанное и подразумеваемое – рассказал о нем близкий к футуризму и знавший толк в авангардистском эпатаже филолог В. Б. Шкловский:
«Есенина я увидел в первый раз в салоне Зинаиды Гиппиус, здесь он был уже в опале.
– Что это у вас за странные гетры? – спросила Зинаида Николаевна, осматривая ноги Есенина через лорнет.
– Это валенки, – ответил Есенин.
Конечно, и Гиппиус знала, что валенки не гетры, и Есенин знал, для чего его спросили. Зинаидин вопрос обозначал: не припомню, не верю я в ваши валенки, никакой вы не крестьянин.
А ответ Есенина обозначал: отстань и совсем ты мне не нужна» («Современники и синхронисты», 1924).
Похожий эпизод вспоминал Маяковский: «В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.
Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:
– Это что же, для рекламы?
Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло. Что-то вроде:
– Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем… мы уж как-нибудь… по-нашему… в исконной, посконной…
Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.
Но малый он был как будто смешной и милый.
Уходя, я сказал ему на всякий случай:
– Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!
Есенин возражал с убежденной горячностью» («Как делать стихи», 1926).
Маяковский заявлял, что выиграл пари, но – лишь через несколько лет. «Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал: „Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак и галстук!“ Есенин озлился и пошел задираться».
Но в начале пути белая рубашка, плисовые (бархатные) шаровары и цветные сапожки оказываются необходимыми. В таком наряде Есенин вместе с другим поэтом из народа, Н. А. Клюевым, в октябре 1915 года выступает на большом вечере в зале Тенишевского училища на Моховой улице (там же раньше проходили скандальные вечера футуристов). Он не только читает стихи, но играет на гармошке, поет частушки. В зале присутствуют Блок и другие известные представители петербургской интеллигенции.
Нового поэта окрестили Лелем, имея в виду то ли легендарного славянского божка (наподобие Амура), то ли кудрявого пастушка, героя сказочной пьесы А. Н. Островского «Снегурочка». Конечно, эта роль была бы сразу разоблачена (что неоднократно происходило с самозванцами из разных литературных групп), если бы с ней не были связаны талантливые стихи.
Там, где капустные грядки Красной водой поливает восход, Клененочек маленький матке Зеленое вымя сосет. («Там, где капустные грядки…», 1910) Я, пастух, мои палаты — Межи зыбистых полей, По горам зеленым – скаты С гарком гулких дупелей. Вяжут кружево над лесом В желтой пене облака. В тихой дреме под навесом Слышу шепот сосняка.<…>
Говорят со мной коровы На кивливом языке. Духовитые дубровы Кличут ветками к реке. («Я, пастух, мои палаты…», 1914)В начале 1916 года выходит первая книга Есенина «Радуница» (так назывался у восточных славян весенний послепасхальный праздник, связанный с поминанием предков и в то же время – с весельем, радостью в связи с приходом весны). В русской литературе появился новый – и очень необычный – поэт, органически соединивший деревенскую тематику, национальный пейзаж, фольклорную поэтику и достижения современного словесного искусства (позднее один из литературоведов назовет Есенина «новокрестьянским поэтом-символистом»).
Однако радуница-радость совсем не гармонировала с происходившими в России событиями. Книга Есенина вышла в разгар мировой войны. Сначала поэт без определенных занятий получил отсрочку от военной службы, но в марте 1916 года он все-таки оказался в армии, правда на месте санитара военно-санитарного поезда, лишь изредка выезжающего на фронт. Летом 1917 года Есенин обвенчался с 3. Н. Райх, в это время секретарем-машинисткой, позднее ставшей известной актрисой.
Октябрьскую революцию Есенин встретил восторженно. «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном», – сказано в поздней автобиографии (1925). Этот уклон проявился в серии из десяти «маленьких поэм», созданных Есениным в 1917–1919 годах. О революционных событиях здесь рассказывается на языке религиозной образности, Лель-пастушок, тихий инок превращается в пророка, тема социального бунта перерастает в богоборчество.
Тучи – как озера, Месяц – рыжий гусь. Пляшет перед взором Буйственная Русь. Дрогнул лес зеленый, Закипел родник. Здравствуй, обновленный Отчарь мой, мужик! («Отчарь», 19–20 июня 1917) Лай колоколов над Русью грозный — Это плачут стены Кремля. Ныне на пики звездные Вздыбливаю тебя, земля! Протянусь до незримого города, Млечный прокушу покров. Даже богу я выщиплю бороду Оскалом моих зубов. («Инония», январь 1918)Блок увидел в революции стихию и музыку, шествие двенадцати с идущим впереди Исусом Христом. Маяковский – организованную железную поступь матросов под руководством большевиков и Ленина. Есенин – восстание природы, крушение кумиров, переоценку всех ценностей, после которых на земле воцарится рай.
Листьями звезды льются В реки на наших полях. Да здравствует революция На земле и на небесах!<…>
Нам ли страшны полководцы Белого стада горилл? Взвихренной конницей рвется К новому берегу мир. («Небесный барабанщик», 1918)Но в пафосе разрушения старого и утопическом порыве в будущее три поэта оказываются близки. Даже космическая образность и акцентный стих есенинского «Небесного барабанщика» напоминают стихи его вечного соперника Маяковского.
Однако в первых послереволюционных поэмах Есенин не только воспевает стихийный бунт, вступает в схватку с Богом, признает себя давним союзником новой власти: «Небо – как колокол, / Месяц – язык, / Мать моя – родина, / Я – большевик» («Иорданская голубица», 20–23 июня 1918).
За маской уверенного в себе наследника Васьки Буслаева временами появляется прежний тихий пастушок с явными автобиографическими чертами:
Пастухи пустыни — Что мы знаем?.. Только ведь приходское училище Я кончил, Только знаю библию да сказки, Только знаю, что поет овес при ветре… Да еще По праздникам Играть в гармошку. («Сельский часослов», 1918)Это образ попавшего в чужой шумный мир деревенского мальчика не раз драматически откликнется в лирике Есенина. Но логика происходящего, «рок событий» требует от поэта иного.
ЖИЗНЬ НАВЕРХУ: ЗНАМЕНИТЫЙ РУССКИЙ ПОЭТ
В марте 1918 года новое советское правительство из прифронтового Петербурга, на который наступают войска Юденича, переезжает в Москву. «Вместе с советской властью покинул Петроград», – говорит Есенин в автобиографии.
В 1915 году в путешествие из Москвы в Петербург отправился безвестный крестьянский паренек в валенках-гетрах. Всего через три года из Петербурга в Москву возвращается признанный поэт, готовый бороться за свое место на Парнасе.
Разбуди меня завтра рано, О моя терпеливая мать! Я пойду за дорожным курганом Дорогого гостя встречать.<…>
Разбуди меня завтра рано, Засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану Знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, Нашу печь, петуха и кров… И на песни мои прольется Молоко твоих рыжих коров. («Разбуди меня завтра рано…», 1917)В модернистскую эпоху, как мы помним, поэты редко существовали поодиночке. Для того чтобы громко заявить о себе, был необходим круг сочувствующих и манифест-выкрик. «В Москве 18 года встретился с [А. Б.] Мариенгофом, [В. Г.] Шершеневичем и [Р.] Ивневым. Назревшая потребность в проведении в жизнь силы образа натолкнула нас на необходимость опубликования манифеста имажинистов. Мы были зачинателями новой полосы в эре искусства, и нам пришлось долго воевать. Во время нашей войны мы переименовывали улицы в свои имена и раскрасили Страстной монастырь в слова своих стихов», – давал Есенин творческий отчет о своих московских предприятиях («Автобиография», 1923).
Литературная группа имажинистов, куда вместе с Есениным вошли упомянутые молодые поэты, возникла в 1919 году. «Декларация» имажинистов была создана бывшим футуристом В. Г. Шершеневичем, заимствовавшим у своих бывших соратников способы утверждения новой эстетики: эпатаж, скандал, выкрик.
При создании нового направления, естественно, надо было заявить об исчерпанности всех прежних. Сначала имажинисты в двух фразах хоронят своего ближайшего предшественника и соперника: «Скончался младенец, горластый парень десяти лет от роду (родился 1909 – умер 1919). Издох футуризм. Давайте грянем дружнее: футуризму и футурью – смерть».
Столь же пренебрежительно и грубо отзывались имажинисты о других литературных направлениях, включая «лысых символистов»: «Забудем о том, что футуризм существовал, так же как мы забыли о существовании натуралистов, декадентов, романтиков, классиков, импрессионистов и прочей дребедени. К чертовой матери всю эту галиматью».
О принципах нового искусства говорилось лаконично и неопределенно, с указанием-директивой для желающих самим понять суть дела. «Образ, и только образ. Образ – ступнями от аналогий, параллелизмов – сравнения, противоположения, эпитеты сжатые и раскрытые, приложения политематического, многоэтажного построения – вот орудие производства мастера искусства. <…> Образ – это броня строки. <…> Если кому-нибудь не лень – создайте философию имажинизма, объясните с какой угодно глубиной факт нашего появления. Мы не знаем, может быть, оттого, что вчера в Мексике был дождь, может быть, оттого, что в прошлом году у вас ощенилась душа, может быть, еще от чего-нибудь, – но имажинизм должен был появиться, и мы горды тем, что мы его оруженосцы, что нами, как плакатами, говорит он с вами».
В 1919–1924 годах имажинисты развертывают бурную деятельность: издают журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном», открывают литературное кафе «Стойло Пегаса», проводят вечера, где русская литература (вся!) предстает перед судом имажинистов, а потом они – перед судом русской литературы. Вершиной «самозванства и озорства» становятся лозунги на стенах Страстного монастыря (в том числе провокационная есенинская строка из поэмы «Преображение» – «Господи, отелись!») и переименование улиц (на Тверской несколько дней провисела табличка с именем «имажиниста Есенина»).
Участвуя в большинстве имажинистских предприятий, Есенин не мог согласиться с соратниками в главном. Для них, посредственных стихотворцев, образ был механическим приемом, стихотворение – «лирической конструкцией», искусство – «каталогом образов» (оба определения принадлежат Шершеневичу), лишенным отчетливых смысла и цели. «Лошадь как лошадь» (1920) – назывался главный сборник Шершеневича. Но в нем не было ни одной лошади, а сплошные принципы (в заглавиях стихотворений): мещанской концепции, альбомного стиха, примитивного имажинизма, реального параллелизма и даже блока с тумбой.
Есенину в этом сборнике были посвящены несколько стихотворений, в том числе «Лирическая конструкция» (июль 1919):
Все, кто в люльке Челпанова мысль свою вынянчил! Кто на бочку земли сумел обручи рельс набить, За расстегнутым воротом нынче Волосатую завтру увидь! Где раньше леса, как зеленые ботики Надевала весна и айда — Там глотки печей в дымной зевоте Прямо в небо суют города.Нет, настоящую лошадь можно было увидеть не в этом ученическом подражании Маяковскому, а совсем в другом месте.
Видели ли вы, Как бежит по степям, В туманах озерных кроясь, Железной ноздрей храпя, На лапах чугунных поезд? А за ним По большой траве, Как на празднике отчаянных гонок, Тонкие ноги закидывая к голове, Скачет красногривый жеребенок? Милый, милый, смешной дуралей, Ну куда он, куда он гонится? Неужель он не знает, что живых коней Победила стальная конница? («Сорокоуст», август 1920)Похожий конфликт живого существа и техники, природы и цивилизации Есенин изображает не абстрактно, а наглядно, не в конструкции, а в живой сцене, не механически, а с болью, восхищением красотой, сожалением об уходящем.
Есенин был прирожденным «имажинистом», и поэтому понимал принципы имажинизма иначе, чем его соратники. В трактате «Ключи Марии» (1918) он говорит об избе нашего мышления, где образы прилегают друг к другу как бревна и являются основой будущего искусства: «Будущее искусство расцветет в своих возможностях достижений как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм, или рай…»
Позднее в статье «Быт и искусство» (1920) Есенин отстаивает естественность, органичность создания и сочетания образов, а также их тесную связь с крестьянским бытом:
«Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слова и образ – это уже все. <…> Собратья мои не признают порядка и согласованности в сочетаниях слов и образов. Хочется мне сказать собратьям, что они не правы в этом. <…> Сажая под окошком ветлу или рябину, крестьянин, например, уже делает четкий и строгий рисунок своего быта со всеми его зависимостями от климатического стиля. Каждый шаг наш, каждая проведенная борозда есть необходимый штрих в картине нашей жизни. <…> У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния».
Есенин разошелся с «собратьями» довольно быстро: в 1924 году он официально объявил о выходе из группы. Вскоре закончился и весь имажинизм.
Воспевая мир как дом, и родство как норму жизни, сочиняя трогательные стихотворные послания матери, сестре, деду, Есенин до конца жизни не имел собственного дома и настоящей семьи. Он колесил по России, летом приезжал в Константиново, подолгу жил на московских квартирах друзей. Его брак с 3. Н. Райх быстро распался. В 1921 году, по словам Пастернака, Есенин «как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан».
Но и этот брак не принес новому Ивану-Царевичу счастья. У знаменитого уже поэта и не менее знаменитой, но заканчивающей карьеру танцовщицы в буквальном смысле слова не было общего языка: Айседора почти не говорила по-русски, Есенин не знал иностранных языков. В 1922 году странная семья (избранница была на восемнадцать лет старше Есенина) едет в путешествие по Европе и Америке. Несколько месяцев поэтические вечера, на которых Есенин, как и в России, с огромным успехом читает стихи, перемежаются скандалами с непримиримыми русскими эмигрантами и сценами ревности.
В Америку Есенин и Дункан (сама американка) попали далеко не сразу. Пограничные чиновники отказывались впустить их в страну, опасаясь, что прибывшая из советской России семья распропагандирует американцев. Разрешение на въезд было дано лишь по ходатайству американского президента, с условием, что Есенин не будет, как в Берлине, петь «Интернационал» в публичных местах.
В Новом Свете, не интересующемся поэзией, Есенин оказался всего лишь мужем Дункан, частью ее «свиты», деталью ее экзотического облика.
Он вернулся в Россию через полтора года. В неоконченных очерках об Америке Есенин восхищается «железной и гранитной мощью» страны («Это поэма без слов»), ее «культурой машин» и одновременно иронизирует над примитивностью, узостью американских нравов, напоминающих «незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича».
Самое большое впечатление на Есенина произвел огромный океанский пароход «Париж», чудо современной техники, заставившее поэта – пока теоретически – совсем по-иному взглянуть на воспеваемый им быт полевой Руси. «Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про „дым отечества“, про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за „Русь“ как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Милостивые государи! С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам как романтик в моих поэмах, – я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве» («Железный Миргород», 1923).
Сходные мысли и чувства Есенин выражает в стихах.
Равнодушен я стал к лачугам, И очажный огонь мне не мил, Даже яблонь весеннюю вьюгу Я за бедность полей разлюбил.<…>
Полевая Россия! Довольно Волочиться сохой по полям! Нищету твою видеть больно И березам и тополям. Я не знаю, что будет со мною… Может, в новую жизнь не гожусь, Но и все же хочу я стальною Видеть бедную, нищую Русь. («Неуютная лунная жидкость…», 1925)Но Есенин так и не успел или не захотел стать соратником Маяковского, певцом стальной Руси. Вернувшись из-за границы, он продолжает кочевую, богемную жизнь знаменитого поэта: расторгает брак с Айседорой Дункан и заключает иной, не менее династический, с внучкой писателя С. А. Толстой; лечится в нервной клинике; живет в Баку (там написаны «Персидские мотивы», «Русь уходящая», начата поэма «Анна Снегина»).
В ноябре 1925 года дописана и опубликована начатая еще за границей трагическая поэма «Черный человек», в которой страшным соблазнителем, исковеркавшим жизнь лирического героя, желтоволосого мальчика с голубыми глазами, оказывается он сам.
Черный человек Водит пальцем по мерзкой книге И, гнусавя надо мной, Как над усопшим монах, Читает мне жизнь Какого-то прохвоста и забулдыги, Нагоняя на душу тоску и страх. <…> …Месяц умер, Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один… И разбитое зеркало…23 декабря 1925 года Есенин ночным поездом отправляется в Ленинград. Всего десять лет назад юный стихотворец мечтал увидеться с Блоком и получить от него благословение. «Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта». Теперь в тот же город с иным именем – и уже без Блока – возвращается знаменитый поэт с неясной даже ему самому целью. Одной знакомой он рассказывает, что приехал начать новую жизнь: лечиться, работать, издавать свой журнал, как Некрасов. Другому знакомому, ленинградскому имажинисту В. Эрлиху, дарит стихи, написанные кровью, но просит прочитать их позднее.
Это восьмистишие – последнее написанное Есениным стихотворение.
До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье Обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки, без слова, Не грусти и не печаль бровей, — В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей.Утром 28 декабря его находят в снятом четыре дня назад номере гостиницы «Англетер». Есть люди, которые и до настоящего времени не верят, что это было самоубийство…
Посмертная слава Есенина гиперболически возросла. Влюбленная в него женщина, Галина Бениславская, ровно через год покончила с собой на его могиле. Это самоубийство было не единственным. В культурном обиходе появилось и даже попало в словари понятие есенинщина: упадочные настроения среди молодежи, часто сопровождавшиеся самоубийствами.
Среди «заупокойного лома» стихов, статей, воспоминаний выделяются стихотворение Маяковского и очерк Горького «Сергей Есенин» (1926). Вспоминая о встрече с поэтом, об авторском чтении, Горький произнес очень важные слова: «После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой „печали полей“ (слова С. Н. Сергеева-Ценского), любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком».
Есенина хоронили в Москве в последний день 1925 года. По пути на Ваганьковское кладбище гроб обнесли вокруг памятника Пушкину на Тверском бульваре.
Но, обреченный на гоненье, Еще я долго буду петь… Чтоб и мое степное пенье Сумело бронзой прозвенеть.Эти стихи поэт читал на том же самом месте всего полгода назад. Теперь памятник ему тоже стоит на Тверском бульваре неподалеку от пушкинского.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Есенина
ЗЛАТАЯ РУСЬ: МИР КАК МИФ
В предисловии к собранию сочинений (1924) Есенин разъяснял: ««Все творчество мое есть плод моих индивидуальных чувств и умонастроений. <…> В стихах моих читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность, которая указала пути многим и многим молодым поэтам и беллетристам. Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах. Он живет во мне органически так же, как мои страсти и чувства».
Заметим: поэт говорит не о разных образах (тропах), а о едином, целостном образе, который является основой русского духа и глаза (духовное и материальное перечислено в одном ряду) и оказывается основным камнем в стихах.
«Все стихи Сергея Есенина – песни одной большой поэмы, – заметил филолог К. В. Мочульский. – Отдельные сборники „Радуница“, „Голубень“, „Преображение“, „Трехрядница“, „Господи, отелись“, „Инония“ и другие – только главы ее. Замысел могучий, план простой, тема – едина. Годы, разделяющие циклы стихотворений, не изменяют общего построения» («Мужичьи ясли. О творчестве Сергея Есенина», 1923).
Лирическим изложением сходных идей является стихотворение «Душа грустит о небесах…» (1919).
Душа грустит о небесах, Она нездешних нив жилица. Люблю, когда на деревах Огонь зеленый шевелится. То сучья золотых стволов, Как свечи, теплятся пред тайной, И расцветают звезды слов На их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол. Но не стряхну я муку эту, Как отразивший в водах дол Вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами В хребты их пьющую луну… О, если б прорасти глазами, Как эти листья, в глубину.Первые два стиха здесь звучат вполне по-блоковски: поэт намекает на иной мир, к которому стремится душа (нездешние нивы, небеса). Но дальнейшая композиция строится на изображении именно этого мира, однако в отличном от акмеистской предметности духе. Есенин не называет вещи, как Ахматова, Гумилев или Мандельштам, а метафорически преобразует, раскрашивает их, создавая яркую, праздничную живописную картину, даже если отдельные детали и эпитеты говорят о другом.
Листья в этом стихотворении превращаются в зеленый огонь, сучья окрашиваются в золотой цвет и сравниваются со свечами, в воде отражается луна и комета, слова сравниваются со звездами. Прорастающие в глубину глаза одновременно видят прошлое и настоящее, мелкие детали и огромный мир. Образные детали не просто складываются в непротиворечивую картину, пейзаж, но объединяются чувством лирического героя, его особым, волшебным зрением.
К. В. Мочульский назвал метод ранней есенинской лирики зоологическим претворением мира и точно объяснил его истоки и своеобразие: «Излюбленный – и, быть может, единственный – прием, которым оперирует Есенин, – метафора. Он как будто специализируется на нем. У него огромное словесное воображение, он любит эффекты, неожиданные сопоставления и трюки. Мифология первобытного народа должна отражать его быт. <…> Скотовод воспринимает мироздание сквозь свое стадо. У Есенина это проведено систематически».
Метафора Есенина не обязательно наглядна, но всегда эмоционально обоснована и в этом смысле органична. С чем только не сравнивает, как только метафорически не преображает поэт любимую луну (месяц)! Существует целая гроздь «лошадиных» метафор: «Желтые поводья / Месяц уронил» («Дымом половодье…»); «Месяц, всадник унылый, / Уронил повода» («Покраснела рябина…»); «Хорошо бы, на стог улыбаясь, / Мордой месяца сено жевать…» («Закружилась листва золотая…»), «Рыжий месяц жеребенком / Запрягался в наши сани» («Нивы сжаты, рощи голы…»).
В других стихотворениях ночное светило превращается в кудрявого ягненка («За темной прядью перелесиц…»), желтого медведя («Пугачев»), утопленного щенка («Песнь о собаке»), золотую лягушку («Я покинул родимый дом…»), золотой бугор («Под красным вязом крыльцо и двор…»), маятник («Где ты, отчий дом…»), кувшин, которым можно зачерпнуть молоко берез («Хулиган»).
Основания для сравнения бегущего по небу месяца с жеребенком или отражения луны на воде с лягушкой очевидны: это простая метафора. Но, появившись однажды в мире Есенина, она развивается по своим законам, многократно преобразуется, теряет непосредственную наглядность, сохраняя однако, смысловую связь с первоначальным сравнением. Если месяц – жеребенок, то у него есть морда, и он может уронить повода. Если он так же молод и забавен, как жеребенок, то почему бы не увидеть в нем еще и ягненочка (хотя никакой внешней «кудрявости» в нем уже нет), а в полной луне – огромного рыжего медведя?
Зоологические сравнения и метафоры множатся: «Осень – рыжая кобыла – / чешет гриву» («Осень»), «Пляшет ветер по равнинам, / Рыжий ласковый осленок» («Сохнет стаявшая глина…»), «Тучи с ожереба / Ржут, как сто кобыл», «Небо словно вымя, / Звезды как сосцы» («Тучи с ожереба…»), «Отелившееся небо / Лижет красного телка» («Не напрасно дули ветры…»).
Вселенная Есенина – крестьянский двор, разросшийся до огромных, почти космических масштабов. Она изображается в ярких, резких тонах, напоминающих о русской иконописи (золотой, синий, голубой).
Но с небес поэт все время возвращается к подробностям крестьянской жизни: от щенка-месяца к обыкновенным щенкам, из мира-храма в деревенский дом.
Пахнет рыхлыми драченами; У порога в дежке квас, Над печурками точеными Тараканы лезут в паз. <…> А в окне на сени скатые, От пугливой шумоты, Из углов щенки кудлатые Заползают в хомуты. («В хате», 1914)При этом Есенин никогда не забывает, что он живописует русский мир. Слово Русь в его стихах столь же частотно, как и слово месяц. Уже в ранних стихах образ есенинской России противоречив. Она прекрасна, но бедна, разбойна и богомольна, кротко-печальна и разгульно-весела. Однако отношение к ней поэта неизменно. О любви к Родине Есенин говорит простыми словами.
Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою». («Гой ты, Русь, моя родная…», 1914) О Русь – малиновое поле И синь, упавшая в реку, — Люблю до радости и боли Твою озерную тоску. («Запели тесаные дроги…», 1916) Звени, звени, златая Русь, Волнуйся, неуемный ветер! Блажен, – кто радостью отметил Твою пастушескую грусть. Звени, звени, златая Русь. («О верю, верю, счастье есть!..», 1917)ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ: ОТ ИНОКА К ХУЛИГАНУ
В гармоничном мире златой Руси существует и соответствующий лирический герой. Как и в петербургских салонах, в лирических произведениях Есенин играет разные роли. Он – простой пастух, разгульный гусляр, смиренный инок, восхищенный созерцатель природы.
На бугре береза-свечка В лунных перьях серебра. Выходи, мое сердечко, Слушать песни гусляра. («Темна ноченька, не спится…», 1911) Пойду в скуфье смиренным иноком Иль белобрысым босяком — Туда, где льется по равнинам Березовое молоко. («Пойду в скуфье смиренным иноком…», 1914) Я – пастух; мои хоромы — В мягкой зелени поля. <…> Позабыв людское горе, Сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алы зори, Причащаюсь у ручья. («Я, пастух, мои палаты…», 1914)Естественно, у двадцатилетнего поэта были стихи, посвященные любви. При этом любимая девушка обычно изображается как фольклорная красная девица («Хороша была Танюша, краше не было в селе, / Красной рюшкою по белу сарафан на подоле»; / «С алым соком ягоды на коже, / Нежная, красивая, была / На закат ты розовый похожа / И, как снег, лучиста и светла»). Героиня первой баллады «Хороша была Танюша…» трагически гибнет, второе стихотворение «Не бродить, не мять в кустах багряных…» тоже повествует о расставании («Со снопом волос твоих овсяных / Отоснилась ты мне навсегда»). Но эти драматические события происходят в мире, который почти не затрагивают исторические события.
А. Блок откликнулся на начало мировой войны стихотворением, в котором проводы ополченцев на петроградском вокзале воспринимаются как народная трагедия, хотя сами участники ее не замечают:
В этом поезде тысячью жизней цвели Боль разлуки, тревоги любви, Сила, юность, надежда… В закатной дали Были дымные тучи в крови. <…> Эта жалость – ее заглушает пожар, Гром орудий и топот коней. Грусть – ее застилает отравленный пар С галицийских кровавых полей… («Петроградское небо мутилось дождем…», 1 сентября 1914)С. Есенин месяцем раньше тоже пишет о проводах на службу деревенских рекрутов. Поэт любуется колоритными деталями проводов, дает жанровую картинку, находясь на одном уровне, заодно с персонажами, никак не предчувствуя будущих катаклизмов.
Распевали про любимые Да последние деньки: «Ты прощай, село родимое, Темна роща и пеньки». Зори пенились и таяли. Все кричали, пяча грудь: «До рекрутства горе маяли, А теперь пора гульнуть». Размахнув кудрями русыми, В пляс пускались весело. Девки брякали им бусами, Зазывали за село.Его реакцией на революцию были бунтарские, богоборческие «маленькие поэмы», о которых уже говорилось в биографическом разделе главы. Но Есенин относился к ним по-особому. Он быстро «забыл» об этом религиозном прославлении переворота, отказался от абстрактно-религиозной, напоминающей об Андрее Белом и В. Маяковском, образности, перешагнул через нее. В собрании его сочинений поэмы составили особый раздел.
Однако в художественном мире Есенина происходят и дальнейшие существенные изменения. Любовно и тщательно воссоздаваемый мир деревенского мифа вдруг оказывается прошлым.
Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь. <…> Я не скоро, не скоро вернусь! Долго петь и звенеть пурге. Стережет голубую Русь Старый клен на одной ноге. («Я покинул родимый дом…»,1918)Эпитет голубой у Есенина чаще имеет не конкретный, а символический: смысл: это обозначение родного, близкого, любимого, божественного; голубыми оказываются долина, поле, водопой и одновременно – звездные кущи, душа, покой.
Этой деревянной, березовой, голубой Руси приходит конец. Эпитет златой с Руси переносится на совершенно иной, враждебный хронотоп.
Да! Теперь решено. Без возврата Я покинул родные поля. Уж не будут листвою крылатой Надо мною звенеть тополя. Низкий дом без меня ссутулится, Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах Умереть, знать, судил мне бог. Я люблю этот город вязевый, Пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия Опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, Когда светит… черт знает как! Я иду, головою свесясь, Переулком в знакомый кабак. («Да! Теперь решено.,Без возврата…», 1922)В сборниках «Исповедь хулигана» (1921) и «Москва кабацкая» (1923) возникает образ страшного, враждебного города, изогнутых улиц и мрачных кабаков, куда не проникает солнце, где «пьют, дерутся и плачут», визгливо поет гармоника или дребезжит гитара, а любовь надрывна и продажна.
Пой же, пой. На проклятой гитаре Пальцы пляшут твои в полукруг. Захлебнуться бы в этом угаре, Мой последний, единственный друг. Не гляди на ее запястья И с плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастья, А нечаянно гибель нашел. Я не знал, что любовь – зараза, Я не знал, что любовь – чума. Подошла и прищуренным глазом Хулигана свела с ума. («Пой же, пой. На проклятой гитаре…», 1922)Из есенинских стихов исчезают тихий инок и мирный пастух, а вместо них появляется иной образ поэта – хулигана и скандалиста, бесцельно и мучительно прожигающего жизнь.
Шум и гам в этом логове жутком, Но всю ночь напролет, до зари, Я читаю стихи проституткам И с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, И уж я говорю невпопад: «Я такой же, как вы, пропащий, Мне теперь не уйти назад». («Да! Теперь решено. Без возврата…», 1922)Эти стихи, лишь отчасти опирающиеся на реальную биографию поэта, принесли Есенину скандальную известность. Хулиган стал много известнее чем рязанский Лель или московский имажинист. Но логика поэтического дара вела Есенина дальше.
В 1923 году он вернулся на родину дважды: вернулся из-за границы и попытался вернуться к источнику своих стихов, своего юного вдохновения.
МЕЧТАТЕЛЬ НА РУСИ СОВЕТСКОЙ: ЖАЛОСТЬ, ЛЮБОВЬ, СМЕРТЬ
В 1924 году Есенин пишет еще один своеобразный цикл маленьких поэм, связанных тематически и даже ритмически (разностопный ямб с преобладанием пятистопного). Ключевые строки «Возвращения на Родину» (1924): «Но все ж готов упасть я на колени, / Увидев вас, любимые края». В есенинские стихи отчетливо входит история. Поэт с удивлением и тревогой отмечает произошедшие в родной деревне изменения: сбитый с церкви крест, настенный календарь с портретом Ленина вместо иконы, комсомолка-сестра, открывающая, как Библию, «Капитал» Маркса. Поэт и сам пытается освоить «евангелие» новой эпохи: «Давай, Сергей, / За Маркса тихо сядем, / Чтоб разгадать / Премудрость скучных строк» («Стансы», 1924). Но роман с «Капиталом» не получается, что приводит Есенина к безрадостному выводу:
Ах, родина! Какой я стал смешной. На щеки впалые летит сухой румянец. Язык сограждан стал мне как чужой, В своей стране я словно иностранец. <…> С горы идет крестьянский комсомол, И под гармонику, наяривая рьяно, Поют агитки Бедного Демьяна, Веселым криком оглашая дол. Вот так страна! Какого ж я рожна Орал в стихах, что я с народом дружен? Моя поэзия здесь больше не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. («Русь советская», 1924)Душой Есенин остается с Русью уходящей (так называется еще одна короткая поэма 1924 года): с жеребенком, который не может угнаться за поездом, с псалтырью, а не Марксом, с народной песней, а не агитками Демьяна Бедного или Маяковского.
В стихи 1923–1925 годов в гораздо большей, чем ранее, степени входит не только история, но и есенинская биография. Как и Маяковский, поэт вводит в стихи своих родных («Письмо матери», «Письмо деду», «Письмо к сестре»), подробности своей жизни («Мой путь»). Прежние образы инока, пастуха, хулигана сменяются лирическим героем, максимально близким автору.
«Читатель относится к его стихам как к документам, как к письму, полученному по почте от Есенина», – заметил – неодобрительно – современник поэта литературовед Ю. Н. Тынянов («Промежуток», 1924). Но такая интимность стала заразительным свойством стихов Есенина. С этого времени для поэтов и читателей нескольких поколений он становится близким собеседником, даже не поэтом Сергеем Есениным, а просто Сережей.
«Вы умеете, коль надо, / двинуть с розмаху по роже? / Вы умеете ли плакать? / Вы читали ли Сережу?» – спрашивает невидимых оппонентов начинающий шестнадцатилетний Павел Коган в эпоху, когда интерес к поэту был объявлен нежелательной есенинщиной («Я привык к моралям вечным…», 1934). (Через восемь лет поэт погибнет на войне, ему будет всего 24 года.)
Не достигнув и тридцати лет, Есенин чувствует себя человеком, прожившим огромную жизнь. В одном его стихотворении возникает афоризм, который тысячи раз переписывали в свои тетрадки, цитировали, повторяли разочарованные юноши:
Ведь и себя я не сберег Для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, Так много сделано ошибок. («Мне грустно на тебя смотреть…», 1923)Мотив подведения итогов становится определяющим в поздних стихах Есенина. Удаль, озорство, хулиганство воспринимаются теперь как прошлые ошибки. На смену им приходят покаяние, созерцательность, светлая грусть.
Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, Синь очей утративший во мгле, Эту жизнь прожил я словно кстати, Заодно с другими на земле. («Кто я? Что я?Только лишь мечтатель…», 1925)Поздняя лирика Есенина – постоянное прощание с миром.
Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные пожитки собирать. («Мы теперь уходим понемногу…», 1924)Дальше в стихотворении перечисляются ценности, с которыми больно расставаться: это те же детали русской природы, березовые чащи, осины, розовая вода (водь), лебяжья шея ржи. И опять, как в юности, Есенин простыми прямыми словами говорит о счастье существования, любви, творчества.
Много дум я в тишине продумал, Много песен про себя сложил, И на этой на земле угрюмой Счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве И зверье, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове.Зверье – предмет особого поэтического внимания Есенина. В его лирике постепенно сложился цикл стихотворений о драмах и трагедиях «братьев наших меньших». Он сочиняет стихи о старой корове, вспоминающей убитого сына-теленка («Корова», 1915), о раненой лисице («Лисица», 1915), он понимает горе собаки, щенков которой утопил бездушный хозяин («Песнь о собаке», 1915).
То же животное становится одним из главных героев стихотворения «Сукин сын» (1924). «Мне припомнилась нынче собака, / Что была моей юности друг», – вспоминает поэт о прошлом. А возвращение в родные места начинается со встречи с «молодым ее сыном» и трогательного вопроса: «Хочешь, пес, я тебя поцелую / За пробуженный в сердце май?»
В стихотворении «Собаке Качалова» (1925) реальный Джим, пес известного артиста Московского художественного театра, наделяется еще одной ролью: любовного посредника, который должен объяснить любимой женщине то, в чем так и не сумел признаться сам поэт: «Она придет, даю тебе поруку. / И без меня, в ее уставясь взгляд, / Ты за меня лизни ей нежно руку /За все, в чем был и не был виноват».
Друг и брат животных оказывается собратом всего живого.
Мотив смерти как растворения в природе представлен в поздних стихах Есенина не только прямо, в виде словесных формулировок («Листья падают, листья падают. / Стонет ветер, / Протяжен и глух. / Кто же сердце порадует? / Кто его успокоит, мой друг?»), но и в духе ранней лирики, мифологически.
В первой строфе стихотворения «По осеннему кычет слова» (1920) из осеннего пейзажа вырастает сравнение: «Облетает моя голова, / Куст волос золотистый вянет». Во второй и третьей строфах происходит мгновенная трансформация, преображение: лирический герой превращается в дерево. Осина называется его матерью, месяц садится в его редкие кудри (крона с листьями), зимой эти кудри-листья совсем облетают («Скоро мне без листвы холодеть, / Звоном звезд насыпая уши»). Завершается стихотворение композиционным кольцом:
Новый с поля придет поэт, В новом лес огласится свисте. По-осеннему сыплет ветр, По-осеннему шепчут листья.Подобное отождествление – важная часть лирического чувствования поэта. Образы-бревна (вспомним еще раз метафору «изба нашего мышления» в «Ключах Марии»), плотно прилегая друг к другу, создают миф о человеке-дереве, человекодереве.
По другим текстам мы, кажется, можем догадаться, что это – клен. «…Тот старый клен / Головой на меня похож», – концовка стихотворения «Я покинул родимый дом» (1918). «Нынче юность моя отшумела, / Как подгнивший под окнами клен», – сказано в стихотворении «Сукин сын» (1924). В финале стихотворения «Слышишь – мчатся сани, слышишь – сани мчатся…» (3 октября 1925) герой танцует на зимней поляне вместе с любимой и кленом. В знаменитом «Клен ты мой опавший, клен заледенелый» (28 ноября 1925): «Сам себе казался я таким же кленом, / Только не опавшим, а вовсю зеленым». Образ прорастает корнями в глубину, скрепляет отдельные стихи в циклы и книги.
В последних стихах Есенина поэтика сложных образов (недаром он исповедовал имажинизм) сочетается с поэзией простых слов (недаром он больше всего любил Пушкина).
Над окошком месяц. Под окошком ветер. Облетевший тополь серебрист и светел. Дальний плач тальянки, голос одинокий — И такой родимый, и такой далекий. Плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя липа? Липа вековая? («Над окошком месяц. Под окошком ветер…», август 1925) Вечером синим, вечером лунным Был я когда-то красивым и юным. Неудержимо, неповторимо Все пролетело… далече… мимо… Сердце остыло, и выцвели очи… Синее счастье! Лунные ночи! («Вечером синим, вечером лунным…», октябрь 1925)Буйство праздничных красок в последний раз вспыхивает в цикле «Персидские мотивы» (1924–1925). Написанные в Баку об экзотической Персии (в которой Есенин так никогда и не побывал), стихи изображают причудливый восточный мир в тех же цветах, в каких юный поэт видел Русь, – в золотом и голубом: голубую оставил Русь – голубая родина Фирдуси, голубая да веселая страна; звени, звени златая Русь, золотою лягушкой луна – в лунном золоте целуйся и гуляй.
И о любви Есенин теперь пишет не грубо и откровенно, в духе «Москвы кабацкой», но с грустью и сожалением:
Шаганэ ты моя, Шаганэ! Там, на севере, девушка тоже, На тебя она страшно похожа, Может, думает обо мне… Шаганэ ты моя, Шаганэ.Эта строфа, как и большинство стихов «Персидских мотивов» (и не только они), строится по принципу композиционного кольца. Постоянные анафоры, синтаксический параллелизм, другие виды повторов в поздних стихах Есенина не случайны.
Основная, доминирующая интонация есенинских стихов – песенная. Исследователи называют такой тип стиха напевным. Современники, слышавшие авторское исполнение, свидетельствуют: поэт не просто читал, а почти пел стихи, растягивая гласные, выделяя в произведении внутреннюю мелодию. Не случайно позднее на есенинские тексты было написано множество песен; некоторые из них приобрели звание «народных».
В рассказе В. М. Шукшина «Верую!» герой, у которого вдруг заболела душа, приходит за помощью к деревенскому попу, но вместо ожидаемой проповеди слышит резкие, иронические разговоры и песню об опавшем клене, предваренную мудрым замечанием: «Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает». Есенинская короткая песня стала важным, необходимым звеном русской лирики XX века.
Есенин и Маяковский часто сталкивались, полемизировали, претендовали на первое место в поэзии 1920-х годов. Эстетические отношения между их художественными мирами можно представить цепочкой оппозиций.
Есенин – последний поэт деревни. – Маяковский – певец адища города.
Есенин – чистый лирик, он даже Пугачева делает своим alter ego. – Маяковский из лирического рода все время рвется к эпосу, к изображению Революции и Истории.
Имажинист Есенин смотрит в прошлое. – Футурист Маяковский рвется в будущее.
Метафора Маяковского конструктивна, способ ее развертывания – реализация (пожар сердца). – Метафора Есенина – органична, она развертывается в антропоморфные образы («старый клен головой на меня похож»).
Стих Маяковского – ораторский, он строится на акцентированном слове, на выкрике («Слушайте, товарищи потомки!»). – Стих Есенина – напевный, он ориентирован, скорее, на внутреннее интонирование, на бормотание («Отговорила роща золотая…).
Есенин и Маяковский – полюса русской лирики XX века. Но однополюсных магнитов, как известно, не бывает.
Михаил Александрович ШОЛОХОВ (1905–1984)
ВЁШЕНСКИЙ САМОРОДОК: СТРЕМЯ «ТИХОГО ДОНА»
«Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова» (О. Э. Мандельштам «Шум времени», 1925). Еще сложнее обстоит дело с биографией в простонародной, крестьянской культуре, где не сохраняют писем, редко пишут воспоминания, а своих предков помнят не дальше третьего колена.
«И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг», – определял Б. Л. Пастернак задачу художника («Быть знаменитым – некрасиво…», 1956). Шолохов, кажется, перевыполнил ее. Многочисленные пробелы, как в его судьбе (особенно – в ранние годы), так и среди бумаг, привели к ожесточенной полемике и возникновению «шолоховского вопроса» (до этого историки литературы знали лишь «гомеровский» и «шекспировский» вопросы). Автор великой – и огромной – книги оставил множество загадок в своей биографии. О нем спорят так, как будто он был современником английского драматурга (рубеж XVI–XVII веков) или греческого эпического поэта (VIII век до н. э.). Между тем, со дня его рождения прошло чуть более ста лет.
Михаил Александрович Шолохов, согласно его официальной биографии, родился 11 (24) мая 1905 года на хуторе Кружилин станицы Вешенской области войска Донского. Однако даже эта дата не общепризнанна. Год рождения писателя иногда сдвигают вниз от одного до пяти лет (1904–1900).
Многое в биографии будущего писателя (как и поэта А. А. Фета) определила семейная тайна. Мать будущего писателя Анастасия Даниловна Черникова родила сына вне брака, до 1913 года он считался казаком и носил фамилию Кузнецов, и лишь после смерти фиктивного отца был усыновлен отцом настоящим, получил фамилию Шолохов, но зато потерял право на казачий надел, потому что его отец был не казаком, а иногородним.
Александр Михайлович Шолохов приехал на Дон с Рязанщины, служил приказчиком, довольно успешно торговал (в 1917 году, в разгар революции, он купил мельницу, которую вскоре пришлось бросить), но в 1925 году умер от пьянства.
Эти драматические события (в детстве мальчика, подобно герою его раннего рассказа, дразнили «нагульным сыном» и «нахаленком») навсегда отбили у Шолохова желание рассказывать о себе даже самым близким людям. Е. Г. Левицкая, многолетний близкий друг Шолохова (ей посвящен рассказ «Судьба человека») заметила: «За семью замками, да еще за одним держит он свое нутро» («На родине „Тихого Дона”», 1930).
Немногочисленные автобиографии Шолохова очень кратки и противоречивы.
Самый важный, переломный этап его жизни – с революции до начала писательской работы – описан всего в нескольких строчках: «Я в это время (революции 1917 года – И. С.) учился в мужской гимназии в одном из уездных городов Воронежской губернии. В 1918 году, когда оккупационные немецкие войска подходили к этому городу, я прервал занятия и уехал домой. После этого продолжать учение не мог, так как Донская область стала ареной ожесточенной гражданской войны. До занятия Донской области Красной Армией жил на территории белого казачьего правительства.
С 1920 года, то есть с момента окончательного установления Советской власти на юге России, я, будучи пятнадцатилетним подростком, сначала поступил учителем по ликвидации неграмотности среди взрослого населения, а потом пошел на продовольственную работу и, вероятно унаследовав от отца стремление к постоянной смене профессий, успел за шесть лет изучить изрядное количество специальностей. Работал статистиком, учителем в низшей школе, грузчиком, продовольственным инспектором, каменщиком, счетоводом, канцелярским работником, журналистом. Несколько месяцев, будучи безработным, жил на скудные средства, добытые временным трудом чернорабочего. Все время усиленно занимался самообразованием» («Автобиография», 1934).
Эти скупые факты обросли многочисленными увлекательными легендами. Опираясь на лаконичное замечание писателя в другой автобиографии («Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами. Все шло как положено», 1931), биографы рассказывали, что Шолохов был захвачен анархистами и знаменитый батька Махно, по одной версии, хотел его расстрелять, по другой – приглашал в свое войско. Утверждали, что пятнадцатилетний подросток (как Аркадий Гайдар) был командиром отряда в 270 человек и активным комсомольцем (хотя будущий писатель не был ни тем, ни другим). Фантазировали, что одно время он жил в одном курене (так называют на Дону дома) с известным бандитом Фоминым, который станет одним из героев «Тихого Дона».
Степень активного участия Шолохова в исторических событиях позднее все время пытались преувеличить, в то время как он был – до поры до времени – их скромным свидетелем, чтобы совсем скоро превратиться в неподкупного летописца.
С осени 1922 года Шолохов уже в Москве в той же роли никому не известного юноши, ищущего себя и берущегося за любую работу. В это время он начинает занятия в литературных кружках и объединениях и пишет первые рассказы на знакомом материале Гражданской войны на Дону. Довольно быстро из публикаций в журналах сложился сборник «Донские рассказы» (1926), в дополненном виде переизданный под заглавием «Лазоревая степь».
Главной темой Шолохова уже в первых рассказах становится ужас и жестокость Гражданской войны. Главным принципом – беспощадная правда, противостоящая выдуманной поэтичности, литературному украшательству. В основе большинства рассказов сборника – трагические конфликты, которые разрывают, разрушают семейные связи: муж убивает жену, сын идет на отца, брат – на брата.
В предисловии к сборнику «Лазоревая степь» Шолохов полемически утверждал: «В Москве, на Воздвиженке, в Пролеткульте на литературном вечере МАППа (Московской ассоциации пролетарских писателей – И. С.) можно совершенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и не просто ковыль, а „седой ковыль“) имеет свой особый запах. Помимо этого, можно услышать о том, как в степях донских и кубанских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные бойцы.
Какой-нибудь не нюхавший пороха писатель очень трогательно рассказывает о гражданской войне, красноармейцах, – непременно – „братишках“, о пахучем седом ковыле, а потрясенная аудитория, преимущественно милые девушки из школ второй ступени, щедро вознаграждают читающего восторженными аплодисментами.
На самом деле ковыль – поганая белобрысая трава. Вредная трава, без всякого запаха. По ней не гоняют гурты овец потому, что овцы гибнут от ковыльных остьев, проникающих под кожу. Поросшие подорожником и лебедой окопы (их можно видеть на прогоне за каждой станицей), молчаливые свидетели недавних боев, могли бы порассказать о том, как безобразно просто умирали в них люди».
Критики еще называют Шолохова представителем «крестьянского литературного молодняка». А он в это время совершает, быть может, один из решающих поступков, определивших его судьбу: возвращается на родину, чтобы, как потом окажется, навсегда остаться на месте действия и среди героев своей главной книги.
В 1925 году двадцатидвухлетний автор двух десятков рассказов, за плечами которого всего четыре класса гимназии, начинает писать огромный роман о только что миновавшей эпохе. На такой труд среди современников решались немногие. Последующая жизнь Шолохова, прежде всего, связана с литературным творчеством, хотя история то отрывает его от работы, то врывается в его книги.
Работа над «Тихим Доном», как признавался Шолохов, шла «запоем». Две первые книги были написаны за два с половиной года и опубликованы уже в 1928 году. Третья книга писалась гораздо медленнее: она была напечатана в 1929–1932 годах.
В это время в СССР началась коллективизация, «великий перелом», который А. И. Солженицын назовет «великим перешибом» хребта русского крестьянства. Шолохов отрывается от «Тихого Дона» и идет по следам современной истории, пишет роман «Поднятая целина» (1932), первоначальное заглавие которого было «С кровью и потом».
В отличие от «Тихого Дона», драматизм романа о коллективизации значительно уступал трагизму подлинных событий. Рассказывая о передовом двадцатипятитысячнике Семене Давыдове, об изменениях в сознании казаков, о трудной организации колхоза и счастливой новой жизни, Шолохов видит вокруг совсем иное. Жизнь опрокидывает придуманные схемы, коллективизация и раскулачивание оказываются продолжением Гражданской войны – с насилием, голодом, смертями.
«…Я все такой же, только чуть-чуть погнутый. Я бы хотел видеть такого человека, который сохранил бы оптимизм и внимательность к себе и близким при условии, когда вокруг него сотнями мрут от голода люди, а тысячи и десятки тысяч ползают опухшие и потерявшие облик человеческий, – рассказывает Шолохов о результатах коллективизации давней знакомой. – Я мотаюсь и гляжу с превеликой жадностью. Гляжу на все. А поглядеть есть на что. Хорошее: опухший колхозник, получающий 400 гр. хлеба пополам с мякиной, выполняет дневную норму. Плохое: один из хуторов, в нем 65 хозяйств. С 1-го февраля умерло около 150 человек. По сути – хутор вымер. Мертвых не заховывают, а сваливают в погреба. Это в районе, который дал стране 2 300 000 пудов хлеба. В интересное время мы живем! До чего богатейшая эпоха!..» (Е. Г. Левицкой, 30 апреля 1932 г.)
Несколько раз в 1930-е годы Шолохов встречается со Сталиным и обращается к нему с посланиями по поводу положения дел в крестьянской России. Эти письма, как правило, остаются без ответа. В 1937 году опасность нависла над самим писателем: арестованы несколько его близких знакомых, ростовских коммунистов, уже собраны документы на него самого как члена контрреволюционной организации. Поездка (практически – побег в Москву) и встреча со Сталиным помогает писателю не только избежать ареста, но и вернуть некоторых арестованных. Странные отношения с вождем, его расположение к Шолохову, который, в отличие от многих, не принимал активного участия в формировании культа личности, – еще одна загадка шолоховской биографии. Написанная после смерти Сталина шолоховская статья-некролог называлась «Прощай, отец!» (8 марта 1953).
Четвертую книгу «Тихого Дона» Шолохов завершает и публикует только в 1940 году. Ее трагический пафос и огромная художественная сила были признаны по обе стороны великого русского разлома, на какое-то время объединили советских и эмигрантских читателей.
В 1941 году за роман «Тихий Дон» Шолохов получает Сталинскую премию. Еще раньше (1939) он был награжден орденом Ленина, стал писателем-орденоносцем и одновременно – действительным членом Академии наук СССР. «Тихий Дон» публикуется огромными тиражами, о нем высказываются многие писатели и критики – от давнего поклонника Шолохова, старого писателя, автора «Железного потока» А. Серафимовича до А. Фадеева и А. Толстого. В специально посвященной Шолохову монографии критик канонизирует его как главного советского писателя: ««В романах Шолохова ощущаешь черты и величие того нового, что будет называться советской классической литературой» (В. Гоффеншефер «Михаил Шолохов», 1940).
Но, может быть, важнее для автора были не премии и ордена, а слезы читателей, оказавшихся по другую сторону баррикад, навсегда потерявших Тихий Дон. «Роман М. Шолохова „Тихий Дон“ есть великое сотворение истинно русского духа и сердца… Читал я „Тихий Дон“ взахлеб, рыдал-горевал над ним и радовался – до чего же красиво и влюбленно все описано, и страдал-казнился – до чего же полынно-горька правда о нашем восстании. И знали бы вы, видели бы, как на чужбине казаки… зачитывались „Тихим Доном“… И многие рядовые и офицеры допытывались у меня: „Ну, до чего же все точно Шолохов про восстание написал. Скажите… кем он у вас служил в штабе, энтот Шолохов“. И я, зная, что автор „Тихого Дона“ в ту пору был еще отроком, отвечал полчанам: „То все… талант, такое ему от Бога дано видение человеческих сердец”», – вспоминал через много лет (1961) воевавший с Красной армией командующий повстанческими войсками на Дону П. Н. Кудинов.
Уже на первой странице романа в пейзажном описании упоминается стремя Дона. Обычно так называют середину реки, место с наибольшей глубиной и быстрым течением. После окончания романа Шолохов надолго оказался на стремени литературного процесса. Путь от начинающего автора до всемирно признанного классика самородок из станицы Вёшенской проделал всего за пятнадцать лет.
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ: БРЕМЯ ВЕЛИКОЙ КНИГИ
Великая Отечественная война становится для Шолохова, как и для многих русских людей, страшным испытанием и трагедией. Полученную за «Тихий Дон» премию он передает в фонд обороны. Всю войну, как и многие писатели, он работает военным журналистом, ездит в действующую армию, публикует публицистические статьи о происходящем. В 1942 году, когда фронт подходит к родным местам, во время бомбежки Вёшенской был разрушен шолоховский дом, погибла мать, почти полностью уничтожен архив.
Шолохов-гражданин активно участвует в войне. Шолохов-писатель испытывает явный кризис. В то время, когда А. Твардовский создает «Василия Теркина», когда всенародно известными становятся стихи и повести К. Симонова, публицистика И. Эренбурга, когда в окопах, на полях войны зарождаются новая проза и поэзия военного поколения, Шолохов почти замолкает. Во время войны появляются лишь его рассказ «Наука ненависти» (1942) и главы из романа «Они сражались за Родину» (1943).
Этот третий шолоховский роман стал очередной легендой. Писатель окончил первую книгу в 1949 году, потом неоднократно сообщал о завершении второй книги (первоначально была задумана трилогия), публиковал главы из нее, роман инсценировался, экранизировался, изучался – но так и остался неоконченным.
В послевоенные десятилетия Шолохов публикует лишь рассказ «Судьба человека» (1956) и наконец-то завершает вторую книгу романа «Поднятая целина» (1959). Все остальные замыслы (в частности, проблемная повесть об освоении целины) остались нереализованными. Почти за сорок лет послевоенной жизни, находясь в неизмеримо более благоприятных, чем в юности, условиях, Шолохов написал намного меньше, чем за те два с половиной года, когда «запоем» сочинялись первые тома «Тихого Дона».
Писатель оказался заложником первой великой книги. Когда в 1965 году ему, третьему из русских авторов, но первому советскому писателю (Бунин на идеологическом языке эпохи был антисоветским, а Пастернак – несоветским) была присуждена Нобелевская премия, ее заслужил на самом деле не шестидесятилетний, получивший все возможные государственные знаки признания патриарх, а молодой человек, рискнувший начать работу над огромным романом о ближней истории, когда ему было чуть больше двадцати, и успевший окончить его, когда ему было еще далеко до сорока лет. В лауреатском дипломе было сказано, что премия вручается Шолохову «в знак признания художественной силы и честности, которые он проявил в своей донской эпопее об исторических фазах жизни русского народа».
Нобелевская речь Шолохова была краткой. В ней он полемически защищал реалистический метод и жанр романа (в шестидесятые годы как раз много говорили о смерти реализма и конце романа) и присягал в верности советскому строю и простому человеку: «Я горжусь тем, что эта премия присуждена писателю русскому, советскому. Я представляю здесь большой отряд писателей моей Родины. <…>
Человечество не раздроблено на сонм одиночек, индивидуумов, плавающих как бы в состоянии невесомости, подобно космонавтам, вышедшим за пределы земного притяжения. Мы живем на земле, подчиняемся земным законам, и, как говорится в Евангелии, дню нашему довлеет злоба его, его заботы и требования, его надежды на лучшее завтра. Гигантские слои населения земли движимы едиными стремлениями, живут общими интересами, в гораздо большей степени объединяющими их, нежели разъединяющими.
Это люди труда, те, кто своими руками и мозгом создает все. Я принадлежу к числу тех писателей, которые видят для себя высшую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой возможности служить своим пером трудовому народу. <…>
Мой родной народ на своих исторических путях шел вперед не по торной дороге. Это были пути первооткрывателей, пионеров жизни. Я видел и вижу свою задачу как писателя в том, чтобы всем, что написал и напишу, отдать поклон этому народу-труженику, народу-строителю, народу-герою, который ни на кого не нападал, но всегда умел с достоинством отстоять созданное им, отстоять свою свободу и честь, свое право строить себе будущее по собственному выбору» («Живая сила реализма», 1965).
Загадочное и странное молчание писателя в последние десятилетия сочеталось с его активной общественной деятельностью: Шолохов много раз избирается депутатом советских органов, партийных и писательских съездов, выступает с речами, пишет газетные напутствия и поздравления, встречается с молодыми писателями, зарубежными гостями, сельскими тружениками.
Еще больше времени он отводит любимым занятиям: охоте и рыбной ловле, причем его угодьями является вся страна. Известие о Нобелевской премии застает писателя на рыбалке в Казахстане, в 300 километрах от ближайшего города, и для составления благодарственной ответной телеграммы за ним приходится посылать специальный самолет.
Некоторые суждения позднего Шолохова кажутся изменой подлинному гуманизму, традиции «милости к падшим», которая была определяющей в «Тихом Доне» и вообще в русской литературе. Вскоре после вручения Нобелевской премии Шолохов выступает на XXIII съезде КПСС (1966). Незадолго перед этим писатели Ю. Даниэль и А. Синявский были осуждены как уголовные преступники за публикацию своих произведений на Западе. Этот шаг советской власти вызвал активное противодействие многих советских людей, прежде всего интеллигентов. Появилось несколько коллективных писем: наказание осужденным писателям предлагали заменить на условное, перевоспитывать их, как школьников, по месту жительства и работы.
На этом фоне позиция Шолохова была жестокой и непримиримой. «Мне стыдно не за тех, кто оболгал Родину и облил грязью все самое светлое для нас. Они аморальны. Мне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обращается с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев, – заявлял он с официальной трибуны. – И еще я думаю об одном. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго ограниченные статьи Уголовного кодекса, а „руководствуясь революционным правосознанием“, ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о „суровости“ приговора».
Кажется, это сказал не автор «Тихого Дона», а какой-то другой человек, подозрительный, мстительный, отрицающий свободу творчества, не понимающий специфики литературы, различий между точкой зрения автора и персонажа, особенностей сатирической поэтики. На таком фоне вновь возник шолоховский вопрос, отравлявший писателю жизнь еще в двадцатые годы.
ШОЛОХОВСКИЙ ВОПРОС: ИСТИНА И ВЕРА
«Проблему Шолохова» в общем виде обозначил Пушкин в стихотворении «Поэт» (кстати, очень любимом Шолоховым): «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботах суетного света / Он малодушно погружен; / Молчит его святая лира; / Душа вкушает хладный сон, / И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он» (1827).
На менее поэтическом языке вопрос можно поставить так: «Где в обыкновенном человеке скрывается, прячется великий писатель?»
К XX веку уже несколько столетий насчитывал шекспировский вопрос. Поскольку о Шекспире-человеке, условиях его творческой работы известно крайне мало, подозрительные профессиональные читатели нескольких поколений удивлялись, что «какой-то ничтожный актер мог написать такие великие произведения». Тем более, что за три года до смерти драматург перестал сочинять пьесы, уехал в родной город Стратфорд, жил тихо и незаметно и, умирая, завещал жене «вторую по качеству кровать».
С тех пор как скромный сын перчаточника (по другим данным – мясника) превратился в «великого Шекспира», не прекращаются попытки подыскать для «Ромео и Джульетты» и «Гамлета» более «приличного» автора. «Кандидатами в Шекспиры» в разное время побывали философ Ф. Бэкон, аристократ граф Ретлэнд вместе со своей женой, еще несколько графов. Однако такого рода гипотезы появились через много лет после смерти Шекспира.
«Шолоховский вопрос» возник сразу после публикации первых томов «Тихого Дона». Уже в 1929 году появились слухи, что очень молодой и «не кончавший гимназий» провинциал – плагиатор, воспользовавшийся рукописями погибшего белого офицера. Оскорбленный Шолохов привез в Москву чемодан черновиков романа и ранних рассказов, специальная комиссия под председательством сестры Ленина М. И. Ульяновой изучила их и опубликовала в газетах опровержение клеветы.
Однако после получения Шолоховым Нобелевской премии и на фоне многолетнего писательского молчания подозрения сформировались в гипотезу о «двух авторах», один из которых будто бы написал роман, а Шолохов его только отредактировал, дописал, обработал. Ее активным сторонником, между прочим, был следующий русский Нобелевский лауреат А. И. Солженицын, написавший предисловие к «антишолоховской» книге филолога И. Н. Томашевской «Стремя Тихого Дона» (1974) и поддержавший версию о «первоначальном авторе» донском журналисте Ф. Д. Крюкове (1870–1920).
Строить подобные гипотезы было тем легче, что ранние рукописи писателя считались погибшими во время войны. В конце XX – начале XXI века «соавторами» Шолохова или «настоящими авторами» объявлялись, кроме Крюкова, и еще несколько донских журналистов, и его литературный «крестник» А. С. Серафимович, написавший предисловие к «Донским рассказам», и его тесть П. Я. Громославский, и даже великий и абсолютно не похожий на Шолохова по стилистической манере А. П. Платонов – всего около десятка человек. Лишь в самом конце века, в 1999 году, стали доступны рукописи первых двух книг «Тихого Дона», много лет тайно хранившиеся в семье погибшего на войне шолоховского друга. Вопрос об авторе «Тихого Дона», кажется, был окончательно закрыт.
Однако даже 673 страницы, написанные забытой уже перьевой ручкой и простым карандашом, не убедили некоторых скептиков. Того, кому хочется найти для великого романа любого другого автора, но только не Шолохова, убедить вряд ли возможно. Ф. Энгельс когда-то утверждал, что если бы в арифметику вмешивались человеческие эмоции, мало кто согласился бы признать, что дважды два – четыре.
Шолоховский вопрос сегодня – вопрос не истины, а веры.
Один из близких друзей писателя, сын Е. А. Левицкой, напомнил главное: «Шолохов дал людям „Тихий Дон“. И даже если он больше ничего бы не написал, он свой долг перед человечеством выполнил».
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
«Тихий Дон» (1925–1940)
КАЗАЦКИЙ ЭПОС: МЕЖДУ ТОЛСТЫМ И ГОМЕРОМ
«Тихий Дон» – самое длинное произведение среди классических русских романов XX века. В нем четыре тома, восемь частей, больше семисот персонажей, около полутора тысяч страниц. По объему и охвату событий – это почти точная копия «Войны и мира» (в 1928 году на родине писателя отрывок из первой книги романа публиковался под редакционным заглавием «Казачья „Война и мир”»).
Сопоставление с толстовским произведением не случайно. Уже первые критики увидели в произведении Шолохова не только современную социальную проблематику, но и ориентацию на жанровую схему Толстого. «Замысел „Тихого Дона”» – показать социальные сдвиги в среде крестьянства, в данном случае казачества и преимущественно середняков, в результате войны и революции. Но замысел этот не ограничивается рамками индивидуальных сдвигов, или шире – сдвигов в пределах одной семьи. Он расширяется до социального разреза целой эпохи и вкладывается в жанр романа-эпопеи» (А. П. Селивановский «Тихий Дон», 1929).
Жанровое определение «Тихого Дона» как романа-эпопеи стало общепризнанным (во французской литературе есть аналогичное метафорическое определение роман-река).
Л. Н. Толстой, в свою очередь, создавая новый жанр, обозначал далекий жанровый ориентир. «Без ложной скромности – это как Илиада», – скажет он в конце жизни (М. Горький «Лев Толстой», 1923).
Однако роман-эпопея «Гомера русской „Илиады”» (А. Ф. Кони), естественно, отличается от гомеровской поэмы-эпопеи. Толстой вносит в свой эпос подробный психологический анализ и философскую проблематику XIX века. Шолохов в этом смысле делает шаг назад, в прошлое, от Гомера русского к Гомеру греческому.
«Тихий Дон» отличается от «Войны и мира» отсутствием четкой социальной вертикали (выходы на вершины власти, к своим Александрам и Багратионам, у Шолохова эпизодичны), диалектики души (ее заменяют живописный показ героев и суммарный психологизм, диалектика поведения), философии истории (дело ограничивается идеологическими лозунгами эпохи и краткими сентенциями повествователя). Это эпос не интеллектуальный, а низовой, почвенный, наивный.
Внешне композиционная структура романа уравновешенна, почти симметрична: четыре книги, восемь частей, которые, тоже как у Толстого, делятся на четкие главки-эпизоды. Но эта гармоничность обманчива. Три части первой книги (21, 23 и 24 главы) сменяются двумя частями книги второй (части 4–5, 21 и 31 главы). Третья книга вообще написана одним куском, состоит из одной части (часть 6, 65 глав). В четвертой книге снова появляется двучастное деление (части 7–8, 29 и 17 глав). Столь же непропорциональна, негармонична и структура отдельных глав. Некоторые занимают одну-две страницы и являются чисто информативными, другие, наоборот, весьма пространны и содержат несколько разноплановых эпизодов.
Так же обстоит дело и с другими уровнями и элементами шолоховского произведения. Композиционную стройность и стилистический блеск нужно искать не в «Тихом Доне», а в других местах. Это циклопическое сооружение сложено из неотшлифованных, необтесанных блоков.
Литература модернизма, как мы помним, часто строилась на эстетском, технологическом подходе: писатель становился собственным критиком и стремился отшлифовать произведение до блеска, рассчитать стилистический эффект каждого тропа, каждого слова. Автор думал не о читателе, а выполнял поставленную художественную задачу.
Шолохов учитывает некоторые модернистские стилистические приемы, оригинально использует диалектную лексику и тропы, но все-таки опирается на иные, более глубокие художественные принципы. В эссе «Суеверная этика читателя» (1932), написанном как раз в годы работы Шолохова над «Тихим Доном», аргентинский писатель-модернист X. Л. Борхес (1899–1986) описывал два противоположных способа создания художественного произведения, две писательские стратегии: «Нищета современной словесности, ее неспособность по-настоящему увлекать породили суеверный подход к стилю, своего рода псевдочтение с его пристрастием к частностям… Суеверие пустило-таки свои корни: уже никто не смеет и заикнуться об отсутствии стиля там, где его действительно нет, тем паче если речь идет о классике… Обратимся, например, к „Дон Кихоту“. Поскольку успех книги здесь не подлежал сомнению, испанские критики даже не взяли на себя труда подумать, что главное и, пожалуй, единственное бесспорное достоинство романа – психологическое. Сочинению Сервантеса стали приписывать стилистические достоинства, для многих так и оставшиеся загадкой. Но прочтите два-три абзаца из „Дон Кихота“ – и вы почувствуете: Сервантес не был стилистом (по крайней мере, в нынешнем, слухоусладительном смысле слова). Судьбы Дон Кихота и Санчо слишком занимали автора, чтобы он позволил себе роскошь заслушиваться собственным голосом».
Современной «тщеславной жажде стиля», «опустошительной жажде совершенства» Борхес противопоставлял старый «содержательный» принцип: «Писателя ведет избранная тема». Автора «Тихого Дона» тоже ведет избранная тема. Правда, она далеко не сразу прояснилась, далась писателю в руки.
Из скупых автобиографических признаний известно, что книга начиналась с революционных событий. «В 1925 г. осенью стал было писать „Тихий Дон“, но после того, как написал 3–4 печатных листа (около 60 книжных страниц – И. С.), – бросил. Показалось – не под силу. Начинал первоначально с 1917 г., с похода на Петроград генерала Корнилова. Через год взялся снова и, отступив, решил показать довоенное казачество» («Автобиография», 1932).
В итоге эти главы затерялись во втором томе. Генерал Корнилов, как и другие реальные, исторические фигуры (белый генерал Краснов, с другой стороны – красный казак Подтелков), оказались проходными, эпизодическими персонажами. Отступив назад, в 1912 год (столетие той войны, которую сделал предметом своей эпопеи Лев Толстой), автор в то же время резко сузил поначалу горизонт повествования.
«Тихий Дон» начинается как семейная сага (сагами назывались родовые повествования в древнеисландской литературе; В. И. Даль дает такие синонимы этого слова: дума, сказанье, былина).
Прологом романа становится история рода Мелеховых. С русско-турецкой войны (речь идет о Крымской войне 1854–1855 годов, участником которой был Л. Н. Толстой, описавший ее в «Севастопольских рассказах») Прокофий Мелехов привозит на хутор жену-турчанку, защищая ее, убивает соседа – хуторянина, попадает на каторгу, возвращается только через двенадцать лет к преждевременно родившемуся, выросшему без отца сыну. «Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой. Женил его Прокофий на казачке – дочери соседа. С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному – Турки» (кн. 1, ч. 1, гл. 1).
Бытовые детали первой экспозиционной главы в развитии повествования становятся важными мотивами, приобретают символический смысл: мелеховский двор – на самом краю хутора; любовь Прокофия удивительна, небывала, непонятна для хуторян («Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана»); потом герой совершает убийство, которое сопровождается рождением ребенка и смертью матери.
Любовь, рождение, естественная и насильственная смерти сплетаются в тугой узел человеческого существования на самом краю, где действуют, скорее, не исторические, а легендарные, мифологические законы.
Потом все успокаивается, страсти уходят в глубину, младший сын, «звероватый» Григорий, до поры до времени ничем не выделяется из казачьей среды и станичного быта. Драматическая семейная сага превращается в казацкий эпос (многие земляки Шолохова, особенно эмигранты, читали роман, прежде всего, как хронику любимого, но навеки утраченного казацкого быта).
Люди ловят рыбу, пашут землю, косят сено, скачут на лошадях, охотятся на волка (как в «Войне и мире»), едут в лес за хворостом, поют на гулянках. Другие люди спорят о Толстом или читают Евангелие. Среди них есть богатые и бедные, есть хуторская интеллигенция. Откуда-то на хуторе появляется большевик Штокман и начинает пропагандировать среди казаков. Какой-то бледной тенью проходят воспоминания о пятом годе. Но события прошлого и настоящего не ломают сложившегося порядка вещей.
Поначалу мир «Тихого Дона», как и положено в эпосе, сделан из одного куска, подчиняется природным закономерностям, измеряется не историческими датами, а временами года и религиозными праздниками, более широко – неизбежной сменой поколений.
«Стекали неторопливые годы. Старое, как водится, старилось; молодое росло зеленями» (кн. 1, ч. 2, гл. 1). – «А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью, равнодушно шел к морю Дон» (кн. 1, ч. 2, гл. 3). – «Обычным, нерушимым порядком шла в хуторе жизнь: возвратились отслужившие сроки казаки, по будням серенькая работа неприметно сжирала время, по воскресеньям с утра валили в церковь семейными табунами; шли казаки в мундирах и праздничных шароварах; длинными шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго затянутые в расписные кофточки с буфами на морщиненных рукавах» (кн. 1, ч. 3, гл. 1).
Традиционную версию казачьей судьбы определяет дед Гришака. На вопрос внучки: «„Боишься помирать, дедуня?“ – он с радостной улыбкой отвечает: „Жду смертыньку, как дорогого гостя. Пора уж… и пожил, и царям послужил, и водки попил на своем веку…”» (кн. 1, ч. 1, гл. 19). Что-то похожее на сто лет раньше произносил другой мудрый дед, толстовский Брошка. Вообще, начальные сцены «Тихого Дона» больше напоминают не «Войну и мир», а толстовских «Казаков».
Даже самые страшные, ужасные события (изнасилование Аксиньи отцом и его убийство матерью и братом, страшные побои мужа, попытка самоубийства Натальи) не акцентируется, не выделяются, а поглощаются мощным стихийным жизненным потоком. Но здесь же, в первых двух частях первой книги, завязывается главный сюжетный узел, который определит всю романную структуру «Тихого Дона».
ГРИГОРИЙ И АКСИНЬЯ: ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
В основе сложного эпического построения «Тихого Дона» лежит простая фигура: любовный треугольник (Григорий – Аксинья – Наталья), осложненный еще несколькими линиями (Аксинья – Степан – Григорий, Аксинья – Евгений Листницкий). «Григорий и Аксинья» – не менее страстный любовный роман, чем «Ромео и Джульетта» или «Мастер и Маргарита».
«Зачем арапа своего / Младая любит Дездемона, / Как месяц любит ночи мглу?» – спрашивает импровизатор, герой пушкинской повести «Египетские ночи» (1835), имея в виду знаменитую трагедию Шекспира «Отелло» (1604). И сразу же отвечает: «Затем, что ветру и орлу, / И сердцу девы нет закона».
Сердцу казачки, оказывается, тоже… Сквозь семейную сагу уже в первой книге «Тихого Дона» прорастает любовный роман: и казаки любить умеют.
Первый виток отношений Григория и Аксиньи – случайная и роковая встреча на берегу Дона (она будет откликаться в романе до самого конца), ночное свидание («Пусти, чего уж теперь… Сама пойду!..») и демонстративный разрыв с чужой женой накануне собственной женитьбы: «Надумал я, давай с тобой прикончим… прикончим эту историю» (кн. 1, ч. 1, гл. 6).
Второй цикл – новое сближение («Ну, Гриша, как хошь, жить без тебя моченьки нету…»), уход из мелеховского дома и попытка самоубийства Натальи, бегство любовников к Листницким.
Потом романический сюжет надолго останавливается. В отношения героев вмешивается история: не только в Петербурге, но и здесь, в казачьем хуторе, начинается Настоящий Двадцатый Век. В третьей части первой книги происходит очередная трансформация жанра: история любви сменяется военно-исторической хроникой.
Война, как в страшном сне, начинается в «Тихом Доне» многократно: о ней узнают на хуторе, потом отдельно рассказано, как с ней столкнулся Григорий, потом, еще раз, она дана через восприятие Петра и других хуторян-однополчан.
Горизонт повествования в военных главах резко расширяется. Действие перебрасывается в Петербург, Москву, на фронт. Хутор Татарский, в первых двух частях бывший центром казачьего мира, становится точкой на карте, песчинкой в историческом водовороте.
Линейная фабула семейной истории здесь резко ломается. В романе появляются многочисленные исторические персонажи. Повествование – по-толстовски – ведется с точки зрения то казачьего сотника Листницкого, то большевика Бунчука, то генерала Корнилова.
Огромное место в хроникальной части занимают массовые сцены. Причем размышления и споры персонажей, пейзажно-символические и социально-политические обобщения, «толстовские» моралистические умозаключения относительно автономны, жестко не соотносятся друг с другом.
Повествователь в «Тихом Доне» – не всесильный и всезнающий Бог «Войны и мира», а объективный свидетель, наблюдатель мощного потока взбаламученной, несущейся куда-то жизни.
В шолоховском эпосе по-своему показано крушение гуманизма, о котором говорили в интеллигентских салонах Блок и другие модернисты. «Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя выйтить – надо человеческую правду блюсть, – наставляет идущих на войну казаков мудрый старик. – …Чужого на войне не бери – раз. Женщин упаси Бог трогать, и ишо молитву такую надо знать» (кн. 1, ч. 3, гл. 6).
Казаки списывают и увозят под нательными рубахами «приглянувшиеся» тексты «от ружья» и «от боя», но это их не спасает: «Смерть пятнила и тех, кто возил с собою молитвы». Чуть раньше была дана сцена жестокого надругательства над полькой-горничной, где нарушалась другая стариковская заповедь. Пытавшийся защитить девушку Григорий, получает освященное именем Божьим предупреждение: «Вякнешь кому – истинный Христос, убьем!» (кн. 1, ч. 3, гл. 2)
Еще сложнее оказывается придерживаться первой стариковской заповеди. Здесь грешны все, молодые и старики (начиная с Пантелея Прокофьевича), казаки и иногородние, красные и белые, рядовые и офицеры. «Грабиловку из войны учинили! Эх вы, сволочи! Новое рукомесло приобрели!» – распекает «добычливого подхорунжего» Мелехов. Но тот с улыбкой кивает на начальство: «Да они сами такие-то! Мы хучь в сумах везем да на повозках, а они цельными обозами отправляют» (кн. 4, ч. 7, гл. 19).
Ранее в несобственно-прямой речи героя возникала обобщающая картина: «Широкой волной разлились по фронту грабежи; брали у заподозренных в сочувствии большевикам, у семей красноармейцев, раздевали донага пленных… Брали все, начиная с лошадей и бричек, кончая совершенно ненужными громоздкими вещами. Брали и казаки и офицеры. <…> Распоясались братушки. Грабеж на войне всегда был для казаков важнейшей движущей силой. Григорий знал это и по рассказам стариков о прошлых войнах, и по собственному опыту» (кн. 3, ч. 6, гл. 9).
В развитии сюжета романа героям все труднее становится «блюсть» человеческую правду. Она постоянно вступает в конфликт с непостижимыми законами жизни. «Свои неписаные законы диктует людям жизнь», – комментирует повествователь парадоксальные отношения Аксиньи и Евгения Листницкого (кн. 1. ч. 3, гл. 22).
Жизнь – одно из главных романных слов, простое и непонятное, объясняющее все – и ничего.
В военных частях и главах Григорий Мелехов, молодой и безудержно-страстный казак, живущий до поры до времени бездумно, так, как растет трава, постепенно превращается в казачьего Гамлета.
«Я, Петро, уморился душой. Я зараз будто недобитый какой… Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли они меня и выплюнули. <…> Меня совесть убивает», – исповедуется он брату, вспоминая убитых собственной рукой (кн. 1, ч. 3, гл. 10).
Одна из ключевых «гамлетовских» характеристик появляется в разговоре Мелехова с однополчанином Урюпиным. «Убью и не вздохну – нет во мне жалости! – чеканит человек с „волчиным сердцем“. – Животную без потребы нельзя губить – телка, скажем, или ишо что, – а человека унистожай. Поганый он, человек… Нечисть, смердит на земле, живет вроде гриба-поганки». Григория же он упрекает: «У тебя сердце жидкое» (кн. 1, ч. 3, гл. 12).
Мучительно переживая первое убийство австрийца, проходя обычный солдатский путь (атака – ранение – госпиталь – возвращение в строй – второе ранение – лечение в Москве – возвращение домой), Мелехов, человек с жидким сердцем, время от времени, как очнувшийся от сна, пытается понять, что происходит с ним и в мире, но в конце концов упирается в то же самое прозрачно-загадочное понятие жизнь.
«„Давно играл я, парнем, а теперь высох мой голос и песни жизнь обрезала. Иду вот к чужой жене, на побывку, без угла, без жилья, как волк буерачный…“ – думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно сложившейся жизнью» (кн. 1, ч. 3, гл. 24).
Очередным уходом от Аксиньи к Наталье, от чужой жены к своей, возвращением в родной дом оканчивается первая книга.
ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ: В ГОДИНУ СМУТЫ И РАЗВРАТА
Война лишает опоры не только Григория Мелехова. У всех уходит земля из-под ног, ломается привычный образ жизни. «Перемены вершились на каждом лице, каждый по-своему вынашивал в себе горе, посеянное войной» (кн. 1, ч. 3, гл. 10).
Взгляды на ближайшее будущее в вихре этих перемен оказываются катастрофически несовместимы.
«Эта война не для меня. Я опоздал родиться столетия на четыре, – грезит о прошлом подъесаул Калмыков, „маленький круглый офицер, носивший не только в имени, но и на лице признаки монгольской расы“. – Завидую тем, кто в свое время воевал первобытным способом. <…> В честном бою врубиться в противника и шашкой разделить человека надвое – вот это я понимаю, а то черт знает что!» (кн. 1, ч. 3, гл. 15)
Евгению Листницкому эта война тоже кажется чужой, но совсем по другой причине. «С каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клоаке. В гвардейских полках – в офицерстве, в частности, – нет того подлинного патриотизма, страшно сказать – нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим, в сущности, объясняется мой разрыв с полком», – жалуется он в письме отцу (кн. 1, ч. 3, гл. 14).
На такие романтические бредни со злым прищуром смотрит буревестник будущего, большевик Бунчук. «Что вы думаете делать после войны? – почему-то спросил Листницкий, глядя на волосатые руки вольноопределяющегося. – Кто-то посеянное будет собирать, а я… погляжу. – Бунчук сощурил глаза. – Как вас понять? – Знаете, сотник (еще пронзительнее сощурился тот), поговорку: „Сеющий ветер пожнет бурю“?» (кн. 1, ч. 3, гл. 15)
Еще у одного большевика, Гаранжи, уже готова картина будущего, утопия в духе горьковских героев из «Матери»: «И у германцив и у хранцузив – у всих заступэ власть робоча и хлиборобська. За шо ж мы тоди будемо брухаться? Граныци – геть! Чорну злобу – геть! Одна по всьому свиту будэ червона жизнь. Эх! <…> Я б, Грыцько, кровь свою руду по капли выцидыв бы, шоб дожить до такого…» (кн. 1, ч. 3, гл. 23)
Сами хлеборобы рассуждают еще проще: «Нам до них дела нету. Они пущай воюют, а у нас хлеба неубратые! – Это беда-а-а! Гля, миру согнали, а ить ноне день – год кормит» (кн. 1, ч. 3, гл. 4).
Разноголосица – признак того, что время общей жизни, время эпоса уходит безвозвратно. Война плоха не потому, что она «империалистическая», «захватническая» и т. п. Просто для многих, для большинства это – чужая война, не имеющая ни смысла, ни оправдания.
Вторая книга романа более исторична и идеологична. Большевик Бунчук тут пропагандирует и читает Ленина. Здесь появляются исторические персонажи: Корнилов, Подтелков и Кривошлыков. Мелеховский сюжет во второй книге развивается в десятке глав (из 52). Значимыми здесь оказываются лишь роды Натальи. Листницкий, Бунчук и Анна заслоняют, отодвигают в сторону Григория и других персонажей с хутора Татарского. В многочисленных диалогах-спорах второй книги герои предсказывают будущие потрясения, к которым ведет бессмысленная война.
«Вот, старики, до чего довели Россию. Сравняют вас с мужиками, лишат вас привилегий, да еще старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена… В зависимости от того, в какие руки попадет власть, а то и до окончательной гибели доведут», – предупреждает хуторской богач Мохов после февральской революции (кн. 2, ч. 4, гл. 7). – «Россия одной ногой в могиле…» – в то же время вздыхают офицеры на фронте, обвиняя во всем пропагандирующих среди казаков большевиков (кн. 2, ч. 4, гл. 11). – «Эх, господин есаул, нас, терпеливых, сама жизня начинила, а большевики только фитиль подожгут…» – спорит с таким предположением казак из сотни Листницкого (кн. 2, ч. 4, гл. 12).
Самое страшное предсказание звучит из уст столетней старухи. Ее апокалипсические пророчества припоминает по пути на фронт Максимка Грязнов, «беспутный и веселый казак, по всему станичному юрту стяжавший до войны черную славу бесстрашного конокрада».
– Ягодка, мой Максимушка! В старину не так-то народ жил – крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры-времени, что увидишь, как всю землю опутают проволокой, и будут летать по синю небушку птицы с железными носами, будут людей клевать, как арбуз грач клюет… И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца… Останется народу, как от пожара травы.
– Что ж, – помолчав, продолжал Максим, – и на самом деле сбылось: телеграф выдумали – вот тебе и проволока! А железная птица – еропланы. Мало они нашего брата подолбили? И голод будет. Мои вон спротив энтих годов в половину хлеба сеют, да и каждый хозяин так. По станицам стар да млад остались, а хлоп неурожай – вот и „глад“ вам.
– А брат на брата – это как, вроде брехня? – спросил Петро Мелехов, поправляя огонь.
– Погоди, и этого народ достигнет» (кн. 2, ч. 4, гл. 8).
Вторая книга подробно рассказывает о механизме этого «достижения».
Революция, или Октябрьский переворот (обозначение этого события в «Тихом Доне» варьируются), входит в мир романа, в отличие от войны, внезапно и тихо. Она не сваливается, а подкрадывается. Впервые об «октябрьском перевороте» узнают Корнилов и другие узники Быховской тюрьмы. Перед этим, в сцене у Зимнего дворца, Шолохов так и не поставил точку: закончил девятнадцатую главу пятой части картиной пустой площади, отказавшись изображать (в отличие, скажем, от Маяковского) и выстрел «Авроры», и штурм, и красных вождей – все необходимые элементы советского мифа.
Во второй главе пятой части повествователь после долгого перерыва возвращается к герою и дает вначале объективную, внешнюю его характеристику, вписывает его в сюжет исторической хроники. «Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые отличия в хорунжие, назначен во 2-й запасный полк взводным офицером. В сентябре он, после того, как перенес воспаление легких, получил отпуск; прожил дома полтора месяца, оправился после болезни, прошел окружную врачебную комиссию и вновь был послан в полк. После Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни. К этому времени можно приурочить и тот перелом в его настроениях, который произошел с ним вследствие происходивших вокруг событий и отчасти под влиянием знакомства с одним из офицеров полка – сотником Ефимом Извариным».
Затем происходит возвращение к личной точке зрения, начинается новый этап поисков и метаний Мелехова.
Изварин, разрушая интернациональные идеи Гаранжи, колеблет под ногами Григория «недавно устойчивую почву», тянет его в сторону «самостийности» Тихого Дона: «В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось. Большевики возьмут верх – рабочим будет хорошо, остальным плохо. Монархия вернется – помещикам и прочим будет хорошо, остальным плохо. Нам не нужно ни тех, ни других. Нам необходимо свое, и прежде всего избавление ото всех опекунов – будь то Корнилов, или Керенский, или Ленин. Обойдемся на своем поле и без этих фигур. Избавь, Боже, от друзей, а с врагами мы сами управимся. <…> Между сегодняшним укладом казачьей жизни и социализмом – конечным завершением большевистской революции – непроходимая пропасть…»
Подтелков напоминает большевистские идеи и лозунги: «Раз начали – значит, борозди до последнего. Раз долой царя и контрреволюцию – надо стараться, чтоб власть к народу перешла. А это – басни, детишкам утеха. В старину прижали нас цари, и теперь не цари, так другие-прочие придавют, аж запишшим!..»
Но Григория по-прежнему одолевают гамлетовские сомнения. «Я говорю… – глухо бурчал Григорий, – что ничего я не понимаю… Мне трудно в этом разобраться… Блукаю я, как метель в степи…» (кн. 2, ч. 5, гл. 2)
Заканчивается важная «идеологическая» глава вроде бы невинной пейзажной зарисовкой: «Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, на детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на бледно-серые ветви нагого осокоря в палисаднике и не слышал, о чем спорили Дроздов с Подтелковым; мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить.
Минут десять стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля. За окном, над крышей низенького дома, предзимнее, увядшее, тлело на закате солнце; словно ребром поставленное на ржавый гребень крыши, оно мокро багровело, казалось, что оно вот-вот сорвется, покатится по ту или эту сторону крыши».
Этот пейзаж – один из ключевых символов, лейтмотивов «Тихого Дона». «Если на сцене повешено ружье, оно обязательно должно выстрелить», – говорил Чехов о законах драмы. Шолоховское «ружье» в последний раз выстрелит почти через тысячу страниц.
Солнце будет сопровождать героя на всем его дальнейшем мучительном пути. Жизнь на грани, на гребне, в ситуации постоянного выбора станет его обычным состоянием. Взгляд на революцию из точки вечного промежутка, с позиции человека, барахтающегося в потоке, а не сразу выбравшего определенный берег, придает авторской концепции идеологическую неоднозначность и глубину.
«Ведь вот я по-честному не приемлю революцию, не могу принять! И сердце и разум противятся… Жизнь положу за старое, отдам ее, не колеблясь, без позы, просто, по-солдатски. А многие ли на это пойдут?» – думает Листницкий (кн. 2, ч. 4, гл. 10). Он же первым в романе произносит страшные слова, подтверждающие пророчество «брат на брата и сын на отца»: «Я говорю, что тогда, то есть в будущих боях, в гражданской войне, – я только сейчас понял, что она неизбежна, – и понадобится верный казак» (кн. 2, ч. 4, гл. 11).
Бунчук, человек с другой стороны, с другого берега, успокаивает и обещает: «Большевики войны не хотят. Будь власть в их руках – сейчас же был бы мир». Но совсем скоро именно он – тоже первым в пределах романного мира – начинает новый кровавый виток, стреляет в своего, в русского, реально превращает «войну империалистическую в войну гражданскую»: «Они нас или мы их!.. Середки нету. На кровь – кровью. Кто кого… Понял? Таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, как гадюк. И тех, кто слюнявится жалостью к таким, стрелять надо… понял?» (кн. 2, ч. 4, гл. 17)
Эту мысль подхватывает Мишка Кошевой, главный большевик, Немезида в лампасах с хутора Татарского: «По-моему, страшней людской середки ничего на свете нету, ничем ты ее до дна не просветишь… Вот я зараз лежу с тобой, а не знаю, об чем ты думаешь, и сроду не узнаю, и какая у тебя сзади легла жизня – не знаю, а ты обо мне не знаешь… Может, я тебя зараз убить хочу, а ты вот мне сухарь даешь, ничего не подозреваешь… Люди про себя мало знают» (кн. 2, ч. 4, гл. 21).
Непознаваемость – страшит, середка вызывает даже большую ненависть, чем, подобный собственному, фанатизм другой стороны. В отличие от автора «Войны и мира», исходившего из целостности, единства национальной жизни в пору великих испытаний (хотя и там были свои Друбецкие и Берги), Шолохов во второй и третьей книгах демонстрирует распад, взрыв национального ядра, осколки которого разлетаются по разным траекториям.
Только теперь, после революции, в Татарском начинают по-настоящему не любить богатых. Только теперь иногородние становятся не поводом молодецких кулачных забав, а причиной ненависти и страха. Только во время войны и восстания Григорий осознает свою чуждость соратникам по оружию – кадетам, офицерам, дворянам, – что и становится предлогом его очередного шатания в сторону красных.
Целостный взгляд в военных книгах «Тихого Дона» связан либо с прошлым (старые казацкие песни поют и рядовые, и офицеры, и бандиты – в окопах, в вагонах, на свадьбе), либо принадлежит повествователю, который способен посмотреть на происходящее не из горячечного кровавого бреда гражданской распри, даже не из середины, а откуда-то сверху, изнутри, из другого времени (в таких случаях шолоховская точка зрения в наибольшей степени напоминает Толстого).
«В просвет, с крохотного клочка августовского неба, зеленым раскосым оком глядел ущербленный, омытый вчерашним дождем, месяц. На ближнем перекрестке стояли, прижимаясь друг к дружке, солдат и женщина в белом, накинутом на плечи платке. Солдат обнимал женщину, притягивая ее к себе, что-то шептал, а она, упираясь ему в грудь руками, откидывала голову, бормотала захлебывающимся голосом: „Не верю! Не верю!“ – и приглушенно, молодо смеялась» (кн. 2, ч. 4, гл. 17). Этот эпизод счастливого ночного свидания следует сразу же за сценой убийства Бунчуком Калмыкова и его слов о крови и истреблении «середки» – как знак другой жизни, не подчиняющейся выведенным доморощенными идеологами законам.
«Шуршали на кукурузных будыльях сохлые листья. За холмистой равниной переливами синели отроги гор. Около деревушки по пажитям бродили рыжие коровы. Ветер клубил за перелеском морозную пыль. Сонлив и мирен был тусклый октябрьский день; благостным покоем, тишиной веяло от забрызганного скупым солнцем пейзажа. А неподалеку от дороги в бестолковой злобе топтались люди, готовились кровью своей травить сытую от дождей, обсемененную, тучную землю» (кн. 2, ч. 4, гл. 21). Это «толстовское» моралистическое размышление относится как раз к октябрю 1917 года.
«Травой зарастают могилы, – давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших, – время залижет и кровяную боль и память тех, кто не дождался родимых и не дождется, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы…» Таким лирическим вздохом начинается пятая часть второй книги.
Завершается она композиционным кольцом – символической сценой и сентенцией морально-метафизического, общечеловеческого характера. Гибнет вслед за Подтелковым и Кривошлыковым от случайной пули безвестный Валет, закапывают его в густой донской чернозем, и какой-то старик с ближнего хутора ставит над могилой-холмиком часовню со скорбным ликом Богоматери и черной вязью славянского письма:
В годину смуты и разврата Не осудите, братья, брата.«Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.
И еще – в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом» (кн. 2, ч. 5, гл. 31).
Младая жизнь природы сияет у гробового входа на щедро политой и поливаемой кровью земле.
КАЗАЧИЙ ГАМЛЕТ: НА ГРАНИ СВЕТА И ТЬМЫ
Третью книгу романа объединяет одно историческое событие: Верхнедонское антибольшевистское восстание. Ее ключевые сцены – многочисленные (продолжающие аналогичные сцены книги второй) сцены грабежей и братоубийства, бессудных расстрелов и рубки пленных.
Оканчивается она тоже символически – судным днем, который устраивает хуторским богачам Мишка Кошевой. «Внизу, в Татарском, на фоне аспидно-черного неба искристым лисьим хвостом распушилось рыжее пламя. Огонь то вздымался так, что отблески его мережили текучую быстринку Дона, то ниспадал, клонился на запад, с жадностью пожирая строения. С востока набегал легкий степной ветерок. Он раздувал пламя и далеко нес с пожарища черные, углисто сверкающие хлопья…» (кн. 3, ч. 6, гл. 65)
В этой сцене словно реализуется использованная А. Блоком в «Двенадцати» частушка: «Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем…» Однако метафора мирового пожара в реальности «Тихого Дона» превращается в горящие дома соседей-хуторян.
Григорий Мелехов в третьем томе окончательно становится казачьим Гамлетом, выбирающим свой путь в безнадежной для правильного выбора ситуации. Гамлетовская коллизия отчетливо явлена в его разговоре с братом – и опять на фоне символического пейзажа с солнцем.
«– Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом проехались: один – в одну сторону, другой – в другую, как под лемешом. Чертова жизня, и время страшное! Один другого уж не угадывает… Вот ты, – круто перевел он разговор, – ты вот – брат мне родной, а я тебя не пойму, ей-богу! Чую, что ты уходишь как-то от меня… Правду говорю? – и сам себе ответил: – Правду. Мутишься ты… Боюсь, переметнешься ты к красным… Ты, Гришатка, до се себя не нашел.
– А ты нашел? – спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой Хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат и обожженными черными хлопьями несутся оттуда облака.
– Нашел. Я на свою борозду попал. С нее меня не спихнешь! Я, Гришка, шататься, как ты, не буду» (кн. 3, ч. 6, гл. 2).
«Некуда податься», – думает Мелехов в начале третьей книги (ч. 6, гл. 10). Потом, кажется, он выбирает свою борозду: «Ясен, казалось, был его путь отныне, как высветленный месяцем шлях. <…> Пути казачества скрестились с путями безземельной мужичьей Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними насмерть. Рвать у них из-под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области!» (кн. 3, ч. 6, гл. 28)
«Но сразу же, вопреки „слепой ненависти“ к чужакам, в нем „ворохнулось противоречие“: „Богатые с бедными, а не казаки с Русью… Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные…“ Но он со злостью отмахнулся от этих мыслей».
Однако и потом, уже командуя дивизией, герой не может избавиться от сомнений: «И ему ли, малограмотному казаку, властвовать над тысячами жизней и нести за них крестную ответственность? „А главное – против кого веду? Против народа… Кто же прав?“
Григорий, скрипя зубами, провожал проходившие сомкнутым строем сотни. Опьяняющая сила власти состарилась и поблекла в его глазах. Тревога, горечь остались, наваливаясь непереносимой тяжестью, горбя плечи» (кн. 3, ч. 6, гл. 36).
Ведомы ли подобные мысли генералу Краснову или, скажем, Штокману, не сомневающимся в своем праве вести, властвовать, судить, посылать на смерть и убивать?
Потом к Мелехову приходит очередное прозрение, он понимает, что своя борозда была выбрана неправильно: «А у меня думка… – Григорий потемнел, насильственно улыбаясь. – А мне думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли…» (кн. 3, ч. 6, гл. 38)
Однако, избегая однозначного ответа, Шолохов снова переводит повествование в символический план, в очередной раз, во время атаки (бытовая мотивировка), бросает героя на грань между светом и тьмой.
«Огромное, клубившееся на вешнем ветру белое облако на минуту закрыло солнце, и, обгоняя Григория, с кажущейся медлительностью по бугру поплыла серая тень. Григорий переводил взгляд с приближающихся дворов Климовки на эту скользящую по бурой непросохшей земле тень, на убегающую куда-то вперед светло-желтую радостную полоску света. Необъяснимое и неосознанное, явилось вдруг желание догнать бегущий по земле свет. Придавив коня, Григорий выпустил его во весь мах – наседая, стал приближаться к текучей грани, отделявшей свет от тени. Несколько секунд отчаянной скачки – и вот уже вытянутая голова коня осыпана севом светоносных лучей, и рыжая шерсть на ней вдруг вспыхнула ярким, колющим блеском».
Но заканчивается этот отчаянный бросок очередной кровавой схваткой, страшной рубкой красных, «тягчайшим припадком» («Кого же рубил!.. Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога… в бога мать… Смерти… предайте!..») и ссылкой повествователя на ту же непобедимую и непостижимую Жизнь, Мойру, Судьбу.
«…И, стоная, бился головой о взрытую копытами, тучную, сияющую черноземом землю, на которой родился и жил, полной мерой взяв из жизни – богатой горестями и бедной радостями – все, что было ему уготовано.
Лишь трава растет на земле, безучастно приемля солнце и непогоду, питаясь земными жизнетворящими соками, покорно клонясь под гибельным дыханием бурь. А потом, кинув по ветру семя, столь же безучастно умирает, шелестом отживших былинок своих приветствуя лучащее смерть осеннее солнце…» (кн. 3, ч. 6, гл. 44)
Постоянные символические переключения превращают историческую хронику в экзистенциальную притчу. Выбор героя – не просто исторический, но вечный, метафизический. Его «шатания», даже его любовные метания осмысляются как схватка с судьбой на текучей, подвижной грани, отделяющей свет от тени.
Вернувшись в очередной раз в родной дом (ритм уходов, побегов и возвращений определяет «мелеховскую» фабулу), Григорий ведет диалог с дедом Гришакой. Этот шолоховский «Фирс», обломок прошлого («Мельканула жизня, как летний всполох, и нету ее…»), упрекает Мелехова за бунт против власти («По божьему указанию все вершится. Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что супротив бога шел, народ бунтовал супротив власти. А всякая власть от бога. Хучь она и анчихристова, а все одно богом данная») и ищет разгадку происходящего в книге пророка Иеремии (с Библией в руках он и погибнет от руки Кошевого).
Для Григория «таинственные, непонятные „речения“ библии» оказываются пустым звуком: «Ну, уж ежели мне доведется до старости дожить, я эту хреновину не буду читать! Я до библиев не охотник».
«Какая уж там совесть, когда вся жизня похитнулась… Людей убиваешь… <…> Я так об чужую кровь измазался, что у меня уж и жали ни к кому не осталось. Детву – и эту почти не жалею, а об себе и думки нету. Война все из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал… В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе» (кн. 3, ч. 6, гл. 46). И эта исповедь жене происходит на фоне символического пейзажа – оттаявшего чернозема, трели жаворонка, высокого и гордого солнца.
Лишь в финале третьего тома романическая фабула напоминает о себе. Григорий понимает, что дело не в красных или кадетах, а в великой усталости, ощущении исчерпанности жизни и необратимости происходящего. «Он не болел душой за исход восстания. Его это как-то не волновало. Изо дня в день, как лошадь, влачащая молотильный каток по гуменному посаду, ходил он в думках вокруг все этого же вопроса и наконец мысленно махнул рукой: „С советской властью нас зараз не помиришь, дюже крови много она нам, а мы ей пустили, а кадетская власть зараз глядит, а потом будет против шерсти драть. Черт с ним! Как кончится, так и ладно будет!”» (кн. 3, ч. 6, гл. 58)
Его опорой остается лишь давняя любовь. «Единственное, что оставалось ему в жизни (так, по крайней мере, ему казалось), – это с новой и неуемной силой вспыхнувшая страсть к Аксинье. Одна она манила его к себе, как манит путника в знобящую черную осеннюю ночь далекий трепетный огонек костра в степи» (кн. 3, ч. 6, гл. 58).
В третьей книге происходит и еще один важный сюжетный перелом. В начале романа смерть как событие отсутствует. Люди, как мифологические титаны, умирают редко и давно. Война нарушает этот природный, эпический порядок вещей. Ушедшие на фронт убивают и погибают, но это происходит где-то далеко. Домой, в Татарский, в центр романного мира, доходят только трагические известия.
Потом смерть и война, рубки и расстрелы приходят на Тихий Дон, становятся привычными. «Ну, завиднелась и на донской земле кровица, – подергивая щекой, улыбнулся Томилин» (кн. 2, ч. 5, гл. 24). Однако до поры до времени несчастья обходят мелеховский курень.
Убийство Петра Кошевым ломает и эту границу, стирает и эту невидимую черту. «„Лучше б погиб ты где-нибудь в Пруссии, чем тут, на материных глазах!“ – мысленно с укором говорил брату Григорий, и, взглянув на труп, вдруг побелел: по щеке Петра к пониклой усине ползла слеза» (т. 3, ч. 6, гл. 34).
Проходит время – и Григорий вспоминает о брате уже с какой-то легкой печалью и даже усмешкой: «Усчастливился ты, брат Петро, помереть… – думал развеселившийся Григорий. – Это не Дарья, а распрочерт! От нее до поры, до времени все одно помер бы!» (кн. 3, ч. 6, гл. 46). «Торжествующая жизнь взяла верх», – сказано о расцвете его похорошевшей вдовы (снова романное слово-ключ).
Но права торжествующей жизни ограничивает торжествующая смерть.
Первую книгу «Тихого Дона» можно назвать книгой канунов. Ее магистральная тема – естественное течение, буйство органической жизни и ее внезапный слом (война).
Вторая и третья – книги катаклизмов, кризисов и катастроф: затянувшаяся война мировая, потом революция и война гражданская взрывают все привычные основы, потрясают Тихий Дон до самого дна.
Книга четвертая – книга уходов и итогов.
Критики предлагали назвать толстовскую эпопею «Война и семья». Один из промежуточных вариантов авторского заглавия – «Все хорошо, что хорошо кончается». Четвертый том шолоховской эпопеи повествует о гибели семьи, о том, что все кончается плохо.
Жена Наталья, Дарья, отец, мать, дочь, Аксинья уходят вслед за Петром по разным причинам – по болезни, от старости, от случайной пули, по собственной воле. Разные характеры и варианты жизненного пути: буйство и протест – смирение – упорство – любовь-страсть и любовь-жалость. Конец, увы, один: эта война, эта выпавшая им эпоха перемалывает всех.
«Тихий Дон» – книга не только о великом переломе, но – о великом перемоле. «Григорий мысленно перебирал в памяти убитых за две войны казаков своего хутора, и оказалось, что нет в Татарском ни одного двора, где бы не было покойника» (кн. 4, ч. 7, гл. 25).
В последней книге Мелехов не столько выбирает (демонстрируя правоту красной или белой идеи), сколько пытается выбраться из очередного жизненного водоворота, спастись и спасти то, что можно, последнее, что дорого, – близкую жизнь.
После тифа он смотрит на «вновь явившийся ему мир» взглядом ребенка, с простодушной улыбкой, «с таким видом, словно был человеком, недавно прибывшим из чужой, далекой страны, видевшим все это впервые». Совсем по-детски он мечтает распутать затянувшийся любовный узел: «Он не прочь был жить с ними с обеими, любя каждую из них по-разному…» (кн. 4, ч. 7, гл. 18). Но его разрубает смерть жены.
Потом появляется Кошевой («Я вам, голуби, покажу, что такое советская власть»), и происходит очередное, последнее, идеологическое столкновение: «Крепкая у тебя память! Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю… Ежли все помнить – волками надо жить. – Значит, разные мы с тобой люди… Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и зараз не сморгну при нужде» (кн. 4, ч. 8, гл. 6).
Мечта Григория «жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином» так и остается неосуществимой. Злая логика судьбы приводит его в банду Фомина, потом уводит из нее.
Бегство с Аксиньей на Кубань, о котором мечталось еще в самом начале книги, прерывается сразу же: героиня гибнет от случайной пули. В описании похорон любимой в очередной раз возникает образ, сопровождавший Григория на всем его мучительном пути. «Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они ненадолго…<…>
Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено. В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца» (кн. 4, ч. 8, гл. 17).
Это – символическая кульминация книги. Черное солнце – солнце мертвых. Подобный мифологический образ неоднократно встречается у Мандельштама: еще одна странная связь Шолохова с модернизмом.
Писатель развертывает его в последней главе: «Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других…»
Наконец, черное солнце в финале книги рифмуется с другим – на последней странице, в последней фразе.
«Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына…
Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром» (кн. 4, ч. 8, гл. 18).
И в конце романа автор оставляет героя на той же грани, черте между тьмой и светом – черным солнцем мертвых и холодным солнцем огромного сияющего мира.
В финале «Тихого Дона» не только рифмуются два солнца. Финал, в свою очередь, зарифмован с началом романа.
«Мелеховский двор – на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, сырая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше – перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона» (кн. 1, ч. 1, гл. 1).
«Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения» (кн. 4, ч. 8, гл. 18).
Цитированный в начале главы X. Л. Борхес парадоксально утверждал, что в литературе существуют всего четыре изначальных истории, и человечество бесконечно пересказывает их в разных вариантах. Первая, третья и четвертая – истории об укрепленном городе («Илиада»), о поиске (миф об аргонавтах), о самоубийстве, жертвенности Бога (распятие Христа). «Вторая история, связанная с первой, – о возвращении. Об Улиссе, после десяти лет скитаний по грозным морям и остановок на зачарованных островах приплывшем к родной Итаке…» («Четыре цикла», 1972).
«Тихий Дон», если поверить этой поэтической гипотезе, – очередной пересказ истории о возвращении. В финале романа Григорий Мелехов оказывается в ситуации скитальца Одиссея: он стоит у родного порога и держит на руках сына. Этот путь, как в древнем эпосе, тоже занял десять лет. Однако герой возвращается не победителем, «пространством и временем полным» (О. Э. Мандельштам). Он приходит на пепелище семьи, в холодный обезлюдевший мир. Одиссея казачьего Гамлета завершается под черным солнцем трагедии.
В «Тихом Доне», таким образом, свободно соединяются, переплетаются разные жанровые традиции: казацкий эпос, семейная сага, любовный роман, военно-историческая хроника, наконец – философско-экзистенциальная притча.
Судьба казака, воина, проливающего свою и чужую кровь, мечущегося между двумя женщинами и разными лагерями, становится метафорой удела человеческого в эпоху исторических катаклизмов. Григорий Мелехов оказывается наивным философом, сокровенным человеком, который сначала ищет третью правду, а потом – пятый угол в вывихнувшем суставы веке.
Шолохова часто упрекали в том, что он не привел своего героя к красным, не заставил его поверить в правоту их идеи. «Конец четвертой книги (вернее, та часть повествования, где герой романа Григорий Мелехов, представитель крепкого казачества, талантливый и страстный человек, уходит в бандиты) компрометирует у читателя и мятущийся образ Григория Мелехова, и весь созданный Шолоховым мир образов… Такой конец „Тихого Дона“ – замысел или ошибка? Я думаю, что ошибка…» – предупреждал автора А. Н. Толстой, не сделавший подобной ошибки и «правильно» окончивший свою романную трилогию «Хождение по мукам». Как будто, если бы герой закончил свой путь в красном лагере, это воскресило бы брата, спасло от смерти жену, продлило дни матери, восстановило сожженные дома и брошенные поля.
Когда распалась связь времен, быть победителем – постыдно. Под черным солнцем трагедии счастливый выбор невозможен, поражение защищающейся жизни – неизбежно. Надежда – лишь на ту же жизнь, на память, на забвение, на читательский катарсис и сострадание.
Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ (1891–1938)
В МИРЕ ДЕРЖАВНОМ: САМОЛЮБИВЫЙ, СКРОМНЫЙ ПЕШЕХОД
Наливаются кровью аорты, И звучит по рядам шепотком: – Я рожден в девяносто четвертом, Я рожден в девяносто втором… — И в кулак зажимая истертый Год рожденья – с гурьбой и гуртом Я шепчу обескровленным ртом: – Я рожден в ночь с второго на третье Января в девяносто одном Ненадежном году – и столетья Окружают меня огнем. («Стихи о неизвестном солдате», 1–15 марта 1937)В конце жизни год своего рождения Мандельштам вписал в судьбу поколения, вообразив (литературоведы расходятся в объяснении этих загадочных стихов) то ли очередь призываемых на войну новобранцев, то ли лагерную перекличку заключенных. В любом случае, поэтом угаданы главные детали: обескровленный рот, место в безличном строю, зыбкость человеческого существования. Судьба Мандельштама оказалась частицей, каплей, характерным эпизодом трагической истории ненадежного двадцатого столетия.
Осип Эмильевич Мандельштам действительно родился в ночь со 2 на 3 (14/15) января 1891 года в Варшаве, которая еще была столицей входящего в Российскую империю Царства Польского. Немецко-еврейская фамилия Мандельштам переводится с идиш как ствол миндаля. Отец будущего поэта был купцом-торговцем кожами, сначала довольно удачливым, во время мировой войны разорившимся, мать – учительницей музыки, хотя и не практикующей.
В 1897 году семье (у Осипа Эмильевича было еще два младших брата) удалось перебраться в Петербург. Сцены из жизни парадного императорского Петербурга, пушкинского города пышного – прогулки в Летнем саду, бунты студентов у Казанского собора, симфонические концерты в Дворянском собрании – поэт позднее опишет в прозаической книге «Шум времени» (1925). Прочитав ее, А. А. Ахматова назовет Мандельштама «последним бытописателем Петербурга».
Свое чувство по отношению к городу Мандельштам определяет как «ребяческий империализм». Первым сильным детским впечатлением Пастернака был увиденный в четырехлетием возрасте у себя дома Лев Толстой. Для Мандельштама таким потрясением стало общественное событие в жизни империи: «Мрачные толпы народа на улицах были моим первым сознательным и ярким восприятием. Мне было ровно три года. Год был 94-й, меня взяли из Павловска в Петербург, собравшись поглядеть на похороны Александра III. <…> Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественном пышном, парадном виде» («Шум времени», гл. «Бунты и француженки»).
Подробно описывая поражающий воображение ребенка мир за окном, Мандельштам противопоставляет ему домашний мирок традиционной еврейской семьи: «Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался – и бежал, всегда бежал.
Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушенья, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг Бытия…» («Шум времени», «Бунты и француженки»).
Мандельштам вспоминал детство с печалью – как время, от которого хотелось бежать, которое хочется забыть. «Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива. Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рожденья…» («Шум времени», «Комиссаржевская»).
Позднее Мандельштам с гордостью причислял себя к разночинцам.
Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать! Для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал? Мы умрем, как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…»,май – 4 июня 1931)Дворянскую родословную, историю, дом, семью разночинцу, по мнению Мандельштама, заменяет книжный шкаф. «Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова», – в главе о Шолохове уже цитировался этот мандельштамовский афоризм.
Так сложилось с детства: родиной выходца из хаоса иудейства стали русский язык и европейская культура.
В 1899 году Мандельштам был отдан в Тенишевское училище, одно из самых известных, привилегированных учебных заведений Петербурга (его даже сравнивали с пушкинским лицеем). В разное время там учились писатели В. В. Набоков и О. В. Волков, литературоведы В. М. Жирмунский и Д. С. Лихачев. Здесь не было атмосферы привычной гимназической муштры и чинопочитания: проводилось много познавательных экскурсий-путешествий (Белое море, Крым, Финляндия, Великий Новгород), учителя запросто общались с учениками, искали к каждому индивидуальный подход, старшеклассникам даже разрешалось курить (чем почти никто не пользовался).
Впечатления Мандельштама отличаются от общего благостного тона воспоминаний о «меде и счастье образцовой школы». «Воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на 25 человек и отнюдь не в коридорах, а в высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и попахивало газом из физических лабораторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мучении лягушек, в научном кипячении воды, с описаньем этого процесса, и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках.
От тяжелого, приторного запаха газа в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд. К концу дня, отяжелев от уроков, насыщенных разговорами и демонстрациями, мы задыхались среди стружек и опилок, не умея перепилить доску. Пила завертывалась, рубанок кривил, стамеска ударяла по пальцам; ничего не выходило. Инструктор возился с двумя-тремя ловкими мальчиками, остальные проклинали ручной труд. <…> Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя; это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавшие сюда по странному капризу родителей» («Шум времени», «Тенишевское училище»).
Мандельштам был далек от большинства одноклассников, не участвуя ни в научных кружках, ни в спортивных развлечениях. Один из соучеников вспоминает его училищное прозвище: «Гордая лама». Сложившееся в школьные годы амплуа самолюбивого чудака мешало многим видеть реальные свойства его личности и по-настоящему оценить его творчество.
С большой симпатией Мандельштам вспоминал лишь учителя литературы В. В. Гиппиуса, познакомившего его с литературой очень близко, домашним образом, и соученика Бориса Синани, который увлек его политикой, прежде всего – идеями эсеров (какое-то время он даже работает в эсеровском рабочем кружке).
Привычным состоянием Мандельштама с отроческих лет становится одиночество. Главным занятием – сочинение стихов, позволяющее найти друзей и собеседников в далеком прошлом: в пушкинской эпохе («Словно гуляка с волшебною тростью, / Батюшков нежный со мною живет») и даже глубоко в античности («Бессонница. Гомер. Тугие паруса. / Я список кораблей прочел до середины»).
В 1907 году Мандельштам опубликовал первое стихотворение, окончил училище, съездил в Париж, где слушал лекции в Сорбонне и писал стихи. В 1909 году он навещает в Царском Селе И. Ф. Анненского, по-мальчишески прикатив к нему на велосипеде. Анненский принял его дружественно и посоветовал заняться переводами, чтобы приобрести технические навыки. В это же время Мандельштам появляется на Башне Вяч. Иванова, читает там стихи. Но в этом кругу он оказался чужим: «Символисты никогда его не приняли» (А. А. Ахматова «Воспоминания об О. Э. Мандельштаме»).
В 1911 году такие же отвергнутые символизмом авторы создают «Цех поэтов», в котором Мандельштам быстро делается «первой скрипкой» (Ахматова). Через год, как мы помним, рождается русский акмеизм, благодаря которому неприкаянный молодой поэт (даже мать характеризует его как «неврастеника») не только определяет свой метод, но и находит друзей на всю жизнь: Н. С. Гумилева, А. А. Ахматову, переводчика М. Л. Лозинского.
В 1913 году появилась первая книга Мандельштама «Камень», в ней было всего тридцать страниц. Деньги на издание дал отец. Шестьсот экземпляров расходились довольно быстро. «Со свойственной ему прелестной самоиронией Осип любил рассказывать, как старый еврей – хозяин типографии, где печатался „Камень“, – поздравляя его с выходом книги, подал ему руку и сказал: „Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше”» (А. А. Ахматова. «Воспоминания об О. Э. Мандельштаме»).
В данном случае хозяин типографии оказался прав. Судьба поэта определилась. Какое-то время он учится в Петербургском университете, но так и не оканчивает его, знакомится с М. И. Цветаевой (сохранились посвященные друг другу стихи), живет в Коктебеле у М. А. Волошина.
В посвященных Н. Гумилеву «Петербургских строфах» (1913) дана панорама имперского города, в которой находится место и «желтизне правительственных зданий», и «Онегина старинной тоске» и «оперным мужикам», и морским чайкам. В последней строфе пушкинское прошлое и мандельштамовское настоящее соединяются, накладываются друг на друга:
Летит в туман моторов вереница; Самолюбивый, скромный пешеход — Чудак Евгений – бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет!Бензин вдыхает странный персонаж: вышедший на петербургскую улицу то ли потомок Евгения Онегина, то ли наследник бедного Евгения из «Медного всадника». Мандельштам и сам был самолюбивым скромным пешеходом, собратом чудака Евгения, «мраморной мухой» (такое прозвище он получил на одном из писательских диспутов) на парадных площадях Петербурга.
С миром державным я был лишь ребячески связан, Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья — И ни крупицей души я ему не обязан, Как я ни мучил себя по чужому подобью. («С миром державным я был лишь ребячески связан…», 1931)Но время переломилось, пейзаж изменился – поэту пришлось делать свой выбор и прожить иную жизнь.
В НОЧИ СОВЕТСКОЙ: НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ
Мы помним зимние картины идущего на дно послереволюционного Петербурга в «Двенадцати» Блока и «Хорошо!» Маяковского. Близок к этим образам и Петербург Мандельштама, но похожие детали включаются в культурно-исторический контекст, поэтому город кажется увиденным откуда-то издалека, как часть грандиозного театрального представления, финал которого неизвестен.
На страшной высоте блуждающий огонь, Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий огонь, Твой брат, Петрополь, умирает. <…> Чудовищный корабль на страшной высоте Несется, крылья расправляет — Зеленая звезда, в прекрасной нищете Твой брат, Петрополь, умирает. («На страшной высоте блуждающий огонь!..», 1918) Дикой кошкой горбится столица, На мосту патруль стоит, Только злой мотор во мгле промчится И кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. («В Петербурге мы сойдемся снова…», 1920)Прежний мотор из «Петербургских строф» становится злым, превращается в деталь совсем другого, революционного, пейзажа наряду с патрулем и часовыми. Однако советская ночь является в этом стихотворении не идеологической оценкой, а также пейзажной деталью, частью символически-театрального лейтмотива. «В черном бархате советской ночи, / В бархате всемирной пустоты», – сказано в первой строфе. А в следующих строфах упоминаются «легкий театральный шорох» и «грядки красные партера».
Мандельштам с его разночинским мировоззрением и эсеровскими симпатиями принял произошедшее в 1917 году не как «возмездие» (Блок), не как долгожданный социальный взрыв, «мою революцию» (Маяковский), не как катастрофу, которую надо смиренно переживать вместе с родиной (Ахматова), не как бунт взбесившейся черни, провоцируемый большевиками (Бунин), но – как грандиозный эксперимент во имя счастья «четвертого сословья», народа. «Мандельштам один из первых стал писать на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово народ не случайно фигурирует в его стихах», – утверждала А. А. Ахматова («Воспоминания об О. Э. Мандельштаме»).
Поэт, которого упрекали в эстетизме, отрешенности от жизни, оказывается в 1920-1930-е годы одним из самых внимательных и чутких наблюдателей современной жизни. Временами отказываясь от привычного языка, он обращается к прямому высказыванию, в его поэтической речи появляются высокие интонации оды.
Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год! В кипящие ночные воды Опущен грузный лес тенёт. Восходишь ты в глухие годы — О, солнце, судия, народ! <…> Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи. Как плугом, океан деля, Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля. («Прославим, братья, сумерки свободы…», 1918)Но Мандельштам руководствуется не теорией социального заказа, а собственным зрением и представлениями о жизни, сложившимися благодаря культуре, философии, религии. А. Блок констатировал «крушение гуманизма», Мандельштам надеется сохранить его и в летейской стуже новой эпохи. «Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством. Но есть другая социальная архитектура, ее масштабом, ее мерой тоже является человек, но она строит не из человека, а для человека, не на ничтожестве личности строит она свое величие, а на высшей целесообразности в соответствии с ее потребностями» («Гуманизм и современность», 1923).
Мандельштам надеется на эту благоприятную для человеческой жизни социальную архитектуру, хотя обстоятельства его собственной послереволюционной жизни этому все время противоречат.
Февральскую и Октябрьскую революцию Мандельштам встретил в Петрограде. «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня „биографию“, ощущение личной значимости, – отвечал он на анкету через десятилетие. – Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту… Подобно многим другим, чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она пока не нуждается» («Поэт о себе», 1928).
В Гражданскую войну Мандельштам кочует по стране, оказываясь по обе стороны фронта: Москва, Харьков, Киев, Феодосия, Батум, Тифлис, снова Москва и Петроград. В Киеве он познакомился с Надеждой Яковлевной Хазиной, которая с 1922 года стала его женой и спутницей до конца жизни, а потом – хранительницей-спасительницей его архива, его литературного наследия. В Феодосии он был арестован врангелевской контрразведкой и освобожден после хлопот М. А. Волошина и белого полковника – любителя стихов. В Тифлисе арестован еще раз, за отсутствие в паспорте грузинской визы. В Москву он вернулся на бронепоезде. В Петрограде поселился в «кособокой комнате о семи углах» знаменитого ДИСКа, Дома искусств, в котором жили многие старые и новые советские писатели.
В 1922 году вышла вторая книга Мандельштама, «Tristia». Ее заглавие повторяло заглавие сборника древнеримского поэта Овидия, которое обычно переводится как «Скорбные элегии» или «Печальные элегии». В следующие три года поэт не написал и десятка стихотворений, а потом и вовсе замолчал. Наступило «удушье», «глухота паучья», растянувшиеся почти на десятилетие. Его в той или иной мере переживали также А. А. Ахматова и Б. Л. Пастернак.
Причины молчания Мандельштама отчасти объяснялись тяжелыми личными обстоятельствами: поэт, теперь уже вместе с женой, скитается по стране, не имеет ни постоянного места жительства, ни службы, с трудом зарабатывая на жизнь многочисленными переводами. Но не менее существенными были изменившиеся отношения со своим временем.
Понятие века, эпохи было очень важно как для Мандельштама-поэта, так и для Мандельштама-мыслителя. Прославив сразу после революции «сумерки свободы», согласившись со «скрипучим поворотом руля», поэт поначалу с иронией и высокомерием отзывается об ушедшем столетии, упрекая его в излишнем рационализме (позитивизме), отрешенности от жизни (буддизме), явно не собираясь брать что-то существенное из его наследия в новый век. Мандельштаму кажется гораздо ближе и полезнее наследие предшествующего века Просвещения: «В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковыйному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его теологическим теплом – вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк. И в этой работе легче опереться не на вчерашний, а на позавчерашний исторический день. Элементарные формулы, общие понятия восемнадцатого столетия могут снова пригодиться» («Девятнадцатый век», 1922).
Но новое время и новое общество не оправдывали надежд на гуманизацию. Совсем скоро разрыв с прошлым столетием Мандельштам увидит как трагедию. «В самом начале тридцатых годов О. М. как-то мне сказал: „Знаешь, если когда-нибудь был золотой век, это – девятнадцатый. Только мы не знали”», – признается он жене (Н. Я. Мандельштам «Воспоминания»).
В лирике сходная мысль появляется еще раньше.
Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит Двух столетий позвонки? <…> И еще набухнут почки, Брызнет зелени побег, Но разбит твой позвоночник, Мой прекрасный жалкий век.В этом же стихотворении возникает новая формула связи столетий, определяется задача поэта:
Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатых дней колена Нужно флейтою связать. («Век», 1922)Напоминать о гуманизме «золотого века», связывать «флейтой» (искусством, словом) позвонки столетия – так теперь определяется задача Мандельштама, в выполнении которой он часто предстает чудаком-одиночкой, не учитывающим меняющихся социальных обстоятельств и действующим вопреки им.
В 1928 году Мандельштам с помощью симпатизировавшего ему крупного партийного деятеля Н. И. Бухарина (через несколько лет он будет репрессирован) выпускает стразу три книги: сборник стихотворений, критических статей и повесть «Египетская марка», рассказ о маленьком человеке на фоне предреволюционного Петербурга. Это была последняя писательская удача.
В следующем году в результате недоразумения (издательство приписало Мандельштаму лишь отредактированный им перевод) начинается преследование поэта, фактически – травля, завершающаяся резким разрывом с литературной средой, описанным в так называемой «Четвертой прозе» (1930). В этом памфлете-исповеди появляется определение настоящей литературы, резко и даже грубо противопоставленной литературе заказной, верноподданнической, угождающей власти. «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове… <…> У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!»
Сочиняя неразрешенные вещи, нужно было отказаться от надежд на публикацию, рассчитывая лишь на немногих друзей и будущего читателя, «провиденциального собеседника», «неизвестного адресата, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усумнившись в себе» («О собеседнике», 1913).
Ахматова вспоминает внешне смешной, но на самом деле очень серьезный эпизод: «Чудак? Конечно, чудак. Он, например, выгнал молодого поэта, который пришел жаловаться, что его не печатают. Смущенный юноша спускался по лестнице, а Осип стоял на верхней площадке и кричал вслед: „А Андрея Шенье печатали? А Сафо печатали? А Исуса Христа печатали?”» («Воспоминания об О. Э Мандельштаме»).
Неразрешенные вещи становятся все более резкими, опасной становится не только их публикация, но даже хранение. В 1933 году, вернувшись из Крыма, Мандельштам пишет стихотворение о голодающих крестьянах (страшный голод на Украине, возникший в результате коллективизации, конечно, был неразрешенной темой):
Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым, Как был при Врангеле – такой же виноватый. Комочки на земле. На рубищах заплаты, Все тот же кисленький, кусающийся дым. Все так же хороша рассеянная даль. Деревья, почками набухшие на малость, Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость Пасхальной глупостью украшенный миндаль. Природа своего не узнает лица, И тени страшные Украйны и Кубани… На войлочной земле голодные крестьяне Калитку стерегут, не трогая кольца… («Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым…», лето 1933)(Эти стихи будут опубликованы за границей через тридцать лет. В СССР они появятся лишь в 1987 году.)
Через несколько месяцев, в ноябре 1933 года, поэт совершает и вовсе самоубийственный жест. На фоне начинавшихся репрессий и быстро формирующегося культа личности Сталина Мандельштам пишет беспощадный памфлет, страстную «антиоду» о вожде.
Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на полразговорца, Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, И слова, как пудовые гири, верны, Тараканьи смеются усища И сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет. Как подкову, дарит за указом указ: Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него – то малина И широкая грудь осетина.Ахматова всю жизнь помнила слова Мандельштама (потом они появятся в «Поэме без героя»), сказанные вскоре после сочинения этих стихов: «Я к смерти готов».
Пастернак, услышав «антиоду», предупредил: «То, что вы сейчас мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, к поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне их не читали, я ничего не слышал и прошу вас не читать их никому другому».
Но Мандельштам не послушался, хотя число его слушателей исчисляется полутора-двумя десятками. Но и этого оказалось достаточно. Через полгода, 13 мая 1934 года, за ним пришли. Ахматова, гостившая у Мандельштамов в недавно полученной квартире, написала об этом с пушкинской простотой и точностью: «Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел «Волка» и показал О. Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увезли в семь утра. Было совсем светло».
«Волк» («За гремучую доблесть грядущих веков…», 17–28 марта 1931) тоже был частью ворованного воздуха:
За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей, — Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей: Запихай меня лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубы сибирских степей… Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, Ни кровавых костей в колесе; Чтоб сияли всю ночь голубые песцы Мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей И меня только равный убьет.На допросах под диктовку Мандельштама были записаны и стихи о Сталине. Приговор оказался неожиданно мягким. Поэт был отправлен в ссылку в маленький городок Чердынь на Каме, потом, после попытки самоубийства, переведен в Воронеж. Там фактически была написана последняя книга Мандельштама, около ста стихотворений, получивших название «Воронежские тетради», в том числе загадочные, пророческие «Стихи о неизвестном солдате».
Будут люди холодные, хилые Убивать, холодать, голодать И в своей знаменитой могиле Неизвестный положен солдат. Научи меня, ласточка хилая, Разучившаяся летать, Как мне с этой воздушной могилой Без руля и крыла совладать. И за Лермонтова Михаила Я отдам тебе строгий отчет, Как сутулого учит могила И воздушная яма влечет.На одном из поэтических вечеров на провокационный вопрос об акмеизме (ведь в этот круг входил и расстрелянный Гумилев) Мандельштам ответил: «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых». Лермонтов Михаил, как и Гумилев, и Ахматова, был среди тех, от кого поэт не отрекался, кого он включил в круг своих собеседников.
После трехлетней воронежской ссылки поэт с женой возвращается в Москву, но не может жить в собственной квартире и потому кочует между столицей и Калинином. Его «преступления», несмотря на несколько все-таки написанных панегирических сталинских стихов (Мандельштам объяснял их создание психологической «болезнью»), не были забыты. 3 мая 1938 года он снова арестован в подмосковном санатории, куда только что приехал по писательской путевке.
Осужденный на пять лет за «контрреволюционную деятельность», Мандельштам попал в пересыльный лагерь под Владивостоком. Отправить поэта на Колыму уже не успели. Он умер в лагере от болезней, истощения, в состоянии глубокого психического расстройства. «В сущности, он сжигал себя и хорошо делал. Будь он физически здоровым человеком, сколько лишних мучений пришлось бы ему перенести, – с горькой гордостью написала жена поэта. – О. М. властно вел свою жизнь к той гибели, которая его подстерегала, к самой распространенной у нас форме смерти «с гурьбой и гуртом» (Н. Я. Мандельштам «Воспоминания»).
Он погиб как неизвестный солдат. От него не осталось ничего: ни вещей, ни квартиры, где можно было бы организовать музей, ни даже могилы. Только «новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама» (А. Ахматова).
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Мандельштама
УТРО АКМЕИЗМА: КАМЕНЬ И КУЛЬТУРА
«Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма», – написал Мандельштам в программной статье «Утро акмеизма» (1912). В одной фразе повторяются три синонимичных, важных для акмеистской поэтики понятия: вещь, существование, бытие. Светлый циферблат часов вместо луны был для поэта, как уже говорилось в главе об акмеизме, переходом от символистской метафорической отвлеченности к новой конкретности, вещизму, адамизму.
Повествователь первого сборника «Камень» (1913) – «старинный пешеход», «прохожий человек», перед которым открывается наполненный привлекательными и прелестными подробностями мир. «Медлительнее снежный улей, / Прозрачнее окна хрусталь, / И бирюзовая вуаль / Небрежно брошена на стуле». – «„Мороженно!“ Солнце. Воздушный бисквит. / Прозрачный стакан с ледяною водою» – «Поедем в Царское Село! / Свободны, ветрены и пьяны, / Там улыбаются уланы, / Вскочив на крепкое седло… / Поедем в Царское Село!» – «Воздух пасмурный влажен и гулок; / Хорошо и нестрашно в лесу. / Легкий крест одиноких прогулок / Я покорно опять понесу».
В этом освоении, пристальном разглядывании мира Мандельштама интересуют не только привычные вещи, но и совершенно новые приметы времени. Он одним из первых начинает живописать технические новинки и предметы цивилизации. Он пишет стихи о приморском казино, кинематографе, теннисе, футболе, путешествующей по Европе американке.
Заглавие книги Мандельштама – предметно, но в то же время и символично. Камень – основа здания. Архитектура придает миру наглядность, вещественность и становится памятью об ушедшей эпохе, памятником. Многие стихотворения Мандельштама – архитектурные пейзажи, описания дворцов, соборов, площадей. Он не только упоминает «желтизну правительственных зданий», Адмиралтейство, площадь Сената и торговую набережную Невы в «Петербургских строфах», но посвящает особые стихи Адмиралтейству, Дворцовой площади, Казанскому собору, собору Святой Софии в Стамбуле и собору Парижской Богоматери.
В последнем стихотворении задача поэта прямо соотносится с работой зодчего.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, Я изучал твои чудовищные ребра, — Тем чаще думал я: из тяжести недоброй И я когда-нибудь прекрасное создам… («Notre Dame», 1912)Мандельштамовская особенность воссоздания мира заключалась в том, что его зрение не только улавливало самые современные детали бытия («Кинематограф. Три скамейки»), но проникало в близкое и далекое прошлое, делало своим, домашним, близким и Англию XIX века («Когда, пронзительнее свиста, / Я слышу английский язык / Я вижу Оливера Твиста / Над кипами конторских книг»), и классицистскую Францию («Театр Расина. Мощная завеса… Спадают с плеч классические шали…»), и шотландское средневековье («И перекличка ворона и арфы / Мне чудился в зловещей тишине; / И ветром развеваемые шарфы / Дружинников мелькают при луне!»), и императорскую римскую историю («Я в Риме родился и он ко мне вернулся») и времена Гомера.
Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие рубежи, — На головах царей божественная пена, — Куда плывете вы? Когда бы не Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер – все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, И море черное, витийствуя, шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью. («Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 1915)Исходная ситуация, точка лирического отсчета в этом стихотворении помещена в современности: во время бессонницы лирический субъект читает «Илиаду». Но перечень вождей, которые отправились на завоевание Трои, давно ставший образцом школьной скуки, является толчком для воображения поэта. Гомеровские корабли вдруг превращаются в метафорический журавлиный клин и даже журавлиный поезд (в этом слове соединяются и старинное значение «обоз, караван», и, возможно, современное – «сцепление вагонов на железной дороге»). И вот уже поэт прямо обращается к спутникам Одиссея, даже различает на их головах «божественную пену», понимает причины их похода («И море, и Гомер все движется любовью»), ощущает шум, голос (витийство) моря у своего изголовья.
Воображение – мандельштамовская машина времени. Скучная, далекая история вдруг оживает, становится, наряду с кинематографом и футболом, явлением современной культуры. Поэт предоставляет ее в распоряжение внимательного читателя, предлагая увидеть баснословные времена на расстоянии вытянутой руки.
Продолжает этот диалог с гомеровской эпохой стихотворение, написанное в Крыму между двумя революциями:
Золотистого меда струя из бутылки текла Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела: – Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела. Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни Сторожа и собаки, – идешь, никого не заметишь. Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни. Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь. После чаю мы вышли в огромный коричневый сад, Как ресницы, на окнах опущены темные шторы. Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград, Где воздушным стеклом обливаются сонные горы. Я сказал: виноград, как старинная битва, живет, Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке; В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот Золотых десятин благородные, ржавые грядки. Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина, Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала. Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, — Не Елена – другая, – как долго она вышивала? Золотое руно, где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный. («Золотистого меда струя из бутылки текла…», 1917)Множество конкретных деталей передают медленное, тягучее ощущение времени. Этому ощущению помогает и выбранный размер: длинный пятистопный анапест, напоминающий о русской аналогии античного гекзаметра (это был шестистопный дактиль со стяжениями).
Композиционная особенность стихотворения Мандельштама и здесь заключается в том, что пейзаж современной Тавриды органически сливается со временем гомеровского эпоса. Многие детали крымского пейзажа лишены отчетливых хронологических примет: возделывали и убирали виноград, разливали мед, пили чай и смотрели на горы на этой земле тысячелетиями.
Но в эту картину включены отсылки к далекому прошлому: виноград напоминает герою-рассказчику старинную битву; виноградники и винные погреба – службы бога виноделия Бахуса; не Елена, другая – это жена Одиссея Пенелопа, на занятие которой намекает прялка (правда, гомеровская героиня не пряла, а ткала).
В последней строфе эти разновременные, но однородные детали сливаются в единую картину, где, словно в ответ на вздох повествователя («Где же ты, золотое руно?»), появляется возвратившийся домой главный герой гомеровского эпоса.
«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи; / Старца великого тень чую смущенной душой», – написал Пушкин, прочитав русского Гомера, переведенного Н. И. Гнедичем («На перевод Илиады», 1830). Мандельштам позволяет почуять эту великую тень не хуже Гнедича.
Существует забавная легенда о том, как Мандельштам сдавал университетский экзамен по античной литературе. На просьбу рассказать об Эсхиле он, подумав, сказал, что драматург был религиозен, потом, после долгой паузы, добавил, что Эсхил написал «Орестею», и после этого гордо покинул аудиторию.
Подлинные отношения поэта с античной культурой описал литературовед К. В. Мочульский, который в юности как раз помогал Мандельштаму готовиться к экзамену. «Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие: наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. <…> Он превращал грамматику в поэзию и утверждал, что Гомер – чем непонятнее, тем прекраснее. <…> Мандельштам не выучил греческого языка, но он отгадал его. Впоследствии он написал гениальные стихи о золотом руне и странствиях Одиссея:
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный.В этих двух строках больше «эллинства», чем во всей «античной» поэзии многоученого Вячеслава Иванова» («О. Э. Мандельштам», 1945).
Мандельштам отгадал не только Гомера, но и многие другие времена. Историю он воспринимал как личное, доступное изображению и осмыслению пространство культуры. «Все перепуталось, и сладко повторять: / Россия, Лета, Лорелея» («Декабрист», 1917).
Если акмеизм Гумилева связан с экзотической вещью, акмеизм Ахматовой с вещью психологизированной, то основой акмеистской поэтики Мандельштама становится культурно-историческая вещь. В умении видеть и предметно изображать самые разные исторические эпохи ему не было равных в поэзии серебряного века.
И, если подлинно поется И полной грудью, наконец, Все исчезает – остается Пространство, звезды и певец! («Отравлен хлеб, и воздух выпит…», 1913).ПРЯМАЯ РЕЧЬ: ЗЕМЛЯ И ВОЗДУХ
Общие принципы поэтики акмеизма – предметность, объективность взгляда на мир, отсутствие лирического героя, соизмеримость поэта с современниками – Мандельштам сохраняет и в поздних стихах. В этом смысле он – поэт без истории. Но предметный мир и черты лирического субъекта в его стихах все-таки изменяются: слишком менялась окружающая реальность, чтобы поэт мог спокойно погружаться в разные культурно-исторические эпохи.
В стихах, написанных в воронежской ссылке, наряду со стихиями моря и неба, Мандельштам открывает русский простор, которым пытается вылечиться от выпавших на его долю испытаний.
И не ограблен я, и не надломлен, Но только что всего переогромлен… Как «Слово о полку», струна моя туга, И в голосе моем после удушья Звучит земля – последнее оружье, Сухая влажность черноземных га! («Стансы», май-июль 1935)Земля, чернозем (одно из стихотворений так и называется «Чернозем», апрель 1935) приходит на смену камню. Вещь как знак культурной эпохи не исчезает из стихов Мандельштама, но наряду с этим, как когда-то у Фета или у А. А. Ахматовой, вещь становится симптомом какого-то психологического состояния, мгновенного впечатления.
Вехи дальние обоза Сквозь стекло особняка, От тепла и от мороза Близкой кажется река. И какой там лес – еловый? Не еловый, а лиловый, — И какая там береза, Не скажу наверняка — Лишь чернил воздушных проза Неразборчива, легка… («Вехи дальние обоза…», 26 декабря 1936)С четко зафиксированной точки зрения поэт вглядывается в мир, рассматривает его и, в конце концов, видит невидимое: прозрачный воздух, связанный с ощущением легкости, творчества, вдохновения. «Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой как Волга. Переходит в чернильно-синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляет глубокое наслаждение», – описывает поэт пейзаж, из которого вырастают это и несколько других стихотворений (Н. Я. Мандельштам «Воспоминания»).
В прозаическом описании зафиксирована та же точка зрения (дом на высоком берегу реки и лес за ней), назван главный цвет (чернильно-синий), но прямая оценка (гармония, высокое наслаждение) спрятана, растворена в самом изображении.
Мандельштам, в согласии с призывом Пастернака и даже раньше его, временами впадает в «неслыханную простоту». Такую простоту – высокие ценности обыденной жизни – вдруг открывают поэты разных эпох. Одни читатели называют эти открытия «простотой хуже воровства», другие – жизненной и поэтической мудростью.
Мы с тобой на кухне посидим, Сладко пахнет белый керосин; Острый нож да хлеба каравай… Хочешь, примус туго накачай, А не то веревок собери Завязать корзину до зари, Чтобы нам уехать на вокзал, Где бы нас никто не отыскал. («Мы с тобой на кухне посидим…», январь 1931)Кажется, такие простые стихи и писать просто: здесь нет ни одной метафоры, использован лишь один эпитет (белый керосин). Но в них есть, существует самое главное для настоящей лирики свойство: правда психологического состояния, ощущения человека, казалось бы, лишенного всего, но, тем не менее, добывающего поэзию из самых обыденных вещей (хлеб, керосин, корзина, веревка), имеющего друга, собеседника, любимую («мы с тобой» так не объяснено конкретнее), сохраняющего веру и надежду в скитаниях по враждебному миру.
Детали этого стихотворения показывают, что Мандельштам воспринимает исторически не только далекие времена, но и свою собственную эпоху. Причем он видит ее как в крупных, огромных чертах и размерах, так и мелко, четко, как полагается настоящему акмеисту, влюбленному в существование вещей (керосином заправляют примус, корзину в поездке используют вместо чемодана, хлеб продают большими караваями).
Прямая речь, прямое слово («сладко пахнет белый керосин») становятся для поэзии Мандельштама так же необходимы, как и сложные культурно-исторические образы («на головах царей божественная пена»).
Пора вам знать: я тоже современник, Я человек эпохи Москвошвея, Смотрите, как на мне топорщится пиджак, Как я ступать и говорить умею! Попробуйте меня от века оторвать, Ручаюсь вам – себе свернете шею! («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», май – 4 июня 1931)Установкой на прямую речь порождены гражданские, политические стихи Мандельштама, о которых уже шла речь. Однако Мандельштам хочет быть современником, человеком эпохи Москвошвея, не предавая ни Гомера с Расином, ни разночинцев в рассохлых сапогах. В этих же стихах лето называется буддийским, тот же мотив продолжает загадочный «сморщенный зверек в тибетском храме», в последней строфе упоминаются Рембрандт, Рафаэль и Моцарт.
После прозрачного «утра акмеизма» поэзия Мандельштама одновременно становится и более простой, и более сложной.
В одних случаях подобная сложность связана с тем, что предмет описания выведен за пределы стихотворения, но все встает на свои места, если мы узнаем или опознаем его.
Что поют часы-кузнечик, Лихорадка шелестит И шуршит сухая печка, — Это красный шелк горит. («Что поют часы-кузнечик…», 1918)Смысл этого стихотворения пояснила А. А. Ахматова: «…это мы вместе топили печку; у меня жар – я мерю температуру». Подобные стихи похожи на загадочные метафорические картинки Маковского: узнав, что описано, мы легко располагаем вокруг предмета все образы.
Но у позднего Мандельштама есть и другие стихи. Их загадочная образность напоминает, скорее, о поэзии символизма. Таковы «Стихи о неизвестном солдате». В этом тексте находят множество литературных цитат, аналогий, отсылок к разнообразным произведениям мировой литературы (это свойство называют интертекстуальностью или мандельштамовскими подтекстами), но все равно многие его строки и образы остаются загадочными, допускают только предположительное прочтение.
Этот воздух пусть будет свидетелем, Дальнобойное сердце его, И в землянках всеядный и деятельный Океан без окна – вещество… До чего эти звезды изветливы! Все им нужно глядеть – для чего? В осужденье судьи и свидетеля, В океан без окна, вещество.От колючих звезд-булавок в «Камне» и «Tristia» и прозрачного воздуха воронежских полей («Воронежские тетради») до угрожающих изветливых звезд и загадочного воздуха-свидетеля с дальнобойным сердцем в «Стихах о неизвестном солдате» – таков образный диапазон поэзии Мандельштама. Однако неизменными остаются глубокий смысл подобных стихов и их трагическая сила.
«Я – смысловик», – говорил о себе Мандельштам.
На вопрос: «Что такое акмеизм?» – он однажды ответил: «Тоска по мировой культуре».
А в письме литературоведу Ю. Н. Тынянову предсказал: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе» (21 января 1937 г.).
Так и случилось: стихи Мандельштама слились, растворились, изменили состав русской поэзии, стали частью мировой культуры.
Анна Андреевна АХМАТОВА (1889–1966)
ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ОДА: АКМЕИСТСКАЯ ЕВА
И никакого розового детства… Веснушечек, и мишек, и игрушек, И добрых теть, и страшных дядь, и даже Приятелей средь камешков речных. Себе самой я с самого начала То чьим-то сном казалась или бредом. Иль отраженьем в зеркале чужом…Так начала Анна Ахматова одну из «Северных элегий» (1955), в которых подводились жизненные итоги. Позднее, уже в прозе, она заметит: «Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех детей в мире; с страшными отсветами в какую-то несуществующую глубину, с величавыми предсказаниями, которые все же сбывались, с мгновеньями, которым было суждено сопровождать меня всю жизнь, с уверенностью, что я не то, за что меня выдают, что у меня есть еще какое-то тайное существование и цель» (1964).
Восстанавливая в конце жизни, когда цель давно была найдена и осуществлена, подробности детства, Ахматова делает важное наблюдение: «Детям не с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны» («Мнимая биография», 1964). Но потом, на расстоянии, большинству кажется: да, были счастливы; никогда не были так счастливы, как в детстве.
Анна Андреевна Ахматова родилась в дачном пригороде Одессы 11 (23) июня 1889 года в большой семье отставного капитана инженера А. А. Горенко. Как часто любила делать, и дату своего рождения она вписала в широкий исторический контекст: «Я родилась в один год с Чарли Чаплиным, „Крейцеровой сонатой“ Толстого, Эйфелевой башней. <…> В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии – 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь – 23 июня» («Будка», 1957).
Жизнь на юге была недолгой. В 1891 году семья переехала в пригород Петербурга Царское Село, которое стало поэтической колыбелью Ахматовой и навсегда осталось лучшим местом на земле. «Царским положительно отравляешься», – говорил директор Царскосельской гимназии и один из поэтических учителей Ахматовой И. Ф. Анненский. «Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в „Царскосельскую оду”», – вспоминала Ахматова («Коротко о себе», 1965).
В самой «Царскосельской оде» (1961) возникнет более противоречивый образ, в который, наряду с поэтическими, войдут и прозаические бытовые детали.
Фонари на предметы Лили матовый свет. И придворной кареты Промелькнул силуэт. Так мне хочется, чтобы Появиться могли Голубые сугробы С Петербургом вдали. Здесь не древние клады, А дощатый забор, Интендантские склады И извозчичий двор.На лето Ахматова обычно уезжала в Одессу, к морю, две зимы провела в Киеве, но главные события ее жизни связаны с Царским Селом. В 1900 году она поступила в Царскосельскую гимназию (оканчивать ее придется уже в Киеве). В 1903 году Анна Горенко познакомилась с начинающим поэтом Николаем Степановичем Гумилевым, бывшим годом старше ее. Так начался один из самых драматических литературных романов XX века.
Гумилев влюбился в красавицу гимназистку, много лет ухаживал за ней, посвящал ей многочисленные стихотворения, превращая в русалку, царицу, Беатриче. Ахматова наконец приняла предложение, но счастливой семейной жизни не получилось.
«26 апреля 1910 я вышла замуж за Н. С. Гумилева. Венчались мы за Днепром в деревенской церкви. В тот же день Уточкин летал над Киевом, и я впервые видела самолет», – легко объединит Ахматова событие в личной жизни, одну из эффектных деталей наступающего технического века.
Вскоре муж и жена словно обменялись печальными стихами, главным мотивом которых оказываются непонимание, неоправдавшиеся ожидания.
Через полгода после свадьбы, 9 ноября 1910 года, в том же Киеве Ахматова сочинит редкое для себя нерифмованное стихотворение «Он любил…»:
Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов И стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, Не любил чая с малиной И женской истерики. …А я была его женой.В следующем году и Гумилев напишет стихи, в которых жена предстанет еще в одном облике:
Из логова змиева, Из города Киева, Я взял не жену, а колдунью А думал – забавницу, Гадал – своенравницу, Веселую птицу-певунью. Покликаешь – морщится, Обнимешь – топорщится, А выйдет луна – затомится, И смотрит, и стонет, Как будто хоронит Кого-то, – и хочет топиться. («Из логова Змиева», 1911)Гимназическая подруга Ахматовой через много лет сделает сравнительное жизнеописание двух характеров: «Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих „сизых голубков“. Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны – для самоутверждения как свободной от оков женщины; с его стороны – желание не поддаться никаким колдовским чарам, остаться самим собою, независимым и властным… над этой, вечно, увы, ускользающей от него женщиной, многообразной и не подчиняющейся никому» (В. С. Срезневская «Дафнис и Хлоя»).
Рядом оказались не просто два сложных человека, но два очень разных, трудно совместимых поэта. Ахматова вспоминала, что первое («чудовищное») стихотворение написала в 11 лет. Первую публикацию в издаваемом им самим парижском журнале осуществил в 1907 году Гумилев (она была подписана: Анна Г.). В литературных кругах ее некоторое время воспринимали всего лишь как жену своего мужа, Анну Гумилеву, подражательную сочинительницу.
«Какой густой романтизм!» – иронически заметил известный символист Вяч. Иванов, прослушав ее стихи, после чего Гумилев предложил ей бросить писать и заняться танцами («Ты такая гибкая»). Но она стремилась к иному: чтобы ее знали и ценили саму по себе, как оригинального поэта (она не любила слова поэтесса).
В 1911 году, вернувшись из африканского путешествия, Гумилев прослушал новые стихи жены (их уже было написано несколько сотен) и сказал: «Ты – поэт. Надо делать книгу».
Книга «Вечер» вышла в 1912 году тиражом 300 экземпляров. В ней было всего 46 стихотворений. На обложке стоял уже знакомый читателям по журнальным публикациям псевдоним Анна Ахматова. Его происхождение связано с семейной легендой: «Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго». Фамилию своей прабабки, татарской княжны Ахматовой, Анна Гумилева-Горенко и сделала своим «литературным именем».
Поэт И. А. Бродский оценил его как первое значительное литературное произведение: «Пять открытых „A“ (Анна Ахматова) завораживали, и она прочно утвердилась в начале русского поэтического алфавита. Пожалуй, это была ее первая удачная строка, отлитая акустически безупречно, с „Ах“, рожденным не сентиментальностью, а историей. Выбранный псевдоним красноречиво свидетельствует об интуиции и изощренном слухе семнадцатилетней девочки» («Скорбная муза», 1982).
Через два года появилась еще одна маленькая книжка – «Четки» (1914). Чуть менее ста стихотворений сделали Ахматову знаменитой. Ее заметили все – от А. Блока до молодых подражательниц-ахматовок, сходно одевавшихся, подстригавшихся и сочинявших стихи «под Ахматову». Почти мгновенно возникла антология посвященных ей стихотворений. Из ее портретов можно было составить небольшую выставку.
И чем сильней они меня хвалили, Чем мной сильнее люди восхищались, Тем мне страшнее было в мире жить, И тем сильней хотелось пробудиться, И знала я, что заплачу сторицей В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, Везде, где просыпаться надлежит Таким, как я, – но длилась пытка счастьем. («Северные элегии», вторая, 4 июля 1955)Творчество Ахматовой было воспринято не просто как явление еще одного русского поэта, но как преодоление символизма, начало новой поэтической эпохи. «В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм. Вместе с моими товарищами по „Первому Цеху поэтов“ – Мандельштамом, Зенкевичем и Нарбутом – я сделалась акмеисткой», – лапидарно вспоминала Ахматова литературные битвы серебряного века («Коротко о себе»). Но Ахматова не просто «сделалась акмеисткой». Ее стихи стали идеальным воплощением и оправданием акмеистской теории, которую разрабатывал главным образом Гумилев.
Первоначально акмеисты, как мы помним, называли себя еще и адамистами, ведя свою родословную от библейского Адама. На одном из литературных вечеров того времени сравнение было продолжено. После выступления акмеистов разъяренный бородатый старик «потрясал кулаками и кричал: „Эти Адамы и эта тощая Ева“ (то есть я)». Ахматова действительно стала акмеистской Евой, словно впервые называя и объясняя мир.
Вскоре в литературные полемики вмешалась история. «В сущности, никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале 10-х годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской революции. Увы!»
Выход второго ахматовского сборника совпал с историческим рубежом эпох. «В марте 1914 года вышла вторая книга – „Четки“. Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города» («Коротко о себе»).
Пытка счастьем в ахматовской жизни закончилась, начались совсем иные испытания.
Меня, как реку, Суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, Мимо другого потекла она, И я своих не знаю берегов. («Северные элегии», пятая, 1945)СЕВЕРНАЯ ЭЛЕГИЯ: ТИХАЯ КАССАНДРА
В рецензии на «Четки» тонкий филолог Н. В. Недоброво, друживший с Ахматовой, проницательно написал: «При общем охвате всех впечатлений, даваемых лирикой Ахматовой, получается переживание очень яркой и очень напряженной жизни. Прекрасные движения души, разнообразные и сильные волнения, муки, которым впору завидовать, гордые и свободные соотношения людей, и все это в осиянии и в пении творчества… <…>
Способ очертания и оценки других людей полон в стихах Анны Ахматовой такой благожелательности к людям и такого ими восхищения, от которых мы не за года только, но, пожалуй, за всю вторую половину XIX века отвыкли. У Ахматовой есть дар геройского освещения человека. <…>
Я думаю, все мы видим приблизительно тех же людей, и, однако, прочитав стихи Ахматовой, мы наполняемся новой гордостью за жизнь и за человека. Большинство из нас пока ведь совсем иначе относится к людям; еще в умерших так-сяк можно предположить что-нибудь высокое, но в современниках? – как не пожать плечами…» («Анна Ахматова», 1915)
В переломные, катастрофические эпохи возможности «геройского освещения человека», конечно, возрастают, но в то же время труднее проникнуться гордостью за жизнь и увидеть высокое в своих современниках.
После революции Ахматова, в отличие от Маяковского или Бунина, делает не политический, а нравственный выбор. Ее позиция: христианские терпение и стойкость; верность культуре и родине, а не той или иной власти; преданность немногим друзьям; выполнение своего главного долга – поэтическое запечатление времени, память о прошлом и предсказание будущего. В эпоху катастроф, измен и предательств, разрушения прежних ценностей ахматовская позиция и поэзия были напоминанием о норме.
Не принимая того, что происходит в России, Ахматова в то же время отвергает для себя возможность разрыва с родиной, эмиграции. Ее принципиальный выбор зафиксирован в стихотворении, написанном осенью 1917 года.
Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид». Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух.Прежняя акмеистская Ева, называющая мир, заговорила как предсказательница Кассандра, героиня греческого мифа, обладавшая даром предвидения, который, однако, не признавали, не ценили окружающие. «Больная, тихая Кассандра», – обратился к Ахматовой О. Э. Мандельштам и тоже выступил в роли предсказателя (о чем Ахматова позднее часто вспоминала):
Когда-нибудь в столице шалой, На скифском празднике, на берегу Невы, При звуках омерзительного бала Сорвут платок с прекрасной головы… («Кассандре», 1917)Послереволюционная эпоха оказалась для Ахматовой временем бесконечных испытаний. Воспевавшая простые радости бытия, она с трудом приспосабливается к новому быту «пещеры» (Е. Замятин). «Это были годы голода и самой черной нищеты», – лаконично скажет она. Современники вспоминают дополнительные живописные детали. Ахматова продает селедку из мешка (литературный паек), чтобы купить другие продукты. На улице плохо одетую женщину принимают за нищую и подают милостыню (дома Ахматова прячет деньги за икону: на черный день).
Но она с гордостью вспоминала и иное – эпизод, отраженный в поздней микроновелле. Ахматова возвращается из Царского Села в переполненном вагоне. «И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек (рифм). Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу». Папироса с трудом находится в сумке, но во всем вагоне ни у кого не оказывается спичек. Ахматова выходит из вагона на открытую площадку. «Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные, красные, еще как бы живые, жирные искры паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать (прижимать) к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. „Эта не пропадет“, – сказал один из них про меня» («Искра паровоза», 1962).
Ахматова помнила и то, какие стихи, благодаря искрам паровоза, были выловлены из воздуха, записаны, включены в книгу.
Не бывать тебе в живых, Со снегу не встать. Двадцать восемь штыковых, Огнестрельных пять. Горькую обновушку Другу шила я. Любит, любит кровушку Русская земля. («Не бывать тебе в живых…», 16 августа 1921)Частушка-плач связана со многими трагедиями этих лет.
В 1918 году Ахматова разводится с Н. С. Гумилевым, хотя дружеские отношения между ними сохраняются. Попытка устроить семейную жизнь с ученым В. К. Шилейко, исследователем древневосточных цивилизаций, тоже оказалась недолгой (1918–1921).
В эти годы окончательно рассыпалась и большая семья Горенко. Еще в 1915 году умер отец. Во время революции пропал служивший на Черноморском флоте младший брат Виктор. Ахматова написала о нем стихи: «На Малаховом кургане / Офицера расстреляли. / Без недели двадцать лет / Он глядел на божий свет». (Однако офицер остался жив. Письмо от брата из Америки – как будто с того света! – Ахматова получит лишь через тридцать восемь лет, ответит ему еще через семь, за три года до смерти. Они так и не увиделись.) Мать вместе с сестрой оказалась на Сахалине и вскоре умерла.
Смерть А. Блока Ахматова тоже переживает как личную потерю. В Блоке она видела воплощение лучших черт русской культуры серебряного века. Позднее Блок предстанет в ее стихах как «памятник началу века», «трагический тенор эпохи». 10 августа 1921 года на похоронах Блока Ахматова узнает об аресте Гумилева. Через несколько дней он был расстрелян.
Гумилевым начинается ряд русских поэтов XX века, могилы которых неизвестны. В эти годы Ахматова примеряет трагическую судьбу современников и на себя:
…Оттого, что мы все пойдем По Таганцевке, по Есенинке Иль большим Маяковским путем. (1932)Однако вопреки всему она продолжает сочинять стихи и издавать новые книги. В 1917 году выходит «Белая стая», третий сборник. В 1921 году – еще два: «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI» (В лето Господне 1921 – лат.). При этом регулярно переиздавались «Четки», самая популярная ее книга.
Затем наступила долгая пауза: новые стихи не писались, прекратились переиздания и старых книг. «Между 1925–1939 годами меня перестали печатать совершенно… Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет», – вспоминала Ахматова. Она предполагала, что существовало какое-то тайное партийное постановление, запрещающее публиковать ее стихи.
В 1922 году Ахматова выходит замуж за искусствоведа H. Н. Пунина и поселяется во дворце графа Шереметьева на Фонтанке, который надолго станет ее местом жительства и навсегда – героем ее поэзии. «Фонтанный Дом», – ставит Ахматова рядом с датой многих стихов.
Через тридцать лет, переезжая на другую квартиру, она подведет итог:
Особенных претензий не имею Я к этому сиятельному дому, Но так случилось, что почти всю жизнь Я прожила под знаменитой кровлей Фонтанного дворца… Я нищей В него вошла и нищей выхожу… («Особенных претензий не имею…», 1952)Здесь, под знаменитой кровлей, Ахматова пережила самые страшные годы.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТРАГЕДИЯ: ВЕЛИКАЯ ДУША
Эпоха, которую историки советского общества определяют как «большой террор», а современники называли «ежовщиной» (по имени главного исполнителя Н. И. Ежова, наркома внутренних дел в 1936–1938 годах) началась с 1 декабря 1934 года после убийства С. М. Кирова. В 1935–1938 годах, в Советском Союзе были арестованы, осуждены и отправлены в лагеря или расстреляны несколько миллионов человек. Особенно пострадал Ленинград, город трех революций, в котором большевистская власть по-прежнему видела очаг недовольства и вольнодумства. «Понемногу жизнь превратилась в непрерывное ожидание гибели», – вспоминала Ахматова.
В необъятный поток жертв попали близкие друзья и родственники Ахматовой. В мае 1935 года, приехав в Москву, она стала свидетелем ареста О. Э. Мандельштама, соратника по акмеизму и самого близкого в послереволюционные десятилетия человека. В том же году в Ленинграде были арестованы муж Ахматовой H. Н. Пунин и единственный сын Л. Н. Гумилев, студент исторического факультета университета (он родился в 1912 году). После мучительных хлопот (в них Ахматовой помогали М. А. Булгаков и Б. Л. Пастернак), личного письма Сталину родных через несколько дней выпустили, но потом последовали новые аресты. H. Н. Пунин через несколько лет умер в заключении. Сын – с перерывами на войну и учебу – провел в лагерях пятнадцать лет и вернулся в Ленинград лишь в 1956 году, уже после смерти Сталина и XX съезда КПСС.
Ахматова вела себя как простые русские женщины: стояла в тюремных очередях, писала утешающие письма, собирала посылки с продуктами, книгами и вещами. Однако она была не просто женой и матерью, но – поэтом. Всеобщая трагедия вернула ей голос, прервала долгое молчание. «В 1936-м я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалипсического Бледного коня или Черного коня из тогда еще не рожденных стихов. <…> 1940 – апогей. Стихи звучат непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь…»
Речь здесь идет о поэме (или цикле стихотворений) «Requiem» (1935–1940). Вопреки возгласам «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» Ахматова тихим голосом Кассандры высказала трагическую правду о времени:
Это было, когда улыбался Только мертвый, спокойствию рад. И ненужным привеском болтался Возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, Шли уже осужденных полки, И короткую песню разлуки Паровозные пели гудки, Звезды смерти стояли над нами, И безвинная корчилась Русь Под кровавыми сапогами И под шинами черных марусь. («Вступление», ноябрь 1935)В фантастическом романе Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту» изображены люди, наизусть выучившие преданные сожжению великие книги, чтобы позднее, когда это станет возможно, продиктовать их и тем самым восстановить память человечества. Реальная история ахматовского «Реквиема» оказывается сильнее этой фантазии. Сочинив поэму, Ахматова много лет даже не решалась записать ее, но лишь читала верным друзьям с надеждой, что кто-то доживет до лучших времен. Перенести текст на бумагу она отважилась только через четверть века. А публикация на родине появилась почти через полвека (1987).
Великая Отечественная война на какое-то время отодвинула в сторону личные трагедии. Ахматова встречает ее в Ленинграде, лишь в конце сентября ее вывозят на самолете из осажденного города, до 1944 года она живет в эвакуации в Ташкенте. Одно из ее патриотических стихотворений, позднее вошедших в цикл «Ветер войны», печатает главная партийная газета «Правда».
Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах. И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, — И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навеки! («Мужество», февраль 1942)Даже в этом риторическом, одическом тексте, мало похожем на оригинальные ахматовские стихи, есть важный оттенок мысли. Родина для Ахматовой – не идеологические лозунги, даже не природа, а прежде всего – речь, великое русское слово, которое должен защищать не только поэт, но каждый человек.
В мае 1944 года Ахматова возвращается в Ленинград, снова поселяется в Фонтанном доме. С фронта приходит сын, публикуются новые стихи, в апреле 1946 года с огромным успехом проходит совместное с Б. Л. Пастернаком выступление в Колонном зале Дома союзов в Москве, готовятся к публикации сразу две ее книги. Все меняется в один день.
Один идет прямым путем, Другой идет по кругу И ждет возврата в отчий дом, Ждет прежнюю подругу. А я иду – за мной беда, Не прямо и не косо, А в никуда и в никогда, Как поезда с откоса. («Один идет прямым путем», 1940)В августе (снова август!) 1946 года публикуется постановление ЦК ВКП (б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград”», главными героями которого оказываются два ленинградца: А. А. Ахматова и М. М. Зощенко. Партийный идеолог А. А. Жданов произносит разъясняющую постановление речь, в которой полуграмотные, надерганные из старых работ об Ахматовой, характеристики ее творчества сочетались с ругательствами, достойными не государственного деятеля, а дворового хулигана или лагерного урки.
На писателей обрушивается вся мощь советской идеологической машины: их бесконечно прорабатывают на собраниях, исключают из писательского союза, прекращают печатать, на какое-то время даже лишают продуктовых карточек (что в стране с карточной системой было почти равносильно голодной смерти). В это время Ахматова, опасаясь за близких людей, сжигает многие материалы из своего архива.
«Скажите, зачем Великой стране, изгнавшей Гитлера со всей его мощной техникой, зачем им понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» – задает она безответный вопрос (запись Ф. Г. Раневской). Точного ответа на него и сегодня не знает никто, однако ясно, что цели были выбраны очень точно: Зощенко был самым популярным советским автором, известным буквально каждому человеку, Ахматова – безусловным нравственным авторитетом среди интеллигенции, воплощением связи времен, памяти о старой русской культуре.
Существенно положение Ахматовой изменилось лишь после смерти Сталина и XX съезда КПСС. «Того, что пережили мы, – да, да, мы все, потому что застенок грозил каждому! – не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы – все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли – мелочь, детские игры по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казненные или лагерники, я говорить не смею. Это не называемо словом. Но и каждая благополучная жизнь – шекспировская драма в тысячекратном размере», – говорила Ахматова Л. К. Чуковской (4 марта 1956 г.).
Поэта возвращают к жизни: начинают публиковаться ахматовские переводы. Но маленький сборник оригинальных стихов (за красный цвет обложки Ахматова иронически будет называть его партийной книжкой) появится лишь в 1961 году. Однако партия не могла ошибаться: еще несколько поколений школьников и студентов должны были изучать не стихи Ахматовой, а ждановский доклад и партийное постановление. (Его отменили лишь в 1988 году, когда это уже никого не интересовало.)
В последнее десятилетие Ахматова подводит итоги: Настоящего Двадцатого Века и собственной жизни. Завершена «Поэма без героя», писавшаяся больше двадцати лет (1940–1962). Современники видят в ней «трагедию совести», «объяснение, отчего произошла революция», «реквием по всей Европе», «осуществленную мечту символистов». Выходит сборник «Бег времени» (1965), в котором в тщательно продуманном порядке представлены стихи от раннего «Вечера» до так и не изданной отдельно «Седьмой книги». Задумана книга воспоминаний и написаны важные фрагменты о детстве, первых книгах, Мандельштаме.
«Людям моего поколения не грозит печальное возвращение – нам возвращаться некуда… Иногда мне кажется, что можно взять машину и поехать в дни открытия Павловского Вокзала (когда так пустынно и душисто в парках) на те места, где тень безутешная ищет меня, но потом я начинаю понимать, что это невозможно, что не надо врываться (да еще в бензинной жестянке) в хоромы памяти, что я ничего не увижу и только сотру этим то, что так ясно вижу сейчас», – говорит Ахматова в одном из мемуарных фрагментов.
В последней книге она составляет из стихов разных лет циклы «Венок мертвым» и «Северные элегии» с эпиграфом из Пушкина «Все в жертву памяти твоей…», пишет «Царскосельскую оду. Девятисотые годы» (1961) с эпиграфом из Гумилева.
В поздних стихах Ахматовой зрение отступает перед памятью. Но неизменной остается система человеческих ценностей, отмеченная когда-то в статье Н. В. Недоброво: прекрасные движения души; разнообразные и сильные волнения; муки, которым впору завидовать.
Даже о расставании с миром Ахматова пишет с просветленной грустью и надеждой.
Земля хотя и не родная, Но памятная навсегда, И в море нежно-ледяная И несоленая вода. На дне песок белее мела, А воздух пьяный, как вино, И сосен розовое тело В закатный час обнажено. А сам закат в волнах эфира Такой, что мне не разобрать, Конец ли дня, конец ли мира, Иль тайна тайн во мне опять. («Земля хотя и не родная…», 1964)Анна Андреевна Ахматова умерла 5 марта 1966 года в подмосковной больнице. Но похоронена она в писательском поселке Комарово, пригороде Петербурга (Ленинграда), где часто жила в последние годы.
Ее главной поэтической надеждой и постоянным собеседником был молодой Иосиф Бродский. Когда через четверть века знаменитый поэт-изгнанник получал Нобелевскую премию, в лауреатской лекции он вспомнил, что на этой кафедре могла стоять Ахматова. Еще раньше, в эссе «Скорбная муза», Бродский говорил о «божественной неповторимости личности» другого поэта. А в июле 1989 года он написал стихи «На столетие Анны Ахматовой»:
Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос — Бог сохраняет все; особенно – слова прощенья и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит; ровны и глуховаты, затем что жизнь – одна, они из смертных уст звучат отчетливей, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла, – тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря обретшей речи дар в глухонемой вселенной.В сложных стихах Бродского, так непохожих на стихи Ахматовой, сквозь метафоры проступает судьба, сквозь судьбу – история. Но их смысл совпадает с теми словами, которые произнес когда-то Н. В. Недоброво: великая душа поэта, вопреки всем историческим трагедиям и вечной трагедии смерти, небытия, находит слова, благодаря которым родная земля обретает дар речи в глухонемой вселенной.
Бог сохраняет все – таков написанный на латыни девиз над парадными воротами Фонтанного дома.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Ахматовой
ЛИРИЧЕСКИЙ РОМАН: Я НАУЧИЛА ЖЕНЩИН ГОВОРИТЬ
Анна Ахматова как поэт начинает с одной из главных тем лирики. Стихотворения ее первого творческого десятилетия, первые пять лирических книг – от «Вечера» (1912) до «Anno Domini» (1922) – воспринимались современниками, прежде всего, как антология любовной лирики.
Однако в вечной теме открылось актуальное, оригинальное, неожиданное содержание, позволяющее тем же критикам-современникам утверждать, что у Ахматовой нет близких предшественников. «…Надо в понятии поэтессы, женщины-поэта, сделать сначала ударение на первом слове и вдуматься в то, как много за всю нашу мужскую культуру любовь говорила о себе в поэзии от лица мужчины и как мало от лица женщины», – замечал Н. В. Недоброво («Анна Ахматова»).
Через много лет, в цикле «Тайны ремесла», Ахматова обозначила свое поэтическое место ироническим четверостишием.
Могла ли Биче, словно Дант, творить, Или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить… Но, боже, как их замолчать заставить! («Эпиграмма», 1958)Действительно, знаменитые возлюбленные итальянских поэтов Данте Алигьери (1265–1321) и Франческо Петрарки (1304–1374) Беатриче и Лаура были объектом любви и предметом многочисленных лирических произведений, но сами остались безмолвными. Русские поэтессы XIX века Каролина Павлова или Мирра Лохвицкая явно уступали поэтам-современникам. Даже «символистская Мадонна» 3. Н. Гиппиус была больше известна не своими стихами, а критическими статьями и публицистикой.
Ахматова первой встает в ряд больших русских поэтов, ее поэтический мир оценивается уже без всяких скидок на пол. Причиной разрыва с Н. С. Гумилевым становится, помимо прочего, и поэтическое соперничество, в котором мужчина чувствовал себя ущемленным и обиженным. Ахматова вспоминала одну из семейных ссор, которая завершилась мстительно-гордой репликой: «А все равно я пишу стихи лучше тебя!» Не случайно в поисках культурных аналогий критики часто обращались к имени легендарной греческой поэтессы, называя Ахматову «русской Сафо».
Чувство, которое Ахматова изображала с женской точки зрения, глазами женщины, тоже было по-особому акцентированным. «Несчастной любви и ее страданиям принадлежит очень видное место в содержании ахматовской лирики – не только в том смысле, что несчастная любовь является предметом многих стихотворений, но и в том, что в области изображения ее волнений Ахматовой удалось отыскать общеобязательные выражения и разработать поэтику несчастной любви до исключительной многоорудности. <…> И, однако, нельзя сказать об Анне Ахматовой, что ее поэзия – поэзия несчастной любви. <…> Так богата отзвуками ахматовская несчастная любовь. Она – творческий прием проникновения в человека и изображения неутолимой к нему жажды», – продолжал анализ ранней ахматовской лирики Н. В. Недоброво.
Тема несчастной любви как прием проникновения в человека реализуется у Ахматовой в особой композиционной форме. В трех-пяти строфах обычно изображается или – чаще – угадывается кульминация любовной истории, воспроизведенной с точки зрения лирической героини. Ахматова превращает стихотворение в короткий рассказ, микроновеллу.
Поэтому проницательные читатели, в том числе соратник по акмеизму О. Э. Мандельштам, заметили в ее лирике связь не столько с поэзией, сколько с русской прозой. «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа девятнадцатого века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с „Анной Карениной“, Тургенева с „Дворянским гнездом“, всего Достоевского и отчасти даже Лескова. Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу» («Письмо о русской поэзии», 1922).
Поскольку лирическая героиня и ее состояние остаются неизменными, отдельные стихи Ахматовой образуют единство, складываются в стихотворную повесть или даже роман. «Обрастание лирической эмоции сюжетом – отличительная черта поэзии Ахматовой. Можно сказать, что в ее стихах приютились элементы новеллы или романа, оставшиеся без употребления в эпоху расцвета символической лирики. Ее стихи существуют не в отдельности, не как самостоятельные лирические пьесы, а как мозаичные частицы, которые сцепляются и складываются в нечто похожее на большой роман», – говорил Б. М. Эйхенбаум, один из лучших исследователей ранней лирики Ахматовой («Анна Ахматова. Опыт анализа», 1923).
А в рецензии на сборник «Подорожник» литературовед дал более краткое, афористическое определение этого свойства ахматовской лирики: «Поэзия Ахматовой – сложный лирический роман. <…> „Подорожник“ – продолжение романа, развитие и укрепление знакомых нам по прежним сборникам повествовательных мотивов» («Роман-лирика», 1921).
Но этот роман все-таки был стихотворным, кратким, лирическим, поэтому огромная нагрузка падала на выделенную, представленную крупным планом подробность, деталь, которая брала на себя выражение психологического содержания. Выхваченные из реальности предметы, превращенные в психологические средства, стали главным открытием в поэзии акмеистской Евы.
В предисловии к первому сборнику Ахматовой «Вечер» поэт М. Кузмин отнес молодого поэта к вещелюбам и пояснил это свойство заимствованными из ее стихов примерами: «Нам кажется, что, в отличие от других вещелюбов, Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами. Часто она точно и определенно упоминает какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако, как беличья шкурка, в небе, желтый свет свечей в спальне, треуголку в Царскосельском парке), казалось бы, не имеющий отношения ко всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого упоминания более ощутимый укол, более сладостный яд мы чувствуем. Не будь этой беличьей шкурки, и все стихотворение, может быть, не имело бы той хрупкой пронзительности, которую оно имеет («Предисловие», 1912).
Теория акмеизма, как признавала позднее сама Ахматова, создавалась Гумилевым путем наблюдения над ее поэзией и поэзией Мандельштама и опиралась на этот психологизированный вещизм. «Она почти никогда не объясняет: она показывает» (Н. С. Гумилев «Анна Ахматова. Четки», 1914).
Новыми, неожиданными были не только предметный мир, женская точка зрения и психологическая парадоксальность главной героини. Б. М. Эйхенбаум, обративший внимание на новеллистичность ахматовской лирики, заметил еще одно важное свойство: особенность ее интонации, речевой структуры: «Три голоса: трагический голос Блока, крик Маяковского, шепот Ахматовой». Затем эти метафоры были конкретизированы: «Ораторское слово Маяковского (тоже произносительное) – и разговорное у Ахматовой» («Об Ахматовой», 1946).
Названные поэты наиболее отчетливо демонстрируют в серебряном веке основные интонации, способы чтения русского стиха.
Стих Блока (эту традицию продолжает Есенин) – преимущественно напевный, требующий размеренно-протяжного произнесения; его естественно читать про себя, бормотать, петь без музыки.
Стих Маяковского – ораторский, ориентированный на громкое чтение, выкрик, обращенный к большой аудитории; он требует декламации.
Стих Ахматовой – разговорный, его произносительным образцом является беседа, обращенная к узкому кругу понимающих людей; его хочется рассказывать.
Попробуем увидеть обозначенные свойства и признаки в нескольких, ставших знаменитыми, стихотворениях, вошедших в первый сборник Ахматовой «Вечер».
Так беспомощно грудь холодела, Но шаги мои были легки. Я на правую руку надела Перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, А я знала – их только три! Между кленов шепот осенний Попросил: «Со мною умри! Я обманут моей унылой, Переменчивой, злой судьбой». Я ответила: «Милый, милый! И я тоже. Умру с тобой…» Эта песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи Равнодушно-желтым огнем. («Песня последней встречи», 29 сентября 1911)В четырех строфах Ахматовой возникают контуры, очертания новеллы, которую можно представить, например, в «Темных аллеях» И. А. Бунина. Пейзаж: осенний парк, шумящие деревья, три ступени крыльца усадебного дома, горящие в спальне свечи. Вышедшая в парк намеренно легкой походкой героиня на самом деле не просто взволнована, но – потрясена. Она с трудом преодолевает три знакомых ступеньки. Слушая шум деревьев, таинственный осенний шепот, она готова умереть вместе с природой. Последняя встреча воспринимается как трагедия, конец ее жизни.
Но в чем конкретный смысл этой трагедии? С кем происходит встреча и почему она последняя? Кто виноват? Мы словно наблюдаем чью-то драму издалека, и должны заполнить психологические пропуски воображением или собственными воспоминаниями.
К разгадке драмы лирической героини более всего приближает эпитет, относящийся к свечам: равнодушно-желтый огонь может быть характеристикой того, кто остался там, за окнами. Ее потрясение более всего передает данная крупным планом деталь из первой строфы: «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки».
«Ее вещи – самые обыкновенные, не аллегории, не символы: юбка, муфта, устрицы, зонтик. Но эти мелкие, обыкновенные вещи становятся у нее незабвенными, потому что она властно подчинила их лирике. Что такое, например, перчатка? – а между тем вся Россия запомнила ту перчатку, о которой говорит у Ахматовой отвергнутая женщина, уходя от того, кто оттолкнул ее», – писал К. И. Чуковский по-своему расшифровывая загадку этой стихотворной новеллы и одновременно соединяя ее с другими, аналогичными лирическими сюжетами («Ахматова и Маяковский», 1921).
«Песня последней встречи», согласно авторской пометке, написана в Царском Селе. За несколько месяцев до нее в Киеве было сочинено другое стихотворение, вошедшее в цикл «В Царском Селе».
Сжала руки под темной вуалью… «Отчего ты сегодня бледна?» – Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот… Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка Все, что было. Уйдешь, я умру». Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне: «Не стой на ветру». («Сжала руки под темной вуалью…», 1911)Похожая драматическая ситуация разыгрывается здесь как будто с переменой ролей. Теперь героиня напоила терпкой печалью героя и он уходит, вероятно, навсегда. Опять отмечена легкость ее походки-бега и потрясение от произошедшего, которое равносильно смерти («Уйдешь – я умру»). Кульминацией этой лирической новеллы становится уже не деталь (перчатка), а намеренно-заботливая, спокойно-жуткая реплика героя.
Даты и место действия ахматовских стихотворений меняются – ситуация и психологические черты лирической героини остаются неизменными. Она страстно любит, страдает, отрекается и пронзительно-остро, проницательно-мудро видит вещный мир.
Я научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат в овраге лопухи И никнет гроздь рябины желто-красной, Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь Пушистый кот, мурлыкает умильней, И яркий загорается огонь На башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь Крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, Мне кажется, я даже не услышу. («Я научилась просто, мудро жить…», 1912) Проплывают льдины, звеня, Небеса безнадежно бледны. Ах, за что ты караешь меня, Я не знаю моей вины. <…> Все по-твоему будет: пусть! Обету верна своему, Отдала тебе жизнь, но грусть Я в могилу с собой возьму. («Черный сон», 1918)Отмечая аскетизм, преданность, самоотверженность ахматовской лирической героини, ее часто сравнивали с монахиней. «Читая „Белую Стаю“ Ахматовой, – вторую книгу ее стихов, – я думал: уже не постриглась ли Ахматова в монахини? У первой книги было только название монашеское: „Четки“, а вторая вся до последней страницы пропитана монастырской эстетикой. В облике Ахматовой означилась какая-то жесткая строгость, и, по ее же словам, губы у нее стали „надменные“, глаза „пророческие“, руки „восковые“, „сухие“. <…> В этих словах, интонациях, жестах так и чувствуешь влюбленную монахиню, которая одновременно и целует, и крестит» (К. И. Чуковский «Ахматова и Маяковский»).
Этот образ, злонамеренно вырванный из контекста, стал одним из поводов идеологических обвинений Ахматовой в 1946 году. Система нравственных ценностей, воплощенная в религии, в христианстве, оказалась крайне важна для Ахматовой, когда в ее лирический мир вошла, ворвалась, вломилась история.
РЕКВИЕМ: Я БЫЛА ТОГДА С МОИМ НАРОДОМ
После революции, как уже говорилось, к образам акмеистской Евы и влюбленной монахини добавляется тихая Кассандра. В лирику Ахматовой отчетливо входят гражданские темы и мотивы. В стихотворении «Не с теми я, кто бросил землю…» (1922) продолжается диалог с невидимыми оппонентами, начатый несколькими годами ранее стихотворением «Мне голос был. Он звал утешно…»
Не с теми я, кто бросил землю На растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, Полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара Остаток юности губя, Мы ни единого удара Не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час… Но в мире нет людей бесслезней, Надменнее и проще нас.Ахматова сделала сознательный выбор и действительно не отклонила ни одного удара судьбы, разделила со страной трагические послеоктябрьские десятилетия. Вершиной ее гражданской лирики и вообще одним из самых значительных поэтических документов 1930-х годов стала поэма (иногда ее называют и циклом стихотворений) «Requiem» (1935–1940). Эпиграфом к ней взяты строки из стихотворения «Так не зря мы вместе бедовали…» (1961), написанного двумя десятилетиями позднее: «Нет, и не под чуждым небосводом, / И не под защитой чуждых крыл, – / Я была тогда с моим народом, / Там, где мой народ, к несчастью, был».
Бытовую основу произведения Ахматова пояснила в прозаическом предисловии: «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то „опознал“ меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):
– А это вы можете описать?
И я сказала:
– Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом» («Requiem». Вместо предисловия, 1 апреля 1957).
В самой поэме тоже появляются биографические детали: воспоминание о гибели Н. Гумилева («муж в могиле»), арест сына и хлопоты за него («сын в тюрьме», «Что случилось, не пойму, / Как тебе, сынок, в тюрьму / Ночи белые глядели»; «Семнадцать месяцев кричу, / Зову тебя домой, / Кидалась в ноги палачу, / Ты сын и ужас мой»), неправедный приговор («И упало каменное слово / На мою еще живую грудь…»).
Однако личная трагедия включается Ахматовой в поток общего горя, она ощущает себя частью «стомильонного народа»:
Хотелось бы всех поименно назвать, Да отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров Из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, О них не забуду и в новой беде, И если зажмут мой измученный рот, Которым кричит стомильонный народ, Пусть так же они поминают меня В канун моего погребального дня.Недавнее прошлое и настоящее сталкиваются в поэме в поразительном контрасте черного и белого, добра и зла.
Показать бы тебе, насмешнице И любимице всех друзей, Царскосельской веселой грешнице, Что случится с жизнью твоей — Как трехсотая, с передачею, Под Крестами будешь стоять И своей слезою горячею Новогодний лед прожигать.Рассказ все время расширяется в пространстве и времени. Наряду с ленинградскими топонимами (Нева, тюрьма Кресты) в поэме упоминаются кремлевские башни Москвы, сибирские вьюги, Енисей, тихий Дон (шолоховский роман, в котором это словосочетание приобрело не интимно-лирический, а трагико-иронический характер уже написан).
Своих товарищей по несчастью поэт обнаруживает в петровскую эпоху («Буду я, как стрелецкие женки, / Под кремлевскими башнями выть»). Заключенное в кавычки пушкинское выражение «каторжные норы» напоминает о ссыльных декабристах и их женах, последовавших за осужденными в Сибирь.
Трагедия «большого террора» становится частью извечного русского горя-злочастия, которое в очередной раз заполнило «безвинную Русь». Однако она вписывается и в более широкий контекст.
Поэму Ахматовой сравнивают с Апокалипсисом, последней евангельской книгой о конце мира и Страшном суде. Не случайно ее кульминацией становится состоящая из двух частей десятая глава «Распятие», в которой идет речь о смерти Иисуса Христа и страдании его близких: «Магдалина билась и рыдала, / Ученик любимый каменел, / А туда, где молча Мать стояла, / Так никто взглянуть и не посмел»).
Страдание настолько невыносимо, что героиня временами впадает в безумие («Уже безумие крылом / Души накрыло половину»), обращается «к смерти» («Ты все равно придешь – зачем же не теперь? / Я жду тебя – мне очень трудно»).
Из безнадежной ситуации намечается два выхода: религиозный и светский.
Страдающая героиня не раз вспоминает о молитве: «У божницы свеча оплыла. / На губах твоих холод иконки»; «Помолитесь обо мне»; «И я молюсь не о себе одной, / А обо всех, кто там стоял со мною».
В последнем фрагменте эпилога она заглядывает в далекое будущее, отыскивая место для памятника.
А если когда-нибудь в этой стране Воздвигнуть задумают памятник мне, Согласье на это даю торжество, Но только с условьем – не ставить его Ни около моря, где я родилась: Последняя с морем разорвана связь, Ни в царском саду у заветного пня, Где тень безутешная ищет меня, А здесь, где стояла я триста часов И где для меня не открыли засов.Ахматова выбирает место не там, где была счастлива, а у тюремной стены, в бесконечной очереди, вместе с народом. Конечно, это монумент не поэту, но – страдающей матери.
Таким образом, эпилог поэмы строится на двух важных мотивах: поминальной молитвы и памятника. Однако для Поэта в трагической ситуации есть еще один выход – памятник нерукотворный, само слово, запечатлевающее и преодолевающее страдание.
«Ржавеет золото и истлевает сталь, / Крошится мрамор – к смерти все готово. / Всего прочнее на земле печаль / И долговечней – царственное слово», – записывает Ахматова философское четверостишие в год окончания Великой Отечественной войны.
«Requiem» стал таким долговечным словом о пережитой трагедии. Заканчиваются погребальные плачи, бред, молитва последним четверостишием, в котором, как луч надежды, появляются мотивы и детали ранней ахматовской лирики: тяжелые веки воображаемого монумента, ручейки тающего снега на его щеках, воркование голубя, корабли на реке.
И пусть с неподвижных и бронзовых век, Как слезы, струится подтаявший снег, И голубь тюремный пусть гулит вдали, И тихо идут по Неве корабли.Выходом из Апокалипсиса становятся простые ценности здешней жизни.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭМА: Я ГОЛОС ВАШ
Ахматова всю жизнь протестовала против попыток «замуровать» ее в 1910-х годах и даже несколько ревниво относилась к «слабым стихам» двадцатилетней девушки, сделавшим ее известной. Уже в двадцатые годы, а особенно очевидно после «Реквиема», лирическая исповедь дополняется мотивами памяти, культуры, истории. Ахматова называет себя голосом времени. «Я – голос ваш, жар вашего дыханья, / Я – отраженье вашего лица» («Многим», 1922).
Когда-то «вся Россия» заметила и запомнила перчатку из «Песни последней встречи». В позднем стихотворении деталь превращается в подробность: уже не характеристику психологического состояния героини, а одну из многих примет серебряного века, тесно связанную с другими культурными реалиями.
И в памяти черной пошарив, найдешь До самого локтя перчатки, И ночь Петербурга. И в сумраке лож Тот запах и душный и сладкий. И ветер с залива. А там, между строк, Минуя и ахи и охи, Тебе улыбнется презрительно Блок — Трагический тенор эпохи. («Три стихотворения», 2, 1960)Пережившая почти всех своих современников, Ахматова все отчетливее ощущает летописцем ушедшей эпохи. Главный герой «Поэмы без героя» – время, серебряный век, с которого начинается Настоящий Двадцатый Век.
«Северные элегии» и примыкающая к ним «Царскосельская ода» тоже осознаются как фрагменты целого, большой исторической поэмы, грандиозной фрески, где в манере лирической скорописи, воссоздается жизнь поколения Анны Ахматовой на протяжении почти столетия: от «прапамяти», «предыстории» восьмидесятых годов девятнадцатого века до шестидесятых годов века двадцатого.
Россия Достоевского. Луна Почти на четверть скрыта колокольней. Торгуют кабаки, летят пролетки, Пятиэтажные растут громады.Перечисляя многочисленные подробности времени (вывески, моды, увлечения, вид петербургских улиц и домов), вспоминая мать, от которой она получила доброту, «ненужный дар моей жестокой жизни», Ахматова в конце первой «Северной элегии» снова возвращается к Достоевскому, видя в нем писателя-Творца, создающего из хаоса пророческие произведения.
Страну знобит, а омский каторжанин Все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все И сам над первозданным беспорядком, Как некий дух, взнесется. Полночь бьет. Перо скрипит, и многие страницы Семеновским припахивают плацем. Так вот когда мы вздумали родиться И, безошибочно отмерив время, Чтоб ничего не пропустить из зрелищ Невиданных, простились с небытьем. («Северные элегии», первая, 1940, 1943)В этом, так и не доведенном до конца, цикле Ахматова хотела еще раз пройти по ступеням памяти: десятые годы, Царское Село, Фонтанный Дом, послевоенная катастрофа. Из лирического романа акмеистской Евы позднее творчество Ахматовой превращается в историческую хронику, причем художественное зрение поэта проникает глубоко в прошлое, за пределы его физической жизни, в античность, к Данте, в пушкинскую эпоху.
Спускаясь в подвал памяти (название стихотворения, написанного 18 января 1940 г.), Ахматова часто обращается в поэта-философа. Наряду с лирическими новеллами-циклами, возвращающими ранние мотивы тайны, судьбы, случайных встреч, снов, отражений в зеркалах («Шиповник цветет», «Полночные стихи»), монументальными «Северными элегиями» и «Поэмой без героя», привычным жанром Ахматовой становятся короткие тексты, напоминающие античные эпиграммы: серьезные размышления и бытовые иронические соображения. Ахматова тоже составила из них цикл «Вереница четверостиший».
Что войны, что чума? – конец им виден скорый, Им приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который Был бегом времени когда-то наречен?Образ из этого четверостишия стал заглавием последнего сборника Ахматовой – «Бег времени» (1965).
Природа поэтического творчества, призвание поэта, роль слова в культуре – предмет постоянных размышлений Ахматовой. В сборнике «Бег времени» стихи на вечную тему «поэта и поэзии» составили особый цикл «Тайны ремесла».
Его заглавие – оксюморон. Тайна – образ из словаря символистов и вообще «пророческой» традиции поэзии, которую разделяли и Пушкин, и поэты-романтики. Ремесло – понятие, близкое акмеистам, на него ориентировались и Гумилев, и ранний Мандельштам.
Ахматова объединяет эти линии. Тайны ремесла – как будто одновременный взгляд на искусство пушкинских «гуляки праздного» Моцарта и «ремесленника» Сальери. В этом цикле Ахматова дает определение собственного творчества. Стихи начинаются откуда-то изнутри, в таинственной глубине сознания:
Мне чудятся и жалобы и стоны, Сужается какой-то тайный круг, Но в этой бездне шепотов и звонов Встает один, все победивший звук. <…> И просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. («Творчество», 5 ноября 1936)Но для них столь же необходимы внешние впечатления, простые вещи, милые подробности бытия, с которых когда-то начинался акмеизм:
Мне ни к чему одические рати И прелесть элегических затей. По мне, в стихах все быть должно некстати, Не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, Таинственная плесень на стене… И стих уже звучит, задорен, нежен, На радость вам и мне. («Мне ни к чему одические рати…», 21 января 1940)Стихи были бы невозможны и без тайного круга сознания, и без таинственной плесени на стене. Еще один необходимый, и тоже таинственный, их элемент – «поэта неведомый друг», читатель: «А каждый читатель как тайна, / Как в землю закопанный клад…» («Читатель», лето 1959).
Наконец, заключительным звеном в этом процессе простых и таинственных перекличек оказывается культура, которая понимается Ахматовой как огромное пространство, где между родственными поэтическими душами нет расстояний, временных границ, языковых барьеров, где всякое оригинальное высказывание становится частью коллективно создаваемого текста Поэзии. Это свойство поэтического мира Ахматовой хорошо передает еще одна эпиграмма:
Не повторяй – душа твоя богата — Того, что было сказано когда-то, Но, может быть, поэзия сама — Одна великолепная цитата. (4 сентября 1956)Это представление о природе и роли искусства разделял О. Э. Мандельштам, определивший акмеизм как тоску по мировой культуре. Такое понимание поэзии – вера в будущего читателя и непобедимость Слова – помогает поэту жить в трагические, катастрофические времена.
В страшном для нее году Ахматова предрекала своему творчеству печальную судьбу.
Теперь меня позабудут, И книги сгниют в шкафу. Ахматовской звать не будут Ни улицу, ни строфу. («И увидел месяц лукавый…», январь 1946)Здесь она ошиблась. Ее книги живы. Ахматовскими зовут не только строфы, но музеи и памятники. А многие гонители поэта стали примечаниями к сборникам ее произведений и воспоминаний о ней.
Оправдалось другое ахматовское поэтическое пророчество:
Забудут? – вот чем удивили! Меня забывали сто раз, Сто раз я лежала в могиле, Где, может быть, я и сейчас. А Муза и глохла и слепла, В земле истлевала зерном, Чтоб после, как Феникс из пепла, В эфире восстать голубом.Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ (1891–1940)
СКИТАНИЯ: ГИБЕЛЬ ДОМА
«Турбину стал сниться Город» – так начинается один из многочисленных снов в романе «Белая гвардия» (1925). Дальше следует пейзаж, увиденный глазами человека, изгнанного из рая, куда уже невозможно вернуться. «Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. <…> Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами. Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках, царствовал вечный Царский сад».
Город в романе ни разу не назван прямо, но легко узнается: его черты находят в изображениях и Москвы, и даже древнего Ершалаима. Воспоминания о нем пронизывают многие булгаковские произведения.
«Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало на них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черносиние густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте…
Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских» («Киев-город», 1923).
Киев навсегда остался для писателя Городом, неповторимым и единственным.
Место, где Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года, известно лишь приблизительно. Однако через несколько лет семья поселилась на Андреевском спуске, и этот дом, от которого открывалась прекрасная панорама Города, навсегда стал точкой опоры в перевернувшемся мире. Милые приметы безмятежной жизни – лампа под зеленым абажуром, оперные арии, книжный шкаф, где соседствуют детская книжка о Петре I «Саардамский плотник» и знаменитая 86-томная энциклопедия, «золото-черный конногвардеец Брокгауз-Ефрон» – заполнили булгаковскую прозу.
В доме жила большая семья. Отец Афанасий Иванович, человек «крепкой веры», преподавал в Духовной академии историю западных религий и публиковал научные труды. Мать Варвара Михайловна, как и положено, вела домашнее хозяйство. Детей в семье было семеро. Михаил, первый, старший, был, тем не менее, избавлен от необходимости продолжить родительское дело. Профессор Духовной академии хотел дать всем троим сыновьям светское образование.
Отец умер рано (1907), но даже оставшейся без помощи матери удалось на пенсию выполнить наказы и осуществить задуманное. Куррикулюм витэ (жизненный путь) Михаила Булгакова проходит через гимназию и медицинский факультет.
Линия жизни определилась: в грядущей перспективе киевского студента-медика маячили доктор Астров из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» или сам доктор-писатель Чехов, ставящий мучительные вопросы, бередящий общественные язвы, намекающий на грядущие потрясения, но страдающий, прежде всего от обыденщины, однообразной провинциальной жизни, вида семейства, спокойно пьющего чай на веранде.
«Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег…
…И вышло совершенно наоборот.
Легендарные времена оборвались, и внезапно, грозно наступила история» («Киев-город»).
Начало Настоящего Двадцатого Века, времени, когда белый цвет превратится в «черный снег» (драму под таким заглавием будет сочинять герой романа Булгакова «Записки покойника»), современники, как мы помним, обозначали по-разному. Для одних (Ахматова) рубежом был август четырнадцатого, когда империя втянулась в несчастную мировую войну. Для других, новая эра (Маяковский, Блок) или окаянные дни (Бунин) начались в октябре семнадцатого, когда – на горе всем буржуям – запылали по всей Руси помещичьи усадьбы и трамваи продолжили свою гонку уже при социализме.
Булгаков датировал наступление новой эры по-своему, с точностью до минуты: в 10 часов утра 2 марта 1917 года загадочный депутат Бубликов прислал в Киев телеграмму об отречении императора.
«История подала Киеву сигнал к началу. И началось, и продолжалось в течение четырех лет. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается. Будто уэллсовская атомистическая бомба лопнула над могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гремело, и клокотало, и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его местах окружности на 20 верст радиусом.
Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до одного современных писателей и явится лет через 50 новый, настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917–1920 годам.
Пока что можно сказать одно: по счету киевлян у нас было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил» («Киев-город»).
Революцию Булгаков встретил земским врачом в глухом углу Смоленской губернии, перед этим побывав на Юго-Западном фронте. В феврале незабываемого 1918-го в Москве было получено освобождение от военной службы по болезни, но в исторические времена это уже ничего не значило.
В марте Булгаков возвращается в дом на Андреевском спуске. Здесь начались «необыкновенные приключения доктора», те самые бесчисленные перевороты, сопровождаемые кровью, голодом, страхом, ощущением безнадежности.
«За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал: „Зато вам будет что порассказать вашим внукам!“ Болван такой. Как будто единственная мечта у меня – под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе! <…> К черту внуков. Моя специальность – бактериология. Моя любовь – зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки. <…>
А между тем…
Погасла зеленая лампа. „Химиотерапия спириллезных заболеваний“ валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счету власть» («Необыкновенные приключения доктора», 1922).
Многие подробности булгаковских скитаний во время Гражданской войны остаются неизвестными, но бытовая точность и психологическая достоверность его ранних рассказов несомненны.
Год жизни в Киеве действительно заканчивается мобилизацией. Военному врачу Михаилу Булгакову довелось послужить и у «самостийных» петлюровцев, и (предположительно) в красной, и в деникинской армии. Его заносит во Владикавказ, Беслан, Грозный (города, которые через много десятилетий станут местом действия новых трагедий). Попытка эмиграции в Константинополь не удалась: Булгаков заболел тифом и не смог уйти с отступающими белыми войсками.
Свой диагноз произошедшему в стране он поставил в ноябре 1919 года: в газете «Грозный» еще при белой власти под псевдонимом М. Б. публикуется статья «Грядущие перспективы» (историки обнаружат и перепечатают лишь через семьдесят лет). Сравнивая положение России с тоже пережившим великую войну Западом, Булгаков мрачно предсказывает: «Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова.
Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег… за все!
И мы выплатим.
И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы.
Кто увидит эти светлые дни?
Мы?
О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк и десятилетия она так же легко „читает“, как и отдельные годы.
И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:
– Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!»
После прихода во Владикавказ Красной армии Булгаков служит в отделе народного образования, читает лекции перед спектаклями, пишет в газеты, начинает сочинять агитационные пьесы.
В мае 1921 года начинается его очередное странствие уже по советской стране: Баку – Тифлис – Батум – Одесса – Киев.
«В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда», – напишет он в автобиографии (1924).
Булгаков приехал в Москву не только без вещей и денег, но и без каких бы то ни было иллюзий.
Личной платой Булгакова за социальную революцию оказалось рассеяние большой семьи. Двое братьев, служивших в белой армии, оказались в эмиграции, Михаил долго ничего не знал об их судьбе. Сестры жили в разных городах. В начале 1922 года умерла от тифа мать. Здание на Алексеевском спуске сохранилось, но Дом погиб. Зеленая лампа стала воспоминанием. Нужно было начинать новую жизнь при новой власти, в новом городе и новой стране.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ: КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС И ПИСАТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Советская Москва начала 1920-х годов, новая старая столица, была городом великих возможностей и огромных проблем. Первые московские письма Булгакова родным и близким напоминают репортажи с фронта, где уже не стреляют, но еще умирают.
«Игривый тон моего письма объясняется желанием заглушить тот ужас, который я испытываю при мысли о наступающей зиме. Впрочем, Бог не выдаст. Может, помрем, а может, и нет. Работы у меня гибель. Толку от нее пока немного» (Н. А. Земской, 23 октября 1921 г.).
«Очень жалею, что в маленьком письме не могу Вам передать, что из себя представляет Москва. Коротко могу сказать, что идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни. Въехав 1 Уг месяца тому назад в Москву, в чем был, я как мне кажется, добился maximuma того, что можно добиться за такой срок. <…> Пишу это все еще с той целью, чтобы показать, в каких условиях мне приходится осуществлять свою idée-fixe. А заключается она в том, чтобы в 3 года восстановить норму – квартиру, одежду, пищу и книги» (В. М. Воскресенской, 17 ноября 1921 г.).
«Самый ужасный вопрос в Москве – квартирный» (В. А. Булгаковой, 24 марта 1922 г.). Этот вопрос потом отразится во многих сатирических эпизодах «Мастера и Маргариты», причем он, как правило, оборачивается вечной проблемой человеческой природы, борьбы добра и зла в человеческой душе, зависимости его от бытовых и социальных норм.
Однако, решая бытовые вопросы, Булгаков все время помнит об одной скитальческой ночи. «Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал» («Автобиография», 1924).
Приехав в Москву, Булгаков поменял не только город, но – судьбу. В столицу явился уже не лекарь с отличием, а писатель, который осознал свою миссию, ощутил свое призвание, и в то же время временами мучительно сомневается в нем.
«В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого» (Дневник, 26 октября 1923 г.).
«Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним – писателем. (Дневник, 6 ноября 1923 г.).
Чехов любил шутить, что медицина его законная жена, а литература – любовница. Хотя первые литературные опыты Булгакова относятся к детским годам, лишь в Москве он делает литературу «законной женой», навсегда вступает в «орден русских писателей». Командором ордена он считает Александра Пушкина, а своим учителем – Николая Гоголя.
«Я с детства ненавижу эти слова „Кто поверит?..“ Там, где это „кто поверит“, я не живу, меня нет. Я и сам мог бы задать десяток таких вопросов: „А кто поверит, что мой учитель Гоголь? А кто поверит, что у меня есть большие замыслы? А кто поверит, что я писатель?“ И прочее и так далее» (В. В. Вересаеву, 22–28 июля 1931 г.).
Это недоверие потом откликнется в одной из финальных сцен «Мастера и Маргариты». «Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский – писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем», – издевается Коровьев над вахтершей, требующей показать писательское удостоверение.
Доказывать право на писательство приходилось в тяжелой борьбе. Для Булгакова было характерно противостояние утверждавшейся новой жизни во всем – от бытовых привычек до литературных вкусов.
Он начинает работать в газете для железнодорожников «Гудок». Вместе с ним в редакции служат молодые авторы, которые совсем скоро станут знаменитыми в только еще формирующейся новой – советской – литературе: Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров.
Булгаков во многих отношениях был чужим и чуждым в этой веселой компании. «Он был старше всех нас – его товарищей по газете, – и мы его воспринимали почти как старика. По характеру своему Булгаков был хороший семьянин. А мы были богемой», – вспоминал В. П. Катаев. «Старику» только что исполнилось тридцать лет, автор мемуаров был на шесть лет моложе.
На фотографиях даже внешне – галстук или бабочка, шляпа, монокль, тщательная прическа – Булгаков резко отличается от красной богемы, напоминая людей, навсегда оставшихся по ту сторону разлома, в эпохе белого снега («С виду был похож на Чехова», – отмечал Катаев), или оказавшихся по ту сторону границы, в Константинополе, Берлине, Париже.
Но если бы дело было только в одежде… Литературные вкусы и симпатии Булгакова были не менее вызывающими. Он не признавал не только современных кумиров. К эпохе модернизма, к серебряному веку, он тоже относился без особого почтения.
Молодые писатели двадцатых годов молились (слово Катаева) на «Петербург» Андрея Белого. «Русская проза тронется вперед, когда появится первый прозаик, независимый от Андрея Белого. Андрей Белый – вершина русской психологической прозы…» – предсказывал О. Э. Мандельштам вскоре после булгаковского появления в Москве («Литературная Москва. Рождение фабулы», 1922).
Булгаков эту вершину не только не преодолевал, но демонстративно не замечал. Как и других – главных – авторов серебряного века. «Блок, Бунин – они, по моим представлениям, для него не должны были существовать! Его литературные вкусы должны были заканчиваться где-то раньше…» (В. Катаев).
Раньше – значит, в золотом XIX веке.
В своей прозе Булгаков (как по-иному и Бунин) как бы продолжал русскую литературу прошедшего века, обращался к тем же жанрам, связывал оборванные нити, присягал не новым богам, а старым учителям – Пушкину, Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Толстому, Достоевскому, Чехову (пусть временами диалог превращался и в серьезную полемику с ними).
Булгаков опирается на разработанную технику русской классической прозы: персонажи с психологией, портретными и речевыми характеристиками, фабула, пейзаж и точные детали, прямые авторские включения, «лирические отступления», не отменяющие действия, а лишь аккомпанирующие ему. Даже многочисленные «сны» в его романах и пьесах (а Булгаков – один из самых значительных сновидцев в русской литературе), при всей своей причудливости, словно продолжают реальность, объясняют, комментируют ее.
Придуманное Достоевским определение фантастический реализм прекрасно подходит к булгаковской прозе. Но для одних строгих критиков в ней оказывалось слишком много фантастики, для других – много реализма. «Помню, как он читал нам „Белую гвардию“, – это не произвело впечатления, – признавался через много лет В. Катаев. – Мне это казалось на уровне Потапенки. И что это за выдуманные фамилии – Турбины! <…> Вообще это казалось вторичным, традиционным».
Но и старомодные бытовые привычки, и традиционные эстетические вкусы были следствием более фундаментального расхождения с современниками, советской литературной средой (включая А. Платонова, и М. Зощенко).
Для них, как чуть раньше для Маяковского, не было сомнений принимать или не принимать произошедшее в России. Они приняли новый строй как «безвыборную» реальность и, как могли, служили ему, пытались понять его природу, исходя из него самого. Они смотрели на прошлое сквозь современные очки. Они были модернистами, даже если, как Фадеев или А. Толстой, сочиняли романы в духе Л. Толстого.
То, что для многих оставшихся в России-СССР современников было фактом, для Булгакова оставалось проблемой. Его проза и драматургия двадцатых годов – попытка понять все стороны и позиции, взвесить разные социальные и психологические «правды» – и лишь затем сделать выбор. Точка зрения Булгакова находится по ту сторону, в легендарном времени, которое оборвалось то ли в четырнадцатом, то ли в семнадцатом году. Он остается архаистом, даже когда, как Ю. Олеша или В. Катаев, сочиняет в «Гудке» заказные фельетоны на злобу дня.
Автор статьи в «Литературной энциклопедии» (1929) отказывается числить Булгакова не только соратником, пролетарским писателем, но и «попутчиком», присваивая ему самую унизительную кличку, придуманную Троцким: «Булгаков вошел в литературу с сознанием гибели своего класса и необходимости приспособления к новой жизни… Задача автора – моральная реабилитация прошлого… Весь творческий путь Булгакова – путь классово-враждебного советской действительности человека. Булгаков – типичный выразитель тенденций „внутренней эмиграции”».
Итоговые определения своей общественной позиции Булгаков найдет в начале следующего десятилетия в письме Правительству СССР (28 марта 1930 г.). Здесь отвергнута мысль о пасквильном изображении революционных событий. «Пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать НЕВОЗМОЖНО».
Первой чертой своего творчества, своим писательским долгом Булгаков считает борьбу с цензурой за свободу печати. Дальше следует принципиальное, программное заявление, определение собственной миссии и традиции: «Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я – МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему Великой Эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызвали глубочайшее страдание моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина».
С такими убеждениями литературный путь Булгакова неизбежно превращался в мучительное противостояние, тяжбу со временем.
СОЧИНЕНИЯ: ОДИНОКИЙ ВОЛК
В неоконченной повести «Тайному другу» (1929) Булгаков признается, что первые годы своего московского житья жил «тройной жизнью». Речь шла о трех тенденциях, трех направлениях творчества.
В «Гудке» Булгакову приходилось сочинять заказные фельетоны по письмам рабкоров и указаниям редакторов. М. Зощенко (Михал Михалыч) или Ю. Олеша (Зубило) наполняли этот неуважаемый жанр личным содержанием, превращали редакционную почту в инструмент исследования современной жизни, а газетные шаблоны – в школу стиля. Булгаков воспринимал подобную работу как постылую поденщину, о которой говорил с мучительным чувством, а чуть позднее, на расстоянии, – с победительной иронией вынырнувшего из литературной тины человека.
«Сегодня в „Гудке“ первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией» (Дневник, 5 января 1925 г.).
«Открою здесь еще один секрет: сочинение фельетона строк в семьдесят пять – сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке, включая и хихиканье с машинисткой, – 8 минут. Словом, в полчаса все заканчивалось. Я подписывал фельетон или каким-нибудь глупым псевдонимом или зачем-то своей фамилией…» («Тайному другу», 1929).
Однако и эта газетная поденщина пригодилась писателю. В фантастической и сатирической трилогии «Дьяволиада» (1924), «Роковые яйца» (1924), «Собачье сердце» (1925) фельетонные герои и конфликты становятся основой для глубоких размышлений о современности и постановки философских проблем. Фельетонная школа «Гудка» потом отзовется и в комических московских эпизодах «Мастера и Маргариты».
Другая жизнь шла в газете «Накануне» (в неоконченной повести Булгаков называет ее «Сочельник»), где автор получал некоторую свободу в выборе темы и стиля. «Эта вторая жизнь мне нравилась больше первой. Там я мог несколько развернуть свои мысли».
В «Накануне» Булгаков публикует автобиографические очерки «Записки на манжетах» (1922) и очерки о московской жизни («Столица в блокноте», 1922–1923), «Москва 20-х годов» (1924). Писатель с радостью отмечает и живописует признаки нормализации жизни после революции и Гражданской войны. Эпоха нэпа кажется ему возвращением к прошлому. Он славит нового бога, который способен решить пресловутый квартирный вопрос: «Каждый бог на свой фасон. Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он – нэпман и жулик. А мой любимый бог – бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой, от него пахнет махоркой. <…> Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий сезон, я верю, будут строить. <…> Московская эпиталама: „Пою тебя, о бог Ремонта!”» («Столица в блокноте», 1922).
Главная мысль, которая возникает из этих живых картин, – благотворность возвращения из «голых времен» к прошлому. Очерк «Сорок сороков» состоит из четырех глав-«панорам», переломная вторая называется «Сверху вниз» и относится к весне 1922 года. «Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло подымается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, подымался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко, до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.
– Москва звучит, кажется, – неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.
– Это – нэп, – ответил мой спутник, придерживая шляпу.
– Брось ты это чертово слово! – ответил я. – Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить».
Подобная панорамная точка зрения, взгляд на Москву сверху вниз, потом будет повторена в финале «Мастера и Маргариты».
Булгаков и здесь идет против течения: многие современники воспринимали нэп как отступление советской власти, уступку прежнему буржуазному строю, идеологическое поражение.
Но главная, тайная, жизнь писателя была связана с работой над заветной книгой, рождавшейся из детских воспоминаний, снов, отцовских книг, трагического опыта десяти лично пережитых киевских переворотов.
«Дело в том, что, служа в скромной должности читальщика в „Пароходстве“, я эту свою должность ненавидел и по ночам, иногда до утренней зари, писал у себя в мансарде роман.
Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна.
Мне снился родной город, снег, зима, Гражданская война… Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах. Я зажег свет, пыльную лампочку, подвешенную над столом. Она осветила мою бедность – дешевенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых газет. <…> Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось, я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о движении. Я успокоился, успокоилась и кошка, закрыла глаза.
Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен» («Записки покойника», 1937).
«Тройная жизнь. И третья жизнь цвела у моего письменного стола. Груда листов все пухла» («Тайному другу»). Так был написан роман «Белая гвардия», одна из лучших книг о Гражданской войне, о гибели Дома (1923–1924). Но только две ее части появились в СССР. Журнал «Россия», где осуществлялась публикация, закрылся, в полном виде книгу удалось издать только в Париже.
Так начинается булгаковское литературное хождение по мукам. По мотивам романа он сочиняет пьесу «Дни Турбиных» (1925–1926), она с огромным успехом идет в Московском художественном театре, но через три года постановка запрещается и возобновляется лишь через несколько лет по личному указанию Сталина (по свидетельствам современников, красный вождь смотрел пьесу о трагедии белой гвардии больше десяти раз).
Булгаков сочиняет еще несколько пьес – они отвергаются театрами или снимаются после долгих репетиций. Рукопись завершающей сатирическую трилогию повести «Собачье сердце» в 1926 году после обыска в квартире писателя вместе с дневником конфискуется ГПУ и возвращается автору лишь через несколько лет. О публикации ее не могло быть и речи (за рубежом она появится через 42, в СССР – через 62 года). Написанная для серии «Жизнь замечательных людей» биография Мольера (1933) все-таки будет опубликована в этой серии – но через 30 лет.
Булгакову приходится возвращаться к поденщине: делать инсценировки, сочинять либретто опер. Но даже в ситуации, когда «судьба берет за горло», он сохраняет способность пошутить, посмотреть на себя со стороны. Получив от МХАТа заказ на пьесу по мотивам гоголевской поэмы, он с горькой иронией рассказывает другу-философу П. С. Попову: «Итак „Мертвые души“… Через 9 дней мне исполнится 41 год. Это – чудовищно! Но тем не менее это так.
И вот, к концу моей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева? Лескова? Брокгауза-Ефрона? Островского? Но последний, по счастью, сам себя инсценировал, очевидно предвидя то, что случится со мною в 1929–1931 гг.» (7 мая 1932 г.)
Среди булгаковских работ тридцатых годов, кроме «комедии в четырех актах» «Мертвые души», – «инсценированный роман Л. Н. Толстого в четырех действиях» «Война и мир» (в нем тридцать сцен, 115 персонажей, включая «чтеца» и 5 «голосов»), «мольериана в трех действиях» «Полоумный Журден», «пьеса по Сервантесу в четырех действиях» «Дон Кихот».
«Недавно подсчитал: за семь последних лет я сделал 16 вещей, и все они погибли, кроме одной, и та была инсценировка Гоголя! Наивно было бы думать, что пойдет 17-я или 19-я. Работаю много, но без всякого смысла и толка. От этого нахожусь в апатии», – напишет Булгаков в трудную минуту В. В. Вересаеву (5 октября 1937 г.), который помогал ему в работе над пьесой «Александр Пушкин» (1934–1935).
Когда положение становится совсем безнадежным, он обращается к И. В. Сталину и Правительству СССР с дерзкими письмами, в которых откровенная характеристика своих взглядов и писательской судьбы сочетается с просьбами выслать его за границу или дать любую работу, даже рабочего сцены.
«На широком поле словесности российской в СССР я один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя. <…>
Злобы я не имею, но я очень устал и в конце 1929 года свалился. Ведь и зверь может устать.
Зверь заявил, что он более не волк, не литератор, Он отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие.
Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит, был не настоящий.
А если настоящий замолчал – погибнет.
Причина моей болезни – многолетняя затравленность, а затем молчание» (И. В. Сталину, 30 мая 1931 г.).
Временами Булгаков настолько уставал, что пробовал «выкрасить шкуру». В 1938–1939 годах – опять по просьбе Московского художественного театра – он сочиняет пьесу «Батум», рассказывающую о юности Сталина, о начале его революционной деятельности (ее первоначальное заглавие – «Пастырь»). Однако и она была запрещена к постановке и публикации – без всяких мотивировок.
Но Булгаков был настоящим писателем. Он не мог замолчать. Параллельно с другими произведениями, забывая о неудачах и запрещениях, он упорно реализует давний замысел, больше десяти лет работает над романом, который становится его главной книгой.
ЗАВЕЩАНИЕ: ЗАКАТНЫЙ РОМАН
Историки до сих пор задаются вопросами: каким образом одинокий волк, внутренний эмигрант, все время напоминавший власти о своем мучительном существовании, уцелел в репрессиях тридцатых годов? почему Булгаков не пополнил мартиролог русской литературы XX века?
Эти почему не имеют правдоподобного ответа: жизнь и смерть человека, в том числе и писателя, в тридцатые годы подчинялась правилам дьявольской лотереи. Государство может погубить человека, но вряд ли может его спасти. Спасти человека может лишь другой человек.
Булгакову повезло: рядом с ним в трудные эпохи оказывались верные, любящие женщины. Еще будучи гимназистом, он познакомился с Т. Н. Лаппа, приехавшей на каникулы в Киев. Через пять лет (1913) – вопреки воле родителей – они повенчались и вместе прожили переломные годы двадцатого века. Татьяна Николаевна сопровождала Булгакова и во время работы в Смоленской губернии (об этом периоде рассказывают булгаковские «Записки юного врача», 1925–1926), и в скитаниях по России. Они расстались по взаимному согласию в первые годы московской жизни.
Роман «Белая гвардия» посвящен уже Любови Евгеньевне Белозерской, второй жене писателя. Через день после расторжения брака с ней (1932) женой Булгакова стала Елена Сергеевна Шиловская (1893–1970). Познакомившись в тяжелый для Булгакова 1929 год, с этого времени они были неразлучны. «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!» («Мастер и Маргарита»).
Е. С. Шиловская была женой крупного советского военачальника. Но во имя любви она бросила налаженный быт, связала свою жизнь с писателем-неудачником. Елена Сергеевна превратилась в доброго ангела Булгакова. Она переписывала и печатала рукописи, вела подробный дневник, но главное – была первым читателем булгаковских произведений, внушала писателю веру в те времена, когда очередная пьеса отвергалась театром или изгонялась со сцены.
После смерти Булгакова она посвятила жизнь его творчеству: сохраняла и пополняла архив, предлагала издательствам рукописи. Наследие Булгакова полностью сохранилось и дошло до читателей благодаря ее усилиям. Читатели многих поколений отождествляли ее с Маргаритой, потому что последний, главный, «закатный» булгаковский роман существенно изменился после встречи с ней и заканчивался при ее непосредственном участии.
В 1928 году Булгаков задумывает книгу, которая должна была строиться как «роман в романе», иметь две пересекающиеся сюжетные линии: в советской Москве появляется дьявол, а один из персонажей рассказывает историю Иисуса Христа. Булгаков пробует разные заглавия книги: «Черный маг», «Копыто инженера», «Консультант с копытом», «Великий канцлер», «Князь тьмы». Он надолго оставляет работу, сжигает и рвет черновики. После появления в его жизни Е. С. Булгаковой в роман добавляется еще одна сюжетная линия, и книга получает окончательное заглавие.
«Дописать прежде, чем умереть!» – помечает Булгаков на одной из черновых тетрадей «Мастера и Маргариты». Он успевает дописать роман, но в последние дни, во время смертельной болезни, уже диктует эпилог и последние поправки жене. В книге остались лишь незначительные нестыковки, мелкие бытовые и исторические неточности, которые замечают лишь очень внимательные читатели. Эти многочисленные читатели появились лишь на рубеже 1966–1967 годов, когда роман наконец-то был опубликован в советском журнале.
Таким образом, последняя книга Булгакова писалась тринадцать лет, ждала публикации двадцать шесть, а будет читаться, вероятно, до тех пор, пока существует русский язык.
Роман «Мастер и Маргарита» стал одной из главных книг XX века.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
«Мастер и Маргарита» (1928–1940)
РОМАН МАСТЕРА: ДОБРО И ПРЕДАННОСТЬ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ТРУСОСТЬ
Книга «Мастер и Маргарита» похожа на роман-лабиринт. Можно даже сказать, что внутри «большого романа» существуют три малых романа, три лабиринта, временами пересекающихся, но достаточно автономных (более точно эти части можно назвать сюжетными линиями или фабулами). Двигаться по ним можно в разных направлениях, но все равно оказаться в одной точке, точке художественного смысла. Мы начнем это движение с самого короткого романа, который можно назвать романом мастера.
Четыре главы – (вторая, шестнадцатая, двадцать пятая и двадцать шестая) рассказывают об одних сутках весеннего месяца нисана в городе Ершалаиме. Любой связанный с христианской культурой человек узнает в этом повествовании историю суда над Иисусом Христом и его гибели.
Священная книга христиан, Новый Завет, начинается с четырех книг Евангелий (в переводе с греческого языка это слово означает: благая весть) – от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Позднее о Страстях Господних рассказывали множество раз, но, так или иначе, опираясь на свидетельства евангелистов, учеников Иисуса. Булгаков дает свою версию евангельского сюжета, поэтому роман мастера можно условно назвать евангелием от Михаила.
Однако в этом новом «евангелии» обнаруживаются многочисленные неточности и отступления от канона. «Вставная повесть о Пилате у Булгакова <…> представляет собой апокриф, весьма далекий от Евангелия. Главной задачей писателя было изобразить человека, «умывающего руки», который тем самым предает себя», – утверждает богослов, отец Александр Мень («Сын человеческий», 1969).
Апокрифами называют книги, которые излагают неканонические эпизоды и версии жизни Иисуса. С этой точки зрения «Евангелие от Михаила» действительно апокриф, не совпадающий с официальным вероучением. Но, в отличие от Александра Меня, смиренно предлагающего очерк, который «поможет читателю лучше понять Евангелие, пробудить к нему интерес», автор «Мастера и Маргариты» вовсе не ставит такой цели. Булгаков сознательно отталкивается от канонических текстов, использует евангельский материал, трансформируя его в соответствии с собственными художественными задачами.
Изменения начинаются уже с личных имен. Если Понтий Пилат и Иуда фигурируют в романе мастера под привычными для русской традиции евангельскими именами, то в именовании двух других персонажей Булгаков использует тоже исторические, но редкие транскрипции: Иисус Христос превращается в Иешуа Га-Ноцри, а евангелист Матфей – в Левия Матвея. Иерусалим, где происходит действие этого романа, соответственно, оказывается Ершалаимом. Фонетические замены – лишь внешний знак того обновления образов, которое нужно Булгакову в древних главах.
Евангельский Иисус был богочеловеком: он знал, откуда пришел, кем послан, во имя чего живет и куда уйдет. Он имел дело с толпами, пророчествовал, проповедовал, совершал чудеса и усмирял стихии. Его страх и одиночество в Гефсиманском саду накануне ареста были лишь эпизодом, мгновением, понятным для смертного человека, но не для богочеловека. Но и здесь, как мы узнаем из Евангелия от Луки, его поддерживал ангел: «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (гл. 22, ст. 43).
Булгаковский Иешуа – просто человек. Он моложе своего евангельского прототипа и не защищен от мира ничем. Он совершенно одинок и не помнит родителей: «Родные есть? – Нет никого. Я один в мире». Вместо двенадцати апостолов и множества поклонников у него всего один верный ученик. Он боится смерти и ни одним словом не намекает на покровительство высших сил и будущем воскресении: «А ты бы меня отпустил, игемон… я вижу, что меня хотят убить». Его проповедь сводится к одной-единственной максиме: человек добр, «злых людей нет на свете».
Однако, создавая свою версию биографии Иешуа Га-Ноцри, Булгаков сохраняет, удерживает самое главное свойство евангельского Иисуса Христа. В сцене суда Понтий Пилат задает циничный, демагогический вопрос: «Что есть истина?» В Евангелии от Иоанна ответ дан даже раньше вопроса. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (гл. 18, ст. 37).
Булгаковский Иешуа тоже не просто свидетельствует об истине. Он сам с его удивительной, внеразумной, вопреки очевидности, верой в любого человека (будь то равнодушно-злобный Марк Крысобой или «очень добрый и любознательный человек» Иуда) есть воплощенная истина. Поэтому он не подхватывает предложенный Пилатом иронический тип философствования, а отвечает на вопрос прокуратора просто и конкретно, обнаруживая уникальное понимание его физического и духовного состояния: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. <…> Беда в том…, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон…» (гл. 2)
«Ты великий врач?» – спрашивает Пилат после того, как головная боль внезапно проходит. Быть великим врачом, по Булгакову, – значит, исцелять болезни не столько тела, сколько души.
Ф. М. Достоевский говорил: если ему математически докажут, что истина и Христос несовместимы, он предпочтет остаться с Христом, а не с истиной. Он же собирался воссоздать в «Идиоте» образ «положительно прекрасного человека», в черновых записях главный герой романа князь Мышкин называется князь-Христос. Отзвуки подобных замыслов и идей есть в «Мастере и Маргарите». Иешуа тоже – положительно прекрасный человек, он «не сделал никому в жизни ни малейшего зла», его простые истины производны от его личности.
Хотя Иешуа Га-Ноцри действует фактически лишь в одном большом эпизоде, его присутствие (или значимое отсутствие) оказывается смысловым центром всей булгаковской книги. Такой композиционный прием в более радикальном варианте был уже опробован в пьесе Булгакова «Александр Пушкин (Последние дни)» (1935). Это драма о Пушкине без Пушкина. Поэт ни разу не появляется на сцене, но с его имени начинается афиша (список действующих лиц), его присутствием, его стихами определяется развитие действия.
Переписывая на свой лад Священное Писание, Булгаков, тем не менее, сохраняет (причем во всех трех «романах») его основной конструктивный принцип: абсолютную веру во все происходящее.
«И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши, приведите ко Мне… Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» – рассказывал евангельский Матфей о въезде в Иерусалим (Евангелие от Матфея, гл. 21, ст. 1–2, 6–9).
«Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим, через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? – тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.
– У меня и осла-то никакого нет, игемон, – сказал он. – Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал».
«Евангелие от Михаила» как будто отменяет свидетельства других евангелистов, но сохраняет их исходную установку: безусловности, достоверности рассказа.
Не было осла, множества учеников, ощущения избранности, чудесных исцелений и хождения по водам. Но странная проповедь, предательство Иуды, суд Пилата, казнь, страшная гроза над Ершалаимом – были.
«Вот теперь я знаю, как это было на самом деле», – будто бы сказала машинистка, перепечатывающая современную версию библейской истории прекрасного Иосифа – роман немецкого писателя Томаса Манна «Иосиф и его братья» (1933–1943). Булгаков раньше Манна и более последовательно идет по тому же пути: он предлагает читателю рассказ о том, как все было на самом деле.
Начало ершалаимской истории (гл. 2) мы узнаем от Боланда, продолжение ее (гл. 16) оказывается сном Ивана Бездомного, и лишь окончание (гл. 25, 26) – романом мастера, который читает Маргарита. Но это – единая и непротиворечивая фабула. Сожженный и чудесно восстановленный роман словно существует в каком-то ином измерении, растворен в атмосфере и проникает в сознание разных персонажей. Мастер не сочинил его, а угадал, записал случившееся на самом деле. Книгу Булгакова поэтому иногда называют романом-мифом, имея в виду абсолютное доверие членов древнего общества к мифологическим рассказам.
Только ни во что не верящий Берлиоз пытается доказать Иванушке, что никто из богов «не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса», и отождествляет «простые выдумки» и «самый обыкновенный миф». Противоположная позиция формулируется в начале романа Боландом. «А не надо никаких точек зрения, – ответил странный профессор, – просто он существовал, и больше ничего… И доказательств никаких не требуется…» (гл. 1)
Внутри большого булгаковского романа тоже не требуется никаких доказательств: здесь не подвергаются сомнению не только распятие Иешуа, но и шабаш ведьм, и большой бал сатаны в квартире № 50, и Бегемот с Коровьевым в Грибоедове, и подписывающий бумаги костюм. Граница между было и не было, реальностью и вымыслом в «Мастере и Маргарите» отсутствует, подобно тому, как она не существует в мифе, в поэмах Гомера, в сказаниях несущих благую весть евангелистов.
Есть, однако, одна очень важная особенность булгаковского романа, которая отличает его от евангельских рассказов и сближает с гомеровским типом повествования.
Немецкий литературовед Э. Ауэрбах в книге «Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе» (1942–1945) утверждал, что в основе литературы нового времени лежат два стилистических принципа, восходящих к Гомеру и Ветхому Завету. Первый – живописный, пластический: «описание, придающее вещам законченность и наглядность». Другой – фрагментарный, психологический: «выделение одних и затемнение других частей, отрывочность, воздействие невысказанного».
В булгаковском романе библейская история рассказана «на языке Гомера», со множеством не только психологических, но предметных, живописных деталей, которые отсутствуют в канонических Евангелиях.
Пока Иешуа и Пилат ведут свой вечный спор, пока решаются судьбы мира, движется привычным путем солнце (невысокое, неуклонно подымающееся вверх, безжалостный солнцепек, раскаленный шар – всего во второй главе оно упоминается двенадцать раз), бормочет фонтанчик в саду, чертит круги под потолком ласточка, доносится издалека шум толпы. В следующих евангельских главах появляются все новые подробности: красная лужа разлитого вина, доживающий свои дни ручей, больное фиговое дерево, которое «пыталось жить», страшная туча с желтым брюхом.
Четкая графика евангельской истории у Булгакова раскрашена и озвучена, приобрела «гомеровский» наглядный и пластический характер. Роман строится по принципу «живых картин» – путем фиксации, растягивания и тщательной пластической разработки каждого мгновения. В булгаковском изображении это – бесконечно длинный день, поворотный день человеческой истории.
Не случайно мастер определяет свой дар так: «Я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь». Описание, изображение оказывается для него важнее, чем рассказ. «Мастер и Маргарита» – роман не испытания идеи (как у Достоевского), а живописания ее.
Но предметные детали постепенно превращаются в символические мотивы: беспощадное солнце трагедии; обманное мерцание луны, при которой совершается убийство предателя; кровавая лужа вина; багровая гуща бессмертия; страшная туча как образ апокалипсиса, вселенской катастрофы. И смыслом живописной картины становятся все те же вечные вопросы, но представленные не в канонической, а в булгаковской художественно-еретической трактовке.
Булгаковский Иешуа, как уже говорилось, не ощущает себя Сыном Божьим, знающим о своем предназначении. Он – сирота, человек без прошлого, самостоятельно открывающий некие истины и, кажется, не подозревающий об их и о своем будущем. Он гибнет потому, что попадает между жерновами духовной (Кайфа и синедрион) и светской (Пилат) власти, потому, что люди любят деньги и за них готовы на предательство (Иуда), потому, что толпа жадна к зрелищам, даже если это – чужая смерть.
Огромный, сжигаемый яростным солнцем, мир равнодушен к одинокому голосу человека, утверждающего простые, как дыхание, прозрачные, как вода, вещи: «Злых людей нет на свете. <…> Всякая власть является насилием над людьми. <…> Настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. <…> Мы увидим чистую реку воды жизни… Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл…» (гл. 2, 26)
В Ершалаиме на проповедь Иешуа откликаются лишь двое – сборщик податей Левий Матвей, бросивший деньги на дорогу и ставший его единственным учеником, и жестокий прокуратор Понтий Пилат, пославший его на смерть.
Левия Матвея часто представляют ограниченным фанатиком, не понимающим Иешуа, искажающим его идеи. «Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил», – говорит сам Иешуа Понтию Пилату (гл. 2). Почему же тогда, как становится известно в финале, именно Левий Матвей, а не Мастер заслужил свет?
Слова Иешуа относятся, скорее, к евангельскому Матфею и другим евангелистам и связаны с булгаковским представлением об истине личности, не вмещающейся в любые «изречения» и проповеди. На самом деле, Левий Матвей – образ бесконечной преданности, самоотверженности, любви и веры (такой же фанатичной и безрассудной, как любовь и вера Маргариты). Бывший сборщик податей сжигает за собой мосты и безоглядно идет за учителем, записывает каждое его слово, готов любой ценой спасти Иешуа от крестных мук, собирается мстить предателю Иуде. Как Маргарита, ради любимого ставшая ведьмой, Левий Матвей из-за Иешуа не боится вступить в схватку с самим Богом: «Проклинаю тебя, Бог! <…> Ты Бог зла! <…> Ты не всемогущий Бог. Ты черный Бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!» (гл. 16)
В романе мастера Левий Матвей выделен даже композиционно: его глазами, «единственного зрителя, а не участника казни», мы видим все происходящее на Лысой Горе.
Роль Левия Матвея в древней фабуле в чем-то аналогична роли мастера. Он – первый свидетель, пытающийся рассказать, «как все было на самом деле». Он делает свои «логин» (дневниковые записи для памяти) даже во время казни: «Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой Горе, а смерти все нет!.. Солнце склоняется, а смерти нет».
Единственная его просьба при свидании с Пилатом касается куска чистого пергамента, нужного для новых записей об учителе. Закономерно, что он оказывается посредником в переговорах Иешуа с Боландом о судьбе Мастера, оставаясь все тем же фанатичным учеником, самым непримиримым и враждебным к духу зла: «Я не хочу, чтобы ты здравствовал, – ответил дерзко вошедший» (гл. 26).
С Понтием Пилатом в роман, напротив, входит тема трусости, душевной слабости, компромисса, вынужденного предательства. Зачем мастеру (и Булгакову) понадобился прокуратор? Ведь в кругу канонических евангельских образов есть персонаж, в связи с которым та же тема могла быть обозначена с не меньшим успехом, не вызывая в то же время упреков в симпатиях автора к власти и заигрывании со злом.
Апостол Петр, первый ученик, тоже трижды предал Христа, отрекшись от него. (Кстати, чеховского «Студента», в котором история Петра непосредственно сопоставлена с современностью и возникает образ невидимой цепи времен, можно считать структурным аналогом булгаковского романа, но в лапидарном жанре лирического рассказа).
Различие между двумя отречениями, однако, велико. Петр – обычный слабый человек, он испытывает давление обстоятельств, его жизни угрожает непосредственная опасность, он практически ничего не может изменить в судьбе Иешуа.
Пилат в отличие от Петра может спасти Иешуа. Но его останавливает собственный страх перед императором Тиберием после знакомства с суждениями Иешуа о природе власти. Страдания прокуратора не менее ужасны, чем страдания Петра: «Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились. <…>
И со слухом совершилось что-то странное, как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: „Закон об оскорблении величества…“
Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: „Погиб!“, потом: „Погибли!..“ И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то долженствующем непременно быть – и с кем?! – бессмертии, причем бессмертие почему-то вызывало нестерпимую тоску» (гл. 2).
Храбрый воин, Пилат оказывается слабым в обстоятельствах мирной жизни. Он умывает руки (в романе, в отличие от Евангелия от Матфея, этого символического жеста, впрочем, нет), жертвует безвестным странником ради собственного спокойствия и благополучия.
После выкрика на площади («Все? – беззвучно шепнул себе Пилат, – Все. Имя!»), спасающего Варраввана и отправляющего на казнь Иешуа, «солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист» (гл. 2).
Это не только воющая толпа, но – голос бездны, тьмы, «другого ведомства», торжествующего в данный миг свою победу. Потом Пилат приказывает убить предателя (в эпизоде с Иудой реализуется скорее не евангельское изречение «подставь другую щеку», а ветхозаветное – «око за око»), как в зеркале, видит свою жестокость в поступках подчиненного («У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите…»), спасает Левия Матвея («Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет»), но это не спасает его от угрызений совести, которые длятся две тысячи лет.
Свершив зло, можно творить сколько угодно добра, но случившееся небывшим сделать уже не удастся. Невозможно искупить совершенное, его лишь можно, если удастся, забыть. Но всегда найдется кто-то с куском пергамента. Он запишет, и записанное останется. И даже если рукописи сгорят, все запомнят то, что было записано.
Не торжество силы, а ее слабость, роковую необратимость каждого поступка демонстрирует образ булгаковского Понтия Пилата.
Так в Ершалаимском романе сталкиваются, сплетаются в непримиримом конфликте учитель-проповедник добра и сострадания, его преданный ученик, бездумный и корыстолюбивый предатель и жестокий властитель, предающий Иешуа вследствие припадка трусости, «обморока робости».
Проблемы, поставленные в романе мастера, определяют другие сюжетные линии, другие фабулы булгаковской книги.
МОСКОВСКАЯ ДЬЯВОЛИАДА: ЛЮДИ КАК ЛЮДИ
Роман мастера (точнее, его часть, которую нам доверено прочитать) строится, в сущности, по законам новеллы. Для него характерны небольшое число персонажей, концентрация места и времени действия. В нем всего четыре эпизода: встреча Пилата с Иешуа – казнь Иешуа – убийство Иуды – встреча Пилата с Левием Матвеем. Романными здесь являются, в сущности, лишь живописность, детализация, тщательность и подробность повествования.
Время действия в Москве тоже ограничено (всего четыре дня), но оно включает множество персонажей и событий (около четырехсот). В московском хронотопе параллельно развертываются две сюжетные линии, сосуществуют два романа: дьяволиада (у Булгакова, как мы помним, была повесть с таким заглавием) и роман о мастере, история его любви и творческой трагедии.
В московских сценах особенно очевидно проявляется пластический, живописный талант Булгакова. Главы «Было дело в Грибоедове», «Черная магия и ее разоблачение», «Великий бал у сатаны», «Последние похождения Коровьева и Бегемота» строятся по принципу «колеса обозрения»: по страницам романа несется какой-то шутовской хоровод, каждый персонаж охарактеризован броско, резко, иногда одним эпитетом или просто фамилией.
«Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердаки и маленький Денискин с гигантской Штурман Жоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках» (гл. 5).
«И вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос: „Я не позволю тебе!“ – и женский: „Деспот и мещанин, не ломайте мне руку!“ Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел целый ряд дам, энергично топая в ковер заново обутыми ногами. <…>
Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он объявил, что у супруги его грипп и что он поэтому просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство же того, что он действительно женат, гражданин был готов предъявить паспорт. Заявление заботливого мужа было встречено хохотом, Фагот проорал, что верит, как самому себе, и без паспорта, и вручил гражданину две пары шелковых чулок, кот от себя добавил футлярчик с помадой.
Опоздавшие женщины рвались на сцену, со сцены текли счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами, в строгих визитных костюмах, в шляпочках, надвинутых на одну бровь» (гл. 12).
На смену драматическому напряжению романа мастера в московской дьяволиаде приходят комизм, смех в разных его вариантах – от сатиры до юмора и буффонады.
Одновременно меняется и форма повествования. В ершалаимском романе рассказ ведет объективный повествователь, летописец, строгий хроникер, ни разу не позволивший прямо выразить свое отношение к описанным событиям; их драматизм не нуждается в дополнительной эмоциональной раскраске.
В московской дьяволиаде появляется неназванный рассказчик, суетливый репортер, собиратель слухов, карикатурист, напоминающий повествователя в «Бесах» Ф. М. Достоевского или рассказах-сценках М. М. Зощенко.
«Дом назывался „Домом Грибоедова“ на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя – Александра Сергеевича Грибоедова. Ну владела или не владела – мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было… Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из „Горя от ума, этой самой тетке, раскинувшейся на софе. А впрочем, черт его знает, может быть, и читал, не важно это!» (гл. 5).
Между ершалаимской мистерией и московской дьяволиадой обнаруживается множество словесных, предметных, мотивных перекличек – от образов палящего солнца и страшной апокалипсической грозы до реплики «Яду мне, яду!..», повторенной во второй и пятой главах.
Однако Ершалаим и Москва не только зарифмованы, но и противопоставлены в структуре «большого» романа. В древнем сюжете нет Воланда, хотя он, смущая души Берлиоза и Бездомного, говорит, что присутствовал в Ершалаиме «инкогнито» (как гоголевский ревизор из Петербурга!). Дьяволу нет места на страницах романа мастера, там ничего еще не решено.
В Москве же правит бал «другое ведомство». Здесь часто поминают черта (в нескольких случаях Булгаков реализует поговорку: герой говорит «черт возьми» – и черт действительно берет), но Иисуса считают несуществующей галлюцинацией: «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге» (гл. 1). Естественно, на освободившемся месте появляются не только мелкие бесы, но и сам Сатана.
Образ Воланда у Булгакова, вероятно, еще больше, чем Иешуа, далек от канона и культурно-исторической традиции. Булгаков опирается на большой круг предшественников в изображении дьявола – черта – Сатаны-Мефистофеля (Гёте, Гоголь, Достоевский), но одновременно полемизирует с ними.
Булгаковский персонаж не столько творит зло, сколько обнаруживает его. Как рентгеновский аппарат, он читает человеческие мысли и проявляет таящиеся в душах темные пятна распада. Несчастного Берлиоза, кроме случайности, губят гордыня и тотальное, циничное безверие («Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я уж вас и не прошу»). Лишь когда все уже будет поздно, на мертвом лице Маргарита вдруг увидит «живые, полные мысли и страдания глаза».
Единственным убитым, оставленным воинством Воланда в Москве, окажется барон Майгель, современный Иуда. Все остальные отделываются сильным испугом и неприятными воспоминаниями. А кое-кто даже становится лучше, как Варенуха, приобретший «всеобщую популярность и любовь за свою невероятную, даже среди театральных администраторов, отзывчивость и вежливость» («Но зато и страдал же Иван Савельевич от своей вежливости!»), или председатель Акустической комиссии, превратившийся в замечательного заведующего грибно-заготовительным пунктом.
В «Мастере и Маргарите» Воланд, оставаясь оппонентом Иешуа, в сущности, играет роль чудесного помощника из волшебной сказки или благородного мстителя из народной легенды – «бога из машины», спасающего героев в безнадежной ситуации.
«Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше надежды у меня нет. Но я хочу вам сказать, что, если вы меня погубите, вам будет стыдно! Да, стыдно! Я погибаю из-за любви!» (гл. 19) После этого признания Азазелло и напоминания о стыде Маргарита не губит душу, а спасает любимого.
Сцены дьявольских проделок и игрищ в «Мастере и Маргарите» не столько страшны, сколько смешны или лиричны. Булгаков, подобно Гоголю в «Ночи перед Рождеством», извлекает из «чертовщины» сюжетные или живописно-изобразительные возможности.
Кот издавна считался спутником нечистой силы. Однако обаятельный булгаковский Бегемот, скорее, напоминает «кота ученого» из пушкинского предисловия к «Руслану и Людмиле», ироничного студента или разгульного гусара (не случайно в романе он появляется «с отчаянными кавалерийскими усами»). Он принаряжается перед Маргаритой, рассказывает гротескные истории, чеканит афоризмы, зайцем ездит на трамвае, потешно перестреливается с «водопроводчиками». «Один из самых реальных персонажей – кот. Что ни скажет, как ни поведет лапой – рублем подарит..» – написал Е. С. Булгаковой П. С. Попов в 1940 году, после первого чтения полного текста романа.
В средневековом трактате «Молот ведьм», служившем пособием для выявления и последующего сожжения продавших душу дьяволу женщин, шабаш нечистой силы описывался как ряд чудовищных кощунств и преступлений: ведьмы отрекались от Бога и святых, наступали на крест, пожирали жаб, печенки и сердца некрещеных детей, поклонялись предъявляемой дьяволом огромной красной моркови, устраивали ужасные оргии.
Булгаковский шабаш превратившейся в ведьму Маргариту (гл. 21) ограничивается захватывающим чувством полета, купанием в реке, танцем вокруг костра, комическим выяснением отношений с напившимся коньяка козлоногим толстяком. На какие-либо кощунства здесь нет и намека. Все разрушительные инстинкты Маргариты ограничиваются погромом в квартире ненавистного критика Латунского. Успокаивает ее как раз голос испуганного ребенка.
Жуткие бредни инквизиторских трактатов Булгаков заменяет легкой иронией и прозрачной лирикой, напоминающей атмосферу сказок Андерсена или ранних гоголевских повестей. «Под ветвями верб, усеянными нежными, пушистыми сережками, видными в луне, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь как резиновые, играли на деревянных дудочках бравурный марш. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках перед музыкантами, освещали ноты, на лягушачьих мордах играл мятущийся свет от костра. Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей был оказан самый торжественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями…» (гл. 21)
Настоящая дьяволиада развертывается в Москве рядом с Боландом. В каком-то странном театральном зале-тюрьме у граждан отбирают валюту («Сон Никанора Ивановича»), какие-то люди без имен и лиц следят, преследуют, стреляют, обыскивают квартиру, отвозят в клинику Стравинского. В московском воздухе рассеян запах неясной угрозы. Булгаков дает не изображение, а ощущение угрожающей современности: большое количество деталей могло разрушить структуру романа-мифа.
Спасения от мира мелких бесов, где торжествует бездарность, власть принадлежит безликой силе, а самым спокойным местом оказывается сумасшедший дом, можно искать только у Боланда. Оказывается, зло небесное, метафизическое – это еще не самое страшное. Воланд если не служит, то слушается Иешуа, но можно ли представить, чтобы мастеру помогал Могарыч или Никанор Иванович бросил деньги на дорогу, как это сделал Левий Матвей? «Власть, таким образом, есть как бы „настоящий дьявол“ в противоположность Воланду» (А. Зеркалов «Этика Михаила Булгакова», 2004).
Как мы уже говорили, роман Булгакова представляет не столько испытание идеи, сколько живописание ее. Философские диалоги и размышления, которые у Достоевского или Толстого занимали целые страницы и главы, в «Мастере и Маргарите» сжимаются до афоризма, философской максимы: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» (гл. 1); «Все будет правильно, на этом построен мир» (гл. 32). Самым знаменитым, определившим судьбу и самого булгаковского романа, стало изречение «Рукописи не горят» (гл. 24).
Однако в одном эпизоде булгаковская философия человека тоже развертывается в эпизод, в подробное размышление, в формулировку смысла московской дьяволиады (правда, и здесь она сочетается с комизмом, буффонадой подручных Воланда).
Во время сеанса черной магии (гл. 12) Воланд, общаясь только с подручными, фактически сам ставит вопросы и сам отвечает на них.
«– Скажи мне, любезный Фагот… как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?..
– Точно так, мессир, – негромко ответил Фагот-Коровьев.
– Ты прав. Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти… как их… трамваи, автомобили…
– Автобусы, – почтительно подсказал Фагот…
– Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая…
– Аппаратура! – подсказал клетчатый.
– Совершенно верно, благодарю, – медленно говорил маг тяжелым басом, – сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?
– Да, это важнейший вопрос, сударь».
И после фокуса с хлынувшим на зал денежным дождем Воланд подводит итог: «Ну что же… они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…»
Это – булгаковская реплика в споре о новом человеке, которого пытались создать в советскую эпоху и официальные идеологи, и пролеткультовцы, и Маяковский: люди не изменились. Но это и трезвый взгляд на природу человека вообще: милосердие иногда стучится в сердца, но любовь к деньгам, квартирный вопрос, прочие исторические обстоятельства все портят.
В толпе люди оказываются хуже, чем поодиночке. Образ толпы, а не отдельные персонажи, – вот что теснее всего связывает московский и ершалаимский романы.
На фоне воющей толпы, «человеческого моря» Пилат произносит приговор, толпа наблюдает за казнью, толпа с восторгом ловит деньги в театре и наблюдает за унижением Семплеярова, толпы писателей танцуют, выстраиваются в очереди, топчут вышедшего из ряда собрата.
Соединительным звеном между ершалаимской и московской толпой оказываются гости большого бала у сатаны. «По лестнице снизу вверх подымался поток… Снизу текла река. Конца этой реке не было видно… Какой-то шорох, как бы крыльев по стенам, доносился теперь сзади из залы, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища гостей… На зеркальном полу несчитанное количество пар, словно слившись, поражая ловкостью и чистотой движений, вертясь в одном направлении, стеною шло, угрожая все смести на своем пути» (гл. 23).
Зло коллективно, массовидно. Чтобы сделать добро, нужно выхватить из толпы лицо, разглядеть за преступлением человека. Так происходит у Маргариты с Фридой. На дьявольском балу она узнает имя («Фрида, Фрида, Фрида! Меня зовут Фрида, о королева!»), уже не может ее позабыть и спасает несчастную камеристку, жертвуя даже своей любовью к мастеру.
В сцене спасения Фриды (в ней есть явное сходство с последующим спасением Пилата, женщине тоже перестают напоминать о ее преступлении) важна одна параллель с классической литературой. Рассказывая о трагедии, Бегемот утверждает, что соблазнивший Фриду хозяин кафе невиновен «с юридической точки». Услышав же просьбу Маргариты, Воланд предлагает заткнуть все щели спальни, чтобы в них не пролезло милосердие (вспомним сцену в варьете: «Милосердие иногда стучится в их сердца»).
Коллизия формального закона, «юридической точки зрения» и душевного порыва – одна из русских проблем, восходящая к пушкинской «Капитанской дочке». Милости, а не правосудия просит у царицы земной Маша Миронова. «Металлический человек», которого видит Рюхин на московском рассвете, присутствует в романе и таким образом.
Принимая участие в московской дьяволиаде, Маргарита в то же время становится главной героиней третьей сюжетной линии романа.
РОМАН О МАСТЕРЕ: ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО
Есть писатели, которые четко отделяют личную жизнь от литературного творчества. «У меня болезнь: автобиографофобия», – ответил Чехов на просьбу прислать хотя бы короткую автобиографию для журнала. «Людям давай людей, а не себя», – поучал он еще в молодости старшего брата. Чехов практически не вел дневников, его записные книжки наполнены набросками сюжетов, а не личными признаниями. В чеховских произведениях с большим трудом обнаруживаются автобиографические мотивы, Чехов растворяется, исчезает, умирает в своих героях.
Булгаков (и в этом он похож на Толстого) принадлежит к писателям противоположного типа. Навсегда отказавшись в середине двадцатых годов от ведения дневника (после ареста рукописей ему было нестерпимо, что его личные записи читают чужие глаза), он фактически сделал таким дневником все художественное творчество.
Автобиографические эпизоды и мотивы содержатся в «Записках юного врача», «Белой гвардии» и «Днях Турбиных», московских очерках, «Записках покойника» («Театральном романе»). Причем собственную жизнь после «Записок юного врача» Булгаков рассматривает прежде всего как жизнь художника, профессионального литератора.
Писатель – один из главных героев булгаковский прозы. Художник и власть – один из ключевых конфликтов его художественного мира. Обращаясь к другим историческим эпохам, Булгаков, естественно, ищет там своих собратьев-двойников, близких ему по духу и отношению к миру. Мольер в биографической книге о нем и пьесе «Кабала святош» (1929), Пушкин в пьесе «Александр Пушкин» временами кажутся булгаковскими соратниками, почти двойниками. Естественно, в итоговом булгаковском романе с самого начала возникли тема творчества и прием романа в романе: историю Иешуа рассказывает современный писатель, и результаты его труда представляются читателю. Однако в процессе работы эта булгаковская личная тема соединилась с еще одной вечной темой.
В 1929 году Булгаков, как мы помним, познакомился с Е. С. Шиловской. Через какое-то время он возобновил работу над романом, и в книге появилась новая сюжетная линия, связанная с мастером и историей его любви. Постепенно «Черный маг» (или «Князь тьмы») стал «Мастером и Маргаритой». (Так «Анна Каренина» в процессе работы Толстого фактически превратилась в «Константина Левина», хотя в отличие от Булгакова Толстой не изменил первоначальное заглавие.)
«Мастер и Маргарита» – заглавие типологическое. В истории литературы уже были античный роман Лонга «Дафнис и Хлоя», средневековая легенда «Тристан и Изольда», шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта» – истории о любви, верности и смерти, сочетание любовной идиллии и социальной трагедии.
Однако булгаковский герой – писатель. Героев соединяет не просто внезапное и вечное чувство, но – книга, дело мастера, которое Маргарита тоже считает своим («Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу»).
Роман мастера полемически противопоставлен обычной тематике советской литературы: «О чем роман? – Роман о Понтии Пилате… – О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?» Мастер, однако, не может найти другой темы, ему, как романтическому поэту, диктует тему вдохновение, а не социальный заказ.
В главах, посвященных любви героев, возникает новый повествователь: не эпический живописец или сатирический наблюдатель, а патетический лирик, прибегающий к высокому стилю и романтическим формулам: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!
За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!» (гл. 19)
Но мастера, конечно, нельзя отождествлять с автором «большого» романа. В романе-мифе (в отличие, скажем, от «театрального романа») Булгаков создает обобщенный образ художника, его художественной и человеческой драмы, вспоминая о своих литературных учителях и двойниках.
Имя «мастер» появляется в романе лишь в процессе работы, в середине тридцатых годов. В планах герой назывался Фаустом, в ранних редакциях – поэтом. Первоначально Булгаков называет мастером господина де Мольера. «Но ты, мой бедный и окровавленный мастер!» – обращается повествователь к герою в «Прологе». И здесь же рисуется стилизованный портрет самого повествователя, в сущности тоже «романтического мастера»: «И вот: на мне кафтан с громадными карманами, а в руке моей не стальное, а гусиное перо. Передо мною горят восковые свечи, и мозг мой воспален».
Портрет героя напоминает уже не о Мольере, а о Гоголе (острый нос, свешивающийся на лоб клок волос). Гоголевским оказывается и отчаянный жест (сожжение рукописи), повторенный Булгаковым в жизни.
Мастер – персонаж «Мастера и Маргариты» – автор единственной книги, утративший после всех испытаний способность творить. Трагический итог его судьбы подводит диалог с Боландом.
«После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру:
– Так, стало быть, в Арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение?
– У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, – ответил мастер, – ничто меня вокруг не интересует, кроме нее, – он опять положил руку на голову Маргариты, – меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал.
– А ваш роман, Пилат?
– Он мне ненавистен, этот роман, – ответил мастер, – я слишком много испытал из-за него. <…>
– Но ведь надо же что-нибудь описывать? – говорил Воланд, – если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия.
Мастер улыбнулся.
– Этого Лапшенникова не напечатает, да, кроме того, это и неинтересно» (гл. 24).
Это неинтересно автору романа о Пилате, но это (Алоизий и прочие) очень интересно автору романа «Мастер и Маргарита».
Так что не Пилат, не мастер с любимой и даже не Иешуа оказываются в центре большого романа, но – Автор, все время находящийся за кадром, однако связывающий, сшивающий разные планы книги, создающий общий план лабиринта, перевоплощающийся то в строгого хроникера-евангелиста, то в разбитного фельетониста, то в патетического рассказчика, то в проникновенного лирика.
По богатству повествовательных интонаций, полету фантазии, предметной изобразительности «Мастеру и Маргарите» трудно найти аналогии в литературе 1920-1930-х годов. Но зато роману легко находятся двойники в XIX веке, у любимых Булгаковым Гоголя и Пушкина. Предшественниками булгаковского Автора оказываются лирико-иронический Автор «Евгения Онегина» и патетический повествователь «Мертвых душ».
Третий булгаковский роман оканчивается диссонансом: Маргарита еще способна беззаветно любить, герой уже сломан, неспособен творить. Но любящая героиня еще раз спасает мастера. Это происходит уже в многоступенчатом окончании книги. Трем сюжетным линиям романа соответствуют и три финала.
ФИНАЛ: ПОКОЙ И ПАМЯТЬ
Развязывает узлы, разрешает судьбы героев, ставит финальные точки невидимый, но хорошо слышимый Автор уже не в Москве. Герои отправляются в последний полет, и гаснет на глазах мастера один город, в котором казнили его героя, уходит в землю, растворяется в тумане другой, недавно покинутый, «с монастырскими пряничными башнями» – и возникает каменистая площадка среди гор, прокуратор с верной собакой, не высохшая за две тысячи лет кровавая лужа.
Все фабульные узлы развязываются лишь при свете луны, в «разоблачающей обманы» ночи, по ту сторону земной жизни – в вечности.
Роман мастера оканчивается словами: «… пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат». Этими же словами Автор закончит свой «большой» роман. Но роман о Пилате завершится по-иному:
«Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал:
– Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!
Мастер как будто ждал этого уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:
– Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» (гл. 32)
Иешуа (так и не появившийся, в отличие от Воланда, на площадке вечности) прощает Пилата, как Маргарита простила Фриду. И прокуратор бежит по лунной дороге, то ли назад, в «пышно разросшийся за много тысяч этих лун сад», чтобы «до чего-нибудь договориться» с Иешуа, то ли вперед, в сны Ивана Николаевича Понырева, бывшего поэта Бездомного.
Романтическому мастеру Иешуа и Воланд согласно даруют иное: песчаную дорогу с мостиком через ручей, венецианское окно с вьющимся виноградом, музыку Шуберта – вечный дом. Этот образ подготовлен диалогом Левия Матвея и Воланда.
«– Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?
– Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе это хорошо известно. – Он помолчал и добавил: – А что же вы не берете его к себе в свет?
– Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий» (гл. 29).
Афоризм о свете и покое выглядит загадочно: в самом деле, почему мастер не заслужил света? Какие-то основания для ответа на этот вопрос, кажется, может дать та же вечная книга.
«Светом» в Евангелии, во-первых, называется Бог («Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». – Первое послание Иоанна, гл. 1, ст. 5), во-вторых – Христос («Доколе Я в мире, Я свет миру». – Евангелие от Иоанна, гл. 9, ст. 5), в-третьих – его ученики («Вы свет мира. <…> Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного». – Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 14, 16), в-четвертых – все христиане («Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы». – Первое послание к Фессалоникийцам апостола Павла, гл. 5, ст. 5). Все эти смыслы так или иначе могут быть соотнесены с булгаковским «светом», в котором находятся Иешуа и его ученик.
Близкое же романному значение «покоя» встречается в канонических книгах, кажется, лишь однажды. «…И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его. <…> И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откровение Иоанна Богослова, гл. 14, ст. 11, 13).
Цитата из Откровения Иоанна Богослова стала эпиграфом «Белой гвардии», ссылки и реминисценции Апокалипсиса не раз появляются и в самом тексте.
«Логия» Левия Матвея: «Мы увидим чистую реку воды жизни… Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл» – на самом деле восходит не к Матфею, а к тому же Иоанну Богослову: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откровение Иоанна Богослова, гл. 22, ст. 1).
Так что весьма вероятно, что мастер получает этот, апокалипсический покой, тоже успокаивается от трудов своих.
Подвижник и ученик Левий Матвей получает одно, художник-подвижник без имени – другое. Это не низший, а другой аспект бытия в хронотопе вечности. Свет и покой – два варианта, две версии рая, который заслуживают праведники. Причем образ «покоя» имеет не только евангельские, но и отчетливые литературные истоки.
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» Пушкинский стих отзывается в заглавии тридцатой главы романа. Еще ближе к булгаковскому финалу окончание этого стихотворения: «На свете счастья нет, но есть покой и воля. / Давно завидная мечтается мне доля – / Давно, усталый раб, замыслил я побег / В обитель дальнюю трудов и чистых нег».
Разница лишь в том, что булгаковский усталый раб предпринимает побег не по своей воле, да его обитель оказывается слишком дальней… Кстати, образ смерти тоже есть у Пушкина: «Предполагаем жить… И глядь – как раз – умрем».
В сущности, о подобном покое-сне, покое-посмертии написано лермонтовское стихотворение «Выхожу один я на дорогу…».
Конкретные черты вечного приюта мастера – сад, вишни (они были уже в черновиках), музыка, свечи, ручей – напоминают два сада над обрывом Настоящего Двадцатого Века: «Вишневый» и «Соловьиный». Прекраснодушные близорукие герои Чехова и требовательный самоотверженный путник Блока уходили из сада по необходимости или собственной воле. Булгаковские мастер и Маргарита и получают его как последнюю награду, причем уже по ту сторону земного бытия.
«– Скончался сосед ваш сейчас, – прошептала Прасковья Федоровна… – Я так и знал! Я уверяю вас, Прасковья Федоровна, что сейчас в городе еще скончался один человек. Я даже знаю, кто, – тут Иванушка таинственно улыбнулся, – это женщина» (гл. 30).
Они, как Ромео и Джульетта или герои Грина, умирают в один день и даже мгновение. (Так обстоит дело в романе о мастере, в сюжете московской дьяволиады смерть превращается в исчезновение). О той же судьбе, о «прощении и вечном приюте», в сущности, мечтает и повествователь, невидимый Автор, с лирического монолога которого начинается тридцать вторая глава: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна…» Булгаковская фраза не окончена. Обычно ее дополняют так: «…только она одна успокоит его».
Прощение неразрывно связано с прощанием.
Вечный приют, вечный дом возможен лишь в вечном покое.
С вечной памятью все оказывается тоже не так просто.
Сначала большой роман заканчивался в хронотопе вечности, где ставилась последняя точка романа мастера и романа о мастере. Московская дьяволиада просто обрывалась многоточием, таяла в тумане, оставалась за спиной героев: «Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман».
В мае 1939 года Булгаков попросил зачеркнуть последний абзац тридцать второй главы (текстологи, «следуя сложившейся традиции», оставляют и его) и продиктовал эпилог. Вернулся оттуда, из вечности, – сюда, на землю. Поставил точку и в третьем, московском романе.
Действие в эпилоге переносится в неопределенное будущее: «прошло несколько лет». Здесь снова появляется рассказчик – собиратель слухов: «Слухи эти даже тошно повторять». Множатся фельетонно-гротескные детали: по всей стране (какой?) граждане ловят черных котов, персонажи меняются местами, Степа Лиходеев заведует в Ростове гастрономическим магазином, Римский переходит в театр детских кукол, а на месте Римского оказывается доносчик Могарыч.
Но вдруг это привычное для московского романа колесо обозрения останавливается, интонация повествователя меняется, внимание сосредоточивается на одном герое и связанном с ним мотиве памяти. «Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех, не у всех».
Память мучит каждый год в дни весеннего праздничного полнолуния бывшего поэта, ныне профессора Института истории и философии, Ивана Николаевича Понырева. (Правда, и здесь Булгаков дает герою фельетонного двойника: память мучит и бывшего борова – Николая Ивановича.) Историк сидит на той же скамейке на Патриарших прудах (так закольцовывается не только роман о Пилате, но и московский роман). Его сознание, его сны – последний земной приют, где живут «давно позабытый всеми Берлиоз», Иешуа и Пилат, мастер и его любимая.
Мотив «укола» – реального и символического, укола в сердце и укола памяти – последовательно проводится Булгаковым через все три романа. Тупую иглу, засевшую в сердце (предчувствие смерти), ощущает в самом начале, перед появлением Коровьева, Берлиоз. Тупая иголочка беспокойства (ироническое снижение мотива) покалывает Босого перед получением взятки. Острая боль, как от иглы, пронзает Маргариту во время великого бала. Тихим уколом копья в сердце завершается земная жизнь Иешуа. Мощный ножевой удар кончает с Иудой. «Беспокойная, исколотая иглами память» была дана в последних строках романа мастеру. В эпилоге она передается Поныреву.
Но она, эта память, «потухает», «гаснет», «затихает». Она ни в коем случае не вечна, если место мастера, «вакансия поэта» остается пустой. Когда Москва лишается человека из сто восемнадцатого номера (умирает он или исчезает), сны и галлюцинации так и не удается воплотить в слово.
«„Так, стало быть, этим и кончилось?“ – „Этим и кончилось, мой ученик… Конечно, этим. Все кончилось и все кончается… И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо”».
Чем кончилось? И как надо?
Мир обязательно нуждается в Мастере, хотя сам не подозревает об этом. Описать его, дать ему голос может только другой мастер. Кажется, лишь в такое бессмертие – душа в заветной лире мой прах переживет – и верит автор «Мастера и Маргариты».
«История народа принадлежит Поэту», – четко, безапелляционно сформулировал Пушкин. Булгаков мог бы повторить эти слова.
Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА (1892–1941)
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ: МЯТЕЖНАЯ ЮНОСТЬ
Сравнение Петербурга и Москвы, противопоставление петербургской и московской литературы стало привычным уже в XIX веке. Новый век подхватил и продолжил эту традицию. Соперничество двух столиц многое определяет в искусстве модернизма. Блок, Ахматова, Мандельштам порождены атмосферой Петербурга и по-разному продолжили «петербургский текст». Древняя столица, вернувшая себе этот статус сразу после революции, тоже имела своих певцов и поклонников. В стихотворении, обращенном к А. А. Ахматовой, Цветаева декларирует внутреннее родство с ней и в то же время разграничивает «сферы влияния»:
Соревнования короста В нас не осилила родства. И поделили мы так просто: Твой – Петербург, моя – Москва. («Соревнования короста…», 12 сентября 1921)В одном из многочисленных стихотворений Цветаевой, посвященных Москве, есть признание в любви, переходящее едва ли не в молитву:
– Москва! – Какой огромный Странноприимный дом! Всяк на Руси – бездомный. Мы все к тебе придем. <…> И льется аллилуйя На смуглые поля. Я в грудь тебя целую, Московская земля! («Стихи о Москве», 8 июля 1916)Москва была домом и почвой Цветаевой, одной из главных тем ее поэзии – и оказалась матерью и мачехой в ее судьбе.
Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября (8 октября) 1892 года в семье профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева. Об отце она всю жизнь вспоминала с понятной гордостью, не только как об ученом, но и как об энтузиасте, бессребренике, который положил жизнь на то, чтобы подарить Москве культурное чудо.
И. В. Цветаев был сыном бедного священника из Владимирской губернии. Он окончил Петербургский университет, занимался историей искусства и лишь в 26 лет побывал в Италии. Как вспоминала дочь, он едва ли не с детства мечтал о том, чтобы сокровища европейского искусства как можно раньше стали доступны русским мальчикам и вообще русской публике. «Мечта о музее началась, конечно, до Рима – еще в разливанных садах Киева, а может быть, еще и в глухих Талицах, Шуйского уезда, где он за лучиной изучал латынь и греческий. „Вот бы глазами взглянуть!“ Позже же, узрев: „Вот бы другие (такие же, как он, босоногие и „лучинные“) могли глазами взглянуть!”» («Отец и его музей», 1936)
Жизнь в очередной раз повторила сюжет некрасовского «Школьника»: вдохновленный примером великого предшественника деревенский мальчишка вступает в мир науки (или культуры), а через много лет, добившись цели, мечтает, чтобы по его пути, но уже с меньшими усилиями, прошли другие.
«Архангельский мужик» был «первым нашим университетом» (Пушкин) и создал Московский университет. Владимирский мужик задумал создать в Москве музей изящных искусств: ведь не все «босоногие и лучинные» могли попасть в Рим.
Практическое осуществление идеи началось в год смерти императора Александра III (1894), когда одна московская старушка пожертвовала несколько тысяч на богоугодное дело в память об усопшем. На организацию музея ушло почти двадцать лет. За эти годы И. В. Цветаев похоронил жену (мать Цветаевой, М. А. Мейн, умерла в 1906 году; в семье была еще дочь Ася, двумя годами моложе Марины), собрал большую библиотеку, тратил все свое жалованье и другие заработки только на нужды музея.
Музей изящных искусств (сейчас это Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) открылся 31 мая 1912 года. Цветаева вспоминала, что в день открытия богатая дама-поклонница привезла создателю музея подарок. «– Хочу, чтоб вы знали: это – римский лавр. Я его выписала из Рима. Деревцо в кадке. А венок сплела сама. Да. Пусть вы родились во Владимирской губернии, Рим – город вашей юности, и душа у вас – римская. Ах, если бы ваша жена имела счастье дожить до этого дня! Это был бы ее подарок!»
Воспоминания об отце Цветаева оканчивает печальной финальной точкой: «Отец мой скончался 30 августа 1913, год и три месяца спустя открытия музея. Лавровый венок мы положили ему в гроб» («Лавровый венок», 1936).
В двадцать один год Марина Цветаева осталась без родителей. К этому времени у нее была уже своя семья, и за плечами – большая, сложная и, как потом оказалась, самая счастливая пора жизни.
В 1926 году Цветаева заполнила анкету для биографического словаря (она будет опубликована лишь через много лет), в которой сухие пункты наполнены поэзией и страстью. «Главенствующее влияние – матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. Heroica). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) Слитое влияние отца и матери – спартанство. Два лейтмотива в одном доме: Музыка и Музей. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский – рыцарский. Жизнь на высокий лад».
Уже по этим строкам хорошо виден характер резкого и афористичного цветаевского мышления. В счастливом профессорском доме выросло существо, которое, кажется, ошиблось временем. Цветаева осталась довольно равнодушна к эстетическим спорам и конфликтам серебряного века. «Ни к какому поэтическому и политическому направлению не принадлежала и не принадлежу», – завершала она ответы на анкетные вопросы. В литературных битвах Цветаева различала и выделяла лица близких людей. В разное время она тесно общалась или дружила и с символистами Брюсовым, Белым и Бальмонтом, и с акмеистами Ахматовой и Мандельштамом, и с футуристами Маяковским и Пастернаком – и обо всех них написала статьи или воспоминания.
Своим временем для Цветаевой, была бы, пожалуй, первая треть XIX века, эпоха романтизма и Пушкина. Она восхищалась Наполеоном, много читала французских и немецких поэтов-романтиков, боготворила Пушкина. По своему мироощущению Цветаева была романтиком, поэтом, для которого и жизнь становилась книгой. Цветаевским «двойником» в поэзии русского золотого века оказывается, конечно, не Пушкин, а Лермонтов – поэт контрастов, одиночества, отрицания мира и влюбленности в него.
Как личность Цветаева сформировалась очень рано. «Любимое занятие с четырех лет – чтение, с пяти лет – писание. Все, что любила, – любила до семи лет, и больше не полюбила ничего. Сорока семи лет от роду скажу, что все, что мне суждено было узнать, – узнала до семи лет, а все последующие сорок осознавала», – с привычной бескомпромиссностью, предельностью выражения мысли напишет она позднее («Автобиография», 1940). (Многие ли рискнут повторить такие слова? Чаще люди подчеркивают собственную позднюю мудрость и отрекаются от прошлого.)
В 1910 году, еще гимназисткой, Цветаева за свой счет издает первый сборник «Вечерний альбом». В книге, содержащей чуть более ста стихотворений, написанных Цветаевой с 15 до 17 лет, было три части: «Детство», «Любовь», «Только тени». Цветаева писала на темы, к которым часто обращаются начинающие поэты.
Вскоре появился второй сборник, «Волшебный фонарь» (1912). Стихи автора «вне групп» заметили известные модернисты В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилев. «Это очень юная и неопытная книга – „Вечерний альбом”», – написал поэт М. А. Волошин в статье с характерным заглавием «Женская поэзия». – Ее нужно читать подряд как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности» («Женская поэзия», 1910).
Волошин сам пришел познакомиться с молодой поэтессой (еще не поэтом!) и подарил статью, о которой Цветаева даже не знала. Это знакомство, быстро переросшее в дружбу, сыграло большую роль в цветаевской судьбе (после смерти старшего поэта она напишет мемуарный очерк «Живое о живом», 1933).
Весной 1911 года Цветаева, в свою очередь, приезжает в гости к Волошину в крымский поселок Коктебель и там знакомится с человеком, который в следующем году станет ее мужем – и спутником на всю жизнь: Сергеем Яковлевичем Эфроном. Вскоре в семье рождается дочь Ариадна, Аля.
Цветаева по-прежнему много пишет, но надолго исчезает из литературы: не выпускает книг, не печатается в журналах, редко общается с писателями. «…B дореволюционной России самовольная и отчасти невольная выключенность из литературного круга – из-за раннего замужества…, раннего и страстного материнства, а главное – из-за рожденного отвращения ко всякой кружковщине», – признается она позднее («Моя судьба – как поэта», 1931).
Но пророческие стихи уже написаны, хотя тоже не опубликованы. «Формула – наперед – всей моей писательской (и человеческой) судьбы», – скажет позднее сама Цветаева.
Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я – поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, В святилище, где сон и фимиам, Моим стихам о юности и смерти, – Нечитанным стихам! Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берет, Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед. («Моим стихам, написанным так рано…», 13 мая 1913)В послереволюционной России у полузабытой поэтессы Марины Цветаевой, как и у многих, началась совсем иная жизнь.
КРАСНОЕ И БЕЛОЕ: ПЕРЕКРИЧАТЬ РАЗЛУКУ
В промежутке между Февралем и Октябрем далекая от политики Цветаева пишет стихи, в которых нет ни характерного для Маяковского восхищения происходящим, ни блоковского воодушевления «духом музыки», ни мандельштамовского смирения перед историческим величием событий, ни смиренной жертвенности Ахматовой, ни бунинского яростного неприятия революции. Эти стихи написаны словно об уже завершенной исторической эпохе, на которую можно посмотреть со стороны, поставить происходящее в определенный исторический ряд:
Из строгого, стройного храма Ты вышла на визг площадей… – Свобода! – Прекрасная Дама Маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, — Обедня еще впереди! – Свобода! – Гулящая девка На шалой солдатской груди! («Из строгого, стройного храма…», 26 мая 1917)Не принимая, Цветаева не осуждает, з. рассуждает. Однако роковой ход событий втянул ее в происходящее в гораздо большей степени, чем большинство ее поэтов-современников.
Широта цветаевской поэтической натуры проявляются в любопытном факте. В один и тот же предновогодний день, словно подводя итоги, она пишет два тематически и эмоционально абсолютно разнородных стихотворения.
В одном – тоска, объясняющаяся расставанием с мужем и ожиданием новых катаклизмов после революционных событий в Петрограде и Москве. «Новый год я встретила одна. / Я, богатая, была бедна, / Я, крылатая, была проклятой («Новый год я встретила одна…», 31 декабря 1917).
Другое – страстное объяснение в любви литературному герою, персонажу романа аббата де Прево «История Манон Леско и кавалера де Грие», страдавшему от любви неверной красавицы:
Кавалер де Гриэ! – Напрасно Вы мечтаете о прекрасной, Самовластной – в себе не властной — Сладострастной своей Manon <…> Долг и честь, Кавалер, – условность. Дай Вам Бог целый полк любовниц! Объявляя при сем готовность… Страстно любящая Вас – М. («Кавалер де Гриэ! – Напрасно…», 31 декабря 1917)Пастернак в революционное лето 1917 года пишет книгу о любви и митингующей природе, позабыв об исторических событиях. Маяковский в это же время сочиняет оды революции, позабыв о страданиях израненного сердца и нервной скрипки. Цветаева в своем восприятии мира, в своих стихах соединяет эти противоположности, одновременно существует в мире реальном и мире воображаемом. Романтические всеобщность и контрастность все очевиднее становятся главными принципами ее поэзии.
В январе 1918 года, ненадолго появившись в Москве для тайного свидания с семьей, С. Я. Эфрон отправляется на Дон и вступает в Добровольческую армию. Он выбирает путь прямой борьбы за белое дело. Цветаева на четыре с половиной года остается в любимом, но совершенно изменившемся городе и переживает трудности, выпадающие на долю простого человека в годы Гражданской войны, в самом драматическом варианте.
Она пытается служить в разных советских учреждениях, как и многие москвичи, голодает и в ноябре 1919 года вынуждена сдать в детский приют двух своих дочерей. Через несколько месяцев младшая дочь умирает. Воспоминание об этой трагедии будет преследовать Цветаеву всю жизнь:
Две руки, легко опущенные На младенческую голову! Были – по одной на каждую — Две головки мне дарованы. Но обеими – зажатыми — Яростными – как могла! — Старшую у тьмы выхватывая — Младшей не уберегла. Две руки – ласкать – разглаживать Нежные головки пышные. Две руки – и вот одна из них За ночь оказалась лишняя. Светлая – на шейке тоненькой — Одуванчик на стебле! Мной еще совсем не понято, Что дитя мое в земле. («Две руки, легко опущенные…», апрель 1920)Чуть раньше Цветаева напишет свой автопортрет, обращенный к старшей дочери, словно глядя на происходящие события из далекого будущего.
Когда-нибудь, прелестное созданье, Я стану для тебя воспоминаньем. Там, в памяти твоей голубоокой, Затерянным – так далеко-далеко. Забудешь ты мой профиль горбоносый, И лоб в апофеозе папиросы, И вечный смех мой, коим всех морочу, И сотню – на руке моей рабочей — Серебряных перстней, – чердак-каюту, Моих бумаг божественную смуту… Как в страшный год, возвышены Бедою, Ты – маленькой была, я – молодою. («Але», ноябрь 1919)Но даже в самых тяжелых обстоятельствах настоящий поэт не может отказаться от своего призвания. Вопреки всему из «божественной смуты» бумаг вырастает несколько завершенных произведений, хотя опубликованы многие из них будут совсем не скоро.
В московские годы Цветаева пишет несколько больших поэм и целую книгу стихотворных драм, героями которых становятся легендарный авантюрист и великий любовник XYIII века Дж. Казанова («Приключение», «Феникс»), французский герцог Лозэн и королева Мария-Антуанэтта, Амур и даже игральные карты. Пьесы были написаны для молодых актеров театра-студии режиссера Е. Б. Вахтангова, который в голодной Москве поставил веселый, праздничный спектакль по пьесе-сказке К. Гоцци «Принцесса Турандот». Заглавие неосуществленной книги характерно для предпочтений Цветаевой: «Романтика».
Высокий романтический взгляд на события был обращен не только в прошлое, но и в настоящее. Параллельно с драмами и прозаическими дневниковыми набросками, которые позднее станут очерками «Октябрь в вагоне», «Вольный проезд», «Мои службы», складывается книга «Лебединый стан» (1917–1920). Тоскуя о воюющем муже, о котором она ничего не знает, Цветаева пытается перекричать разлуку: «Я эту книгу поручаю ветру / И встречным журавлям. / Давным-давно – перекричать разлуку – / Я голос сорвала. / Я эту книгу, как бутылку в волны, / Кидаю в вихрь войн» («Я эту книгу поручаю ветру…», февраль 1920).
Переживая реальный общественный разлом, поэт видит Гражданскую войну романтически: как сражение вдохновленной высокой монархической идеей белой гвардии с темными силами зла.
Белая гвардия, путь твой высок: Черному дулу – грудь и висок. <….> Не лебедей это в небе стая: Белогвардейская рать святая Белым видением тает, тает… («Дон», 1, 24 марта 1918)Противоположный белому красный цвет отождествляется с новой властью, изображенной, однако, также без прозаических подробностей, столь же символически-неопределенно, хотя и очевидно угрожающе:
И страшные мне снятся сны: Телега красная, За ней – согбенные – моей страны Идут сыны. <…> Пурпуровый маша рукой беспалой Вопит калека, тряпкой алой Горит безногого костыль, И красная – до неба – пыль. («Взятие Крыма», ноябрь 1920)Но в одном из итоговых стихотворений книги Цветаева пытается встать «над схваткой», увидеть в происходящем не правоту белых или красных, а национальную – и материнскую – трагедию.
Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь! То шатаясь причитает в поле – Русь. Помогите – на ногах нетверда! Затуманила меня кровь-руда! <…> Все рядком лежат — Не развесть межой. Поглядеть: солдат. Где свой, где чужой? Белый был – красным стал: Кровь обагрила. Красным был – белый стал: Смерть побелила. <…> И справа и слева И сзади и прямо И красный и белый: – Мама! («Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..», декабрь 1920)С. Я. Эфрон, к которому был обращен «Лебединый стан», остался жив и прошел обычный путь офицера белой гвардии, знакомый многим хотя бы по пьесе М. А. Булгакова «Бег»: эвакуация из Крыма после разгрома Врангеля, лагерь для перемещенных лиц в Константинополе, попытка устроить новую жизнь в Европе. В конце концов он оказался в Чехии, поступил в университет и позвал жену и дочь к себе (путь в Россию для него был закрыт).
«Я на красной Руси / Зажилась – вознеси!» – закончила Цветаева одно из стихотворений «Лебединого стана» («Об ушедших – отошедших…», октябрь 1920). В мае 1922 года, простившись с Москвой, она с дочерью через Берлин, где пришлось задержаться на несколько месяцев, уезжает в Чехию. Начинается семнадцатилетняя жизнь в эмиграции.
«После России» (1928) – так называется последняя изданная ею книга.
ПОСЛЕ РОССИИ: ЗА ВСЕХ – ПРОТИВУ ВСЕХ!
Свидание с чудесно обретенным мужем не было безоговорочно счастливым. Преданность Цветаевой семье сочеталась со страстностью: она очаровывалась новыми людьми, обрушивала на них свою – чаще всего заочную – любовь, потом разочаровывалась, шла на разрыв, возвращалась к «дорогой несвободе», чтобы через какое-то время найти новую пищу для души.
Главным эпистолярным романом Цветаевой стала переписка 1926 года с любимым Пастернаком и не менее любимым австрийским поэтом Р. М. Рильке (1875–1926). Рильке вскоре умер, о чем Цветаева узнала с опозданием. Переписка с Пастернаком обрывается по его инициативе. Цветаева тоже опасалась «катастрофы встречи»: высокий стиль заочных отношений мог быть разрушен грубой реальностью.
Так и случилось. Они увиделись в Париже лишь через девять лет, но это свидание оказалось (или показалось?) невстречей, как скажет сама Цветаева. «Я, когда люблю человека, беру его с собой всюду, не расстаюсь с ним в себе, усваиваю, постепенно превращаю его в воздух, которым дышу и в котором дышу, – и всюду и в нигде, – признается Цветаева близкой знакомой. – Я совсем не умею быть вместе, ни разу не удавалось. Умела бы – если бы можно было нигде не жить, все время ехать, просто – не жить. <…> Когда я без человека, он во мне целей – и цельней. <…> Знаете, где и как мне хорошо? В новых местах, на молу, на мосту, ближе к нигде, в часы, граничащие с никоторым. (Есть такие.)» (С. Н. Андрониковой, 15 июля 1926 г.).
Таких часов в жизни Цветаевой было все меньше. В 1925 году родился сын, которого назвали Георгием (домашнее прозвище Мур). Закончив университет, С. Я. Эфрон так и не смог найти работу в Чехии. Унизительная бедность и надежды на лучшее толкают семью на переезд во Францию.
Но, появившись в «русском Париже», Цветаева быстро обнаруживает свою чуждость ему. Непримиримые русские эмигранты (вроде семейства Д. С. Мережковского – 3. Н. Гиппиус) видят в ней «агента Москвы». После публикации в 1928 году в одной из газет приветствия приехавшему в Париж В. Маяковскому, Цветаеву перестают печатать главные эмигрантские издания. Новые стихи, поэмы, мемуарная и автобиографическая проза, критические статьи, как и когда-то в юности, остаются в письменном столе.
Еще в Москве Цветаева написала стихотворение, в котором в очередной раз дала, предсказала формулу своей судьбы: «Под свист глупца и мещанина смех – / Одна из всех – за всех – противу всех!» («Роландов рог», март 1921).
Все чаще она начинает ощущать одиночество даже в собственном доме. Разлом завершившейся гражданской войны проходит прямо через ее семью. Один из героев романтического «Лебединого стана» начинает полемику с автором. Дочь А. С. Эфрон через много лет рассказывала: «В годы гражданской войны связь между моими родителями порвалась почти полностью. <…> Пока, по сю сторону неведения, Марина воспевала „белое движение“, ее муж, по ту сторону, развенчивал его, за пядью пядь, шаг за шагом и день за днем. <…> Помню один разговор между родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу: „…И все же это было совсем не так, Мариночка“, – сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах выслушав несколько стихотворений из „Лебединого стана“. – „Что же – было?“ – „Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не „мы“, а – лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками – только и всего. Были битвы за „веру, царя и отечество“ и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи“. – „Но были – и герои?“ – „Были. Только вот народ их героями не признает. Разве что когда-нибудь жертвами…”» (А. С. Эфрон. «Страницы воспоминаний», 1973).
В тридцатые годы позиция С. Я. Эфрона становится более радикальной. Он активно участвует в движении «возвращенцев», эмигрантов, которые хотели вернуться родину и тесно сотрудничали с советскими организациями, включая и тайные, разведывательные. «Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию, – пишет Цветаева чешской знакомой, – ничего другого не видит, в ней видит только то, что хочет…» (А. Тесковой, 16 октября 1932 г.). В этом порыве отца поддерживают повзрослевшая дочь и даже маленький сын.
Цветаева колеблется. Тоска по родине остается постоянной на протяжении всех ее эмигрантских лет. Ей посвящено множество строк, в том числе стихотворение-парадокс. Автор уговаривает себя в устарелости этого чувства («Тоска по родине! Давно / Разоблаченная морока! / Мне совершенно все равно – / Где – совершенно одинокой / Быть…»), приводит все новые и новые аргументы, но заканчивает таким его утверждением, для которого просто не хватает слов:
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, И все – равно, и все – едино. Но если по дороге – куст Встает, особенно – рябина… («Тоска по родине! Давно…», 3 мая 1934)В религиозной философии такие утверждения называют апофатическими, в них «отрицания указывают на присутствие Неизреченного, Неограниченного, абсолютной Полноты» (В. Н. Лосский «Мистическое богословие», 1944). Простой куст рябины становится для Цветаевой глубочайшим воплощением Родины. Многоточие заменяет здесь обрывающееся дыхание, крик или рыдание.
Рябина вообще была для Цветаевой интимным, личным символом, проходящим через все ее творчество. Об этом сказано еще в одном из ранних стихотворений, входящих в цикл «Стихи о Москве»:
Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья, Я родилась. Спорили сотни Колоколов. День был субботний: Иоанн Богослов. Мне и доныне Хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть. («Стихи о Москве», 9, 16 августа 1916)Но в то же время Цветаева понимает, что вернуться придется не только в страну с другим названием, но и в другое время.
С фонарем обшарьте Весь подлунный свет! Той страны на карте — Нет, в пространстве – нет. <…> Той, где на монетах — Молодость моя, Той России – нету. Как и той меня. («Страна», конец июня 1931)Цветаева может, воодушевившись, написать гимн официальным советским героям и зарифмовать газетные лозунги:
Сегодня – смеюсь! Сегодня – да здравствует Советский Союз! За вас каждым мускулом Держусь – и горжусь: Челюскинцы – русские! («Челюскинцы! Звук…», 3 октября 1934)Но чуть раньше она пишет «Стихи к сыну», где, привычно перебирая и ощупывая слова, договаривается до пророчества.
Да не поклонимся словам! Русь – прадедам, Россия – нам, Вам – просветители пещер — Призывное: СССР, — Не менее во тьме небес Призывное, чем: SOS. Нас родина не позовет! Езжай, мой сын, домой – вперед — В свой край, в свой век, в свой час, – от нас — В Россию – вас, в Россию – масс, В наш-час – страну! в сей-час – страну! В на-Марс – страну! в без-нас – страну! («Стихи к сыну», январь 1932)В «Стихах к Чехии» реакция на исторические катаклизмы (фашисты оккупировали любимую страну, вот-вот начнется мировая война) соединяется с ощущением личной безысходности:
О слезы на глазах! Плач гнева и любви! О Чехия в слезах! Испания в крови! О черная гора, Затмившая – весь свет! Пора – пора – пора Творцу вернуть билет. Отказываюсь – быть. В Бедламе нелюдей Отказываюсь – жить. С волками площадей Отказываюсь – выть. С акулами равнин Отказываюсь плыть — Вниз – по теченью спин. Не надо мне ни дыр Ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир Ответ один – отказ. («Стихи к Чехии», 8, 15 марта – 11 мая 1939)Цветаева еще славила челюскинцев как русских людей, но уже понимала, что ее России – нет. Она была готова «Творцу вернуть билет» (это цитата из «Братьев Карамазовых» Достоевского), но еще не знала, что это возвращение произойдет так скоро и будет таким страшным.
Финал оказался скоротечен и трагичен. Катастрофы следовали одна за другой. Родина стала без-них страной для всей цветаевской семьи.
Первой в страшном 1937 году уехала в СССР Ариадна Эфрон. Через несколько месяцев, замешанный в политическом убийстве, бежал из Франции С. Я. Эфрон. Когда в июне 1939 года на родину отправилась и Цветаева с сыном, ее не провожал никто.
Семья воссоединилась в подмосковном поселке Болшево. Но уже в августе была арестована А. С. Эфрон, в октябре – С. Я. Эфрон. Хлопоты Цветаевой и ее немногих друзей были безуспешными. Она занимается переводами, снимает углы и комнаты в Подмосковье и Москве. Сборник ее оригинальных стихов публиковать отказались.
В августе 1941 года, после начала войны, она вместе с другими писателями была эвакуирована в Елабугу, городок в Татарии на Каме. Поиски работы были безуспешными: без ответа осталось даже заявление Цветаевой о приеме на работу посудомойкой в писательскую столовую.
Когда-то она завершила ответы на вопросы анкеты ироничной и гордой фразой: «Жизнь – вокзал, скоро уеду, куда – не скажу». 31 августа 1941 года, оставшись в одиночестве в деревенском доме, М. И. Цветаева покончила с собой. Ее могила вскоре затерялась на елабужском кладбище.
Цветаева думала, что уходом спасает сына, поручая его заботам знакомых писателей. Однако Мур ненадолго пережил мать: так и не окончив школу, он успел немного поучиться в Литературном институте, но вскоре оказался на фронте и в 1944 году погиб при неясных обстоятельствах. С. Я. Эфрон был расстрелян после начала войны, о чем Цветаева так и не узнала. Из всей семьи выжить удалось лишь А. С. Эфрон: через много лет она вернулась из заключения, посвятив себя сохранению наследия матери, изданию книг, собиранию материалов, написанию воспоминаний.
«Горька судьба поэтов всех времен, / Тяжелее всех судьба казнит Россию», – вздохнул когда-то ссыльный декабрист В. К. Кюхельбекер, вспоминая о своих современниках – Рылееве, Грибоедове, Пушкине, Лермонтове («Участь русских поэтов», 1845). Двадцатый век подтвердил эту закономерность.
Судьба М. И. Цветаевой оказалась одной из самых трагических в трагическом веке. Она продолжила ряд великих поэтов, вернувших Творцу билет, и другой ряд – поэтов, могилы которых неизвестны.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Цветаевой
ГОЛОС: БЕЗМЕРНОСТЬ В МИРЕ МЕР
Мы уже говорили, что М. И. Цветаева в наибольшей степени унаследовала представление о поэте, о творчестве, характерное для романтической эпохи.
Поэт – высшее воплощение человеческой натуры. «Поэт – прежде всего – СТРОЙ ДУШИ!» (Запись 1921 г.) Он наделен Божьим Даром, который отличает его от обычных людей, Он противостоит быту и стремится ввысь, вперед, к какому-то иному бытию. Он подчиняется только вдохновению, стихии, а не земным властям, ожиданиям читателей и критиков. Ежеминутно ощущая свою чуждость миру, он в то же время приносит ему свои дары, оценить которые способно только будущее.
«Путь комет – поэтов путь», – восклицает Цветаева в первом стихотворении цикла «Поэты» (8 апреля 1923). А в последнем, третьем стихотворении того же цикла по-своему формулирует непримиримость поэта и толпы, «певца» и «мира».
Что же мне делать, певцу и первенцу, В мире, где наичернейший – сер! Где вдохновение хранят, как в термосе! С этой безмерностью В мире мер?! («Что же мне делать, слепцу и пасынку…», 22 апреля 1923)Тема поэта и поэзии занимает в творчестве Цветаевой исключительное место. Никто так много не писал о творчестве и о своих современниках и предшественниках как в прозе, так и в стихах. Цветаева выпускает целую книгу (правда, небольшую) «Стихи к Блоку» (1922), пишет циклы «Стихи к Ахматовой» (1916), «Стихи к Пушкину» (1931), посвящает стихи Мандельштаму, Пастернаку, Маяковскому, Есенину, М. Волошину, французскому поэту конца XVIII века Андре Шенье, воспевает письменный стол («Стол», 1933–1935), Музу и другие атрибуты поэтического ремесла («Ремесло», 1922, – заглавие одной из ее книг).
Находя для каждого индивидуальное определение (Блок – нежный призрак, рыцарь без укоризны; Ахматова – муза плача; Маяковский – архангел-тяжелоступ, певец площадных чудес), Цветаева одновременно включает их в высокий круг, сонм настоящих поэтов, где вместе с ними оказываются и скромный эмигрант Н. П. Гронский, и погибший на эшафоте французский поклонник монархии А. Шенье.
В стихах и прозе Цветаева создает образ подлинного братства, где все настоящие творцы, великие и малые (но подлинные), далекие и близкие перекликаются, аукаются, делают общее дело.
Адресаты посвящений далеко не всегда отвечали Цветаевой взаимностью. «Там жили поэты, – и каждый встречал / Другого надменной улыбкой» (А. Блок. «Поэты», 24 июля 1908). В цветаевских стихах А. А. Ахматову, например, смущали экзальтированность и дисгармоничность, воспринимаемые как безвкусица. Расположение к Маяковскому, которое привело Цветаеву к разрыву со многими эмигрантами, тоже не сопровождалось ответным дружеским жестом: поэт Революции упрекал ее в классовой чуждости.
Романтическая безудержность и беспредельность в отношении к миру вызывали отчуждение как в быту, так и в цветаевском поэтическом поведении. Но они были свойством цветаевского таланта, цветаевского дара. Любую затронутую тему она выводит за пределы обыденности, превращает в грандиозную гиперболу.
Любимая Москва – не город, а град: дивный, мирный, нерукотворный, огромный странноприемный дом; вокруг него – облака и червонные купола: их звон – гром и прибой, Иверская часовня – звездный золотой ларчик («Стихи о Москве», 1916).
В одном из последних стихотворений «Лебединого стана» плач Ярославны слышится через столетия, теперь она рыдает по погибшим участникам белого похода:
Вопль стародавний, Плач Ярославны — Слышите? С башенной вышечки Неперерывный Вопль – неизбывный: – Игорь мой! Князь Игорь мой! Князь Игорь! («Плач Ярославны», 5 января 1921)Любовь тоже воспринимается лирической героиней как событие, происходящее на глазах всего мира, в котором участвует природа, которая вписывается в мироздание.
«С этой горы, как с крыши / Мира, где в небо спуск. / Друг, я люблю тебя свыше / Мер – и чувств» (С этой горы, как с крыши…», 30 августа 1923). – «На льдине – / Любимый, / На мине – / Любимый/ На льдине, в Гвиане, в Геенне – любимый!» («Стихи сироте», 4, 5–8 сентября 1936).
На сопоставлении, рифме любви с природными стихиями, выраженном в традициях народной песни, с помощью синтаксического параллелизма, строится одно из лучших цветаевских стихотворений.
Мировое началось во мгле кочевье: Это бродят по ночной земле – деревья, Это бродят золотым вином – грозди, Это странствуют из дома в дом – звезды, Это реки начинают путь – вспять! И мне хочется к тебе на грудь – спать. («Мировое началось во мгле кочевье…», 14 января 1917)Такова счастливая любовь. Но и равнодушие любимого мгновенно превращается во вселенскую катастрофу, которая настигает всех женщин земли:
Вчера еще в глаза глядел, А нынче – все косится в сторону! Вчера еще до птиц сидел, — Все жаворонки нынче – вороны! Я глупая, а ты умен, Живой, а я остолбенелая. О вопль женщин всех времен: «Мой милый, что тебе я сделала?!» («Вчера еще в глаза глядел…», 14 июня 1920)Обычный пейзаж, композиционно развертываясь в стихотворении, тоже часто разрастается у Цветаевой до космических масштабов.
Бузина цельный сад залила! Бузина зелена, зелена, Зеленее, чем плесень на чане! Зелена, значит, лето в начале! Синева – до скончания дней! Бузина моих глаз зеленей! —начинает поэт позднее стихотворение, работа над которым заняла четыре с половиной года. Вдруг бузина меняет цвет и превращается в мелкие бусы цвета запекшейся крови. Потом ее казнят и она становится черной и одинокой («Возле дома, который пуст, / Одинокий бузинный куст»). Наконец, в последней строфе, поэтическая мысль делает очередной скачок и бузина превращается в один из символов века – непреодолимую стену между людьми.
Бузина багрова, багрова! Бузина – целый край забрала В лапы. Детство мое у власти. Нечто вроде преступной страсти, Бузина, меж тобой и мной. Я бы века болезнь – бузиной Назвала… («Бузина», 11 сентября 1931 – 21 мая 1935)От приметы весеннего пейзажа – до пугающего символа, от сада – к миру – таков в этом стихотворении путь обыкновенного кустарника.
Главной своей работой в 1920-е годы Цветаева считает поэмы. Даже заглавия большинства из них обобщенны, масштабны, связаны со стихиями и символами: «Попытка комнаты», «Лестница», «С моря», «На красном коне», «Поэма Воздуха», «Поэма Горы», «Поэма конца».
И в гражданских, и в личных темах Цветаева исповедует единый поэтический принцип: грандиозности, безмерности, беспредельности. Для ее поэзии характерна разговорная интонация, переходящая в интонацию ораторскую. Не случайно она ощущала родство со столь же громогласным Маяковским.
Превыше крестов и труб, Крещенный в огне и дыме, Архангел – тяжелоступ — Здорово, в веках Владимир! («Маяковскому», 18 сентября 1921)Любовь к мужчине, родине, поэзии Цветаева доводит до предела, испытывает на излом. Она – поэт восклицательных знаков, форсированного голоса, крика, стона. Поэтический голос Цветаевой, говорил И. А. Бродский, был голосом трагедии.
ПУТЬ: ПОЭТИКА БЫТА И ПОЭТИКА СЛОВА
Но к подобной манере и такой картине мира Цветаева пришла не сразу. «Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки. Творчество – преемственность и постепенность. <…> Хронология – ключ к пониманию», – афористично сформулировала она в одной из статей («Поэт о критике», 1926). Ее ранние, юношеские стихи более спокойны, гармоничны, связаны не с говорным, а с напевным стихом. В 1913 году, издавая лучшие стихи из двух первых книг под одной обложкой, Цветаева сопровождает их программным предисловием, своеобразным стихотворением в прозе, которое определяет ее творческие задачи.
«Все это было. Мои стихи – дневник. Моя поэзия – поэзия собственных имен.
Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым:
Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! <…>
Не презирайте „внешнего“! Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана – не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы?..
Цвет ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце – все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души» (Предисловие к сборнику «Из двух книг», 1913).
Призыв запечатлевать разнообразные подробности бытия напоминает одновременно появившиеся манифесты акмеистов. Но психологическая выделенность вещей в поэзии Ахматовой или культурный контекст, в котором появляются вещи у Мандельштама, размываются потоком цветаевской страстности. На первом плане в цветаевских стихах оказывается все-таки не мир, а лирическая героиня. Дневник (личное повествование) для поэзии Цветаевой важнее, чем летопись (рассказ о событиях общезначимых). Описывая счастливые, милые подробности девичьей жизни, Цветаева одновременно создает ощущение драматизма бытия, связанного с вечными темами – одиночества, любви, времени, смерти.
Звенят-поют, забвению мешая, В моей душе слова: «пятнадцать лет». О, для чего я выросла большая? Спасенья нет! («Пятнадцать лет») Я сегодня всю ночь не усну От волшебного майского гула! Я тихонько чулки натянула И скользнула к окну. Я – мятежница с вихрем в крови, Признаю только холод и страсть я. Я читала Бурже: нету счастья Вне любви! («Я сегодня всю ночь не усну…»)В лирическом дневнике Цветаева не просто фиксирует жизнь, но размышляет о ней. Ее стихи, как правило, стремятся к четкой формулировке, афоризму, венчающему строфу или все произведение.
Через много лет Цветаева вспоминала разговор с близким к акмеистам поэтом М. А. Кузминым. «Ведь все ради этой строки написано?» – спрашивает она, процитировав одно из стихотворений Кузмина. «Как всякие стихи – ради последней строки». – «Которая приходит первой». – «О, вы и это знаете!» («Нездешний вечер», 1936).
День был невинен, и ветер был свеж. Темные звезды погасли. – Бабушка! Этот жестокий мятеж В сердце моем – не от Вас ли?.. («Бабушке», 4 сентября 1914) О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты Закон звезды и формула цветка. («Стихи растут, как звезды и как розы…», 14 августа 1918) Предстало нам – всей площади широкой! — Святое сердце Александра Блока («Стихи к Блоку», 9, 9 мая 1920)Финальных афоризмов много в ранних стихах Цветаевой. В послереволюционное время, во время работы над «Лебединым станом», в ее поэтике происходят важные изменения. «День лирического дневника сжимается до момента, впечатление – до образа, мысль – до символа, и этот центральный образ начинает развертываться не динамически, а статически, не развиваться, а уточняться» (М. Л. Гаспаров. «Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова», 1982).
Подобные изменения, продолжает анализ М. Л. Гаспаров, резко меняют и саму структуру, построение стиха: «Ранние стихи Цветаевой, закругленные концовками, – писались с конца, начало подгонялось под конец… <…> Зрелые стихи Цветаевой не имеют ни концовок, ни даже концов, они начинаются с начала: заглавие дает центральный, мучащий поэта образ (например, „Наклон“), первая строка вводит в него, а затем начинается нанизывание уточнений и обрывается в бесконечность».
Действительно, в уже цитированном стихотворении «Маяковскому», сравнив в первой строфе поэта с архангелом-тяжелоступом, Цветаева продолжает нанизывать сходные метафорические определения: «он возчик и он же конь, он прихоть и он же право», «певец площадных чудес», «гордец чумазый». Завершается этот метафорический ряд оксюморонным соединением прежних определений: «Здорово, булыжный гром! / Зевнул, козырнул – и снова / Оглоблей гребет – крылом / Архангела ломового». Поэт оказывается одновременно архангелом и ломовой лошадью, его крыло – одновременно веслом и оглоблей.
Цветаева поэтически весело и радостно играет с миром, видя в нем все новые и новые метафорические подобия поэту. Причем эти метафоры не случайны, а точны, они передают суть поэзии Маяковского: городскую тематику, тяжеловесность и живописность, соединение земного и небесного.
В первом стихотворении цикла «Стихи к Блоку» (всего в него входит около двадцати текстов) метафорический ряд меняется.
Имя твое – птица в руке, Имя твое – льдинка на языке, Одно единственное движенье губ, Имя твое – пять букв. Мячик, пойманный на лету, Серебряный бубенец во рту, Камень, кинутый в тихий пруд, Всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт Громкое имя твое гремит. И назовет его нам в висок Звонко щелкающий курок. Имя твое – ах, нельзя! — Имя твое – поцелуй в глаза, В нежную стужу недвижных век, Имя твое – поцелуй в снег. Ключевой, ледяной, голубой глоток… С именем твоим – сон глубок. («Стихи к Блоку», 1, 15 апреля 1916)Блоковские образы холода (льдинка, снег, ледяной глоток, нежная стужа), бешеной скачки (серебряный бубенец, легкое щелканье ночных копыт), любовного свидания (поцелуй в глаза, поцелуй в снег) растворяются в тексте Цветаевой, создавая в совокупности – уже совсем иной, чем в стихах Маяковскому, – образ поэтического мира.
В этюде из двух стихотворений «Молодость» (18–20 ноября 1921) сохраняется принцип «нанизывания уточнений», но сами уточнения опять приобретают иной эмоциональный смысл в соответствии с заявленной темой прощания с молодостью. Молодость здесь «сапожок непарный», «ноша и обуза», «морока», «лоскуток кумашный» (кумачовый, красный), «голубка смуглая», «шалая», «золотце мое». В этом стихотворении перебор определений не обрывается и не уходит в бесконечность, а увенчивается характерным для ранней Цветаевой афоризмом-парадоксом:
Неспроста руки твоей касаюсь, Как с любовником с тобой прощаюсь. Вырванная из грудных глубин — Молодость моя! – Иди к другим!Однако в других стихотворениях «уточнение» имеет иной характер: Цветаева ищет подобия центральному понятию, теме уже не в мире, а в языке. Поэтика быта превращается в поэтику слова.
Посмотрим, как развивается поэтическая мысль в стихотворении «Рас – стояние: версты, мили…» (24 марта 1925). Уже в первом стихе заявлен иной принцип варьирования. Слово-тема разделено, разрублено, для того чтобы пристальнее всмотреться в него, увидеть в нем новые смыслы:
Рас – стояние: версты, мили… Нас рас – ставили, рас – садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли.И дальше Цветаева вспоминает все новые начинающиеся с той же приставки глаголы, всякий раз обнаруживая в них близкий волнующей ее теме смысл: «нас расклеили, распаяли», «не рассорили – рассорили, расслоили», «расселили», «не расстроили – растеряли», «рассовали», «разбили».
Мотив расставания, невозможности общения близких людей последовательно проводится через все стихотворение. Переклички, звуковые метафоры превращают разные слова в своеобразный синонимический ряд: расставили – рассадили – расклеили – распаяли – рассорили – расслоили – расселили – растеряли – разбили.
Подобными звуковыми метафорами Цветаева завершает уже цитированные «Стихи к сыну»: «В наш-час – страну! в сейчас – страну! / В на-Марс – страну! в без-нас – страну!»
Ранние стихи Цветаевой своей предметностью были похожи на акмеистские. Словесная, филологическая игра в поздних стихотворениях напоминает футуристов. Однако поэт не упивается заумью (как Крученых), а превращает в смысл даже фонетику и грамматику (как Хлебников и Маяковский).
Но, любившая Пушкина больше всех других поэтов, Цветаева и в юности и позднее знала прелесть простого слова, прямо и точно выраженного чувства (простые слова, «автологическая лирика» – самое сложное, высший пилотаж в поэзии: здесь глубина, естественность эмоции не заслоняется тропами и фигурами).
Вот опять окно, Где опять не спят. Может – пьют вино, Может – так сидят. Или просто – рук Не разнимут двое. В каждом доме, друг, Есть окно такое. («Бессонница», 10, 23 декабря 1916) Рябину Рубили Зорькою. Рябина — Судьбина Горькая. Рябина — Седыми Спусками… Рябина! Судьбина Русская. («Рябину…», 1934)В этом коротком стихотворении (всего двенадцать слов, каждое из них выделено в стих) едва ли не каждое слово перекликается с другими. Бытовая картинка (рубят куст рябины) становится для поэта символом ее собственной судьбы (рябина, как мы уже говорили, была «личным» деревом поэта), человеческой «судьбины горькой» и всей «судьбины русской».
Меняясь, Цветаева сохраняла основы романтического мировоззрения, его противопоставление искусству и жизни. Искусство было для поэта и оправданием жизни, и защитой от нее: «Я не люблю жизни как таковой, – признавалась она чешской подруге, – для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес – только преображенная, т. е. в искусстве. Если бы меня взяли за океан – в рай – и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая» (А. А. Тесковой, 25 декабря 1925 г.).
Цветаева начинала с поэтизации быта. Когда же быт оказался таким, что его стало невозможно поэтизировать, она отказалась от жизни.
Пора снимать янтарь, Пора менять словарь, Пора гасить фонарь Наддверный… («Пора снимать янтарь…», февраль 1941)Четверостишие-набросок – одно из последних, написанных М. И. Цветаевой в любимой и неприветливой Москве. Дальше были война, эвакуация, Елабуга, ощущение безвыходности и «возвращение билета» Творцу.
Борис Леонидович ПАСТЕРНАК (1890–1960)
ВЕЧНОЕ ДЕТСТВО: ВЫБОР СУДЬБЫ
За то, что дым сравнил с Лаокооном, Кладбищенский воспел чертополох, За то, что мир наполнил новым звоном В пространстве новом отраженных строф, Он награжден каким-то вечным детством, Той щедростью и зоркостью светил, И вся земля была его наследством, А он ее со всеми разделил. («Поэт», 19 января 1936)Стихи А. А. Ахматовой называются «Поэт», но имеют в виду не обобщенный образ, а вполне конкретного ее современника. Ахматова отмечает необычность, смелость тропов (сравнение дыма с Лаокооном), оригинальную интонацию стиха (новый звон) и связывает их с личностью поэта (вечное детство). В быту такое свойство называют инфантильностью и оценивают отрицательно. Но для Поэта оно было принципиальным и звучало совсем в ином контексте. «Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. <…> Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, – дело наших сердец, пока мы дети» («Охранная грамота», ч. 1, гл. 2, 1931).
Он был награжден вечным детством, чтобы стать поэтом.
Борис Леонидович Пастернак родился 29 января (10 февраля) 1890 года в Москве в семье художника Л. О. Пастернака. Отец Пастернака был близко связан с передвижниками, преподавал в Академии художеств, занимался не только живописью, но и рисунком, книжной графикой. Наиболее известной его работой стали иллюстрации к роману Л. Н. Толстого «Воскресение», во время работы над которыми художник часто встречался с писателем. В «автобиографическом очерке», подводящем жизненные итоги, Пастернак вспоминал ночь, когда он вдруг проснулся «от сладкой и щемящей муки», закричал и заплакал «от тоски и страха», был вынесен матерью из детской в гостиную и увидел там старика, образ которого потом «прошел через всю мою жизнь».
«Эта ночь, – заключает Пастернак, – межевою вехой пролегла между беспамятством младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого» («Люди и положения», гл. «Младенчество», 1956–1957).
Реальная сцена приобретает в изложении поэта символический характер. У кроватки четырехлетнего ребенка оказались не только родители, но и Л. Толстой. «Боренька знал, когда проснуться», – любовно-иронически комментировала этот эпизод А. А. Ахматова.
В насыщенной культурным кислородом атмосфере обращение к творческой профессии было неизбежно. Но ее поиск и выбор оказался для Пастернака довольно долгим и мучительным, внешне – движением от одной случайности к другой.
Естественно, он с детства много рисовал, к чему отец относился спокойно, не мешая сыну, но и особенно не поддерживая его: «Если человеку дано быть художником, его хоть палкой бей, а он им станет».
В 1903 году дачным соседом семейства Пастернаков оказалась еще одна знаменитость, композитор-модернист А. Н. Скрябин (1871/72 – 1915), который во время частых прогулок «спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловечество, аморализм, ницшеанство». Новый кумир заслонил прежние привязанности. «Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. <…> Под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. <…> Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты…» («Люди и положения», гл. «Скрябин»).
Все оставшиеся гимназические годы (1903–1908) Пастернак упорно занимается музыкой, но отсутствие абсолютного слуха и недостаточные технические навыки (свойства отнюдь не обязательные для профессионального композитора) заставляют Пастернака думать, что «моя музыка неугодна судьбе и небу». Из сложной ситуации был найден самый радикальный выход. «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал из себя, как расстаются с самым драгоценным».
В университет Пастернак поступает уже на философский факультет, предполагая найти в «любомудрии» новое призвание. «Философией я занимался с основательным увлеченьем, предполагая где-то в ее близости зачатки будущего приложения к делу» («Охранная грамота», ч. 1, гл. 7). Целый семестр он проводит в Германии, со времен Гегеля и Канта считавшейся философским центром Европы, в старинном университете города Марбурга, где когда-то учился Ломоносов. Профессор Герман Коген, последователь Канта, «гениальный» (определение Пастернака) философ, интересовался его планами и советовал обосноваться на Западе.
Но в это время недоучившийся философ уже «основательно занялся стихописаньем» и пережил страстную и несчастную любовь. Он уезжает из Марбурга, решив снова резко изменить жизненные планы. «Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия!» Памятью о городе остались не только мемуарные страницы, но и стихотворение «Марбург» (1916, 1928), которое Пастернак многократно редактировал, возвращаясь к нему всю жизнь.
Последние университетские экзамены были сданы в мае 1913 года. Ощущения человека, с порога университета вступающего в неизвестную, пугающую жизнь, через много лет Пастернак передаст герою неоконченной «Повести» (1929): «Много-много чего оказалось вдруг за плечами у Сережи, когда с последнего благополучно сданного экзамена он, точно без шапки, вышел на улицу и, оглушенный случившимся, взволнованно осмотрелся кругом. <…> Сережа оглянулся. За оградой, в одном из серейших и самых слабостойных фасадов, праздно и каникулярно тяжелела дверь, только что тихо затворившаяся за двенадцатью школьными годами. Именно в эту минуту ее замуровали, и теперь навсегда».
Пастернак так и не забрал в университетской канцелярии диплом кандидата философии. Накануне экзаменов, в альманахе «Лирика», были опубликованы его первые стихи. Так что экзамены сдавал не будущий философ, а наконец выбравший свою судьбу начинающий поэт.
В начале 1910-х годов, как мы помним, символизм претерпевает кризис, и молодые поэты выбирают новые пути, создают новые литературные группы. «Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм», – вспоминала А. А. Ахматова.
Волею судьбы Пастернак «уходит» в футуризм, однако не в его петербургский эго-вариант, где царил «гений Игорь Северянин», и даже не в шумную московскую эго-группу, главными фигурами которой были Хлебников и Маяковский. В 1914 году Пастернак вместе с молодыми поэтами С. П. Бобровым, H. Н. Асеевым и другими образует группу «Центрифуга». Позднее он вспоминал о своем футуристском начале с сожалением: «Нарожденье „Центрифуги“ сопровождалось… нескончаемыми скандалами. Всю зиму <1914 г.> я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью» («Охранная грамота», ч. 3, гл. 3).
Вкусы поэта были очень далеки от футуристских лозунгов. Пастернак не разделял будетлянских идей «слова как такового», нигилистского отношения к традиции, и, напротив, восторженного отношения к машине. Его интересовали не будущее, а настоящее, не слово, а предмет, не заумь, а смысл. «Моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтою было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. <…> Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался весь Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал», – говорил Пастернак еще позднее («Люди и положения», гл. «Перед Первой мировой войною»).
Такая установка, конечно, больше похожа на характерные для акмеизма предметность, вещизм. Не случайно спутником-соперником Пастернака в поэзии на долгие годы станет А. А. Ахматова. В посвященном ей стихотворении Пастернак заметит в ее первых книгах прозы пристальной крупицы («Анне Ахматовой», 1929), а в стихотворении-послесловии к своей главной книге «Сестра моя – жизнь» он откроет всесильного бога деталей («Давай ронять слова…», 1917).
Поход Пастернака в футуризм был, в общем, случайным, но там он столкнулся с поэтом, заставившим его в очередной раз задуматься о своем пути и уточнить ориентиры, теперь уже в поэзии.
Летом 1914 года на одной из враждебных встреч, где выяснялось, кто более футуристичен, Пастернак познакомился с Маяковским и на следующий день на московском бульваре услышал в авторском чтении трагедию «Владимир Маяковский». Этот день, как и «толстовскую» ночь, Пастернак запомнил на всю жизнь. «Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. <…> Если бы я был моложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз» («Охранная грамота», ч. 3, гл. 11).
Результатом сознательного ухода от «совпадений» с Маяковским стала «неромантическая поэтика» второго сборника Пастернака «Поверх барьеров» (1917). В год, когда этот сборник появился, почти полностью была создана книга, которую не мог бы написать уже никто, – «Сестра моя – жизнь».
В книге, построенной, подобно ахматовским сборникам, как лирический роман, драматическая история любви (реальная девушка, которой посвящены стихи, вышла замуж за другого) превращается в грандиозное, космическое событие. Исторические революции, которыми начинался и закончился 1917 год, растворяются в стихийных митингах природы, становятся частью революции в мироздании. «Заразительная всеобщность… стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным» («Люди и положения», гл. «Сестра моя – жизнь»).
Создавшему эту замечательную метафору поэту (она используется и в романе «Доктор Живаго») предстояло жить и в реальной истории Настоящего Двадцатого Века.
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ: ВАКАНСИЯ ПОЭТА
Переломившая жизнь страны русская революция оказалась рубежом для всех ее граждан. Вопрос «принимать или не принимать?» встал перед всеми, но особенно остро – перед интеллигентами, людьми культуры, писателями, которые не могли промолчать, но неизбежно должны были выявить свое отношение в творчестве, в слове. Пастернак принял революцию, тоже, как Блок или Маяковский, услышал ее музыку. Но свойства характера и обстоятельства (юношеская травма избавила его от необходимости военной службы во время мировой войны и революции) сделали его не участником, а заинтересованным свидетелем, наблюдателем событий.
В конце 1917 года Пастернак возвращается в Москву с пермского завода, где два года проработал конторщиком, и переживает в городе все «прелести» послереволюционной разрухи. «Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева < 29-томную «Историю России с древнейших времен» историка С. М. Соловьева> – „потому что в доме совсем нет хлеба“. – „А сколько у Вас выходит хлеба в день?“ – „5 фунтов“. – „А у меня 3“. – „Пишете?“ – „Да (или нет, не важно)“. – „Прощайте“. – „Прощайте”», – вспоминала только что уехавшая за границу М. И. Цветаева встречу с Пастернаком в письме к нему (29 июня 1922 г.). И потом словно подводила итог, давала конспект этой встречи: «Книги. – Хлеб. – Человек».
В лихие времена человеку помнятся, его радуют и спасают самые простые вещи: книги, хлеб, другой человек. В отличие, например, от Блока Пастернак переживает бытовые трудности легко, с весельем и отвагой: он моложе на десятилетие, он слышит новую музыку, которую уже не воспринимает автор «Двенадцати». «А ужасная зима была здесь в Москве, – рассказывает он одному из знакомых о зиме 1920 года. – Открылась она так. Жильцов из нижней квартиры погнал Изобразительный отдел вон; нас, в уваженье к отцу и ко мне, пощадили, выселять не стали. Вот мы и уступили им полквартиры, уплотнились. Очень, очень рано, неожиданно рано выпал снег, в начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч. К. по соседству. Так постепенно сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. – Видите, вот и я – советский стал. Я к таким ужасам готовился, что год мне, против ожиданий, показался сносным и даже счастливым – он протек „еще на земле“, вот в чем счастье» (Д. И. Петровскому, 6 апреля 1920 г.).
В следующем году отец Пастернака вместе с женой и двумя дочерьми получил разрешение на командировку в Германию. В Россию он больше не вернулся. Пастернак после уплотнения на много лет остался жильцом единственной комнаты в отцовской квартире, бывшей когда-то мастерской.
В 1922 году он и сам получает разрешение на поездку за границу, вновь посещает Марбург, переиздает в Берлине вышедшую сначала в Москве книгу «Сестра моя – жизнь». В обзоре мэтра символизма В. Я. Брюсова он вместе с Маяковским упоминается в числе поэтов-футуристов, значение которых выходит далеко за пределы одной школы: «Стихи Пастернака удостоились чести, не выпадавшей стихотворным произведениям (исключая те, что запрещались царской цензурой) приблизительно с эпохи Пушкина: они распространялись в списках. Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии. Стихи Б. Пастернака сразу производят впечатление чего-то свежего, еще небывалого: у него всегда своеобразный подход к теме, умение все видеть по-своему» («Вчера, сегодня и завтра русской поэзии», 1922).
В это же время Пастернак пишет стихотворение (первоначальное его заглавие – «Поэты»), в котором создает образ маленькой группы, горстки единомышленников, несущихся куда-то в неизвестное будущее по бушующей стране:
Нас мало. Нас, может быть, трое Донецких, горючих и адских Под серой бегущей корою Дождей, облаков и солдатских Советов, стихов и дискуссий О транспорте и об искусстве. Мы были людьми. Мы эпохи. Нас сбило и мчит в караване, Как тундру, под тендера вздохи И поршней и шпал порыванье. Слетимся, ворвемся и тронем, Закружимся вихрем вороньим И – мимо! Вы поздно поймете. Так, утром ударивши в ворох Соломы, – с момент на намете — След ветра живет в разговорах Идущего бурно собранья Деревьев над кровельной дранью. («Нас мало. Нас, может быть, трое…», 1921)Множество конкретных деталей, природных и исторических, объединены в три строфы-периода, ритмически все более быстрые, динамичные. Увенчивается это лихорадочное движение образом-кентавром, объединяющим вечную природу и революционную историю: бурное собрание деревьев над крышей деревенского дома.
Под загадочной птицей-тройкой Пастернак подразумевал Маяковского, себя, и H. Н. Асеева. Но через несколько лет он изменил или расширил состав группы, послав М. И. Цветаевой книгу «Темы и вариации» (1923), в которую было включено это стихотворение, с надписью: «Несравненному поэту Марине Цветаевой, „донецкой, горючей и адской…”».
В 1931 году стихотворение, обращенное к Б. Пильняку, Пастернак заканчивает сразу всем запомнившимся афоризмом:
Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста.Его объяснение предложил сам поэт: «Смысл строчки „Она опасна, если не пустаи – она опасна, когда не пустует (когда занята)».
Опасность поэтической вакансии, вероятно, можно понимать двояко. Поэт опасен для власти: он может истину с улыбкой говорить, как царям, так и генеральным секретарям. Но эта истина, выраженная в слове, может быть опасна уже для него самого, что подтвердили судьбы современников Пастернака.
Сразу после смерти Маяковского вакансию первого поэта советской эпохи пытаются передать именно Пастернаку. На Первом съезде советских писателей (1934) его высоко оценивает в «установочном» докладе Н. И. Бухарин, он сидит в президиуме рядом с М. Горьким и тоже произносит речь. На антифашистский конгресс в Париже (1935) его посылают по просьбе зарубежных писателей и по правительственному указанию: Пастернак и И. Э. Бабель были самыми известными в Европе писателями СССР.
С одной стороны, поэт тяготится подобной жизнью: «Я человек несвободный, нештатский. Я – частица государства, солдат немногочисленной армии…» – признается он живущей за границей знакомой (Р. Н. Ломоносовой, 7 июня 1926 г.). С другой – как честно выполняющий свой долг солдат, он принимает социальный заказ, но по-иному, чем Маяковский, всегда наполняя его глубоко индивидуальным, личным содержанием.
Во второй половине 1920-х годов Пастернак сочиняет две поэмы на исторические сюжеты, приуроченные к десятилетию Октябрьской революции: «Девятьсот пятый год» (1926) и «Лейтенант Шмидт» (1927). Лирическим центром первой оказываются главы «Отцы» и «Детство»: «Повесть наших отцов, / Точно повесть / Из века Стюартов, / Отдаленней, чем Пушкин, / И видится / Точно во сне». (В этой поэме Пастернак и сравнил клубы дыма с Лаокооном: именно сравнение, а не тема так понравилось и запомнилось А. А. Ахматовой.)
Описание моря в главе «Морской мятеж» оказалось настолько мощным, что заслонило картину московского вооруженного восстания в главе «Москва в декабре».
Приедается все, Лишь тебе не дано примелькаться. Дни проходят, И годы проходят И тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, Прячась В белую пряность акаций, Может, ты-то их, Море, И сводишь, и сводишь на нет. Ты на куче сетей. Ты курлычешь, Как ключ, балагуря, И, как прядь за ушком, Чуть щекочет струя за кормой. Ты в гостях у детей. Но какою неслыханной бурей Отзываешься ты, Когда даль тебя кличет домой!Это – один из лучших морских пейзажей в русской поэзии.
Во второй поэме образ идеального героя, борца и правдолюбца Шмидта, оказался не столько объективным изображением, сколько маской лирического героя, самого Пастернака.
В поэме «Высокая болезнь» (1924, 1928) Пастернак, как и Маяковский, обращается к образу Ленина, но рисует его портрет не в монументально-плакатной манере Маяковского, а в человеческом измерении, в потоке больших и малых подробностей психологической противоречивости и загадочности. Это изображение опиралось на личные впечатления: в декабре 1921 года Пастернак присутствовал на IX съезде Советов, где Ленин выступал с докладом. В январе 1924 года Пастернак вместе с Мандельштамом в похоронной очереди прошел мимо ленинского гроба.
Чем мне закончить мой отрывок? Я помню, говорок его Пронзил мне искрами загривок, Как шорох молньи шаровой. Все встали с мест, глазами втуне Обшаривая крайний стол, Как вдруг он вырос на трибуне И вырос раньше, чем вошел. Он проскользнул неуследимо Сквозь строй препятствий и подмог, Как этот, в комнату без дыма Грозы влетающий комок.<…>
Он был как выпад на рапире. Гонясь за высказанным вслед, Он гнул свое, пиджак топыря И пяля передки штиблет. Слова могли быть о мазуте, Но корпуса его изгиб Дышал полетом голой сути, Прорвавшей глупый слой лузги. И эта голая картавость Отчитывалась вслух во всем, Что кровью былей начерталось: Он был их звуковым лицом. Столетий завистью завистлив, Ревнив их ревностью одной, Он управлял теченьем мыслей И только потому страной.Заканчивается «Высокая болезнь» предсказанием-пророчеством, которое уже в то время звучало несовременно:
Я думал о происхожденьи Века связующих тягот. Предвестьем льгот приходит гений И гнетом мстит за свой уход.«Гнет» в тридцатые годы резко усиливается. Завершение больших замыслов, смерть Маяковского, которую Пастернак пережил очень тяжело, совпали с новой, сталинской, революцией, взорвавшей едва устоявшуюся жизнь СССР. «В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей – стали ездить по колхозам, собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу, – вспоминал Пастернак через много лет. – То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать» (3. А. Масленникова «Портрет Бориса Пастернака», 17 августа 1958 г.).
Пастернак постепенно перестает жить «заодно с правопорядком». В 1936 году в стихотворении «Художник» он еще вспомнит о Сталине: «За древней каменной стеной / Живет не человек – деянье: / Поступок ростом в шар земной». Но назовет это последней попыткой «жить думами времени и ему в тон». По словам самого поэта, «единение с временем перешло в сопротивление ему». Из спутника, сочувствующего новой власти, Пастернак все больше осознает себя голосом своего уходящего поколения, защитником старой русской интеллигенции.
Мы были музыкой во льду. Я говорю про всю среду, С которой я имел в виду Сойти со сцены, и сойду. Здесь места нет стыду. Я не рожден, чтоб три раза Смотреть по-разному в глаза. Еще двусмысленней, чем песнь, Тупое слово «враг». («Высокая болезнь»)В тридцатые годы, времена, когда идут многочисленные аресты, повсеместно отрекаются от родных, писатели сочиняют письма, осуждающие «врагов народа» и одобряющие репрессии, Пастернак хлопочет за арестованных родственников А. А. Ахматовой, за Мандельштама. После отказа подписать одно коллективное письмо-осуждение он сам ожидает ареста. Но ему повезло. Согласно легенде, Сталин приказал оставить в покое этого «небожителя».
В 1936 году Пастернак поселился на даче в писательском поселке Переделкино. В это время он много занимается переводами, потому что его оригинальные произведения почти перестают публиковать. Благодаря Пастернаку по-русски заговорили многие герои Шекспира, гётевские Фауст и Мефистофель.
В конце войны, в ожидании великой победы и надежд на лучшее будущее страны после пережитых трагедий, Пастернак начинает работу над прозаическим произведением, которое рассматривает как итог творческого пути, книгу жизни.
ГЛАВНАЯ КНИГА: ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Пастернак всю жизнь мечтал писать не только стихи, но и прозу. Первые его прозаические опыты появляются в самом начале 1920-х годов. Он часто говорит о замысле большого романа, посвященного русской истории и судьбе своего поколения. Но непосредственная работа над ним начинается зимой 1945/46 года и охватывает целое десятилетие.
Уже в начале работы четко определились хронологические границы повествования, его структура, некоторые прототипы. «Там описывается жизнь одного московского круга (но захватывается также и Урал). Первая книга обнимет время от 1903 года до конца войны 1914 г. Во второй, которую я надеюсь довести до Отечественной войны, примерно так в году 1929 должен будет умереть главный герой, врач по профессии, но с очень сильным вторым творческим планом, как у врача А. П. Чехова… Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку Юрию Живаго» (М. П. Громову, 6 апреля 1948 г.).
Поэт называл свое произведение «роман в прозе» (словно переворачивая пушкинское определение роман в стихах) и даже «моя эпопея». Последнее определение – эстетический оксюморон. Эпопея, как мы помним, представляет картину национальной жизни в ее обобщенном, безличном варианте. Один из вариантов заглавия – «Мальчики и девочки» – напоминал о великих «И»-романах девятнадцатого века, в том числе толстовской эпопее. Однако, сделав главным героем «Доктора Живаго» врача-поэта, щедро уступив ему не только собственные мысли, но и стихи, Пастернак превратил роман в субъективное повествование, лирическую эпопею.
Основные герои романа – сверстники Пастернака, люди его поколения. Родившиеся на рубеже 1890-1900-х годов, они переживают все события двадцатого века: мировую войну, революцию, войну гражданскую, нэп, репрессии тридцатых годов. В эпилоге книги не только, как предполагал автор, изображены несколько эпизодов Великой Отечественной войны, но есть взгляд в утопическое счастливое будущее: «Прошло пять или десять лет, и однажды тихим летним вечером сидели они опять, Гордон и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою. <…> Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории и их детей проникало их и охватывало неслышною музыкой счастья, разлившейся далеко кругом».
На самой границе книги автор отодвигает в прошлое страшные годы России и дарит родному городу и родной земле просветление, освобождение, неслышную музыку счастья. Еще в большей степени музыку счастья передает завершающая роман лирика.
Там вдали, по дремучим урочищам, Этой ночью весеннею белой, Соловьи славословьем грохочущим Оглашают лесные пределы. Ошалелое щелканье катится, Голос маленькой птички ледащей Пробуждает восторг и сумятицу В глубине очарованной чащи. («Белая ночь», 1953) Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в даренье. Только свадьба, вглубь окон Рвущаяся снизу, Только песня, только сон, Только голубь сизый. («Свадьба», 1953)В «Стихотворениях Юрия Живаго» (часть семнадцатая) практически не отражены трагические события русской истории, которым посвящены прозаические главы. Здесь переплетаются три вечные темы: природа, любовь, страсти Господни.
Стихи, посвященные рождеству Иисуса Христа, чуду, страданиям Марии Магдалины, воскресению были очень важны для Пастернака. «Атмосфера вещи – мое христианство…» – говорил он еще в начале работы над романом (О. М. Фрейденберг, 13 октября 1946 г.). Даже Гамлет в первом стихотворении цикла напоминал, скорее, не шекспировского героя, а христианского подвижника, сознающего свою жертвенную роль во вселенской трагедии: «Если только можно, Авва Отче, / Чашу эту мимо пронеси».
В завершающей книгу балладе ее христианский характер подчеркнут: это монолог уже не Гамлета, а ожидающего предательства, смерти и Воскресения Иисуса. С этих событий, собственно, и начинается история, заключительными эпизодами которой представляется прозаическая часть романа.
Но книга жизни подошла к странице, Которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче И может загореться на ходу. Во имя страшного ее величья Я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, И, как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетья поплывут из темноты. («Гефсиманский сад», 1949)Лирический эпос «Доктор Живаго» создавался как еще одна в XX веке вариация вечной книги – евангелие от Бориса. Это сознавал и он сам, и его наиболее чуткие и благодарные читатели. «Это жизнь – в самом широком и великом значеньи. <…> Это особый вариант книги Бытия», – писала автору после чтения первых глав его родственница, известный филолог-классик О. М. Фрейденберг (29 ноября 1948 г.).
«Эта книга во всем мире, как все чаще и чаще слышится, стоит после Библии на втором месте», – гордо сказал Пастернак всего через два года после публикации романа и победного шествия его по миру (Т. Т и Н. А. Табидзе, 19 марта 1959 г.).
Он воспринимает свой труд как последнее слово, итог, завещание. «Я окончил роман, исполнил долг, завещанный от Бога», – цитирует он пушкинского летописца Пимена из «Бориса Годунова» (В. Т. Шаламову, 10 декабря 1955 г.).
Сложнее всего сложилась жизнь книги на родине поэта. Советские издательства и журналы отказались от ее публикации. Партийные идеологи увидели в романе «порочное, антисоветское произведение», «злостную клевету на нашу революцию и на всю нашу жизнь». Впервые «Доктор Живаго» заговорил с читателем на итальянском языке (1957), сразу же последовали многочисленные переводы, русское издание появилось в 1958 году в Голландии. 23 октября 1958 года было объявлено, что очередная Нобелевская премия по литературе присуждается Б. Л. Пастернаку «За значительный вклад как в современную лирику, так и в область великих традиций русских прозаиков».
Пастернак был всего лишь вторым после Бунина русским писателем, получившим самую известную и почетную литературную премию мира. Но вместо гордости за успех советские идеологи увидели в жесте Нобелевского комитета политический вызов. Грандиозная кампания осуждения книги (во время нее родилась анекдотическая реплика: «Я Пастернака не читал, но скажу»), исключение Пастернака из Союза писателей (что означало невозможность публикаций и существования литературным трудом), угрозы выслать его из СССР или не пустить обратно, если он поедет на нобелевскую церемонию, – привели к тому, что поэт отказался от премии.
Свое подлинное отношение к происходящему поэт выразил в стихах:
Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, А за мною шум погони, Мне наружу ходу нет. <…> Что же сделал я за пакость, Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, Верю я, придет пора — Силу подлости и злобы Одолеет дух добра. («Нобелевская премия», 1959)Борис Леонидович Пастернак умер 30 мая 1960 года на той же переделкинской даче, где прожил все послевоенные десятилетия и написал «Доктора Живаго». Первая публикация романа в СССР состоялась через восемнадцать лет после смерти автора (1988).
Лишь в конце XX века Пастернак стал «обычным» классиком, а «Доктор Живаго» – «просто романом», который можно любить или не любить. В предшествующие десятилетия за чтение и распространение этой книги можно было получить тюремный срок.
Эту новую жизнь своего творчества и своего романа поэт предчувствовал тоже, в последних стихах заглядывая за грань собственной жизни.
Когда я с честью пронесу Несчастий бремя, Означится, как свет в лесу, Иное время. Я вспомню, как когда-то встарь Здесь путь был начат К той цели, где теперь фонарь Вдали маячит. И я по множеству примет Свой дом узнаю. Вот верх и дверь в мой кабинет Вторая с краю. Вот спуск, вот лестничный настил, Подъем, перила, Где я так много мыслей скрыл В тот век бескрылый. («Когда я с честью пронесу…», март 1958)Может быть, самые точные слова о месте Пастернака в истории русской литературы XX века произнес автор «Колымских рассказов» В. Т. Шаламов. Прочитав «Доктора Живаго», он сравнил автора с Л. Н. Толстым. «Мне всегда казалось – что именно Вы – совесть нашей эпохи – то, чем был Лев Толстой для своего времени. <…> Здесь решение вопроса о чести России, вопроса о том – что же такое, в конце концов, русский писатель? <…> Вы – честь времени, Вы – его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что Вы в нем жили» (Б. Л. Пастернаку, 12 августа 1956 г.).
Шаламов, наверное, не зная об этом, замыкает начало и конец жизни Пастернака в композиционное кольцо: случайно увидевший Толстого четырехлетний ребенок принимает эстафету, оказывается достойным продолжателем великой традиции.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Пастернака
СЕСТРА МОЯ – ЖИЗНЬ: УВИДЕННАЯ СЛОЖНОСТЬ
М. И. Цветаева, много писавшая о Пастернаке, в статье «Поэты с историей и поэты без истории» (1934) отнесла Пастернака ко второй группе. «Борис Пастернак – поэт без развития. Он сразу начал с самого себя и никогда этому не изменял».
Точность этого наблюдения поэт подтвердил практически. Все «Избранные», включая последнее, итоговое, он открывал разделом «Начальная пора», который, в свою очередь, начинался стихотворением, входившим в его первую поэтическую публикацию 1913 года.
Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд, Пока грохочущая слякоть Весною черною горит. Достать пролетку. За шесть гривен, Чрез благовест, чрез клик колес, Перенестись туда, где ливень Еще шумней чернил и слез. Где, как обугленные груши, С деревьев тысячи грачей Сорвутся в лужи и обрушат Сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, И ветер криками изрыт, И чем случайней, тем вернее Слагаются стихи навзрыд. («Февраль. Достать чернил и плакать!..», 1912)Эти четыре строфы кажутся поначалу загадочной картинкой, сопровождаемой вдобавок языковыми погрешностями («Под ней проталины чернеют?» – Под чем это? Под грустью?).
Чтобы понять поэта, надо отправиться в страну поэта, уловить его творческий закон. В стихотворении Пастернака отчетливо выделяются две группы деталей, поэтических мотивов.
Его предметный фон – весенний пейзаж, ориентированный на разные органы чувств. Более всего он наполнен звуками: звон церковных колоколов (благовест), скрипение (клик) колес, шум ливня, крик грачей. К ним добавляются зрительные подробности: грачи похожи на обугленные груши, проталины тоже чернеют.
Но ключевые образы стихотворения строятся на синэстетизме, соединении разных впечатлений в одной смысловой конструкции. Грохочущая слякоть – что это? Вероятно, ощущение человека, глядящего из окна на городскую улицу, где тает снег, шумят ручьи, водостоки и извозчичьи пролетки. Ветер криками изрыт: это, конечно, шум ветра и одновременно пронзительные крики грачиной стаи.
Но принцип взаимопроникновения, взаимодействия оказывается более глубоким. Второй предметный ряд связан с творчеством: дважды упоминаются чернила, прямо сказано, что «некто» собирается писать о феврале. В стихотворении даже есть намек на фабулу: этот неназванный персонаж нанимает пролетку за шесть гривен и едет туда, где крики грачей слышнее, чем звуки городской жизни.
Но главный секрет (фокус) в том, что этот неназванный некто настолько захвачен процессом творчества, что не отделяет себя от мира, ощущает себя внутри этой движущейся картины. Особенно заметен этот принцип на стыке третьей и четвертой строфы, где возникают уже не наглядно-синтетические, а наглядно-психологические образы, одновременно отражающие внешние впечатления и трудноопределимые эмоции: вид грачиной стаи вызывает сухую (глубокую, давнюю, позабытую?) грусть, но весенние проталины заставляют забыть о ней (или, напротив, еще сильнее о ней напоминают?). Поэт пропускает, сжимает какие-то звенья своих чувств, а мы, читатели, можем восстановить их, проникнувшись его эмоцией, встав на ту же точку зрения.
Тема этого стихотворения – творчество, процесс создания стихотворения. Пытаясь написать о феврале, о прошлом, поэт в конце концов сочинил стихи о настоящем, ранней «черной» весне, которая так же прекрасна. Композиционное кольцо подчеркивает завершение творческого акта: «Писать о феврале навзрыд» – «И чем случайней, тем вернее / Слагаются стихи навзрыд». Но эта тема не рассказана, а изображена, словно вырастает изнутри пейзажа. В стихотворении даже отсутствует «я»: лирический субъект не выявлен грамматически, он является частью изображенной картины. Но без него мы бы не увидели мир в таком неожиданном ракурсе.
Пастернак, как мы помним, начинал в группе футуристов. Но предметность, «вещизм» его стихотворений, скорее, близки установкам акмеистов, прежде всего – А. А. Ахматовой. Однако предмет в лирике Ахматовой четко отделен от лирической героини и в то же время подчеркивает ее состояние. В лирике Пастернака детали внешнего и внутреннего мира идут, следуют, несутся в едином потоке.
Метод Пастернака можно назвать динамическим акмеизмом. М. И. Цветаева нашла для него эффектную, очень похожую на пастернаковскую, метафору, световой ливень, и даже вспомнила про Адама (адамистами, как мы помним, первоначально называли себя акмеисты). «Не Пастернак младенец, это мир в нем младенец. Самого Пастернака я бы скорей отнесла к самым первым дням творения: первых рек, первых зорь, первых гроз. Он создан до Адама. <…> Кстати, о световом в поэзии Пастернака. – Светопись: так бы я назвала. Поэт светлот (как иные, например, темнот). Свет. Вечная Мужественность. – Свет в пространстве, свет в движении, световые прорези (сквозняки), световые взрывы, – какие-то световые пиршества» («Световой ливень», 1922).
Идея светлого, праздничного, говорящего бытия определила структуру пастернаковской книги «Сестра моя – жизнь», заглавие которой имело символический смысл. Посвятив книгу Лермонтову (не памяти Лермонтова, а самому поэту), Пастернак объясняется в любви не только девушке («Развлеченья любимой» – один из ее разделов), но философии, степи, искусству, Воробьевым горам и станции Мукчап (на которой недавно появился памятник поэту).
Предметы догоняют друг друга, отражаются, перекликаются, пронзают душу, и, напротив, сама душа тоже становится предметно-вещественной.
В трюмо испаряется чашка какао, Качается тюль, и – прямой Дорожкою в сад, в бурелом и хаос К качелям бежит трюмо. Там сосны враскачку воздух саднят Смолой; там по маете Очки по траве растерял палисадник, Там книгу читает Тень. («Зеркало») На тротуарах истолку С стеклом и солнцем пополам, Зимой открою потолку И дам читать сырым углам. Задекламирует чердак С поклоном рамам и зиме. К карнизам прянет чехарда Чудачеств, бедствий и замет. («Про эти стихи»)«Определение поэзии» в сборнике «Сестра моя – жизнь» дается тоже не логическое, а предметное: «Это – круто налившийся свист, / Это – щелканье сдавленных льдинок, / Это – ночь, леденящая лист, / Это – двух соловьев поединок».
Пастернак любит изображать переломные события в жизни природы, не только световой, а просто ливень, дождь грозу. Его называют самым «грозовым» поэтом в русской поэзии, только этому «событию» посвящены полтора десятка стихотворений: «Дождь», «Весенний дождь», «После дождя», «Июльская гроза», «Наша гроза», «Гроза моментальная навек», «После грозы». Его внимания удостаиваются все времена года, особенно много у него зимних и летних стихотворений. Отдельное стихотворение посвящено у него почти каждому месяцу.
Но весь этот «природный альбом», как на картинах пуантилистов, собран из мелких разноцветных деталей, иногда загадочных и трогательно-домашних.
Ты близко. Ты идешь пешком Из города, и тем же шагом Займешь обрыв, взмахнешь мешком И гром прокатишь по оврагам. Как допетровское ядро, Он лугом пустится вприпрыжку И раскидает груду дров Слетевшей на сторону крышкой. («Приближенье грозы», 1929) Ты в ветре, веткой пробующем, Не время ль птицам петь, Намокшая воробышком Сиреневая ветвь! У капель тяжесть запонок, И сад слепит, как плес, Обрызганный, закапанный Мильоном синих слез. («Ты в ветре, веткой пробующем…», 1917)Удар грома в первом стихотворении напоминает и грохот ядра, и резкий звук упавшей на землю крышки, и развал поленицы. Вдобавок он передается и звукописью: вся вторая строфа пронизана звуком р.
Во втором стихотворении качающаяся ветка сирени напоминает воробышка, дождевые капли – блестящие круглые запонки и одновременно слезы, а весь сад с кустами мокрой сирени – синее озеро. Вторая строфа этого стихотворения тоже оркестрована, но уже звуками л и с.
Итак, поток необычных тропов, динамика образов, соединяющих в одном ряду внешнее и внутреннее и в то же время пропускающих некоторые логические звенья, составляет главную особенность лирики Пастернака. Формулу своего метода поэт найдет чуть позже, в маленькой поэме «Волны» (1931):
Мне хочется домой, в огромность Квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, Огнями улиц озарюсь. Перегородок тонкоребрость Пройду насквозь, пройду, как свет. Пройду, как образ входит в образ И как предмет сечет предмет.О. Э. Мандельштам полуиронично-полусерьезно видел в стихах Пастернака не просто поэзию, но – лечебное средство. «Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны от туберкулеза».
Читатели нескольких поколений относились к «Сестре моей – жизни» так, как сам поэт в «Марбурге» относился к любимой девушке:
В тот день всю тебя, от гребенок до ног, Как трагик в провинции драму шекспирову, Носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал. («Марбург», 1916, 1928)Со стихами Пастернака жили, переписывали их, цитировали, заучивали наизусть. Написано уже несколько книг о том, какое влияние оказывал поэт на «мальчиков и девочек сороковых годов» (пусть этот круг был и невелик, ограничиваясь московской студенческой средой).
Однако Пастернак судил себя строже, чем его преданные читатели-почитатели. Наступило время, когда поэт вдруг сделал резкое движение, попытался уйти от оригинальной, но уже привычной для себя манеры к новым горизонтам.
КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ: НЕСЛЫХАННАЯ ПРОСТОТА
В середине 1930-х годов, как мы помним, Пастернак поселяется в писательском поселке Переделкино, превращаясь из горожанина в дачника. В 1940 году ему исполняется 50 лет: эта круглая дата часто является поводом для подведения итогов (Л. Н. Толстой отказался от искусства и попытался стать «толстовцем» как раз в пятьдесят). Достаточно долгое поэтическое молчание Пастернака прерывается. Утомленный и измученный переводами, он снова начинает писать оригинальные стихи.
Это возвращение к стихам точно зафиксировано и тонко прокомментировано А. А. Ахматовой, хорошо понимавшей поэтику и творческие стимулы Пастернака: «Он, в сущности, навсегда покидает город. Там, в Подмосковье, – встреча с Природой. Природа всю жизнь была его единственной полноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и Возлюбленной, его Женой и Вдовой – она была ему тем же, чем была Россия – Блоку. Он остался ей верен до конца, и она по-царски награждала его. Удушье кончилось. В июне 1941 года, когда я приехала в Москву, он сказал мне по телефону: „Я написал девять стихотворений. Сейчас приду читать“. И пришел. Сказал: „Это только начало – я распишусь”» («Записные книжки»).
Стихи, о которых идет речь, составили цикл «Переделкино» (1940–1941). Этот поворот был предсказан раньше, еще в начале десятилетия. В конце поэмы «Волны», той самой, где была выведена формула взаимопроникновения образов и «сечения» предметов, на которой строилась ранняя лирика Пастернака, появляется такое размышление:
Есть в опыте больших поэтов Черты естественности той, Что невозможно, их изведав, Не кончить полной немотой. В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту.Пастернак здесь говорит не о себе. Таким путем к неслыханной простоте было движение Толстого к народным рассказам или Блока к «Двенадцати». Но через несколько лет это размышление могло восприниматься как прогноз-пророчество, как новое определение собственной поэтики, не отменяющее полностью, но корректирующее прежние. «Я не люблю своего стиля до 1940 года, – признавался позднее Пастернак. – Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог» («Люди и положения», «Перед Первой мировой войною»).
Образцом нового стиля, помимо переделкинских стихов, стали «Стихотворения Юрия Живаго» (1946–1953) и последний поэтический цикл Пастернака «Когда разгуляется» (1956–1959).
Сравним с ранним стихотворением «Февраль. Достать чернил и плакать…» другое стихотворение, посвященное тому же времени года и даже упоминающее тот же месяц – «Зимняя ночь» (1946), – оно становится одним из лейтмотивов романа «Доктор Живаго».
Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем мошкара Летит на пламя, Слетались хлопья со двора К оконной раме.<…>
И падали два башмачка Со стуком на пол, И воск слезами с ночника На платье капал. И все терялось в снежной мгле Седой и белой. Свеча горела на столе, Свеча горела. <…>«Зимняя ночь» тоже строится на соотнесении, переплетении двух тем: природа и любовь (в раннем стихотворении, как мы помним, это были природа и творчество). Детали из мира природы (метущая по всей земле метель; снежные хлопья, погибающие как летящая на пламя мошкара; похожие на слезы капли, стекающие со свечи-ночника) символически аккомпанируют любовной драме: скрещениям судьбы, жару соблазна (комментарием к этим образам становятся прозаические фрагменты романа).
В позднем тексте даже сохраняется тот же композиционный прием, кольцевое построение: двустишие «свеча горела на столе / свеча горела» повторяется четырежды, в том числе в первой и последней строфе.
Но на фоне этих сходных черт очевидны различия старой и новой манеры Пастернака. Логические «пропуски» здесь сведены к минимуму. Тропы становятся проще, естественнее, понятнее. Образ уже не «входит» в образ, предмет не «сечет» предмет: они располагаются по соседству, между ними появляется свободное пространство. Задыхающаяся интонация разговора-исповеди (вспомним стихотворение «Нас мало. Нас, может быть, трое…») сменяется более спокойным, хотя тоже эмоциональным, повествованием.
От модернизма, динамического акмеизма Пастернак делает шаг в прошлое к литературной классике XIX века. «Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль. Достать чернил и плакать… Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворений „На ранних поездах“, – признается он в одном из писем. – Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюдённой и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого и очень горько, что при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию…» (В. Т. Шаламову, 9 июля 1952 г.)
В более раннем стихотворении названы еще несколько важных для поэта имен: «Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана» («Зима приближается», 1943). В своих вкусах, своих художественных ориентирах Пастернак сдвигается в живописи от М. Врубеля к И. Левитану, в музыке – от А. Скрябина к П. Чайковскому, в литературе – от Блока, Маяковского и Лермонтова как «поэта свехчеловечества» (таким видел его Мережковский) – к Чехову, Анненскому и Лермонтову из школьных хрестоматий.
Пастернака вдохновила похвала одной из первых слушательниц стихов из романа «Доктор Живаго»: «Вы знаете, точно сняли пелену с „Сестры моей – жизни”». Сняв пелену с «Сестры моей – жизни», мы получим «Стихотворения Юрия Живаго» и цикл «Когда разгуляется».
Изменив некоторые черты поэтики, Пастернак сохранил главное в своем миросозерцании: его единственной Музой по-прежнему осталась природа, его философией – приятие жизни, благодарность и восхищение ей.
Пусть ветер, рябину заняньчив, Пугает ее перед сном. Порядок творенья обманчив, Как сказка с хорошим концом. <…> Торжественное затишье, Оправленное в резьбу, Похоже на четверостишье О спящей царевне в гробу. И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу: «Благодарствуй, Ты больше, чем просят, даешь». («Иней», 1941)Жизнь навсегда осталась сестрой Пастернака – в единстве большого и малого, в многообразии ее проявлений, которые должен увидеть, понять, зафиксировать художник.
В стихотворении «Ночь» (1956), навеянном чтением знаменитого французского летчика и писателя А. де Сент-Экзюпери, сведены воедино многие важные поэтические мотивы.
С первых строк ясен и очевиден его повествовательный, балладный характер и «космическая» точка зрения: «Над спящим миром летчик / Уходит в облака». Но высокие (в прямом и переносном смысле) тема и точка зрения нужны поэту для того, чтобы подчеркнуть разномасштабность и в то же время – внутреннее, единство мира. Самолет в небе с помощью сравнений превращается в уютную, комнатную подробность: «Он потонул в тумане, / Исчез в его струе, / Став крестиком на ткани / И меткой на белье».
Но вдруг строфа-кадр резко меняется, мир видится в пугающей беспредельности, напоминающей грандиозные образы поэзии XVIII века и Тютчева (хотя и в этом изображении появляется любимое Пастернаком бытовое словечко куча): «Блуждают, сбившись в кучу, / Небесные тела. / И страшным, страшным креном / К другим каким-нибудь / Неведомым вселенным / Повернут Млечный Путь».
В следующих строфах взгляд снова обращается вниз и мир видится поверх границ в сочетании высокого, поэтического и бытового, даже пошлого: «В пространствах беспредельных / Горят материки. / В подвалах и котельных / Не спят истопники. / В Париже из-под крыши / Венера или Марс / Глядят, какой в афише / Объявлен новый фарс». Последняя строфа с игровой рифмой Марс – фарс напоминает уже не космическую поэзию Тютчева, а частушку.
Это раскачивание маятника от большого к малому, переходы от патетики к иронии завершаются изображенным крупным планом человеком, к предмету ночных забот которого относится все: планеты, небосвод, земля. В «Ночи» появляется четкая формулировка, афоризм, еще одно исповеданием веры поэта Пастернака:
Не спи, не спи, работай, Не прерывай труда, Не спи, борись с дремотой, Как летчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты вечности заложник У времени в плену.Природа (звезды, космос) цивилизация, техника (летчик), все многообразие обыденной жизни людей (от метки на белье до кочегаров и вокзалов) оказываются здесь заботой художника, гармонически соединяющего время и вечность.
Такую гармонию Пастернак умеет увидеть даже на пороге смерти, в последние мгновения существования.
В стихотворении «Август» (1953) поэт видит во сне свою смерть и слышит голос свой провидческий: «Прощай, размах крыла расправленный, / Полета вольное упорство, / И образ мира, в слове явленный, / И творчество, и чудотворство».
Стихотворение «В больнице» (1956) оканчивается обращенной к Богу молитвой и благодарностью уже реально умирающего человека:
О Господи, как совершенны Дела твои, – думал больной, — Постели, и люди, и стены, Ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу И плачу, платок теребя. О Боже, волнения слезы Мешают мне видеть тебя. Мне сладко при свете неярком, Чуть падающем на кровать, Себя и свой жребий подарком Бесценным твоим сознавать.Существует давнее разделение на поэтов трагических и гармонических. Их определяет не биография, а отношение к основным вопросам бытия: жизни, любви, религии, смерти. Трагические поэты отвергают, отрицают мир, даже если их собственная жизнь складывается вполне благополучно. Гармонические принимают, оправдывают мироздание, даже вопреки драмам собственной жизни. Вечными оппонентами-образцами, олицетворением таких образов стали в русской поэзии Лермонтов и Пушкин.
Главными трагическими поэтами XX века были Блок, Маяковский, Цветаева. Поэзия Ахматовой, Есенина, Мандельштама с разных сторон, разными путями стремилась вписать человека в мироздание, внести успокоение в его душу.
Пастернак, вопреки, всем драмам собственной жизни, остался наиболее чистым образцом вечного ребенка, счастливо играющего с вечностью художника, поэтического философа, упорно доказывающего людям, что жизнь – прекрасна.
Канонический сборник его стихотворений заканчивается «Единственными днями» (январь 1959), где дана еще одна формула такого мировосприятия:
На протяженьи многих зим Я помню дни солнцеворота, И каждый был неповторим И повторялся вновь без счета.<…>
И любящие, как во сне, Друг к другу тянутся поспешней, И на деревьях в вышине Потеют от тепла скворешни. И полусонным стрелкам лень Ворочаться на циферблате, И дольше века длится день И не кончается объятье.СОВЕТСКИЙ ВЕК: на разных этажах (1940–1980-е гг.)
ЛИТЕРАТУРА И ВОЙНА: МУЗЫ И ПУШКИ
Есть известный афоризм: когда говорят пушки, музы молчат. Как всякая острая мысль, он односторонен. (В словаре пословиц В. И. Даля к любому изречению можно подобрать другое, прямо противоположное по смыслу.) Война, наряду с другим «пушечным мясом», убивает и писателей, в том числе будущих. Но настоящая, подлинная литература тоже появляется как результат участия в ней и ее осмысления. Эпическая Каллиопа и трагическая Мельпомена издавна вдохновляли участников битв.
Если бы Л. Н. Толстой не участвовал в Крымской войне, не были бы написаны не только «Севастопольские рассказы», но и, вероятно, «Война и мир». После Первой мировой войны на Западе появилась литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон). С Гражданской войны русские писатели 1920-х годов принесли «Разгром», «Конармию», «Россию, кровью умытую», «Тихий Дон» и, с другой стороны, – «Вечер у Клэр», «Солнце мертвых».
Великая Отечественная война на какое-то время прекратила страшную истребительную войну с собственным народом и объединила русских людей по обе стороны железного занавеса. Многие непримиримые противники советской власти, включая, как мы помним, Бунина, внимательно следили за развитием событий и желали победы Красной армии.
Первые военные произведения принадлежали, как правило, писателям старшего поколения и наезжавшим на передовую журналистам. Большую известность приобретает публицистика И. Г. Эренбурга, военные очерки А. П. Платонова, К. М. Симонова, В. С. Гроссмана. Воюющим солдатам и офицерам, особенно во время отступлений и поражений, было не до литературы.
«Когда идешь в снегу по пояс, о битвах не готовишь повесть…» – делает в записной книжке набросок в начале 1942 года С. П. Гудзенко, в будущем – один из лучших военных поэтов.
Военный разведчик Э. Г. Казакевич уже в феврале 1945 года насмешливо жалуется родным: «Меня представили к награде – ордену Отечественной войны. Скоро я буду иметь столько орденов, как Денис Давыдов, и писать стихи – я полон ими, и они перекипают во мне, умирая, не родившись – потому что я не в силах делать две вещи зараз – воевать и писать». Окончив воевать, Казакевич не вернулся к стихам (на войну он уходил поэтом), но зато написал одну из первых и лучших военных повестей «Звезда» (1947) и роман «Весна на Одере» (1949).
Однако мысль о несовместимости войны и литературы не абсолютна. «Война рождает писателей и книги», – замечает Гудзенко в тех же записных книжках. Стихи писались и в промежутках между боями, и в ленинградскую блокаду («Февральский дневник» О. Берггольц, 1942) и даже в концентрационных лагерях.
Война изменила отношение к прежним литературным репутациям, предложила новую систему ценностей. «Когда лежишь на больничной койке, с удовольствием читаешь веселую мудрость ОТенри, Зощенко, „Кондуит и Швамбранию“, Швейка. А в какой же стадии хочется читать Пастернака? Нет таковой. А где же люди, искренне молившиеся на него, у которых кровь была пастерначья? Уехали в тыл, Война сделала их слабее», – записывает в госпитале после тяжелого ранения в живот С. Гудзенко.
Психологически усложненная лирика Пастернака, растворенность лирического героя в природе, его восторженный пафос действительно плохо сочетались с реалиями войны, человеческим существованием на границе жизни и смерти. Более подходящими представлялись другие средства: сильные чувства, натурализм, прямое слово.
Они отчетливо проявились в стихотворении Гудзенко «Перед атакой» (1942).
Когда на смерть идут – поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — Час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв — и умирает друг. И, значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед За мной одним идет охота Будь проклят сорок первый год и вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв — и лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать. И нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был коротким. А потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.Столь резкое и жестокое изображение войны показалось надзирающим за литературой преувеличенным. При первой публикации в 1943 году у ключевой строки появился более мягкий цензурный вариант: вместо «будь проклят сорок первый год» – «ракету просит небосвод».
Однако пути поэзии труднопредсказуемы. Молодой поэт Арон Копштейн в стихотворении, написанном как раз между боями, словно спорит с Гудзенко, вписывая в военный быт и Пастернака, и даже Блока. (Через несколько дней и автор и адресат погибнут в одном бою еще «назнаменитой» советско-финской войны.)
Да каждый стал расчетливым и горьким: Встречаемся мы редко, второпях, И спорим о портянках и махорке, Как прежде о лирических стихах. Но дружбы, может быть, другой не надо, Чем эта, возникавшая в пургу, Когда усталый Николай Отрада Читал мне Пастернака на бегу. <…> Бьют батареи. Вспыхнули зарницы. А над землянкой медленный дымок. «И вечный бой. Покой нам только снится…» Так Блок сказал. Так я сказать бы мог. («Поэты», 1940)В этом же стихотворении, наряду с Пастернаком и Блоком, Копштейн не случайно вспоминает «Катюшу». Песни на стихи К. Симонова («Жди меня»), А. Суркова («В землянке»), М. Исаковского («Катюша», «В лесу прифронтовом», «Огонек») были важной линией военной лирики, значительно превосходя по популярности произведения других жанров (повесть А. Бека «Волоколамское шоссе», пьеса А. Корнейчука «Фронт»).
Вершиной литературы о войне, создававшейся во время войны, стал «Василий Теркин» А. Т. Твардовского, о котором еще пойдет речь в главе о поэте. В «книге про бойца» соединились трагизм и юмор, органический патриотизм и поэтическая правдивость, не переходящая, однако, в беспощадность, бескомпромиссность, непримиримость. Она своеобразно, на военном материале, продолжала «веселую мудрость» авторов, которых упоминает С. Гудзенко.
Время «жестокой правды» о войне наступит позднее, уже после окончания Великой Отечественной. «Военная проза» и поэзия военного поколения станут одной из важных, живых, творческих линий советской литературы в следующую эпоху, с конца 1950-х годов.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС: ОТ ОФИЦИОЗА ДО ТАМИЗДАТА
В 1945 году, незадолго до конца войны, С. Гудзенко написал «Мое поколение», стихотворение-реквием, однако полное надежд на лучшее будущее.
Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. На живых порыжели от крови и пота шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.<…>
У погодков моих нет ни жен, ни стихов, ни покоя — только сила и юность. А когда возвратимся с войны, все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, что отцами-солдатами будут гордиться сыны.Гудзенко умрет 15 февраля 1953 года, так и не узнав, что до начала новой эпохи, ознаменованной смертью вождя, осталось меньше трех недель. Но не только для него «шесть часов вечера после войны» оказались не такими, как ожидались.
Поколение победителей, спасшее родину и вкусившее во время войны воздух свободы, нужно было «поставить на место». Вторая половина сороковых и начало пятидесятых годов – время пряника и кнута, щедрых Сталинских премий (были писатели, получавшие их шесть раз) и многочисленных разрушительных решений по вопросам культуры, которые ломали многие судьбы и восстанавливали памятную по тридцатым годам и подзабытую за военные годы атмосферу Госужаса.
Непосредственное отношение к литературе имело принятое 14 августа 1946 года постановление ЦК ВКП (б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“ и комментирующий его доклад главного партийного идеолога этого времени А. А. Жданова. Главными жертвами идеологической проработки стали писатели старшего поколения – А. А. Ахматова и М. М. Зощенко.
Цели были выбраны не случайно. Ахматова (еще никому, кроме немногих друзей, неизвестно о «Реквиеме») воспринималась как символ прежней культуры, живая связь с серебряным веком, безусловный авторитет у интеллигенции и квалифицированных читателей. Зощенко искренне принял послереволюционные изменения, считал себя исполняющим обязанности «пролетарского писателя», пользовался огромной популярностью у всех, начиная с Мандельштама, оканчивая простым читателем с улицы.
На писателей обрушивается вся мощь государственной машины. Их прорабатывают на собраниях, исключают из Союза писателей, естественно, перестают печатать, но зато беспрерывно поминают в разгромных статьях. На работу не берут даже жену Зощенко, требуя сначала сменить фамилию. В 1948 году зашедший к Зощенко знакомый застал «бывшего писателя» за странным занятием: «С большими ножницами в руках М. М. ползал по полу, выкраивая из старого пыльного войлока толстые подметки для какой-то артели инвалидов. Не помню точно, сколько ему платили за сотню пар. Во всяком случае, обед в дрянной столовке обходился дороже» (А. Б. Мариенгоф «Это вам, потомки»).
В послевоенные годы литература почти «прекратила течение свое». Из опубликованных в это время произведений лишь очень немногие пережили время (повесть В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда», 1946; уже упомянутая «Звезда» Казакевича). Произведения, задуманные или писавшиеся в эти годы («Доктор Живаго», «Поэма без героя»), будут завершены много позднее. «Мрачное семилетие» XX века окончилось со смертью Сталина.
В эпоху «оттепели» литература оживает вместе с культурой и общественной жизнью. Возвращаются из ссылок и лагерей выжившие писатели, происходит медленная реабилитация и публикация погибших и преследуемых (И. Бабеля, А. Платонова, Б. Пильняка, М. Цветаевой, О. Мандельштама, тех же М. Зощенко и А. Ахматовой), появляется новое литературное поколение, которое вскоре назовут шестидесятниками. Начинается новый цикл литературного развития.
В 1953 году в журнале «Новый мир» появляется статья критика В. М. Померанцева «Об искренности в литературе». Автор воевал с распространенной в предшествующую эпоху теорией бесконфликтности и призывал писателей верить не партийным постановлениям и догмам социалистического реализма, а собственным глазам и совести. Такая постановка вопроса была осуждена, А. Т. Твардовский смещен с должности главного редактора «Нового мира», но обозначенный Померанцевым конфликт никуда не исчез, им определялось развитие литературы последующих десятилетий.
Мандельштам, как мы помним, уже разделил литературные произведения на разрешенные и неразрешенные («ворованный воздух»). Но крут разрешенных, проходящих через цензуру и публикуемых в советских журналах и издательствах, тоже оказывается неоднородным.
С одной стороны, существуют авторы (чаще всего – бесталанные), которые по-прежнему ожидают указаний, иллюстрируют очередные идеологические лозунги, рассматривают литературу как «часть общепартийного дела». В эту официозную советскую литературу судьба иногда заносит и талантливых писателей. А. А. Фадеев, автор важного для ранней советской литературы романа «Разгром» и исправлявшейся по партийным указателям менее удачной, но официально признанной «Молодой гвардии» (Сталинская премия первой степени за 1945 год), в последние годы жизни работает над романом «Черная металлургия». Однако книга так и осталась неоконченной. Фадеев опирался на официальные версии событий, между тем, после смерти Сталина все перевернулось: прототипы героев, изображенных отрицательными, были оправданы, а «положительные персонажи», напротив, оказались мерзавцами и клеветниками.
13 мая 1956 года Фадеев, несколько десятилетий бывший руководителем писательского союза и символом официальной советской литературы, покончил с собой, оставив письмо – крик души, – объяснявшее мотивы его поступка (оно было надежно спрятано в партийном архиве и опубликовано лишь через 34 года).
«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы – в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40–50 лет. <…>
Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находится в положении париев и – по возрасту своему – скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить… <…>
Литература – этот высший плод нового строя – унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти – невежды.
Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни».
Наряду с литературой «автоматчиков партии» (так однажды назвал писателей новый вождь Н. С. Хрущев) возникает литература официальной оппозиции, литература писателей, которые, вопреки препятствиям, стараются говорить правду о прошлом и современности. Ее оплотом становится журнал «Новый мир», главным редактором которого с 1958 года снова становится Твардовский. Ее символом – чудом там опубликованный «Один день Ивана Денисовича» (1962, № 11). Но этим импульсом – говорить правду пусть в предложенных неблагоприятных обстоятельствах – порождены лучшие произведения 1960-1980-х годов.
Во время заграничных поездок Ю. В. Трифонова его часто спрашивали о советской цензуре. «На этот, почти дежурный, вопрос Ю. В. отвечал неожиданное: цензура – это, конечно, плохо, очень плохо, но лично ему она не мешает, потому что помогает оттачивать литературное мастерство». Время кардинально изменилось, цензура исчезла, но вдова писателя справедливо замечает: «Сейчас, когда можно прочитать обо всем, обнаруживаешь с почти мистическим удивлением, что Юрий Трифонов писал об этом в самые глухие времена. Перечитывая его повести и романы, сталкиваешься с событием феноменальным – писатель может сказать обо всем, о чем хочет… если умеет это выразить художественно» (О. Трифонова «Комментарий к дневникам и рабочим тетрадям Ю. Трифонова», 1999).
Однако уже в шестидесятые годы появились писатели, которые смотрели на проблему цензуры и официальной советской литературы совершенно по-иному, по-мандельштамовски: литература – ворованный воздух, она несовместима ни с какими разрешениями и должна существовать в состоянии абсолютной свободы.
С середины 1950-х годов быстро формируется второй, подземный, уровень литературного процесса, который получает название андеграунда (от англ. underground – подполье, подпольная организация) или второй культуры.
Еще в сороковые годы оригинальный и мало издававшийся поэт Николай Глазков ставил на титульном листе своих стихотворных сборников, которые никто не хотел печатать, придуманное им словечко «самсебяиздат» (по аналогии с Госиздатом, Политиздатом и прочими официальными издатами).
В послевоенное время оно чуть сократилось и очень пригодилось. Самиздатом называли бесцензурные тексты, как правило машинописные, распространяемые среди друзей и знакомых.
Памятником этому явлению (феномену) осталась (тоже самиздатская) песня-баллада Александра Галича «Мы не хуже Горация», прославившая пишущую машинку марки «Эрика» и самиздатских Несторов и Пименов, для которых она стала главным оружием борьбы за правду.
Что ж, зовите небылицы былями, Окликайте стражников по имени! Бродят между ражими Добрынями Тунеядцы Несторы да Пимены. Их имен с эстрад не рассиропили, В супер их не тискают облаточный, «Эрика» берет четыре копии, Вот и все! …А этого достаточно! Пусть пока всего четыре копии — Этого достаточно! <…> Бродит Кривда с полосы на полосу, Делится с соседской Кривдой опытом, Но гремит напетое вполголоса, Но гудит прочитанное шепотом.В 1960-е годы возвращение в «догутенбергову эпоху», когда еще не существовало типографий и печатных машин, приобрело обвальный характер. Перепечатывались не просто отдельные тексты. Появились машинописные сборники и журналы. Наряду с художественной прозой и поэзией в самиздате распространялись политические и философские работы, богословские труды, научные исследования и мистические трактаты. Самиздат воспроизводил практически все основные разделы и направления официальной, подцензурной литературы, заполняя их иными, не одобряемыми, работами и авторами.
«Не приходится сравнивать тиражи даже самых распространенных самиздатских текстов с гигантскими тиражами официальной литературы. Но 100000 экземпляров брошюры партийного идеолога не будут прочитаны никем, а из тысячи машинописных копий трактата Сахарова каждую прочтет сто человек. Увы, мы не располагаем и никогда не будем располагать статистикой в этой области, но в нашем распоряжении масса примеров, свидетельствующих о широчайшей распространенности самиздата», – отмечал один из исследователей (Л. Лосев «Закрытый распределитель», 1984).
Высокую ценность самиздата для читателей тех лет хорошо передает анекдот. Мама просит подругу перепечатать на пишущей машинке «Войну и мир». На вопрос: «Зачем?» – она отвечает, что сын-школьник не читает ничего, кроме самиздата.
Почти одновременно с самиздатом появляется тамиздат. Первоначально так назывались произведения живущих в СССР авторов, публикуемые за границей на русском языке (что не только не одобрялось официально, но считалось государственным преступлением).
Первой ласточкой тамиздата был роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» (1957), после публикации которого автор получил Нобелевскую премию и обвинения в измене родине. Через несколько лет (1966) два менее известных автора, А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль, были арестованы и осуждены за публикацию в тамиздате сатирических повестей и рассказов.
Однако с конца 1960-х годов тамиздат становится широким и неконтролируемым потоком, включающим как произведения советских авторов («Пушкинский Дом» А. Г. Битова, «Верный Руслан» Г. Н. Владимова, многие произведения А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова), так и эмигрантских авторов разных поколений (от Бунина и Шмелева до Набокова и Довлатова). С помощью сам– и тамиздата русская литература восполняла пробелы официальной словесности, приобретая свой подлинный объем.
Таким образом, уже в шестидесятые годы структура литературного процесса приобрела завершенный вид на два последующих десятилетия как для его субъектов (писателей), так и для объектов (читателей). Литература этого времени оказывается двухуровневой и четырехэтажной.
ЛИТЕРАТУРА И МИР: ОБРАЗЫ ЭПОХИ
«История литературы – это постепенное движение воды, затопление все новых пространств. Нельзя плыть, перепрыгивая через какие-то части реки, надо преодолевать все пространство» (Ю. В. Трифонов «Импульс первой книги», 1981). Юрий Трифонов предложил точное сравнение, особенно подходящее для послевоенной советской литературы, когда он писал свою первую книгу.
После почти непрерывных тридцатилетних потрясений страна перешла к относительно мирному эволюционному развитию. Советский строй и образ жизни утвердился, сложился и нуждался в новом осмыслении: слишком много «перепрыгиваний» через какие-то части реки и, соответственно, белых пятен оставила предыдущая эпоха.
Первой начинает освоение новых пространств поэзия. В шестидесятые годы («оттепель», как и век назад, календарно начинается в середине 1950-х) не только заново открывают поэтов, начинавших еще в серебряном веке. Вторую молодость переживают авторы 1920-1930-х годов (конечно, те, кто выжил и дожил).
Появляются новые, совсем классические, стихи когда-то озорного и отчаянного обэриута, автора «Столбцов» (1929) Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958). Итоговый сборник философско-исторических поэм «Середина века» (1958) успел подготовить Владимир Алексеевич Луговской (1901–1957). Вызывают интерес новые книги соратника Маяковского Николая Николаевича Асеева (1889–1963) «Лад» (1961); комсомольского поэта, автора знаменитой «Гренады», Михаила Аркадьевича Светлова (1903–1964) «Охотничий домик» (1964), «Стихи последних лет» (1967).
Но в центре всеобщего внимания в это десятилетие оказываются молодые поэты, получившие от него общее имя. Шестидесятники подхватывают и со страстью излагают в стихах идеи «оттепели»: разоблачение Сталина и культа личности, возвращение к нравственным идеалам революции; борьба с мещанством, сравнение СССР и Запада; романтика таежных костров и космических полетов. Это преимущественно общественное, публицистическое направление советской поэзии 1960-1970-х годов получило название громкой, эстрадной лирики. Наиболее известные авторы, включаемые в него, – Евгений Александрович Евтушенко (род. в 1932), Роберт Иванович Рождественский (1932–1994), Андрей Андреевич Вознесенский (1933–2010), Белла Ахатовна Ахмадулина (1937–2010).
Поэтическим ориентиром для шестидесятников был Маяковский и стоящая за ним традиция русского авангарда. У Маяковского были позаимствованы даже многие формальные особенности стиха: ораторская интонация, акцентный стих, неточные рифмы, которые должны восприниматься на слух, «лесенка», передающая интонацию при публикации. Но эти поэты вызвали резонанс, несопоставимый даже с футуристическими скандалами и странствиями по всей стране. «Удивительно мощное эхо, / Очевидно, такая эпоха!» (Л. Мартынов «Эхо», 1955).
Маяковский с товарищами выступал в концертных залах и студенческих аудиториях. Поэты-шестидесятники вышли на площади («Дни поэзии» проводились, частности, у памятника Маяковскому в Москве) и даже на стадионы, для охраны порядка приходилось привлекать конную милицию. Именно в это время в поэме Евтушенко «Братская ГЭС» (1965), героями которой были Стенька Разин и бетонщица Нюшка, Ленин, московские школьники – выпускники, строители Братска и даже египетская пирамида, появляется знаменитый афоризм: «Поэт в России – больше, чем поэт. / В ней суждено поэтами рождаться / лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, / кому уюта нет, покоя нет».
Шестидесятые годы были эпохой не столько великих поэтов, сколько Великого (многочисленного) читателя. А он появился благодаря времени великих надежд, когда страшные призраки прошлого, казалось, исчезли, а на горизонте появился призрак коммунизма.
И голосом ломавшимся моим ломавшееся время закричало, и время было мной, и я был им, и что за важность, кто кем был сначала (Е. Евтушенко «Эстрада», 1966)Однако далеко не все воспринимали время так однозначно. Другой линией развития поэзии шестидесятых годов была так называемая тихая лирика: поэзия ориентированная на классическую традицию, вечные темы, напевную интонацию.
Один из зачинателей тихой лирики – В. Н. Соколов (1928–1997) обнаруживает в творчестве «гражданского» Некрасова неожиданные черты, уравнивая с ним поэта «чистого искусства», творчество которого в советскую эпоху казалось периферийным и идеологически подозрительным:
Вдали от всех парнасов, От мелочных сует Со мной опять Некрасов И Афанасий Фет. Они со мной ночуют В моем селе глухом. Они меня врачуют Классическим стихом. Звучат, гоня химеры Пустого баловства. Прозрачные размеры, Обычные слова. И хорошо мне… В долах Летит морозный пух. Высокий лунный холод Захватывает дух. («Вдали от всех парнасов…», 1960)К тихим лирикам причисляли также Анатолия Владимировича Жигулина (1930–2000), Олега Григорьевича Чухонцева (род. в 1938). Наиболее очевидно свойства тихой лирики проявились в творчестве Николая Михайловича Рубцова (к нему мы еще вернемся).
Однако это противопоставление, первоначально объясняющее, систематизирующее поэзию эпохи, конечно, нельзя абсолютизировать. Поэт – не спортсмен, обязанный бежать по одной дорожке. Выступавшая вместе с другими на стадионах «эстрадная» Б. Ахмадулина по особенностям стиховой речи и тематике была близка, скорее, не Маяковскому, а классической традиции: «Влечет меня старинный слог. / Есть обаянье в древней речи. / Она бывает наших слов / и современнее и резче» («Влечет меня старинный слог…», 1962). С другой стороны, и тихие лирики в случае необходимости обращались к гражданским темам и манифестам, образцом которого можно считать только что процитированное стихотворение В. Соколова.
Поэтов военного поколения разделила война. В эпоху «оттепели» были опубликованы чудом сохранившиеся ранние стихи погибших подававших большие надежды Павла Давидовича Когана (1918–1942), Михаила Валентиновича Кульчицкого (1919–1943), Николая Петровича Майорова (1919–1942). Песня на стихи П. Когана «Бригантина» (1937) превратилась в один из символов шестидесятых годов.
После войны лицом поколения стали Константин Михайлович Ваншенкин (род. в 1925), Евгений Михайлович Винокуров (1925–1993), Юрий Давидович Левитанский (1922–1996), Александр Петрович Межиров (1923–2009). Но особо значительным представляется творчество двух авторов.
Борис Абрамович Слуцкий (1919–1986) упорно создавал реальную, непарадную, трагическую историю века и страны («Я историю излагаю…» – начинается одно из стихотворений), лирический эпос, свое «Кому на Руси жить хорошо», состоящее, однако, из коротких стихотворений. Он писал о сталинских репрессиях и до сих пор преданных вождю генералах, погибающих в океане лошадях и страшной участи военнопленных в Кёльнской яме, старухах без стариков в одиноких квартирах и инвалидах в бедной городской бане. Многие стихи Слуцкого не проходили цензуру и были опубликованы только после его смерти.
Один из постоянных мотивов поэзии Слуцкого – память, долг живых перед погибшими (здесь он очень близок Твардовскому). Несколько стихотворений поэт посвятил другу студенческой юности М. Кульчицкому. Одно из них – негромкий и гордый реквием – написано от лица погибшего, но объединяет павших и живых в единое «Мы» (очень важное понятие для поэзии военного поколения).
Давайте после драки Помашем кулаками, Не только пиво-раки Мы ели и лакали, Нет, назначались сроки, Готовились бои, Готовились в пророки Товарищи мои. Сейчас все это странно, Звучит все это глупо. В пяти соседних странах Зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов — Фанерный монумент — Венчанье тех талантов, Развязка тех легенд. За наши судьбы (личные), За нашу славу (общую), За ту строку отличную, Что мы искали ощупью, За то, что не испортили Ни песню мы, ни стих, Давайте выпьем, мертвые, За здравие живых! («Голос друга», 1952)Давид Самуилович Самойлов (1920–1990) соединял с памятью о войне (ему принадлежит прекрасная формула, передающая самоощущение поколения: «Сороковые, роковые, / Свинцовые, пороховые… / Война гуляет по России, А мы такие молодые!», 1961) интерес к дальней истории. Он профессионально занимался пушкинской эпохой и писал о ней. Его баллада «Пестель, Поэт и Анна» является проницательным анализом различий между мышлением политика и поэта. Поэма «Сон о Ганнибале» посвящена драматической биографии пушкинского предка. В ироническом «Струфиане» смерть Александра I иронически связывается с пришествием инопланетян, которые похищают императора.
Самойлов был мастером и поэтической миниатюры, краткостью и афористичностью напоминающей эпиграмму.
Да, мне повезло в этом мире — Прийти и обняться с людьми И быть тамадою на пире Ума, благородства, любви. А злобы и хитросплетений Почти что и не замечать. И только высоких мгновений На жизни увидеть печать. («Да, мне повезло в этом мире…», 1982)Однако поэты этой эпохи и прямо продолжают традиции философской лирики. Стихотворения Арсения Александровича Тарковского (1907–1989), Леонида Николаевича Мартынова (1905–1980) часто строятся как прямое размышление на заданную тему или рифмованная притча, когда мысль вырастает из пейзажной зарисовки или бытового наблюдения.
А ты? Входя в дома любые — И в серые И в голубые, Всходя на лестницы крутые, В квартиры, светом залитые, Прислушиваясь к звону клавиш И на вопрос даря ответ, Скажи: Какой ты след оставишь? След, Чтобы вытерли паркет И посмотрели косо вслед, Или Незримый прочный след? В чужой душе на много лет? («След»)Все предметные детали имеют здесь условный характер: дома, лестницы, квартиры и клавиши нужны лишь для того, чтобы поставить заключительный вопрос. Обычный след на паркете в концовке этого стихотворения превращается в след метафорический – память.
Главный философский (метафизический) поэт эпохи, Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) сформировался чуть позднее и был практически неизвестен читателям официальной поэзии. Его стихи распространялись лишь в самиздате.
Важной краской в поэтической картине эпохи становится творчество поющих поэтов, бардов. В отличие от профессиональных «поэтов-песенников», часто сочинявших стихи на готовую мелодию (для них существовало обидное жаргонное словечко – «рыба»), барды уделяли главное внимание стихам, которые пелись или даже просто проговаривались под гитару на какой-то простой мотив.
Стихи-песни Александра Аркадьевича Галича (1918–1977), Владимира Семеновича Высоцкого (1938–1980), Булата Шалвовича Окуджавы (1924–1977) были, как правило, магнитофонным самиздатом. Тяжелый магнитофон марки «Яуза» превратился даже в более мощное средство противостояния официальной культуре, чем пишущая машинка «Эрика»! «Напетые вполголоса», стихи бардов расходились по всей стране в тысячах копий (об особенностях этой поэзии мы поговорим на примере творчества В. Высоцкого).
Направления прозы послевоенного советского века определялись, прежде всего, не интонационно (громкий – тихий), а тематически. Именно проза (эпические произведения разных жанров) заполняла и расширяла культурное пространство, ставила острые проблемы современности, открывала новые типы, разрушала идеологические штампы, предлагала новый взгляд на ближнюю (советскую) и дальнюю (русскую) историю: «Вода дырочку найдет».
Двумя «направлениями главного удара» были военная проза и деревенская проза.
В «лейтенантской прозе», повестях Юрия Владимировича Бондарева (род. в 1924) «Батальоны просят огня» (1957), Григория Яковлевича Бакланова (1923–2009) «Пядь земли» (1959), в «окопных» и «партизанских» повестях Василя Владимировича Быкова (1924–2003) «Журавлиный крик» (1959), «Мертвым не больно» (1966), «Сотников» (1970), Вячеслава Петровича Кондратьева (1920–1993) «Сашка» (1979) был создан образ другой Великой Отечественной войны.
Оставаясь Великой и Отечественной, она предстала не только смертельной битвой с фашизмом, но трагическим и противоречивым событием, где честолюбивые генералы заслуживали награды солдатской кровью, бежавшим из плена приходилось доказывать свою невиновность и иногда отправляться уже в советские лагеря, тыл не только работал для фронта, но служил убежищем для шкурников и трусов.
Наиболее развернутую и продуманную картину непарадной войны предложил Василий Семенович Гроссман (1905–1964) в книге «Жизнь и судьба» (1960), продолжающей традицию великих «И»-романов XIX века. Она настолько ломала привычные представления и штампы, что была не только запрещена, у автора конфисковали все рукописи и подготовительные материалы. Партийный идеолог сказал Гроссману, что роман можно будет опубликовать лет через двести-триста.
Историческое время все-таки идет быстрее. По сохранившемуся у друзей экземпляру в тамиздате (Лозанна) «Жизнь и судьба» была опубликована через двадцать лет, в СССР – через двадцать восемь (1988). «Этот роман – грандиозный труд, который едва ли назовешь просто книгой, в сущности, это несколько романов в романе, произведение, у которого есть своя собственная история – одна в прошлом, другая в будущем», – написал человек, в годы войны, воевавший на противоположной стороне, немецкий писатель Генрих Бёлль.
Деревенская проза начиналась с очерков Валентина Владимировича Овечкина (1904–1968) «Районные будни» (1952–1956). Позднее появились цикл из четырех социально-бытовых романов Федора Александровича Абрамова (1920–1983) «Пряслины» (1958–1978), психологическая повесть Василия Ивановича Белова (род. в 1932) «Привычное дело» (1966) и его роман о коллективизации на Севере «Кануны» (1972–1987), мемуарные и экологические повествования Виктора Петровича Астафьева (1924–2001) «Последний поклон» (конец 1950-х – 1979) и «Царь-рыба» (1976). Важное место в деревенской прозе занял рассказ Александра Исаевича Солженицына (1918–2008) «Матренин двор» (первоначальное заглавие – «Не стоит село без праведника», 1962).
Эти и другие авторы, в полемике с лакировочными иллюстрациями официозной литературы, изображали трагические испытания, через которые прошла русская деревня во время коллективизации, войны, послевоенную эпоху. Писатели создавали образ постепенно утрачиваемого крестьянского мира, «лада» (заглавие документальной книги В. Белова, 1982). Ответы на вопрос «кто виноват?» давались разные: виновные находились в широком диапазоне от сталинской коллективизации до технической цивилизации.
Фактически завершила развитие советской деревенской прозы повесть Валентина Григорьевича Распутина (род. в 1936) «Прощание с Матерой» (1976). Бытовая картина затопления деревни на Ангаре во время строительства электростанции предстала в «Прощании…» символическим изображением гибели мира, ухода под воду крестьянской Атлантиды. Центральный символический образ Распутина заставляет вспомнить знаменитый роман колумбийца Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества» (1967), где история жизни и гибели одной семьи тоже символически отражает катастрофу мира и человечества.
Своеобразным послесловием к деревенской прозе оказалась следующая повесть Распутина, «Пожар» (1985), с эпиграфом из народной песни «Горит, горит село родное…». Появившаяся в «начале конца» советской эпохи, она констатировала кризис прежних нравственных устоев, создавала ощущение трагизма и безнадежности.
Менее очевидными и творчески выявленными были другие направления и тенденции литературы этих десятилетий: производственный роман («Не хлебом единым» В. Д. Дудинцева, 1956) и производственная драма («Человек со стороны» И. М. Дворецкого, 1972), городская проза (ее основоположнику Ю. В. Трифонову мы посвятим отдельную главу), историко-революционная и историческая проза (огромный цикл романов Д. М. Балашова о средневековой Руси «Государи Московские», 1975–2000; повести и романы Ю. В. Давыдова о народовольцах, роман Ю. В. Трифонова об Андрее Желябове «Нетерпение», 1973).
Более того, в советской литературе существовало специальное «персональное» направление – лениниана (так называлась одна из книг М. С. Шагинян). Были писатели, которые всю жизнь сочиняли книги только о вожде советского государства (этот официозный труд считался престижным и ответственным, удостаивался всяческих премий и знаков отличия). С другой стороны, не прекращались попытки борьбы с официозом и на этом направлении, желание воссоздать подлинный облик Ленина и его историческую роль.
Самой безразмерной и универсальной в советском веке была нравственная тематика. Литература всегда имеет дело с этическими вопросами. Поэтому в подобную группу относили произведения, не находящие себе места в привычной тематической и жанровой классификации, изображающие сложных, неоднозначных персонажей, ориентированные на классическую традицию, для которой нравственность была необсуждаемым ориентиром (проза Ю. П. Казакова, А. Г. Битова, Ч. Т. Айтматова, драматургия В. С. Розова).
Ю. Трифонов шутливо заявил на одном литературном собрании: «Прошу перевести меня из литературы „быта“ в литературу „нравственности”». Одним из самых блистательных представителей литературы нравственности оказался рано и нелепо погибший (за два дня до своего тридцатипятилетия он утонул в озере Байкал) драматург Александр Валентинович Вампилов (1937–1972).
Еще студентом публикуя юмористические рассказы в иркутских газетах, Вампилов вскоре перешел к драматургии, успев сочинить несколько одноактных и четыре большие пьесы. В драмах Вампилова сочетаются тонкий «чеховский» психологизм (Чехов был любимым драматургом Вампилова) и увлекательно построенная фабула, восходящая к традициям Гоголя, Шекспира и даже античной драматургии.
В истории драмы часто используется мотив узнавания: герой или героиня через много лет внезапно открывает истину о своем рождении или обнаруживает утерянного когда-то ребенка. Комедия «Старший сын» (1968) оригинально и парадоксально использует его. Никогда не знавший отца студент появляется в чужом доме, на окраине сибирского городка, и выдает себя за сына хозяина. «У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто, – говорит он случайному спутнику. – Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. Их надо напугать или разжалобить».
Но вранье через сутки становится правдой. Узнавая жизнь музыканта-неудачника, «святого человека», Бусыгин действительно ощущает ответственность за него и его неустроенных родных детей. «Откровенно говоря, я сам уже не верю, что я вам не сын», – признается он в конце пьесы. И слышит в ответ: «Не верю! Не понимаю! Знать этого не хочу! Ты – настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый сын!»
Принцип духовного родства оказывается в «Старшем сыне» важнее, чем голос крови.
Другая святая скрывается в мире Вампилова под именем девушки-буфетчицы Валентины («Прошлым летом в Чулимске», 1972). Преодолевая собственную трагедию, она освещает жизнь вокруг, напоминает людям об идеале, незаметно вырастающем из неприглядной реальности. Символом постоянного преодоления становится ограда палисадника, которую все ломают, а Валентина упорно чинит: «Ведь если махнуть на это рукой и ничего не делать, то через два дня растащат весь палисадник. <…> Да нет же, они поймут, вы увидите. Должны же они понять – в конце концов. Я посею здесь маки и тогда…»
В «Утиной охоте» (1970) главным героем, напротив, становится потерявший смысл жизни герой, дальний наследник Печорина, который является «топором в руках судьбы». Жалеющий не своих близких, а уток, он в конце драмы преодолевает и эту слабость, наконец собираясь на утиную охоту, чтобы убивать.
Вампилов ставил парадоксальные нравственные эксперименты. Его драмы, вырастая из точно воспроизведенного быта, превращались в размышления на вечные темы, философские притчи.
Однако – напомню – читаем, оцениваем и любим мы не темы и направления, а конкретные тексты. Они могли появиться на разных этажах литературного процесса. Официального, государственного признания в виде различных премий временами удостаивались не только заказные поделки, но и талантливые произведения. Автор из неофициальной оппозиции мог пустить свое запрещенное произведение в самиздат или отправить в тамиздат. Или, напротив, он уставал в своих «нравственных исканиях», писал что-то «нужное» и вдруг превращался в официозного, государственно одобряемого автора. Но если он решал эмигрировать и покидал пределы СССР, то вынужден был продолжать свою литературную деятельность только в тамиздате, даже если его темы и поэтика абсолютно не менялись: произведения новых эмигрантов не публиковали и изымали из библиотек и магазинов.
Изначально простая картинка, таким образом, запутывается, становится загадочной. Главным критерием оценки произведения в исторической перспективе становится такая трудноопределимая, но решающая вещь, как талант, художественное качество произведения.
На одной из эмигрантских литературных конференций, пытаясь представить цельную картину русской литературы, Сергей Довлатов «предсказывал назад» (немецкий философ Ф. Шлегель называл историка «пророком, предсказывающим назад»): «Очень полезно было бы взглянуть на сегодняшнюю ситуацию через двести лет. Это сделать невозможно, но можно поступить наоборот. Можно взглянуть отсюда на литературу столетней давности, и тогда сразу возникнут впечатляющие аналогии. <…> Время сглаживает политические разногласия, заглушает социальные мотивы и, в конечном счете, наводит порядок. Взаимоисключающие тенденции образуют единый поток. <…> Сто лет назад было все: были правоверные, были либералы, был самиздат, были диссиденты. <…> Все было, и всякое бывало. Мне кажется, что любой из присутствующих сможет обнаружить в истории литературы своего двойника. <…> Литературный процесс разнороден, литература же едина. Так было раньше, и так, мне кажется, будет всегда» («Две литературы или одна?», 1981).
Через три года Довлатов продолжает собственную мысль, предсказывая уже не назад, а вперед: «Нет сомнения, что лучшие из нас по обе стороны железного занавеса рано или поздно встретятся в одной антологии» («From USA with love», 1984).
Так в конце концов и случилось. Но лишь в самом конце XX века. Когда прошло время и завершилась эпоха, группы и направления распались на лица и голоса.
ПОСЛЕ XX ВЕКА: -ИЗМЫ И ТЕКСТЫ
Исторический «короткий двадцатый век», как мы помним, закончился за десятилетие до календарного. На этом рубеже четырехэтажная структура литературного процесса, характерная для последних десятилетий советской эпохи (1960–1980-е годы), оказалась сломанной. Отмена цензуры (законодательно закрепленная в законе «О средствах массовой информации», 1992) и отказ государства от поддержки «нужной» идеологически важной литературы привели к тому, что на какое-то короткое время Госиздат (и другие издательства) превратился в филиал сам– и тамиздата. За пять лет (1987–1991) огромными тиражами в журналах, книгах, собраниях сочинений была опубликована «возвращенная литература», которая копилась на неофициальном уровне все советские десятилетия. На какое-то время вытеснив, закрыв для читателя современную литературу, эти авторы и произведения в конце концов заняли свои места в истории: «Собачье сердце» и «Чевенгур» – в двадцатых годах, «Реквием» – в сороковых, «Доктор Живаго» – в пятидесятых.
Но как же быть с литературой современной, которая пишется и читается сегодня? После недолгого смятения эпоха, наступившая после XX века, была объявлена постмодернистской (тем более, что в культуре западной о постмодернизме заговорили уже в середине прошлого века). К этому направлению относят стихи Д. Пригова и Т. Кибирова, прозу Вен. Ерофеева, В. Сорокина, В. Пелевина, В. Пьецуха. В книгах о постмодернизме обычно упоминаются десятки и даже сотни имен, причем многие авторы даже не подозревают о своей постмодернистской сущности.
Один из таких «назначенных» постмодернистов, А. Г. Битов, в шутку назвал первым постмодернистом «наше все», А. С. Пушкина. Описать теоретические установки постмодернизма легче, чем обнаружить образец чистокровного, без посторонних примесей, автора-постмодерниста.
Философским основанием постмодернизма стала идея всеобщей относительности, релятивизма.
Прежняя культура строилась по принципу дерева, рассуждают постмодернисты (не случайно мировое древо – один из древнейших символов). В дереве четко различаются ствол, большие и малые ветви, листья, основной корень и корневая система. Точно так же и мир культуры понимался целостно, иерархически: в нем существовала структурная основа, можно было различить центр и периферию, более и менее важные вещи.
В эпоху постмодернизма «мир потерял свой стержень», превратился в хаотичный набор предметов, явлений и признаков. Его метафорическим образом становится ризома (от фр. rhizome – корневище) – пучок корешков, луковица, которая может принимать любые формы и принципиально отменяет понятие центра, следовательно, противопоставление главного и второстепенного (эту теорию придумали и обосновали французы Ж. Делез и Ф. Гваттари, 1976).
Поэтому идеи, которые волновали старых философов, – о соотношении объективного бытия и сознания, добра и зла, истины и красоты – безнадежно устарели. В новую эпоху исчезли культурные границы между «верхом» и «низом», истину установить невозможно, она сменилась разнообразием частных, индивидуальных мнений.
В литературе же писатель имеет дело не с историческими и нравственными проблемами, не с характерами и событиями, а только со словами. Причем все слова уже давно сказаны, все произведения написаны, мир литературы представляет огромный, но замкнутый интертекст, который новый автор может только иронически цитировать (ведь серьезный разговор о важных вещах уже невозможен).
Впрочем, постмодернисты провозгласили «смерть автора» и этого субъекта они чаще называют переписчиком, «скриптором», потому что он повторяет уже кем-то сказанные слова и не имеет ни образа, ни индивидуальности, превращаясь в анонима, неличность.
Известный итальянский теоретик и писатель Умберто Эко, автор романов «Имя розы», «Остров Накануне», которого давно называют классиком постмодернизма, приводит пример постмодернистского объяснения в любви: «Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей „люблю тебя безумно“, потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы – прерогатива Лиала (итальянская писательница, автор коммерческих «женских романов» – И. С.). Однако выход есть. Он должен сказать: „По выражению Лиала – люблю тебя безумно“. При этом он избегает деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до ее сведения то, что собирался довести, – то есть что он любит ее, но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты. Если женщина готова играть в ту же игру, она поймет, что объяснение в любви осталось объяснением в любви. Ни одному из собеседников простота не дается, оба выдерживают натиск прошлого, натиск всего до-них-сказанного, от которого уже никуда не денешься, оба сознательно и охотно вступают в игру иронии… И все-таки им удалось еще раз поговорить о любви» («Заметки на полях „Имени розы”», 1983).
Однако даже этот остроумный пример кажется недостаточно постмодернистским. Ведь персонажи микросюжета Эко имеют дело не только со словами, но – с чувствами, пусть и в эпоху утраченной простоты. Они выражают их сложным, «рикошетным» образом, прибегая к цитатности, но такого рода «игру иронии» действительно можно отыскать у «постмодернистов» Пушкина, Толстого или Андрея Белого.
Культурную иерархию, которую настойчиво отрицают постмодернисты, тоже разрушить не так-то просто. Культура и есть – искусство различения. Поэтому, вопреки первоначальным установкам, в постмодернизме тоже появляются свои «неканонические классики».
Попробуем в виде кратких формулировок обозначить различия между тремя культурными эпохами, которые сменяли друг друга и одновременно сосуществовали в XX веке.
«Миметическая поэтика» (классический реализм и близкие к нему теории): «Произведение – не только текст, но – художественный мир, отсылающий к внешней реальности и высказывающий истину о ней».
Модернизм в его авангардистском варианте: «Произведение – текст, представляющий намерение создателя, правду творца».
Постмодернизм: «Произведение – анонимный, безличный фрагмент интертекста, с которым можно лишь играть, бесконечно цитировать его, не ставя вопроса ни о правде, ни об истине».
Модели противоположных, уже не авторских, а читательских позиций можно сконструировать путем трансформации гениально простого и точного пушкинского афоризма.
«Над вымыслом слезами обольюсь» – позиция читателя-«реалиста». Понимая природу искусства (вымысел), он относится к нему как к особой реальности, и проливает искренние, реальные слезы.
Читатель-модернист отрицает реальность вымысла, превращает его в чистую фикцию, но еще может проливать реальные слезы.
Читатель-постмодернист смеется, иронизирует, издевается и над вымыслом, и над слезами.
Постмодернисты правы в том, что мир стремительно меняется, следовательно, иным становится место культуры и литературы. Но в современной мозаичной культуре должно найтись место прежним представлениям о традиции, оригинальности, истине. При этом – вспомним еще раз – читаем мы не абстрактные – измы, а конкретных авторов и их произведения.
Учебники истории литературы XXI века, скорее всего, будут написаны все-таки не по ризомному, а по древесному принципу. Однако кому из наших современников там будут посвящены отдельные главы, можно только догадываться.
В мозаичной современности, в отличие от истории, еще ничего не решено. Мы можем двигаться в любом направлении, назначать себе кумиров и разочаровываться в них. Можем даже, если хватит терпения и таланта, сами написать книгу, которую хотим прочитать (с такого чувства неудовлетворенности и соперничества начинались некоторые замечательные литературные судьбы).
Мы можем все, только помня о предупреждении из «Нобелевской речи» И. Бродского, которое уже цитировалось в начале нашего историко-литературного пути: «Ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступление против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не преследование авторов, не цензурные ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует преступление более тяжкое – пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это совершает нация – она платит за это своей историей».
Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ (1910–1971)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир Твардовского
ЛИРИЧЕСКИЙ ЭПОС: СУДЬБА СТРАНЫ
Александр Трифонович Твардовский родился на смоленском хуторе в крестьянской семье. Стихи он начал сочинять еще «до овладения первоначальной грамотой». «Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда – ничего от стиха, но я отчетливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание этого – и лада, и ряда, и музыки – желание родить их на свет – и немедленно – чувство, сопутствующее и доныне всякому новому замыслу», – вспоминал поэт через много лет («Автобиография», 1947–1965).
В XIX веке Твардовского, скорее всего, ожидала бы судьба крестьянских «поэтов-самородков» вроде А. Кольцова или И. Сурикова, существовавших в стороне от основных направлений русской поэзии, в своеобразной резервации, на которую поэты-дворяне смотрели чуть снисходительно. Но он родился в иную эпоху, и в его поэтическую судьбу властно вмешалась история.
Твардовский входил в жизнь в годы «великого перелома», когда резко, радикально, трагически менялась деревенская жизнь. Во время коллективизации его отец был несправедливо признан кулаком и вместе с семьей сослан в Сибирь. Но сын, поверив в идеалы новой жизни, все более талантливо начинает воплощать их в стихах.
Главным из русских поэтов для Твардовского был Некрасов, причем не автор разночинских психологических стихотворений, поэт грусти и уныния, а бытописатель крестьянской жизни. Уже в ранних стихотворениях определились основные свойства Твардовского-поэта, во многом близкие этой линии некрасовского творчества: деревенская тематика (его довоенные стихи обычно публикуются в разделе с авторским заглавием «Сельская хроника»); форма развернутого описательного стихотворения, даже не баллады, а стихотворного рассказа; классические силлабо-тонические размеры, которые после модернистских экспериментов многим казались устаревшими; разговорная интонация, так называемый говорной стих (поэтому, в отличие от близких тематике, но насквозь напевных С. Есенина или М. Исаковского, на стихи Твардовского практически не писали песен); широкое использование разнообразных стилистических ресурсов малых фольклорных жанров и устной речи: поговорок, частушек, каламбуров, колоритных диалектных словечек.
Все эти особенности легче могли реализоваться, развернуться в большой стихотворной форме. Поэтому главным жанром творчества Твардовского, определяющим его единство и выявляющим его эволюцию, становится лирический эпос, поэма. Написанные в 1930-1960-е годы поэмы Твардовского отражают разные этапы советской истории, превращаются в поэтическую летопись времени.
На коллективизацию Твардовский откликается не только многочисленными стихотворениями, но и тремя поэмами. Первые, «Путь к социализму» (1931) и «Вступление» (1932), он справедливо считал неудачными и никогда не перепечатывал. Зато подготовленная ими «Страна Муравия» (1934–1936) сделала поэта официально признанным и знаменитым. По одной из легенд, во время учебы в МИФЛИ (Московский институт философии и литературы), Твардовскому в конце тридцатых годов пришлось рассказывать на экзамене о своей поэме, она уже попала в список обязательного чтения.
Фабула поэмы напоминает некрасовский эпос о поисках счастливого. Герой поэмы – крестьянин-единоличник, трудяга, мечтающий о своем скромном мужицком счастье в стране Муравии. «Земля в длину и ширину / Кругом своя. / Посеешь бубочку одну, / И та – твоя». Он отправляется в путь по стране, мечтая найти место, куда не доберется начавшаяся коллективизация:
Вот я Никита Моргунок, Прошу, товарищ Сталин, Чтоб и меня и хуторок Покамест что… оставить. И объявить: мол так и так, — Чтоб зря не обижали, — Оставлен, мол, такой чудак Один во всей державе. (гл. 7)Он встречается с родственниками и с попом, оказывается на печальной последней гулянке высылаемых на Соловки кулаков и на шумном базаре. У него воруют любимого коня. Он сам, дивя людей, впрягается в телегу. Позднее конь внезапно находится.
В итоге дорога приводит героя в идеальный колхоз на счастливую свадьбу после нового урожая, где и начинается тот самый пир на весь мир, о котором когда-то мечтали некрасовские мужики.
Поспела свадьба новая Под пироги подовые, Под свежую баранину, Под пиво на меду, Под золотую раннюю Антоновку в саду. <…> Деды! Своею властью Мы здесь, семьею всей Справляем наше счастье На свадьбе на своей… За пару новобрачную, За их любовь удачную, За радость нашу пьем, За то, что по-хорошему, По-новому живем! (гл. 18)Последнюю точку в разнообразных приключениях и духовных странствиях Никиты Моргунка ставит другой странник, словно пришедший из поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
Из счастливой колхозной деревни отправился на поклонение в Киевскую лавру старик, «остатний богомол». «И стыдили, и грозили… / «Все стерплю, терпел Иисус, / «Может, я один в России / Верен богу остаюсь», – передает Моргунку его слова старик сторож.
Но богомолье не заладилось. «И вот в пути, в дороге дед / Был помыслом смущен: / – Что ж бог, его не то что нет, / Да не у власти он…» Старик поворачивает обратно в родную деревню. Встретив так и не дошедшего до лавры «ходока к святым местам», Никита задает ему главный вопрос о Муравской стране.
И отвечает богомол: – Ишь, ты шутить мастак. — Страны Муравской нету, мол. – Как так? – А просто так. Была Муравская страна И нету таковой Пропала, заросла она Травою-мур авой. Зачем она, кому она, Страна Муравская нужна, Когда такая жизнь кругом, Когда сподручней мне, — И торкнул в землю посошком, — Вот в этой жить стране? (гл. 19)«Так, говоришь, в колхоз, отец?» – задает Моргунок вопрос, ответ на который очевиден.
Фабула поэмы Твардовского была условна, утопична. Она отвечала социальному заказу и не передавала разворачивавшейся в СССР трагедии коллективизации. Но покоряли естественность и свобода поэтической речи, богатство интонаций, пластический талант изображения человека и мира.
И деревням и верстам счет Оставил человек, И конь покорно воду пьет Из неизвестных рек. Дорога тянется вдали И грусть теснит в груди: Как много неба и земли Осталось позади. И весь в пыли, как хлеб в золе Никита Моргунок; На всей планете, на Земле Один такой ездок. (гл. 8)В «Стране Муравии» Твардовский «всем лозунгам поверил до конца», показал осуществление утопической мечты и лишь отчасти намекнул на драматизм эпохи. Последующий путь поэта был освобождением от иллюзий, движением от утопии к реальности.
«Василий Теркин» оказался главной книгой Твардовского, достойно и глубоко отразившей главное событие советской истории – Великую Отечественную войну. Не случайно, вопреки реальной хронологии (поэма была начата в 1942 году и закончена уже после Победы), Твардовский ставит под ней даты: 1941–1945. Книга оказалась равной войне.
Слово книга стало обозначением жанра «Василия Теркина». Твардовский объяснял его так: «Жанровое обозначение „Книги про бойца“, на котором я остановился, не было результатом стремления просто избежать обозначения „поэма“, „повесть“ и т. п. Это совпадало с решением писать не поэму, не повесть или роман в стихах, то есть не то, что имеет свои узаконенные и в известной мере обязательные сюжетные, композиционные и иные признаки. У меня не выходили эти признаки, а нечто все-таки выходило, и это нечто я обозначил „Книгой про бойца“. Имело значение в этом выборе то особое, знакомое мне с детских лет звучание слова „книга“ в устах простого народа, которое как бы предполагает существование книги в единственном экземпляре. <…> Так или иначе, но слово „книга“ в этом народном смысле звучит по-особому значительно, как предмет серьезный, достоверный, безусловный» («Как был написан „Василий Теркин”», 1951–1966).
В структурном отношении нечто Твардовского напоминает «Евгения Онегина» («даль свободного романа») и «Войну и мир» (Толстой, как мы помним, называл свое создание книгой и отказывался соотносить его с традиционными жанрами). «Василий Теркин» тоже строится на принципе жанровых нарушений и отступлений, в свою очередь создавая жанровую традицию уникумов, подчинявшихся не прежним условным формам, а закону органического саморазвития темы.
Поэт утверждал, что книга начала складываться с того, что был «угадан герой». Персонаж с такой фамилией появился в фельетонах, сочинявшихся во время финской кампании 1939–1940 гг. Однако важные различия между этими «однофамильцами» начались со смены одного эпитета.
Вася Теркин? Кто такой? Скажем откровенно: Человек он сам собой Необыкновенный, —было сказано в фельетоне «Вася Теркин на фронте» (1940).
«Замечу, что, когда я вплотную занялся своим ныне существующим „Теркиным“, – объяснял Твардовский, – черты этого портрета резко изменились, начиная с основного штриха:
Теркин – кто же он такой? Скажем откровенно: Просто парень сам собой Он обыкновенный.И можно было бы сказать, что уже одним этим определяется наименование героя в первом случае Васей, а во втором – Василием».
В итоге необыкновенный смельчак и удачник Вася, совершающий абсолютно невероятные подвиги (в одном из фельетонов он, маскируясь под снежную кочку, брал «языка», в другом – крючком выдергивал из самолета вражеского летчика), превратился в простого деревенского парня Василия Теркина.
Теркинская фабула строится на поэтике обыкновенного, опирается на события, которые могли произойти с каждым оказавшимся на переднем крае солдатом: привал – отступление, случайный приход в родную деревню – переправа – ранение – встреча на фронтовой дороге – бой за населенный пункт Борки – наступление – еще одно ранение – встреча с генералом – письмо из госпиталя – вторая переправа, форсирование Днепра – еще одна случайная встреча по дороге на Берлин – солдатская баня.
Немногие исключительные, эксцентрические события (им посвящены всего три главы: Теркин сбивает из винтовки самолет, бьется врукопашную с немцем, ведет диалог со Смертью) снижены, даны в юмористическом или ироническом освещении. «Сам стрелок глядит с испугом: / Что наделал невзначай» («Кто стрелял?»). – «Теркин знал, что в этой схватке / Он слабей: не те харчи» («Поединок»). – «Прогоните эту бабу, / Я солдат еще живой» («Смерть и воин»).
Внутри большого враждебного мира войны создается, таким образом, малый домашний мир знакомых предметов и простых человеческих связей. Война в «Теркине» предстает частью человеческой жизни, где есть место всему – любви, ненависти, трудной работе, отдыху, страху, смеху…
Герой сохраняет спокойствие, вселяет надежду, умеет увидеть смешное даже в самых трудных, безнадежных ситуациях. Балагурство, жизнелюбие Василия Теркина, его «неунывающая душа» – сущностное, философское свойство героя: «Балагуру смотрят в рот, / Слово ловят жадно. / Хорошо, когда кто врет / Весело и складно» («На привале»).
В первой главе «От автора» Твардовский утверждает это от первого лица:
Жить без пищи можно сутки, Можно больше, но порой На войне одной минутки Не прожить без прибаутки, Шутки самой немудрой.На самом деле теркинских шуток в книге не так много, около полутора десятков. «Вдруг как сослепу задавит, – / Ведь не видит ни черта» (про немецкий танк). – «Прочно сделали, надежно – / Тут не то что воевать, / Тут, ребята, чай пить можно, / Стенгазету выпускать» (про блиндаж, в котором герой оказывается под обстрелом собственной артиллерии). – «Ах ты, Теркин. Ну и малый. / И в кого ты удался, / Только мать, наверно, знала… / – Я от тетки родился…» Но они окрашивают весь текст в простодушно-насмешливые тона: примиряют, утешают, воодушевляют.
Однако нельзя забывать, что главной темой, сюжетом книги является страшная война. В мире книги герой и автор живут согласно известной поговорке memento mori (помни о смерти).
Уже в первом вступлении «От автора» Твардовский намекнет: «Почему же без конца? / Просто жалко молодца». А в статье «Как был написан „Василий Теркин”» прямо напишет: «Мне казалось понятным такое объяснение в обстановке войны, когда конец рассказа о герое мог означать только одно – его гибель».
Герой все-таки останется – в пределах книги – живым, бессмертным, пересилив, переиграв в прямом сражении саму Косую. «И, вздохнув, отстала Смерть» («Смерть и воин»). Но мотив смерти является в «книге про бойца» одним из главных, ведущих.
«И увиделось впервые, / Не забудется оно: / Люди теплые, живые / Шли на дно, на дно, на дно…» («Переправа») – «И забыто – не забыто, / Да не время вспоминать, / Где и кто лежит убитый / И кому еще лежать» («Гармонь»). – «И в глуши, в бою безвестном / В сосняке, в кустах сырых / Смертью праведной и честной / Пали многие из них» («Бой в болоте»).
В последнем прощании с читателем автор еще раз вздохнет: «Скольких их на свете нету, / Что прочли тебя, поэт, / Словно бедной книге этой / Много, много, много лет», – и посвятит любимый труд «павших памяти священной».
В книге Твардовского создается не только образ веселого, неунывающего солдата-победителя, но и ощущение великой и страшной войны. Теркинскую фабулу постоянно расширяет прием панорамирования. Семь раз в тридцати главах повествование отрывается от героя, невидимая камера взмывает вверх, и мы охватываем события одним взглядом, видим войну словно на глобусе.
Заняла война полсвета, Стон стоит второе лето. Опоясал фронт страну. Где-то Ладога… А где-то Дон – и то же на Дону… Где-то лошади в упряжке В скалах зубы бьют об лед… Где-то яблоня цветет, И моряк в одной тельняшке Тащит степью пулемет… Где-то бомбы топчут город, Тонут на море суда… Где-то танки лезут в горы, К Волге двинулась беда. («Генерал»)После эпического разворота, данной через детали масштабной картины, рамки повествования резко сужаются, начинается очередная теркинская история:
Где-то будто на задворке, Будто знать про то не знал, На своем участке Теркин В обороне загорал.Такие панорамы напоминают перечисления-перечни «Евгения Онегина» или дорожные пейзажи «Мертвых душ».
Еще одна особенность, связывающая книгу Твардовского с классической традицией, – образ автора. Как в пушкинском «романе в стихах», в «книге про бойца» автор является полноправным героем книги. Четыре главки «От автора» и глава «О себе» складываются еще в одну сюжетную линию книги, дополняясь лирическими отступлениями в других главах.
Образ автора, как и образ главного героя, подчиняется законам поэтического обобщения и идеализации. Автор тоскует по занятым врагом родным местам, вспоминает о детстве, объясняет свое внутреннее родство с героем и структуру книги, обращается к другу-читателю. Воюющий поэт – вот главная его черта. «Я – любитель жизни мирной – / На войне пою войну» («От автора», 2). – «Смолкнул я, певец смущенный, / Петь привыкший на войне» («От автора», 4). Называя себя певцом, автор словно отодвигает себя в историю, включается в число певцов первой Отечественной войны («Певец во стане русских воинов» – заглавие известного патриотического стихотворения В. А. Жуковского, 1812).
И это не случайно. Время Великой Отечественной войны отличалось стремлением реабилитировать русскую историю, возродить патриотические традиции, найти примеры для подражания не только в близком, советском, но и в далеком, имперском, прошлом.
Мир «Василия Теркина» – это идеальное пространство, где русское и советское не конфликтуют, а мирно сосуществуют. В главе «О кисете» двадцать пять лет существования советского государства, о которых говорится первоначально, вдруг оборачиваются огромным сроком: «Сколько лет живем на свете? / Тыщу?.. Больше! То-то, брат!»
Твардовский, как ранее Андрей Платонов, как позднее Василий Шукшин, мечтает о той будущей, несостоявшейся России, в которой советская история оказывается продолжением и идеальным воплощением истории русской – с родимым сельсоветом, домом у дороги, березой под окном, девчонкой на вечерке, мирным трудом на своей земле.
О. Э. Мандельштам в стихотворении «Век» (1922) спрашивал: «Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки /
И своею кровью склеит / Двух столетий позвонки?» И сам же отвечал: «Чтобы вырвать век из плена, / Чтобы новый мир начать, / Узловатых дней колена / Нужно флейтою связать».
Стихотворный эпос Твардовского был одной из первых попыток «склеить позвонки» русской и советской эпох. Мать-Россия, родная земля, попавшая в беду, стала почвой, на которой это оказалось возможным (однако попавшую к Мандельштаму от Державина поэтическую флейту заменила простодушная деревенская гармонь).
«Русский дух» безошибочно уловил в «Василии Теркине» очень далекий от Твардовского и вообще мало кого жаловавший в современной литературе И. А. Бунин. Прочитав книгу в сентябре 1947 года, он просил старого друга-писателя Н. Д. Телешова «при случае» передать автору: «…Я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, – это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова».
Твардовский и сам понимал, что «книга про бойца» была его поэтической вершиной, его звездным часом. В эпилоге он смотрит на свое создание словно со стороны, из другого пространства и времени, из другой жизни.
Смыли весны горький пепел Очагов, что грели нас. С кем я не был, с кем я не пил В первый раз, в последний раз. С кем я только не был дружен С первой встречи близ огня. Скольким душам был я нужен, Без которых нет меня. Скольких их на свете нету, Что прочли тебя, поэт, Словно бедной книге этой Много, много, много лет.После войны взгляд Твардовского на многие события советской истории становится более критичным. В центре поэмы «Дом у дороги» (1942–1946) – также драматические события войны. Солдат приходит на родное пепелище и строит новый дом, ожидая семью из немецкого плена (автор все-таки дает надежду на возвращение).
Новая поэма Твардовского «За далью – даль» (1950–1960) тоже, как и предшествующие, связана с мотивом путешествия, движения: автор пересекает страну в поезде «Москва – Владивосток», описывая дорожные впечатления и размышления. Он рисует картины мирной жизни на Урале и в Сибири, перекрытия Ангары. Но кульминацией поэмы становятся не оптимистические пейзажи, а драматический эпизод случайной встречи на вокзале с возвращающимся из советского лагеря старым другом («Друг детства») и размышление о противоречивой роли И. В. Сталина в советской истории («Так это было»).
На месте идеализированного последнего единоличника Никиты Моргунка и картины счастливой колхозной жизни возникает – через тридцать лет – образ вечной колхозной труженицы, которой протекшие десятилетия так и не принесли счастья:
И я за дальней звонкой далью Наедине с самим собой Я всюду видел тетку Дарью На нашей родине с тобой; С ее терпеньем безнадежным, С ее избою без сеней, И трудоднем пустопорожним, И трудоночью – не полней…Борьба с «культом личности» и его последствиями (он разделяет эту партийную установку) становится главным делом Твардовского в 1960-е годы. Он возвращается к любимому герою (подчеркивая, что это уже иной персонаж) в сатирической поэме «Теркин на том свете» (1963), язвительно изображая нравы советских чиновников и бюрократов, «идеологическую борьбу» с Западом и Вождя, Сталина, который, оказывается, управляет «нашей» частью того света:
– Все за ним, само собой, Выше нету власти. – Да, но сам-то он живой? – И живой. Отчасти. Для живых родной отец, И закон, и знамя, Он и с нами, как мертвец, — С ними он и с нами. Устроитель всех судеб, Тою же порою Он в Кремле при жизни склеп Сам себе устроил.Последняя поэма Твардовского «По праву памяти» (1966–1969), уже всецело посвященная последствиям сталинского правления в советской истории, была запрещена почти на двадцать лет.
В 1950–1954 и 1958–1970 гг. Твардовский руководит журналом «Новый мир» делая его лучшим периодическим изданием советской эпохи, вполне сопоставимым по значению с некрасовскими журналами XIX века. В «Новом мире» публикуются (за редкими исключениями) лучшие прозаики и поэты. В отделах публицистики и критики обсуждаются самые острые общественные проблемы.
Забыть, забыть велят безмолвно, Хотят в забвенье утопить Живую быль. И чтобы волны Над ней сомкнулись. Быль – забыть! —удивлялся Твардовский в поэме «По праву памяти» (глава «О памяти»).
Задачей «Нового мира» и его главного редактора становится восстановление и сохранение исторической памяти во всей ее глубине и разнообразии. Этой цели служат не только поэмы Твардовского, но и его поздняя лирика.
ЭПИЧЕСКАЯ ЛИРИКА: ПАМЯТЬ И СОВЕСТЬ
Последняя книга Твардовского называется «Из лирики этих лет» (1959–1968). Лирика этих лет непохожа на стихотворения, которые писал поэт в 1930–1950-е годы. Циклы «Сельская хроника» (1930–1940) и «Фронтовая хроника (1940–1945) состояли, как правило, из больших фабульных или описательных стихотворений, стихотворных рассказов (часто это была ролевая лирика), продолжающих и развивающих мотивы поэм: «Рассказ Матрены» (1937), «На свадьбе» (1938), «Баллада о товарище» (1942).
В поздних стихотворениях более значимой становится личная тема. Однако мы почти не узнаем жизненных подробностей, эмпирической биографии поэта. У Твардовского нет стихов-посланий. В его лирике – редкий случай в истории поэзии – вовсе отсутствует любовная тема. Поэтому и так называемая гражданская лирика лишается необходимого для ее выделения фона, не становится особой областью творчества поэта.
Поздние стихотворения Твардовского, как правило, являются размышлениями, либо прямыми, непосредственными, либо вырастающими из пейзажа или отклика на какое-то общественное событие. Причем, в отличие от признанных философских лириков XIX века (например, Тютчева), поэзия мысли Твардовского обращена, прежде всего, не к «вечным», метафизическим темам, а к проблемам социальным. Становясь более философичным, Твардовский остается столь же историческим поэтом, каким он предстает в своих поэмах. Если поэмы Твардовского лиричны, то его лирика – эпична, выдвигает на первый план не лирическое «Я», а объективный мир.
В «обычной» лирике (у Лермонтова, Тютчева, Фета, современника Твардовского Пастернака) небо, звезды всегда были метонимией или символом мироздания, космоса, с которым – по сходству или по контрасту – соотносил себя лирический герой или лирический субъект.
«Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит». – «Живая колесница мирозданья / Открыто катится в святилище небес». – «И хор светил, живой и дружный, / Кругом раскинувшись, дрожал». – «И страшным, страшным креном / К другим каким-нибудь / Неведомым вселенным / Повернут Млечный путь».
Твардовский тоже пишет стихи о мироздании, космосе, вселенной. Но развитие образа и композиционная схема у него совсем иные.
Полночь в мое городское окно Входит с ночными дарами: Позднее небо полным-полно Скученных звезд мирами. Мне еще в детстве, бывало, в ночном, Где-нибудь в дедовском поле Скопища эти холодным огнем Точно бы в темя кололи. Сладкой бессонницей юность мою Звездное небо томило: Где бы я ни был, казалось, стою В центре вселенского мира. В зрелости так не тревожат меня Космоса дальние светы, Как муравьиная злая возня Маленькой нашей планеты. («Полночь в мое городское окно…», 1967)Как объективный поэт, Твардовский и здесь изображает не единственное, точечное состояние лирического субъекта, миг лирической концентрации, а успевает рассказать историю, сравнить «три поры жизни» (детство, юность, зрелость), различающиеся как местом пребывания (ночное, дедовское поле – городское окно), так и отношением с миром.
Чувство глубинной связи с вселенной, растворения в ней характерно лишь для юности: «…казалось, стою / В центре вселенского мира». В детстве человек не замечает, не может понять равнодушный «холодный огонь» мироздания. В зрелости же на первый план выходят не «космоса дальние светы», а «муравьиная злая возня / Маленькой нашей планеты». Взгляд поэта не отрывается от земли, обращен к земным проблемам и печалям.
Еще одно стихотворение «из лирики этих лет» поначалу кажется абстрактным размышлением, почти притчей.
Дробится рваный цоколь монумента, Взвывает сталь отбойных молотков. Крутой раствор особого цемента Рассчитан был на тысячи веков. Пришло так быстро время пересчета, И так нагляден нынешний урок: Чрезмерная о вечности забота — Она, по справедливости, не впрок. Но как сцепились намертво каменья, Разъять их силой – выдать семь потов. Чрезмерная забота о забвенье Немалых тоже требует трудов. Все, что на свете сделано руками, Рукам под силу обратить на слом. Но дело в том, что сам собою камень — Он не бывает ни добром, ни злом. («Дробится рваный цоколь монумента…», 1963)Поэт описывает парадокс социальной памяти, наглядный исторический урок. Поспешно разрушают воздвигнутый недавно монумент, рассчитанный на вечность, потому что разочаровались в человеке, которому он поставлен. Но само это действие («чрезмерная забота о забвенье») кажется столь же лихорадочно-поспешным, как и прежнее увековечивание, «о вечности чрезмерная забота».
Из равнодушного камня (природы) возникает дело человеческих рук (история). Но непродуманность исторического деяния ведет к противоположным результатам: приходится, проливая семь потов, уничтожать то, чему недавно поклонялись.
Исторический контекст придает стихотворению не только обобщенный, но и сиюминутный, актуальный смысл. Стихи написаны после разоблачения «культа личности» Сталина, когда по всей стране почти в одно мгновение и почти тайком сносились всего десятилетия назад воздвигнутые многочисленные монументы вождю. Твардовский не защищает Сталина – он был одним из последовательных противников культа личности. Поэт трезво видит в этом действии не преодоление трагического прошлого, а попытку быстро спрятать, забыть его – и напоминает о нем в стихах, по праву памяти живой.
Во всей послевоенной лирике, в многообразно развертывающемся мотиве памяти главным для Твардовского остается память о войне, о погибших, долг и ответственность перед ними.
Большое стихотворение-рассказ «Я убит подо Ржевом» (1945–1946) можно рассматривать как послесловие к «Василию Теркину». Убитый, в отличие от бессмертного героя «книги про бойца», в сорок втором году простой солдат обращается с монологом к живым: рассказывает о своем «послесмертии» («Я – где корни слепые / Ищут корма во тьме; / Я – где с облачком пыли / Ходит рожь на холме»), интересуется дальнейшим ходом войны («Я убит и не знаю, / Наш ли Ржев наконец? / Удержались ли наши / Там, на Среднем Дону?.. / Этот месяц был страшен, / Было все на кону») и – самое главное – обращается с завещанием к живым.
Я вам жить завещаю, — Что я больше могу? Завещаю в той жизни Вам счастливыми быть И родимой Отчизне С честью дальше служить. Горевать – горделиво, Не клонясь головой, Ликовать – не хвастливо В час победы самой. И беречь ее свято, Братья, счастье свое — В память воина-брата, Что погиб за нее.Стихотворение «В тот день, когда окончилась война» (1948) изображает сходную ситуацию с другой стороны. Пока гремели залпы и свистели пули, черта между живыми и мертвыми была очень зыбкой, любой бой мог сдвинуть ее, увеличить счет убитых под Ржевом или Берлином. И только теперь, в тот день, когда окончилась война, эта граница становится окончательной, непреодолимой.
В конце пути, в далекой стороне, Под гром пальбы прощались мы впервые Со всеми, что погибли на войне, Как с мертвыми прощаются живые. <…> Внушала нам стволов ревущих сталь, Что нам уже не числиться в потерях. И кроясь дымкой, он уходит вдаль, Заполненный товарищами берег.В последней строфе-эпилоге поэт обращается с клятвой-присягой к оставшимся на том берегу.
Суда живых – не меньше павших суд. И пусть в душе до дней моих скончанья Живет, гремит торжественный салют Победы и великого прощанья.Этой клятве Твардовский был верен все последующие десятилетия. В стихотворении «Космонавту» (1961), написанном после полета Юрия Гагарина, он начинает отсчет этой рубежной для всего человечества даты с летчиков военных лет:
И пусть они взлетали не в ракете И не сравнить с твоею высоту, Но и в своем фанерном драндулете За ту же вырывалися черту. <…> И может быть, не меньшею отвагой Бывали их сердца наделены, Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов Не стоил подвиг в будний день войны.Мотивы памяти и ответственности живых перед мертвыми, которые определяли композицию стихотворений-размышлений «Я убит подо Ржевом» и «В тот день, когда окончилась война», у позднего Твардовского выражаются просто и лапидарно, сжимаются до шестистишия-вздоха.
Я знаю, никакой моей вины В том, что другие не пришли с войны. В том что они – кто старше, кто моложе — Остались там, и не о том же речь, Что я их мог, но не сумел сберечь, — Речь не о том, но все же, все же, все же… («Я знаю, никакой моей вины…», 1966)Безвинная вина приводит, тем не менее, к постоянным мукам совести.
Многие философы считали совесть основой существования, регулятором взаимоотношений между людьми и отношения человека к Богу, сравнивали совесть с демоном Сократа и нравственным законом Канта. «Голос совести необходим каждому из людей…» (И. А. Ильин)
Поздний Твардовский – поэт неуступчивой памяти и беспокойной совести.
Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН (1918–2008)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир прозы Солженицына
АВТОР: ТЕЛЕНОК ПРОТИВ ДУБА
Жизнь Александра Исаевича Солженицына могла бы стать сюжетом приключенческого романа. Но, описывая ее в двух больших мемуарных книгах, он предпочитает иную формулу жанра – лукавой притчи, пословицы (Солженицын любит меткую народную речь и даже составил, вслед за В. И. Далем, «Словарь русского языкового расширения», включающий слова, которые, с его точки зрения, должны быть возвращены в современный язык).
Первый мемуарный том называется «Бодался теленок с дубом» (1975). Роль теленка в этом противопоставлении играет автор, дубом оказывается советская власть, советское государство и писательская организация (Союз советских писателей), с которыми сражается теленок, добиваясь публикации своих произведений, отмены цензуры, соблюдения советских законов.
Однако в борца и общественного деятеля Солженицын превратился далеко не сразу. Первые этапы его биографии, напротив, напоминают судьбу человека, воспитанного советской властью и обязанного ей всем.
Он родился в Кисловодске в крестьянской семье, никогда не видел отца (погибшего незадолго до его появления на свет), окончил физико-математический факультет Ростовского университета, поступил в престижный московский гуманитарный вуз, ИФЛИ (Институт философии и литературы), в октябре 1941 года был призван в армию, окончил артиллерийское училище, с 1943 года служил на фронте в батарее звуковой разведки, получил звание капитана и несколько орденов.
Судьба Солженицына переломилась в феврале 1945 года. За высказанные в письме другу критические суждения о Сталине он был арестован, осужден на восемь лет и отправлен сначала в так называемую «шарашку» (тюрьма на территории Москвы, в которой заключенные занимались научной работой будет позднее подробно описана в романе «В круге первом»), а затем в настоящий концентрационный лагерь в Казахстане.
«Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий, – размышлял писатель много позднее. – Можно спорить, хорошо ли это для революции, но всегда эти изменения идут в сторону углубления души» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 4, гл. 1).
В годы заключения, под «тюремным небом», Солженицын переживает «перерождение убеждений» (определение Достоевского представляется и здесь очень уместным).
«В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащен был стройными доводами», – совсем по-толстовски изображает Солженицын прежнюю жизнь.
«На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра, – продолжает он исповедь. – Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями – она проходит через каждое человеческое сердце – и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце – неискорененный уголок зла.
С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.
С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах – и носителей добра) – само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 4, гл. 1).
В лагерь попал простой советский человек, оптимист и атеист, верующий в лозунги и штампы советской пропаганды. Вернулся оттуда непримиримый борец, противник советского государства и советской власти, убежденный христианин, ощущающий, что главное его оружие – слово.
Солженицын чувствовал писательское призвание еще до войны. К этому времени относится замысел большого романа с директивным заглавием «Люби революцию!». В самые трудные лагерные годы он обходился без Гутенберга, сочиняя стихи и даже драмы в уме. «На общих работах, устно», – предваряется ремаркой пьеса «Пир победителей» (1951).
После освобождения из ссылки в 1956 году он какое-то время работает учителем математики, но главные силы посвящает литературе, чувствуя себя призванным рассказать о том, что он увидел и понял, открыть русским, советским людям глаза на собственную историю и на современность, предсказать, спрогнозировать будущее. Его планы огромны, и он с неуклонностью, несмотря на все препятствия, осуществляет их в течение полувека.
Лагерный опыт становится для Солженицына точкой отсчета не только собственной биографии, но и понимания советской истории. Вскоре после освобождения он заканчивает задуманный еще в заключении большой роман «В круге первом» (1957).
Солженицын-писатель легализуется в 1962 году, когда в редактируемом А. Т. Твардовским журнале «Новый мир» после «личного давления» (слова автора) Н. С. Хрущева появляется «Один день Ивана Денисовича». С этой небольшой повести (или большого рассказа) начинается новый важный этап советской истории (а не только истории литературы).
Официозные пропагандисты, критики, даже некоторые бывшие заключенные обвиняли автора в клевете, пессимизме, сгущении красок и противопоставляли «неправильному» Ивану Денисовичу правильных персонажей, которые и в лагере верили не в Бога, а в коммунизм, ни в чем не упрекали партию и советскую власть и даже проводили тайные партийные собрания.
С другой стороны, рассказ был воспринят многими людьми – бывшими заключенными, их родственниками, просто совестливыми читателями – как глоток правды, как важная попытка открыть тщательно скрываемые страницы советской истории, рассказать о теневой, изнаночной стороне сталинской эпохи. Солженицын получил множество писем, которые пригодились в дальнейшей работе. Обсуждался даже вопрос о выдвижении ее на Ленинскую премию, главную литературную награду в СССР.
Позиция самого Солженицына после публикации книги, переводов ее на многие языки и мгновенной всемирной славы тоже уточнялась.
«Когда Хрущев, вытирая слезу, давал разрешение на „Ивана Денисовича“, он ведь твердо уверен был, что это – про сталинские лагеря, что у него – таких нет.
И Твардовский, хлопоча о верховной визе, тоже искренне верил, что это – о прошлом, что это – кануло. <….> Но я-то, я! – ведь и я поддался, а мне непростительно. Ведь и я не обманывал Твардовского! Я тоже искренне думал, что принес рассказ – о прошлом!» – упрекал себя писатель позднее.
Эти иллюзии быстро рассеялись. «И очнулся я. И сквозь розовые благовония реабилитаций различил прежнюю скальную громаду Архипелага, его серые контуры в вышках» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 7, гл. 1).
Под маской бодающегося нелепого теленка снова проявился хитроумный, непримиримый зек, девизом которого стало: «Карфаген должен быть разрушен».
Солженицын интенсивно, но тайно работает над начатой еще в 1958 году книгой «Архипелаг ГУЛАГ», негативной эпопеей, в которой выводится на очную ставку и рассматривается сквозь призму лагерного опыта вся история советского государства (книга имеет подзаголовок «опыт художественного исследования» и хронологические границы 1918–1956). От идеи преданной революции, измены ее идеалам в сталинскую эпоху, которую разделял Солженицын в тридцатые годы, он приходит к пониманию революции как катастрофической ошибки, после которой Россия сбилась с правильного исторического пути и заплатила за это потерей времени и миллионами безвинных и бессмысленных жертв.
В это же время Солженицын вступает в прямой конфликт с государством: пишет открытые письма, дает интервью западным корреспондентам, распространяет запрещенные произведения в самиздате. Его «экзамен на человека», обращенный к соотечественникам, прежде всего молодым, очень прост по сути и в то же время необычайно труден в применении, потому что требует индивидуальной мысли, личного усилия: «Не лгать! Не участвовать во лжи! Не поддерживать ложь!»
«Области работы, области жизни – разные у всех. <…> Ложь окружает нас и на работе, и в пути, и на досуге, во всем, что видим мы, слышим и читаем. И как разнообразны формы лжи, так разнообразны и формы отклонения от нее. Тот, кто соберет свое сердце на стойкость и откроет глаза на щупальцы лжи, – тот в каждом месте, всякий день и час сообразит, как нужно поступить» («Образованщина», январь 1974).
В 1968 году на Западе публикуются роман «В круге первом» и повесть «Раковый корпус» (1963–1966). По меркам того времени это был поступок, за который могло последовать уголовное наказание: всего два года назад за аналогичное «преступление» были осуждены и отправлены в лагерь писатели Ю. М. Даниэль и А. Д. Синявский. В ответ уже всемирно известного писателя исключают из Союза писателей.
В 1970 году также в тамиздате появляется роман «Август четырнадцатого», первый том давно задуманного цикла о революции, получивший теперь заглавие «Красное колесо». «Дуб» отвечает открытым преследованием Солженицына и его помощников, сотрудникам госбезопасности удается найти и изъять часть его архива.
В октябре 1970 года Солженицын (четвертый из русских писателей) получает Нобелевскую премию по литературе. Вместо поздравлений начинается громкая литературная кампания по обвинению его во всех смертных грехах. Писатель не едет в Стокгольм на вручение награды, опасаясь, что его не пустят обратно, но, как и положено, пишет «Нобелевскую лекцию», которая является апологией великой и непостижимой силы искусства, и прежде всего – литературы. Она заканчивается пословицей: «Одно слово правды весь мир перетянет» и итоговым признанием: «Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира».
В сентябре 1973 года, опасаясь возможного ареста, Солженицын дает разрешение на публикацию «Архипелага ГУЛАГа». Нравы власти все-таки несколько изменились: после однодневного ареста в феврале 1974 года «литературного власовца» (такая кличка закрепилась за Солженицыным в советской пропаганде) лишают советского гражданства и на самолете отправляют в ФРГ. Начинается двадцатилетний период эмиграции.
В 1976 году из Европы писатель перебирается в США и в уединении провинциальной Америки (Солженицын поселяется на ферме в штате Вермонт), опираясь на огромный круг исторических источников, продолжает работу над грандиозным циклом романов (автор называет их «узлами») «Красное колесо». Повествование начинается с первого года Настоящего Двадцатого Века, но его центром должны были стать события февраля семнадцатого, второй русской революции, которую писатель считал событием более значительным и катастрофическим, чем революция Октябрьская.
После «Августа четырнадцатого» появились узлы «Октябрь шестнадцатого», «Март семнадцатого» и «Апрель семнадцатого». Весь цикл составил 10 огромных томов. Работа над «Красным колесом» заняла четверть века, а от первоначального замысла прошло целых пятьдесят лет. Понимая, что закончить задуманную эпопею не удастся (ее было намечено довести до 1922 года), Солженицын публикует краткий конспект ненаписанного – «На обрыве повествования».
Свою двадцатилетнюю жизнь на Западе Солженицын воспринимал как временное явление. Заглавие его второй автобиографической книги, сохраняя пословичный характер, приобретает уже не иронический, как в первой книге, а лирический смысл: «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Из теленка, по смыслу пословицы, автор превращается в зернышко, угодившее между жерновами советской и западной идеологических систем.
Солженицын оказывается и строгим критиком Запада, хотя осуждает его и за иные черты, чем советскую систему: за компромиссы с тираническими, тоталитарными режимами, изобилие «материального и духовного мусора», уход от подлинной, высшей нравственной свободы и духовной ответственности.
Общее объяснение произошедшего с миром в XX веке представляется писателю довольно простым и тоже опирающимся на народную мудрость. «Больше полувека назад, еще ребенком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: „Люди забыли Бога, оттого и все“, – начинает он одну из речей. – Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: „Люди – забыли – Бога“. Пороками человеческого сознания, лишенного божественной вершины, определились все главные преступления этого века» («Темплотоновская лекция», 1983).
В этой же речи писатель утверждал, что мир стоит на грани апокалипсиса, конца света, упоминая угрозу «ядерной и неядерной смерти». Синонимом религиозному понятию конца света, является историческая категория кризиса, перелома, революции, отодвинувшей ядерную угрозу, но обнажившей угрозы новые, прежде всего – для России.
На перестройку Солженицын откликается статьей-трактатом «Как нам обустроить Россию?». Опубликованная огромными тиражами, она мало воздействовала на события, развивавшиеся совсем по иному пути. В 1994 году, когда дуб, с которым боролся теленок, перестал существовать, А. И. Солженицын вернулся на родину.
«Я чувствовал себя – мостом, перекинутым из России дореволюционной в Россию послесоветскую, будущую, – мостом, по которому черезо всю пропасть советских лет перетаскивается тяжело груженный обоз Истории, чтобы бесценная поклажа его не пропала для Будущего», – признается писатель в книге «Угодило зернышко промеж двух жерновов» (гл. 7).
Вернувшись в родную страну, в третий раз за XX век сменившую название и границы, Солженицын обнаружил, что исторический мост висит над пустотой и бесценную поклажу пока передать некому. Первая книга, которую он опубликовал после возвращения, – «Россия в обвале» (1998). Солженицын воспринимал происходящие в новой России события не как начало новой жизни, а как продолжающуюся – уже под новыми лозунгами – катастрофу.
Когда в декабре 1998 года в связи с юбилеем писателя наградили высшим орденом новой России, орденом святого апостола Андрея Первозванного (до этого его получили всего три человека), он отказался принять его «от верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния».
«История России особенно трагическая, и в ней нынешняя политика еще дальше от нравственности. После семидесяти лет тоталитарного гнета Россия попала в разрушительный вихрь грабежа национального достояния и населения. Наш народ еще не успел встать на ноги», – говорил писатель в последние дни 2000 года и XX века. Хотя, как и раньше, не мог отказаться от надежды: «В этих условиях о России говорят, что Россия погружается в „Третий мир“. Я с этим не согласен. Я всегда верил в то, что наша традиционная культура, наш дух сильнее гнетущих материальных обстоятельств».
Солженицын – писатель в классическом понимании XIX века: социальный мыслитель, религиозный моралист, неподкупный борец за правду в жизни и искусстве. Он унаследовал главную традицию русской классики: всегда быть на стороне униженных и оскорбленных, смотреть на мир глазами Ивана Денисовича. Он (как и А. Д. Сахаров) стал знаменем, символом диссидентства, открытого сопротивления советской государственной системе.
Но его мировоззрение и творчество вызывают яростные споры. В этом смысле он больше всего похож на Толстого, которого одни читатели считали совестью нации, пророком, ответившим буквально на все жизненные вопросы, а другие присылали ему веревку, чтобы он повесился на ней и не развращал молодежь и не разрушал государство.
В давней пьесе «Свеча на ветру» (1960) герой собирается передать «колеблемую свечечку нашей души» следующему веку. «Там, в Двадцать Первом веке, пусть делают с ней, что хотят. Но только б не в нашем ее задули, не в нашем – стальном, атомном, космическом, энергетическом, кибернетическом…»
Судьба этой свечечки-души оставалась главной заботой писателя А. И. Солженицына в новом веке.
ИВАН ДЕНИСОВИЧ: ДЕНЬ И ЖИЗНЬ
В огромном собрании сочинений Солженицына «Один день Ивана Денисовича» занимает около ста страниц. Но это первое опубликованное его произведение многие считают лучшим.
Солженицын определил жанр «Одного дня…» даже не как повесть, а как рассказ, имея в виду концентрированность места и времени действия, ограниченный круг персонажей. Однако рассказ строится таким образом, что становится «маленьким романом», обобщенной картиной жизни страны сталинской эпохи.
Место действия рассказа – один из сталинских лагерей, «островок» Архипелага ГУЛАГ (Государственного управления лагерей – эту метафору Солженицын придумает немного позднее), в котором отбывают огромные сроки самые разные, но одинаково невиновные люди: бежавшие из плена солдаты, встречавшийся с иностранцами по службе моряк-капитан, верующий-баптист, московский режиссер, попавшие сюда «за национальность» эстонцы и латыши. Лагерь оказывается «ноевым ковчегом» узников, которые уравнены общностью судьбы.
Время действия обозначено точно: «Начался год новый, пятьдесят первый…»
Это была эпоха, когда «Архипелаг созрел» (название главы в книге «Архипелаг ГУЛАГ»), но до распада ему оставалось еще целое пятилетие.
На первое место среди десятков более или менее подробно изображенных персонажей выдвинут Иван Денисович Шухов из деревни Темгенёво. Солженицын утверждал, что прототипом героя стал воевавший в его батарее солдат Шухов, однако никогда не сидевший. Центральным персонажем Шухова делает не только подробный, по сравнению с другими, рассказ о нем, но и сама форма повествования.
Рассказ написан в манере несобственно-прямой речи, промежуточной между объективным повествованием от третьего лица и субъективным сказом. Такая форма позволяет автору, как в сказовой манере, постоянно вести повествование «в тоне и духе героя», смотреть на мир его глазами, но в то же время избавляет от необходимости воспроизводить все конкретные, например диалектные, особенности его речи. Незримо находящийся рядом с героем автор словно ведет репортаж из сознания персонажа, то абсолютно сливаясь с ним, то переводя его мысли, чувства и слова на литературный язык, то незаметно обобщая и комментируя их, разъясняя для читателя хронотоп и ситуацию объективно, со стороны.
Вот сцена прихода Шухова в санчасть с надеждой получить освобождение от работы.
«В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены крашены эмалевой белой краской. И белая вся мебель. Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то, поди, еще с постелей не подымались. А в дежурке сидел фельдшер – молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате, – и что-то писал.
Никого больше не было.
Шухов снял шапку, как перед начальством, и, по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступя от краю, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это – не работа, а по левой, но ему до того не было дела».
Описание санчасти дается в синтетической, слитной манере: автор представляет точку зрения героя, иногда используя и его речь («Врачи-то, поди, с постелей еще не подымались»; «Шухов… не мог не заметить…»), но в то же время не поясняя того, чего не понимает персонаж (что это за ровные строчки, каждая из которых начинается с большой буквы?).
После диалога Ивана Денисовича с фельдшером, из которого выясняется, что освобождение от работы ему, скорее всего, получить не удастся, появляется внутренняя речь героя, его раскавыченный монолог: «Теперь вот грезится: заболеть бы недельки на две, на три не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, – лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым – лады».
В финале сцены происходит переход уже к чисто авторскому повествованию. Повествователь раскрывает то, чего не знал и не понимал герой: Иван Денисович столкнулся с липовым, фальшивым фельдшером, которого спасает от тяжелых общих работ непримиримый к другим работягам доктор.
«…A Вдовушкин писал свое. Он, вправду, занимался работой „левой“, но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отделал, а сегодня обещал показать Степану Григорьичу, тому самому врачу.
Как это делается только в лагерях, Степан Григорьич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером, и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на темных работягах, да на смирных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе и не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьич хотел, чтоб он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле…»
Такие переходы от одной речевой манеры к другой требуют большого мастерства, но придают повествованию концентрированность, убедительность, глубину.
Избранная Солженицыным точка зрения персонажа была принципиально важна для него. В соответствии с традицией XIX века он понимает народ, прежде всего, как крестьянство. Поэтому ему важна реакция на события, на трагедию сталинской эпохи именно крестьянина, которого с толстовских, с некрасовских времен считали солью земли. «В том-то и мина была „Ивана Денисовича“, что подсунули им простого Ивана, – пояснял позднее писатель свой замысел, подразумевая под ними советских чиновников и обслуживающих их интеллигентов («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 7, гл. 1).
Простой Иван оказывается для писателя мерой всех вещей.
Внешне Иван Денисович воспринимает произошедшее с ним без излишних эмоций и страданий, как свершившийся факт. После побега из плена он подписал «добровольное» признание, потому что это была единственная возможность выжить: «В контрразведке били Шухова много. И расчет был у Шухова простой: не подпишешь – бушлат деревянный, подпишешь – хоть поживешь еще малость. Подписал».
Он спокойно вспоминает страшный северный лагерь, где не выполнившие нормы бригады оставляли на всю ночь в лесу. И этот новый для него лагерь он оценивает с оптимизмом и надеждой: «Не-ет, братцы… здесь поспокойней, пожалуй, – прошепелявил он. – Тут съём – закон. Выполнил, не выполнил – катись в зону. И гарантийка тут на сто грамм выше. Тут – жить можно. Особый – и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера». (Сходно оценивал фронтовой быт Василий Теркин: «На полу тебе солома, / Задремалось, так ложись. / Не у тещи, и не дома, / Не в раю, однако, жизнь» («Теркин – Теркин»).
Не обращая внимания на унизительные номера-ярлыки, Иван Денисович прекрасно освоил науку выживания. Он знает, что нужно уважать бригадира и нельзя лизать миски. Навсегда отказавшись от помощи из дома («Еще когда-то в Усть-Ижме Шухов получил посылку пару раз. Но и сам жене написал: впустую, мол, проходят, не шли, не отрывай от ребятишек»), он умеет заработать лишний хлеб и стоянием в очереди, и шитьем тапочек, и другими поделками. Он понимает, как важны в лагерном быте даже самые простые вещи: несколько хлебных крошек, теплые валенки, обломок ножовки.
Герой хорошо понял бы не читанного им О. Э. Мандельштама: «Немного теплого куриного помета / И бестолкового овечьего тепла; / Я все отдам за жизнь – мне так нужна забота, – / И спичка серная меня б согреть могла» («Кому зима – арак и пунш голубоглазый…», 1922).
Он считает бригаду своей семьей, выгадывая для нее лишние порции в столовой. Даже, бессмысленном каторжном труде он умеет найти удовольствие от хорошо выполненной своими руками работы. «А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал – и через стенку, слева, справа. Эх, глаз – ватерпас! Ровно! Еще рука не старится», – восхищается он свой кирпичной кладкой в конце одного дня.
«Смеется бригадир: „Ну как тебя на свободу отпускать? Без тебя ж тюрьма плакать будет!”» – «Что, гадство, день рабочий такой короткий? Только до работы припадешь – уж и съём! Иди, бригадир!» – отшучивается Иван Денисович, чувствуя, что «сейчас работой своей он с бригадиром сравнялся».
Каждая деталь, каждый обычный шаг заключенного вырастает в своем значении, потому что речь идет, в конечном счете, о его жизни и смерти. «Бригадир в лагере – это все: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. – Двести грамм жизнью правят. На двести граммах Беломорканал построен». – «Передние, кого просчитали, оборачиваются, на цыпочки лезут смотреть – в пятерке последней двое останется или трое. От этого сейчас вся жизнь зависит». – «Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни». – «Завстоловой никому не кланяется, а его все зэки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит». – «Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, – это значит на всю жизнь здоровья лишиться».
Шухов проживает опасные лагерные годы с той же предусмотрительностью, внутренним спокойствием, стоицизмом, с какой русские землепроходцы обживали суровые края. Однако его горизонт ограничен азбукой выживания. Он с недоумением смотрит на людей иной культуры и другого образа жизни (оказывается подобные различия сохраняются и за колючей проволокой).
Иван Денисович не только не понимает стихов, которые сочиняет фальшивый фельдшер Вдовушкин. Он с иронией воспринимает интеллигентские разговоры и манеру поведения. «Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются, слушать их – все равно как латышей или румын», – воспроизводит писатель внутреннюю речь героя. (На таком «лопотании» строится роман «В круге первом», им много занимался в заключении сам Солженицын.)
Но точно так же далек от Шухова баптист Алешка с его ежедневным чтением Евангелия. Иван Денисович может восхититься ловкостью, с которой тот прячет записную книжку с молитвами, но остается совершенно равнодушен к его проповеди. «Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится. <…> – В общем, – решил он, – сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь».
Авторский взгляд, однако, шире точки зрения героя. Граница в этой жизни, как и в жизни вообще, проходит не по линии социального происхождения и воспитания.
Наряду с живущими особой, более легкой, жизнью «москвичами» с их спорами о фильме Эйзенштейна, богатыми посылками и освобождением от тяжелых работ для сочинения стихов, автор заставляет героя увидеть и другого интеллигентного заключенного, видимо дворянина.
«Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно, сколько советская власть стоит, и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали. Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего – волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юлили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем, не примирится: трехсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а – на тряпочку стираную».
Через мелкие, сразу отмеченные Шуховым детали (прямая спина, обращенный куда-то вдаль взгляд, мерные движения, чистая тряпочка, на которую кладется хлеб) Солженицын создает привлекательный образ человека старой культуры, прошедшего все испытания, но оставшегося несогнутым, непобежденным.
А рядом, на соседней скамейке, может сидеть кавторанг Буйновский, не сломленный войной, но осваивающий здесь, как и Шухов, острожную науку выживания. «Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».
Описание одного дня с точки зрения героя оканчивается воодушевляющим, оптимистическим итогом: «Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый».
Последняя авторская фраза кажется стилистически нейтральной: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов – три дня лишних набавлялось…»
Но после этого многоточия возникают неизбежные вопросы: за что, за какие преступления работящий простой Иван должен претерпеть эти тысячи дней? почему здесь страдают и умирают другие люди? кто виноват?
Лагерь из «Одного дня Ивана Денисовича» позднее превращается у Солженицына в обобщенный образ «Архипелага ГУЛАГа». В одной из глав этой книги писатель вступает в диалог с полюбившимся героем: «„Ну, Иван Денисович, о чем еще мы не рассказали? Из нашей повседневной жизни?“ – „Ху-у-у! Еще и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели”» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 3, гл. 7).
От этого героя идет прямая дорога к крестьянке Матрене: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша» («Матренин двор», 1959–1960).
За колючей проволокой Солженицын увидел образ «матушки-Руси», убогой и обильной, могучей и бессильной. По тематике относящийся к «лагерной прозе», рассказ Солженицына становится размышлением о силе и слабости русского национального характера, философии выживания, русской истории XX века.
Василий Макарович ШУКШИН (1929–1974)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир прозы Шукшина
ШУКШИНСКИЙ РАССКАЗ: ИСТОРИЯ ДУШИ
Василий Макарович Шукшин очень любил стихотворение «Школьник» (песню на эти стихи поют в его фильме «Печки-лавочки»). Видимо, потому, что видел в нем отпечаток собственной судьбы.
– Ну, пошел же, ради бога! Небо, ельник и песок — Невеселая дорога… – Эй, садись ко мне, дружок! <…> Вижу я в котомке книжку. Так учиться ты идешь… Знаю: батька на сынишку Издержал последний грош. <…> Не без добрых душ на свете — Кто-нибудь свезет в Москву Будешь в университете — Сон свершится наяву! Там уж поприще широко: Знай работай, да не трусь… Вот за что тебя глубоко Я люблю, родная Русь! (лето 1956)Он приехал в Москву из алтайского села Сростки ровно через столетие после написания некрасовского стихотворения. Чтобы собрать «гроши» на дорогу, в одиночку воспитывавшая сына мать (его отец исчез во время сталинских репрессий, отчим погиб на войне) продала единственное семейное богатство – корову.
После окончания режиссерского отделения ВГИКа (Всероссийского государственного института кинематографии) Шукшин успел проявить себя в разных областях искусства: сыграл в двух десятках художественных фильмов, снял как режиссер пять картин, для которых сам написал сценарии. Наконец, сочинил несколько томов произведений разных жанров.
Роман о революции и Гражданской войне «Любавины» и роман о любимом историческом персонаже – Степане Разине (Шукшин мечтал, но так и не успел поставить фильм о нем). Несколько повестей и драм. Но главным жанром его творчества стали рассказы: за пятнадцать лет (1958–1974) Шукшин написал более ста двадцати текстов. Лучшие из них составили сборник «Характеры» (1974).
Начав с обычных, мало чем отличающихся от обычной продукции его современников рассказов, в которых были традиционные описания и пейзажи, неспешные диалоги, лирические концовки, Шукшин постепенно находит свою, оригинальную формулу жанра, напоминающую, однако, о лучшем русском рассказчике XIX века.
Шукшинский рассказ вырастает из «просто рассказа», когда автор резко ломает привычные приемы и становится писателем-минималистом.
Он практически отказывается от прямых характеристик персонажа, к которым он прибегал в ранних произведениях («Напишу рассказ про Серегу и про Лену, про двух хороших людей, про их любовь хорошую» – «Воскресная тоска»). Теперь заключение о хороших и плохих читатель должен был сам, да и новые шукшинские герои не помещались в эту классификацию.
Он резко сокращает пейзажные и вообще описательные фрагменты, превращая их в попутные детали характеристики персонажей. «На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у него раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь – вечер спокойный, с дымками по селу» («В профиль и анфас»). – «Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь – обильный, чтоб резалось небо огненными зазубринами, гремело сверху… И тогда бы – заорать, что ли» («Сураз»).
Фабула рассказа сжимается до краткой схемы-пересказа и выносится в начало, в экспозицию, как в старой новелле. «Дня за три до Нового года, глухой морозной ночью, в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули два выстрела. Раз за разом… Из крупнокалиберного ружья. И кто-то крикнул: „Даешь сердце!“
Эхо выстрелов гуляло над селом. Залаяли собаки. Утром выяснилось: стрелял ветфельдшер Александр Иванович Козулин» («Даешь сердце!»). – «Сашку Ермолаева обидели» («Обида»). – «Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей» («Мой зять украл машину дров»).
Концовка тоже становится краткой, лишенной лирического настроения ритмической напевности, создавая впечатление резкого обрыва, недоговоренности. «Свояк опять засмеялся. И пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким приехал вчера» («Свояк Сергей Сергеевич»). – «Андрей посидел еще, покивал грустно головой. И пошел в горницу спать» («Микроскоп»). – «И он тоже пошел. В магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились» («Генерал Малафейкин»).
«Меня больше интересует „история души“, и ради ее выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня волнует, – объяснял автор. – Иногда применительно к моим работам читаю: „бытописатель“. Да что вы! У меня в рассказе порой непонятно: зимой это происходит или летом».
История души в рассказах Шукшина дается самыми лаконичными средствами. Главной «выдумкой» писателя становится точно выбранная ситуация, проявляющая характер героя. Главным изобразительным средством, составляющим большую часть текста, – прямая речь, колоритный диалог или монолог персонажа (реже – монологические формы письменной речи: письмо, заявление, «кляуза»).
В одном из шукшинских рассказов ездивший на юг лечить радикулит шепелявый герой попадает в чеховский музей в Ялте и больше всего удивляется сохранившейся там вещи. «Додуматься – в таком пальтисечке в Сибирь! Я ее (экскурсовода. – И. С.) спрасываю: „А от чего у него чахотка была?“ – Да, мол, от трудной жизни, от невзгод, – начала вилять. От трудной жизни… Ну-ка, протрясись в таком кожанчике через всю Сибирь…» («Петька Краснов»)
Шукшин-рассказчик выходит не из гоголевской шинели, а из чеховского пальто. Он словно реализует чеховский совет молодому Бунину: «По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем… И короче, как можно короче надо писать» («Чехов», 1905).
Только ему оказывается ближе не лирическая размягченность, элегичность «Дамы с собачкой», не гротескная сгущенность «Крыжовника» или «Человека в футляре», а живописная характерология Антоши Чехонте середины 1880-х годов, его неистощимая изобретательность в поиске новых тем, его хищный интерес к тому, что всегда под рукой или перед глазами.
«Он оглянул стол и взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, – это оказалась пепельница, – поставил ее передо мной и сказал: – Хотите – завтра будет рассказ… Заглавие „Пепельница”», – вспоминал Короленко о первой встрече с Чеховым («Антон Павлович Чехов», 1904). Так и Шукшин обращается к «первым попавшимся вещам» своего времени, сочиняет рассказы «Коленчатые валы», «Змеиный яд», «Капроновая елочка», «Микроскоп», «Сапожки».
«Внезапные рассказы» (заглавие одного из шукшинских циклов) – близкие родственники сценки, фирменного жанра раннего Чехова. Шукшин – наследник Чехонте, не захотевший или не успевший стать Чеховым.
ШУКШИНСКИЙ ГЕРОЙ: СУДЬБА ЧУДИКА
Первый шукшинский сборник назывался «Сельские жители» (1963). Почвой и темой его рассказов и дальше были земля, село, деревенские жители. Любимый шукшинский персонаж – «человек в кирзовых сапогах» (С. П. Залыгин).
По профессии, статусу и образу жизни – «маленький человек» (как говорили в XIX веке), «простой советский человек» (как привычно определяли через столетие). Шофер, механик, слесарь, пастух…
По мировоззрению и поведению – странный человек, домашний философ. Чудик, придурок, шалопай, психопат, дебил, упорный, рыжий, сураз… (такие характеристики получают от других герои разных шукшинских рассказов).
История жизни этого героя, особенности его сознания придают содержательное единство художественному миру Шукшина.
Л. Н. Толстой собирался написать роман «Четыре эпохи развития»: «Детство», «Отрочество», «Юность», «Молодость» (он осуществился лишь в форме так называемой автобиографической трилогии). В сценках-новеллах Шукшина таких эпох тоже четыре. Но охватывают они не первые десятилетия, а всю человеческую жизнь. Конечно, в жанре рассказа-сценки Шукшин описывает не процесс, а намечает пунктир, обозначает константы, поворотные точки судьбы героя.
Мечтатель – чудик – человек тоскующий – человек уходящий – в эту рамку укладывается жизнь центрального шукшинского персонажа.
Первая точка-эпоха совпадает с толстовской, хотя, конечно, шукшинский герой живет в совсем ином историческом времени. Деревенское детство в войну или после войны – это тяжелый труд, голод и холод, безотцовщина, ранний уход из дома, неприязнь городских жителей (здесь проза Шукшина наиболее автобиографична, даже исповедальна).
Но одновременно это – сладость детских игр, первые свидания, природа, гудящий в печке огонь и – главное – надежда на будущие сияющие вершины где-то на горизонте. «А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял… самолет… Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после мне приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там не было – он летал. И теперь он стоит у меня в глазах – большой, легкий, красивый… Двукрылый красавец из далекой-далекой сказки» («Из детских лет Ивана Попова»).
В другом рассказе изображается детство уже середины шестидесятых годов, но мечты и надежды персонажа очень похожи. «А потом, когда техника разовьется, дальше полетим… – Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. – Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на землю! И мы будем летать друг к другу… И получится такое… мировое человечество. Все будем одинаковые» («Космос, нервная система и шмат сала»).
Но вот герою уже около тридцати лет. Молодость на исходе, жизнь приобрела какие-то определенные формы. Он крутит баранку или кино в деревне. Жена или случайные подруги «пилят» его по разным поводам. Мечтают о космосе или читают «Мертвые души» уже другие школьники. Но его детская наивность и восторженность никуда не делись, они только приобрели какие-то парадоксальные формы: психологических взрывов и непредсказуемых поступков.
Деревенский парнишка-мечтатель превращается в мечтателя великовозрастного, чудика. Шукшин пишет целую галерею, создает периодическую систему чудиков.
«Митька – это ходячий анекдот, так про него говорят. Определение броское, но мелкое, и о Митьке говорящее не больше, чем то, что он – выпивоха. Вот тоже – показали на человека – выпивоха… А почему он выпивоха, что за причина, что за сила такая роковая, что берет его вечерами за руку и ведет в магазин? Тут тремя словами объяснишь ли, да и сумеешь ли вообще объяснить? Поэтому проще, конечно, махнуть рукой – выпивоха, и все. А Митька… Митька – мечтатель. Мечтал смолоду. Совсем еще юным мечтал, например, собраться втроем-вчетвером оборудовать лодку, взять ружья, снасти и сплыть по рекам к Северному полюсу. Мечтал также отправиться в поисковую экспедицию в Алтайские горы – искать золото и ртуть. Мечтал… Много мечтал. Все мечтают, но другие – отмечтались и принялись устраивать свою жизнь… подручными, так скажем, средствами. Митька превратился в самого нелепого и безнадежного мечтателя – великовозрастного. Жизнь лениво жевала его мечты, над Митькой смеялись, а он – с упорством неистребимым – мечтал. Только научился скрывать от людей свои мечты» («Митька Ермаков»).
Теперь Митька мечтает вылечить человечество от рака какой-то неизвестной другим травкой, а пока, чтобы удивить городских очкариков, бросается в Байкал, после чего спасать его приходится тем же очкарикам.
Чудик из одноименного рассказа в детстве обожал сыщиков и собак, мечтал быть шпионом, а теперь работает киномехаником, находит и оставляет в магазине собственную пятидесятирублевку, посылает трогательно-дурацкие телеграммы да расписывает акварелью детскую коляску.
Следующий покупает на припрятанные от жены деньги микроскоп и изучает микробов, опять-таки мечтая избавить от них человечество («Микроскоп»).
Четвертому достаточно просто покупки городской шляпы, чтобы гордо и независимо пройти в ней по деревне («Дебил»).
Пятый тешит самолюбие, ставя на место знатных земляков дурацкими вопросами и дискуссиями («Срезал!»).
Шестой желает остаться в памяти народной геростратовой славой, своротив и так уже порушенную деревенскую церковь («Крепкий мужик»).
Седьмой, наоборот, изобретает вечный двигатель («Упорный»).
Подобное состояние души может затянуться до старости. Семен Иваныч Малафейкин, «нелюдимый маляр-шабашник, инвалидный пенсионер», почему-то выдает себя за генерала случайному соседу в поезде («Генерал Малафейкин»). Пятидесятилетний Бронька Пупков, бывший фронтовик, тешит городских охотников не реальными историями или охотничьими байками, а страшным рассказом о своем неудачном покушении на Гитлера («Миль пардон, мадам!»).
Таких персонажей Шукшин изображает со сложным чувством насмешливого понимания. Их курьезные, нелепые поступки чаще всего бескорыстны. Это – попытка заявить о своем существовании, утвердить себя в мире. Подобное чувство владеет героем «Ревизора»: единственное его желание – чтобы все в Петербурге, включая государя императора, знали: живет в таком-то городе Петр Иванович Добчинский.
Но шукшинский герой обычно заявляет о своем существовании не со смирением, а с агрессивностью, злобой, уничижением паче гордости. Психологическим архетипом такого героя оказываются персонажи Достоевского или чеховский озорник Дымов из «Степи», которого скука жизни толкает то на бессмысленно-злобные поступки, то на покаяние.
Наиболее отчетливо характер шукшинского чудика-озорника воплощен в «Суразе». Его герой не совпадает с собой даже по возрасту. «Спирьке Расторгуеву тридцать шестой, а на вид двадцать, не больше. Он поразительно красив; в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху – молодой бог!.. Природа, кажется, иногда шутит. Ну зачем ему! Он и сам говорит: „Это мне – до фени”».
Пересказав в экспозиции несколько историй из «рано скособочившейся» Спирькиной жизни (уход из школы, хулиганство, мелкое воровство, тюрьма), повествователь переходит к последнему эпизоду, который и становится сюжетом.
Спирька испытывает необъяснимую симпатию к приехавшей из города учительнице. Первый его визит «попроведовать» – попытка рассказать о своей жизни, букетик цветов, даже поцелуй – кажутся поклонением недоступной Прекрасной Даме, о которой похожий на Байрона герой даже не слыхал. Потом, избитый мужем учительницы, Спирька превращается в жестокого мстителя, тюремного волка. «Я тебя уработаю, – неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спирька… – Я убью тебя, – повторил Спирька. Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном – все там изрезал и обжег. – Убью, знай».
Но, придя убивать и увидев унижение учительницы, он понимает, что мстить не сможет. «Спирька растерялся, отпинывал женщину… И как-то ясно вдруг сразу понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом не замолить, не залить вином нельзя будет».
Прибежав на кладбище и проиграв в воображении свое самоубийство, он отшатывается и, кажется, впервые по-настоящему ощущает вкус жизни: «Он зажмурился и почувствовал, как его плавно и мощно несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. „Что-нибудь я сейчас сделаю!“ – решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал… сам не зная куда. Только прочь с кладбища, от этих крестов и молчания. Он стал вслух, незло материть покойников. „Лежите?.. Ну и лежите! Лежите – такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегаю по земле, покружусь“. Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там… Он хотел куда-нибудь прибежать, к кому-нибудь. Может, рассказать все… Может, посмеяться».
Потом следуют сцены свидания с любовницей, новые воображаемые картины мести учителю, встреча с ним, бегство из деревни и последние мысли за рулем автомобиля. «Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и все».
Герой кончает с собой, но Шукшин оставляет этот выстрел за кадром, описывая лишь его последствия. «.. Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой полянке. Он лежал уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз…»
Имя Байрона, с которым еще в детстве сравнила героя ссыльная учительница, все-таки оправдалось и догнало его. В бесшабашном деревенском шофере вдруг проступил классический романтик, лишний человек – Чайльд-Гарольд, Печорин, – заблудившийся в сумрачном лесу жизни.
«Люди верят только славе, – заметил Пушкин в связи с жизнью Грибоедова, которая, с его точки зрения, прошла для русского общества бесследно, – и не понимают, что между ими может находиться Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в „Московском телеграфе”». («Путешествие в Арзрум», гл. 2).
Чуть позднее лермонтовский герой скажет: «Гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».
Так то Грибоедов, то Печорин, а не малообразованный изобретатель вечного двигателя или любимец деревенских вдов… Да, уровень жизни и мысли тут другой, но психологический комплекс шукшинских героев сходный. Его хорошо объясняет мысль М. М. Бахтина: человек больше своей судьбы, но меньше своей человечности.
ШУКШИНСКИЙ ВОПРОС: ДУША БОЛИТ
Следующая точка, в которой Шукшин изображает своего героя, – время подведения предварительных итогов (героям около пятидесяти лет). Мечты, надежды, планы, любовь уже позади – наступает время сожаления и осмысления.
«„У тебя болит, што ль, чего?“ – „Душа. Немного. Жаль… не нажился. Не устал. Не готов, так сказать”» («Земляки»).
«Если бы однажды вот так – в такой тишине – перешагнуть незаметно эту проклятую черту… И оставить бы здесь все боли и все желания, и шагать, шагать по горячей дороге, шагать и шагать – бесконечно. Может, мы так и делаем? Возможно, что я где-то когда-то уже перешагнул в тишине эту черту – не заметил – и теперь вовсе не я, а моя душа вышагивает по дороге на двух ногах. И болит. Но почему же тогда болит?» («Приезжий»)
Может быть, это главный шукшинский вопрос.
Карамзин когда-то в «Бедной Лизе» сделал открытие: и крестьянки любить умеют.
Тургенев в «Записках охотника» увидел в крепостных мужиках черты античных философов.
Шолохов в «Тихом Доне» рассмотрел в Григории Мелехове казачьего Гамлета.
Шукшин продолжил эту традицию: обычные сельские жители мучаются в его рассказах вечными вопросами. Душу, оказывается, придумали не священники или писатели. Шукшинским трактористам и шоферам знакомы и байроническая мировая скорбь, и рефлексия лишних людей, и бесконечная тяжба с миром персонажей Достоевского. Они то возвращают Творцу билет, то требуют билетик на второй сеанс, намереваясь прожить свою жизнь по-иному.
«Родиться бы мне ишо разок! А? Пусть это не считается… Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла! – Тимофей готов был заплакать злыми слезами. – Ты вот смеешься, а мало тут смешного, батюшка, одна грусть-тоска зеленая. Вон на земле-то… хорошо-то как! Разве ж я не вижу. Не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то. Тьфу! – да растереть, вот и вся моя жизнь… Я б все честно сказал, только не знаю, чего такое со мною делается. Пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали Сивку… Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая» («Билетик на второй сеанс»).
Полуразрушенная церковь, то опустевшая, то превращенная в склад или кинотеатр, часто оживляет пейзаж в шукшинском рассказе. Степка Рысь в «Мастере» безуспешно пытается ее отремонтировать. «Крепкий мужик» Шурыгин, наоборот, добивает. «Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут – вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и…»
В рассказе «Верую!», чтобы успокоить болящую душу, герой пытается заглянуть за церковную стену. «По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая…» – с этого привычного состояния человека тоскующего начинается рассказ. Свое состояние герой пытается объяснить жене («Но у человека есть так же – душа. Вот она – здесь, – болит! – Максим показывал на грудь. – Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит»), но наталкивается на привычное агрессивное непонимание. Жена «не знала, что такое тоска. – С чего тоска-то?».
И тогда Максим приходит со своей тоской к «натуральному попу», родственнику соседа, по случаю оказавшемуся в деревне.
Батюшка оказывается интересным человеком, совсем не похожим на ожившее лампадное масло, изрекающее постные истины. Он похож на беглого алиментщика, лечится от легочной болезни барсучьим жиром, пьет спирт и, вместо утешений, обнажает перед Максимом собственную тоскующую душу. Как заправский софист, язычник Сократ, он сначала доказывает, что Бога нет, потом утверждает, что он все-таки есть, но искать его надо не там, где это обычно делают.
«Теперь я скажу, что бог есть. Имя ему – Жизнь. В этого бога я верую. Это – суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе – это, собственно и есть рай… Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай и ад… Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю, Куда все устремилось, тоже не знаю, Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других… Зло? Ну – зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких – „подставь правую“. Дам в рыло, и баста».
Потом поп признается в любви к Есенину, «гудит» песню про клен заледенелый и втягивает Максима в странную проповедь, оканчивающуюся дикой пляской.
«Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.
– Повторяй за мной: верую!
– Верую! – сказал Максим.
– Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у!
– Ве-ру-ю-у! – заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:
– В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-y! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..
Вместе заорали:
– Ве-ру-ю-у!
– Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!
– Верую-у!
– В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мякость телесную-у!.. <…>
Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они пляшут. Тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами».
Пытающегося спастись на привычных путях героя батюшка-еретик берет за шкирку и снова выбрасывает в жизнь. Болезнь души на время приглушается мощной карнавальной пляской-взрывом. Эти злость и ярость когда-то сплотили разинские полки, взорвали страну в начале двадцатого века, а теперь рассасываются в томлении и бессилии.
«Верую!» – рассказ о дремлющей в простой русской душе стихийной силе, которая может быть направлена на что угодно, на созидание или самоистребление.
Соратником Шукшина в понимании русского характера оказывается вдруг внешне далекий от него Высоцкий со сходным жанром песни-баллады, типом героя, резкими бросками от смеха к воплю.
Душа болит, потому что взыскует смысла, потому что хочет праздника. Для одного таким праздником становится субботняя баня («Алеша Бесконвойный»), для другого – простая покупка верной жене («Сапожки»).
Но праздник не бывает долгим, и малые дела лишь на время заглушают большую боль.
Последняя ситуация, в которую Шукшин ставит своего героя, – подведение итогов накануне ухода. И этот сюжет Шукшин сопровождает неразрешимыми вопросами.
В последних шагах по земле шукшинских героев нет эпического спокойствия, нет благостности, которые когда-то хотел видеть в простых людях Л. Толстой («Как умирают русские солдаты», «Три смерти», Каратаев в «Войне и мире»). Свою конечность здесь осознает не «роевой человек», а личность, причем не рассчитывающая на «потомков ропот восхищенный» и произносящая «верую» разве что по привычке.
Оправдана ли просто жизнь, простая жизнь? Есть ли в ней смысл или никакого смысла нет? Вопросы эти мучат шукшинских героев, превращая бывших чудиков в косноязычных домашних философов – не мудрецов, а вопрошателей.
«А то вдруг про смерть подумается: что скоро – все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилки и зароют. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить – оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь… Этого никак не понять. Ну, лет десять-пятнадцать будут еще помнить, что был такой, Матвей Рязанцев, а потом – все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь. И погулял в празднички – ничего, весело бывало и… Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя никогда больше не будет… Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?» («Думы»)
В думах колхозного председателя почти фотографически воспроизводятся столетней давности мысли мелкопоместного дворянина-однодворца из рассказа Бунина. «Он долго смотрел в далекое поле, долго прислушивался к вечерней тишине… „Как же это так, – сказал он вслух. – Будет все по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля… будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу, да не только не увижу – меня совсем не будет! И хоть тысяча лет пройдет – я никогда не появлюсь на свете, никогда не приду и не сяду на этом бугре! Где же я буду?”» («На хуторе», 1892).
В рассказе «Дядя Ермолай» Шукшин ставит этот вопрос уже от первого лица. Стоя над могилой бригадира, под началом которого он работал в детстве, повествователь пытается разгадать, был ли в его жизни и в жизни таких, как он, какой-то большой смысл, или люди просто работали, рожали детей и бесследно исчезли в свой час. «Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе. Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так – не кто умнее, а – кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно – до отчаяния, до злости – не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так – грамоты ради и слегка из трусости – величаю ее с заглавной буквы, а не знаю – что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их».
В самом последнем «внезапном рассказе» «Чужие» похожий мотив приобретает дополнительный социальный смысл. Приведя большую цитату из книги о дяде последнего царя великом князе Алексее, Шукшин вдруг рассказывает жизнь деревенского пастуха, дяди Емельяна.
Первый был генерал-адмиралом, хозяином русского флота, красиво жил, воровал, играл. Его государственная деятельность закончилась Цусимой, где под японскими снарядами пошли на дно русские корабли, русские моряки, русская слава, а сам он оказался в Париже, живя той же привычной жизнью, пока не «помер от случайной простуды».
Другой в юности был моряком на одном из тех цусимских кораблей, сидел в японском плену, потом прожил обычную жизнь сибирского мужика: молодецки дрался, гонял плоты, верил в заговоры и заклинания, пережил почти всю большую семью и умер в одиночестве в родной деревне.
Однако Шукшин извлекает из этого сюжета не прямолинейный социальный контраст, а очередной безответный вопрос: «Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки, – обнять эти две фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить – поразмыслить-то сперва и хотелось, а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой – на Катуни, с удочкой. Твержу себе, что ведь – дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле – и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос… А что, если бы они где-нибудь ТАМ – встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русские души. Ведь и ТАМ им не о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие – на веки вечные. Велика матушка-Русь!»
«А велика матушка Россия!» – говорил мудрый старик, святой из Фирсанова, в чеховской повести «В овраге», понявший и пожалевший убитую горем женщину, надеясь пожить еще годочков двадцать, веря, что было и дурное, и хорошее, но хорошего было больше.
Шукшинский вздох безнадежнее. Матушка-Русь велика настолько, что люди затерялись во времени и пространстве, утратили общие представления о добре и зле, и потому не могут понять друг друга ни здесь, ни там.
«Мы просто перестаем быть единым народом, ибо говорим действительно на разных языках», – заметил в конце 1960-х годов А. И. Солженицын.
Очередной подводящий итоги жизни герой появляется в рассказе «Забуксовал». «Половину жизни отшагал – и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь – и ничегошеньки не случится… И очень даже просто – ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат…» – с тоской думает совхозный механик Роман Звягин. Одновременно, слушая, как сын зубрит заданный в школе гоголевский отрывок о птице-тройке, он делает собственное литературное открытие.
«Вдруг – с досады, что ли, со злости ли – Роман подумал: „А кого везут-то? Кони-то? Этого… Чичикова?“ Роман даже привстал в изумлении… Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. Вот так троечка!.. Вот так номер! Мчится, вдохновенная Богом! – а везет шулера. Это что ж выходит? – не так ли и ты, Русь?.. Тьфу!.. Тут же явный недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять…»
Школьный учитель, к которому герой идет за разъяснением, сначала повторяет привычные прописи («Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о России, о ее судьбе…»), потом и сам запутывается («И так можно, оказывается, понять»).
Проблема остается неразрешенной. Учитель, увлеченный человек, идет фотографировать закаты, а механик, удивляясь своему ребячеству, возвращается домой. «Он – не то что успокоился, а махнул рукой, и даже слегка пристыдил себя: „Делать нечего: бегаю как дурак, волнуюсь – Чичикова везут или не Чичикова?“ И опять – как проклятие – навалилось – подумал: „Везут-то Чичикова, какой же вопрос?”»
Для прозы В. М. Шукшина тоже важен этот – гоголевский – вопрос. «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!..» Писатель-пророк задавал его из далекого Рима. Шукшинский сельский механик пытается найти на него ответ через сто лет с лишним во глубине России-СССР.
В рабочих записях Шукшина есть такая типология: «Вот рассказы, какими они должны быть: «1. Рассказ – судьба. 2. Рассказ – характер. 3. Рассказ – исповедь». В лучших рассказах писателя рассказ-характер превращался в рассказ-судьбу и становился писательской исповедью. Как и полагается в настоящей литературе.
Николай Михайлович РУБЦОВ (1936–1971)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Рубцова
ИСТОКИ: МЕЖ ЕСЕНИНЫМ И ТЮТЧЕВЫМ
Николай Михайлович Рубцов, как Твардовский, как Шукшин, как ранее Сергей Есенин, пришел в русскую поэзию из деревни. Но его жизнь сложилась еще драматичнее, чем жизнь многих его собратьев из крестьянской среды.
Рубцов позднее вспоминал в стихотворении «Детство»:
Мать умерла. Отец ушел на фронт. Соседка злая Не дает проходу. Я смутно помню Утро похорон И за окошком Скудную природу. Откуда только — Как из-под земли! — Взялись в жилье И сумерки, и сырость… Но вот однажды Все переменилось, За мной пришли, Куда-то повезли. Я смутно помню Позднюю реку, Огни на ней, И скрип, и плеск парома, И крик «Скорей!», Потом раскаты грома И дождь… Потом Детдом на берегу.С этих пор и почти до конца короткой жизни он не имел своего пристанища: жил в рабочих и студенческих общежитиях, в коммунальных и чужих квартирах. «После детского дома, так сказать, дом всегда был там, где я работал или учился. До сих пор так», – лаконично, без жалоб, говорит поэт в автобиографии («Коротко о себе»).
Хотя Рубцов родился в Архангельской области, на знаменитом архангельском тракте, по которому когда-то ушел в Москву М. В. Ломоносов, своей настоящей родиной он считал другой северный край, Вологодчину.
За Вологду, землю родную, Я снова стакан подниму! И снова тебя поцелую, И снова отправлюсь во тьму, И вновь будет дождичек литься… Пусть все это длится и длится! («Тост») Хотя проклинает проезжий Дороги моих побережий, Люблю я деревню Николу, Где кончил начальную школу! («Родная деревня»)В селе Никольское, где находился детский дом (в стихах Рубцова оно превратилось в деревню Николу), будущий поэт окончил не только начальную, но и школу-семилетку. Сохранилось его выпускное сочинение на тему, которую уже сто лет «раскрывают» школьники: «Образ Катерины по пьесе А. Островского „Гроза”».
Стихи Рубцов начал писать рано. Сначала – под влиянием «крестьянских поэтов» вроде И. Сурикова (его стихи о деревенском детстве, как и драму Островского, тоже читали школьники нескольких поколений). Но позднее, в юности, его ориентиром стал С. Есенин. Поэт часто упоминается в рубцовских стихах.
В стихотворении так и названном, «Сергей Есенин», Рубцов говорит о прямой связи собственных творческих принципов с есенинской музой.
Версты все потрясенной земли, Все земные святыни и узы Словно б нервной системой вошли В своенравность есенинской музы! Это муза не прошлого дня. С ней люблю, негодую и плачу. Много значит она для меня, Если сам я хоть что-нибудь значу.Некоторые ранние стихи Н. Рубцова кажутся будто бы написанными «рязанским самородком».
Ветер под окошками, тихий, как мечтание, А за огородами в сумерках полей Крики перепелок, ранних звезд мерцание, Ржание встревоженных молодых коней. («Деревенские ночи», 1953)Однако вряд ли Рубцов превратился бы в замечательного поэта, оставшись лишь подражателем горячо любимого автора. Самообразование, упорный труд в плохо подходящих для этого условиях расширяют его кругозор, превращают его в оригинального творца, который опирается на классическую традицию, но ищет свой путь. В поздних стихах Рубцова Есенин включается в контекст поэтов «хороших и разных» – и внешне очень далеких друг от друга.
«И, как живые, в наших разговорах / Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон» («Вечерние стихи»).
«Вон Есенин – на ветру! / Блок стоит чуть-чуть в тумане. / Словно лишний на пиру / Скромно Хлебников шаманит» («Я люблю судьбу свою…»).
Особенно важным для Рубцова становится творчество такого, казалось бы, далекого от деревенского детдомовца поэта, как Ф. И. Тютчев. В заметке «О гениальности» Рубцов писал: «Он прожил долгую, такую прекрасную, плодотворную жизнь. Он за 72 года своей жизни написал всего двести стихотворений. И все шедевры. До одного. Шедевры лирические: „Есть в осени первоначальной“, „Зима недаром злится“, „Люблю грозу…“ И еще несколько стихов политического содержания. Стихов очень сильных. У Тютчева даже политического содержания стихи полны смысла, силы мысли, поэтического могущества».
У Рубцова есть стихотворение и об этом поэте. Привычно, в духе представлений советской эпохи, противопоставив Тютчева «высшему свету», он все-таки выделил в его творчестве главное: природность, «нерукотворность» (использовав, между прочим, один из любимых тютчевских глаголов):
А он блистал, как сын природы, Играя взглядом и умом, Блистал, как летом блещут воды, Как месяц блещет над холмом! («Приезд Тютчева»)Меж Есениным и Тютчевым, с памятью о Пушкине, Лермонтове, символисте А. Блоке и «проклятом поэте» Ф. Вийоне выстраивается художественный мир Николая Рубцова.
ДРАМА: ПЕЧАЛЬ ПОЛЕЙ
Николая Рубцова часто называли певцом деревни. Действительно, северный сельский пейзаж – лес, река, высокое небо, размытая дорога, разрушенная церковь, маленькая деревушка, продуваемая ветром, поливаемая дождем или засыпанная снегом, – является основой его стихотворений, его доминантным хронотопом.
Грустные мысли наводит порывистый ветер, Грустно стоять одному у размытой дороги, Кто-то в телеге по ельнику едет и едет — Позднее время – спешат запоздалые дроги. («У размытой дороги», 1969) Высокий дуб. Глубокая вода. Спокойные кругом ложатся тени. И тихо так, как будто никогда Природа здесь не знала потрясений! («Ночь на родине»)Причем в этом пейзаже сквозь приметы современности обычно просвечивает история, события далекого прошлого оказываются на расстоянии вытянутой руки. Поэт хорошо видит не только пространство, но и взглядом пронзает время.
Рубцов иногда откликается на современные проблемы, описывает новые советские реалии:
Загородил мою дорогу Грузовика широкий зад. И я подумал: «Слава богу Село не то, что год назад». Теперь в полях везде машины. И не видать плохих кобыл. И только вечный дух крушины Все так же горек и уныл. («Загородил мою дорогу…»)Но вот лирический герой другого стихотворения взбегает на холм и мгновенно оказывается в другом времени:
Взбегу на холм и упаду в траву. И древностью повеет вдруг из дола! И вдруг картины грозного раздора Я в этот миг увижу наяву. Пустынный свет на звездных берегах. И вереницы птиц твоих, Россия, Затмит на миг В крови и в жемчугах Тупой башмак скуластого Батыя…(«Видения на холме», 1962)
Память для Николая Рубцова оказывается не менее важным источником поэтического творчества, чем зрение. «Давно уже в сельской жизни происходят крупные изменения, но до меня все же докатились последние волны старинной русской самобытности, в которой было много прекрасного, поэтического. Все, что было в детстве, я лучше помню, чем то, что было день назад», – признавался поэт («Коротко о себе»).
Однако, отталкиваясь от деревенских реалий, от сельского пейзажа, увиденного во всю его историческую глубину («Мать России целой – деревушка, / Может быть, вот этот уголок…» – «Острова свои обогреваем»), Рубцов создает иную, по-тютчевски обобщенную картину жизни. «Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали», – описывает он наиболее значимые для себя поэтические мотивы («Коротко о себе»).
Удаль появляется в его стихах, но как редкое, исключительное свойство, чаще всего в юмористическом освещении.
Раннее стихотворение он начинает в духе романтической лирики, изображая бешеную скачку на любовное свидание (экий Печорин!), упоминая и персонажа лермонтовского романа, и имена своих ленинградских друзей поэтов:
Эх, коня да удаль азиата Мне взамен чернильниц и бумаг, — Как под гибким телом Азамата, Подо мною взвился б аргамак! Как разбойник, только без кинжала, Покрестившись лихо на собор, Мимо волн Обводного канала Поскакал бы я во весь опор! Мимо окон Эдика и Глеба. Мимо криков: «Это же – Рубцов!» Не простой, возвышенный, в седле бы Прискакал к тебе, в конце концов!Однако воображаемый подвиг не восхищает ироническую девушку, встречающую героя насмешкой (за которой, вероятно, скрыто равнодушие к его чувству):
Но, должно быть, просто и без смеха Ты мне скажешь: – Боже упаси! Почему на лошади приехал? Разве мало в городе такси? — И, стыдясь за дикий свой поступок, Словно богом свергнутый с небес, Я отвечу буднично и глупо: – Да, конечно, это не прогресс… («Эх, коня да удаль азиата…», 1961)Автор стихотворения тоже посмеивается над героем: об этом говорят и обыгрывание прямого и переносного смысла слова «возвышенный», и намек на падшего ангела, сброшенного Богом на землю.
Другие же перечисленные мотивы действительно становятся доминирующими у поэта. Рубцов, как и многие, сочиняет стихи о любви, пишет о жизни и смерти. Особое место в его лирике занимает дорога. Дорожные стихи составляют большой цикл. Образ странника-скитальца, вырастающий из биографии поэта, объединяет многие другие темы и мотивы.
«Топ да топ от кустика до кустика – / Неплохая в жизни полоса. / Пролегла дороженька до Устюга / Через город Тотьму и леса» («Подорожники»).
«Размытый путь. Кривые тополя / Я слушал шум – была пора отлета / И вот я встал и вышел за ворота, / Где простирались желтые поля…» («Отплытие»)
«Как царь любил богатые чертоги, / Так полюбил я древние дороги / И голубые вечности глаза!» («Старые дороги»)
«Поезд мчался с грохотом и воем, / Поезд мчался с лязганьем и свистом <…> Вот он, глазом огненным сверкая, / Вылетает… Дай дорогу, пеший! / На разъезде где-то, у сарая, / Подхватил меня, понес меня, как леший!»
Лирический герой Рубцова может быть, веселым и грустным, отправляться в путь с удовольствием или по тяжкой необходимости, уходить или возвращаться, идти пешком (чаще всего), ехать на подводе, машине, поезде или пароходе (очень редко в поэзии Рубцова появляются более современные средства передвижения). Но он всегда ощущает движение как необходимость, как судьбу. «Дорога, дорога, / Разлука, разлука. / Знакома до срока / Дорожная мука. <…> Лесная сорока / Одна мне подруга. / Дорога, дорога, / Разлука, разлука» («Дорожная элегия»).
Литературоведы заметили: для рубцовской картины мира характерна не цветовая гамма (здесь он совершенно не похож на Есенина, у него нет ни розового коня, ни голубого пожара), а стихия света. Стихи Рубцова строятся на контрастах света и тьмы, он (и в этом он как раз похож на Тютчева) рисует чаще всего черно-белое мироздание, которое пытается понять, в котором живет, тоскует и томится человеческая душа.
Когда стою во мгле, Душе покоя нет, — И омуты страшней, И резче дух болотный, Миры глядят с небес, Свой излучая свет, Свой открывая лик, Прекрасный, но холодный. («Ночное ощущение»)Но та же самая мировая бездна не только страшит, но и вносит в душу покой, примиряет, утешает:
Светлый покой Опустился с небес И посетил мою душу! Светлый покой, Простираясь окрест, Воды объемлет и сушу… О, этот светлый Покой-чародей! Очарованием смелым Сделай меж белых Своих лебедей Черного лебедя – белым! («На озере»)В одном важном отношении рубцовская картина мира отличается от тютчевского оригинала. Ф. И. Тютчев писал политические «славянофильские» стихи, четко отделяя их от основного лирического творчества. У Николая Рубцова черно-белая картина мира имеет отчетливый национальный колорит. Его мир – это Россия, Русь, прежде всего любимый северный край, который становится метонимией мироздания (здесь он опять делает шаг от Тютчева к Есенину).
«Широко по Руси» свершают свой путь журавли («Журавли»). Русскими у Рубцова оказываются огонек, старая береза, развалины собора, московский Кремль. «Привет, Россия, родина моя!» – обращается он в одном стихотворении («Привет Россия…»). «О, Русь – великий звездочет!» – восклицает в другом («Душа хранит»).
В «Видениях на холме» (1962) обращение перерастает в очередное признание в любви и молитву (последняя строчка из этой строфы выбита на надгробном памятнике поэту):
Россия, Русь – куда я ни взгляну… За все твои страдания и битвы Люблю твою, Россия, старину, Твои леса, погосты и молитвы, Люблю твои избушки и цветы, И небеса, горящие от зноя, И шепот ив у о мутной воды, Люблю навек, до вечного покоя… Россия, Русь! Храни себя, храни!И первый русский поэт становится у Рубцова зеркалом России, тоже сопоставляется с ней.
Словно зеркало русской стихии, Отстояв назначенье свое, Отразил он всю душу России! И погиб, отражая ее… («О Пушкине»)Несмотря на обилие восклицательных знаков, основной тон лирики Николая Рубцова – тон грусти, печали, уныния. Рубцов, вероятно, самый элегический поэт в русской поэзии XX века. Элегическая интонация и напевность определяют его художественный мир, придают особый колорит темам и мотивам.
Определения грустный, печальный много раз повторяются в стихах Рубцова, превращают их в задумчивую, меланхолическую мелодию (не случайно позднее многие стихи превратились в песни).
Печальная Вологда дремлет На темной печальной земле, И люди окраины древней Тревожно проходят во мгле. <…> И сдержанный говор печален На темном печальном крыльце. Все было веселым вначале, Все стало печальным в конце. На темном разъезде разлуки И в темном прощальном авто Я слышу печальные звуки, Которых не слышит никто… («Прощальное», 1966)Как у многих настоящих поэтов, у Николая Рубцова тема смерти приобретала личный характер. Подобно Есенину, Высоцкому, он не раз писал о предчувствии собственной трагической судьбы. В одном из его последних произведений образ воображаемой удалой скачки по Ленинграду сменяется символическим путем к гибели:
Мы сваливать не вправе Вину свою на жизнь. Кто едет, тот и правит, Поехал, так держись! Я повода оставил. Смотрю другим вослед. Сам ехал бы и правил, Да мне дороги нет…(«Мы сваливать не вправе…», 1970)
Но главным стихотворением поэта стало другое, «Тихая моя родина», где мотивы детства, странствий, возвращения в родные места, смерти, любви и памяти, России слились и переплавились в прозрачную, светлую, тихую – пушкинскую – грусть.
Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи… Мать моя здесь похоронена В детские годы мои. – Где же погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. — Тихо ответили жители: – Это на том берегу. Тихо ответили жители, Тихо проехал обоз. Купол церковной обители Яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, Сено гребут в сеновал: Между речными изгибами Вырыли люди канал. Тина теперь и болотина Там, где купаться любил… Тихая моя родина, Я ничего не забыл. Новый забор перед школою, Тот же зеленый простор. Словно ворона веселая, Сяду опять на забор! Школа моя деревянная!.. Время придет уезжать — Речка за мною туманная Будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, С громом, готовым упасть, Чувствую самую жгучую, Самую смертную связь. («Тихая моя родина…», 1965)Владимир Семенович ВЫСОЦКИЙ (1938–1980)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Высоцкого
ЛЮДИ: ГОЛОСА И ЛИЦО
Владимир Семенович Высоцкий по основной профессии был актером. Большую часть своей недолгой жизни он прослужил в московском театре на Таганке, сыграв там Гамлета, Галилея в «Жизни Галилея» Б. Брехта, Свидригайлова в инсценировке «Преступления и наказания», Лопахина в «Вишневом саде». Он много снимался в кино, хотя там у него не было столь заметных ролей.
Однако главным его занятием стала так называемая авторская (бардовская) песня. Высоцкий сочинял слова и мелодию и сам под гитару исполнял песни на концертах. Многие кинофильмы и спектакли привлекали внимание лишь потому, что в них звучали песни Высоцкого. Еще большее число людей знали Высоцкого по магнитофонным записям его концертов. Голос Высоцкого был известен миллионам. Его называли символом времени, культурным героем советской эпохи. По всенародной популярности его можно сравнить лишь с Сергеем Есениным.
При жизни Высоцкого ни тексты его песен, ни «просто» стихотворения практически не публиковались. Когда же после внезапной смерти песни превратились в книги (в собрание сочинений вошло более 500 поэтических текстов), обнаружилось, что можно говорить о вполне оригинальном поэте Владимире Высоцком.
Высоцкий начал сочинять песни в начале 1960-х годов. Его поэтический мир сложился очень быстро.
Поэт сразу находит свой главный жанр: это повествовательное стихотворение, рассказ о каком-то примечательном, эксцентрическом событии – баллада. В нескольких известных текстах жанровое определение выносится в заглавие: «Баллада о борьбе», «Баллада о Любви», «Баллада об уходе в рай». В жанровом отношении мир Высоцкого напоминает Н. Гумилева (а «Песенку ни про что, или Что случилось в Африке» можно рассматривать как пародийный парафраз знаменитого гумилевского «Жирафа»).
Быстро определяется форма драматического монолога от лица разнообразных персонажей, за которыми скрывается, в которых растворяется подлинный автор. Такие стихи обычно называют ролевой лирикой. Здесь предшественником Высоцкого можно считать уже Некрасова, наполнившего свою лирику голосами мужиков, чиновников, разночинцев. Но еще более важна для подобных песен первая профессия Высоцкого. Он и в песне разыгрывает какую-то роль, которую пока не удалось сыграть на сцене или на экране.
Эта игра позднее усложняется. Подобно О. Э. Мандельштаму, сочинявшему стихи-двойчатки, Высоцкий создает песни-двойчатки, в которых сходная ситуация рассматривается с противоположных точек зрения («Две песни о воздушном бое» – «Песня летчика» и «Песня самолета-истребителя»; «Песня автозавистника» и «Песня автомобилиста»; «Охота на волков» и «Конец „охоты на волков“, или Охота с вертолетов»).
Но за всеми этими ролями-масками скрывается сходный психологический тип. Герой Высоцкого – сильный человек, оказавшийся в какой-то сложной, экстремальной, предельной ситуации, часто на границе между жизнью и смертью. Сюжетные драматические монологи от лица этого сквозного персонажа складываются у Высоцкого в несколько больших и малых песенных циклов.
Одним из первых появился военный цикл («Братские могилы», «Сыновья уходят в бой», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю»). Параллельно возникают альпинистский цикл (он начинается с песен для кинофильма «Вертикаль»), множество морских песен («Человек за бортом», «Пиратская», «Баллада о брошенном корабле»), спортивные монологи («Песня о сентиментальном боксере», «Песенка про прыгуна в высоту», «Вратарь»), иронические бытовые исповеди разных «малозначительных» личностей вроде семейной пары вечером у телевизора («Диалог у телевизора»), или пациента психиатрической лечебницы («Письмо в редакцию телевизионной передачи „Очевидное-невероятное“ из сумасшедшего дома – с Канатчиков ой дачи»), наконец, условные, сказочные истории, действие которых обычно происходит в «некотором царстве» («Песня-сказка о нечисти», «Лукоморья больше нет», большой цикл по мотивам «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла).
Большинство таких циклов (кроме, быть может, военного) стилистически и эмоционально раздваиваются. Воспевая героизм, подвиг, Высоцкий обычно дает и снижающий, комический вариант темы. Пафос в соседней песне того же цикла корректируется смехом, согласно парадоксу Марка Твена: «Ирония обычно восстанавливает то, что разрушает пафос».
Вот два полета в космос: «И вихрем чувств пожар души задуло, / И я не смел – или забыл – дышать. / Планета напоследок притянула, / Прижала, не желая отпускать» («Я первый смерил жизнь обратным счетом…», 1972). – «Вы мне не поверите и просто не поймете: / В космосе страшней, чем даже в дантовском аду, – / По пространству-времени мы прем на звездолете, / Как с горы на собственном заду» («Марш космических негодяев», 1966).
Два образа гор: «А когда ты упал со скал, / Он стонал, но держал» («Песня о друге», 1966). – «Каждый раз, меня из пропасти вытаскивая, / Ты ругала меня, скалолазка моя» («Скалолазка», 1966).
Две сказочных страны: «Тайной покрыто, молчанием сколото – / Заколдовала природа-шаман. / Черное золото, белое золото / Сторож седой охраняет – туман» («Сколько чудес за туманами кроется…», 1968). – «И невиданных зверей, / Дичи всякой – нету ей:/ Понаехало за ней егерей… / В общем, значит, не секрет: / Лукоморья больше нет, – / Все, про что писал поэт, это бред» («Лукоморья больше нет», 1967). Точно так же можно выстроить на основе разных песен два образа спорта, моря или охоты.
Характерно, что из шестидесяти текстов Высоцкого, начинающихся с «Я», большинство голосов принадлежит ролевым персонажам – от «Я – Баба Яга…» до «Я» – «Як-истребитель…» Личная, персональная тема проходит в этом многоголосом, нестройном хоре очень существенным, но далеко не первым голосом.
Образ автора в мире Высоцкого строится на немногих, причем преимущественно высоких, патетических чертах.
Он – певец, воспринимающий свое ремесло как высокое служение, почти молитву или смертный бой. «Я к микрофону встал, как к образам… / Нет-нет, сегодня точно – к амбразуре» («Певец у микрофона», 1971).
Он – патриот, со смехом воспринимающий слухи о собственной эмиграции и сладкой заграничной жизни. «Нет меня – я покинул Расею, / – Мои девочки ходят в соплях! / Я теперь свои семечки сею / На чужих Елисейских полях…/Я смеюсь, умираю от смеха: / Как поверили этому бреду?! – / Не волнуйтесь – я не уехал, / И не надейтесь – я не уеду!» («Нет меня – я покинул Расею…», 1970).
Он – вечный влюбленный в одну и ту же женщину (женой Высоцкого в последние годы была французская актриса Марина Влади). «Да, у меня француженка жена – / Но русского она происхожденья» («Я все вопросы освещу сполна…», 1971). – «Мне меньше полувека – сорок с лишним – / Я жив тобой и Господом храним. / Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. / Мне есть чем оправдаться перед ним», – написано незадолго до смерти («И снизу лед и сверху – маюсь между…», 1980)
Лирического героя и многих ролевых персонажей объединяет одна общая тема, один постоянный мотив. Они постоянно рискуют жизнью, существуют на тонкой, опасной грани. «Я коней напою, я куплет допою – / Хоть мгновенье еще постою на краю» («Кони привередливые», 1972).
Мотив возможной и близкой смерти, караулящей за ближайшим углом судьбы, столь же важен для Высоцкого, как и мотив вечной любви.
В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее набок — И ударит душа на ворованных клячах в галоп, В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок… Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. («Райские яблоки», 1978)И этот мотив оказался пророческим.
ВРЕМЯ: ЗЛОБОДНЕВНОЕ И ВЕЧНОЕ
Лирика Высоцкого тесно связана со временем, с советской эпохой 1960-1970-х годов, многие детали которой уже нуждаются в комментарии. Герои Высоцкого добывают нефть и уголь, выполняют и перевыполняют планы и премируются за это заграничными поездками, попадают в вытрезвитель и возвращаются из тюрем, ругаются у телевизора, борются за честь страны на спортивных площадках, высказываются по международным делам…
Для многих сюжетов Высоцкого органичен эстрадный принцип: сегодня в газете – завтра в куплете. Бытовые баллады Высоцкого воспринимаются как маленькая энциклопедия советского образа жизни с обязательным ироническим преломлением.
Считавшийся официальной критикой почти диссидентом-антисоветчиком или, в лучшем случае – голосом «распоясавшихся хулиганов» (определение из статьи 1968 года, после которой возникла «Охота на волков»), Высоцкий на самом деле был одним из самых гражданских и патриотических поэтов среди своих современников.
Как в двадцатые годы Зощенко или Платонов, как в шестидесятые годы Шукшин (один из самых близких Высоцкому писателей; «Памяти Василия Шукшина» посвящено стихотворение-плач, 1974), поэт опирался на некоторые важные представления, фундаментальные мифы советской эпохи.
Военный цикл продолжает и поддерживает традиционный образ Великой Отечественной войны, придавая ему монументальность трагедии и красоту легенды.
На братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них на рыдают, — К ним кто-то приносит букеты цветов, И Вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче – гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы — Все судьбы в единую слиты. А в Вечном огне – видишь вспыхнувший танк, Горящие русские хаты, Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, Горящее сердце солдата. («Братские могилы», 1965) Я кругом и навечно виноват перед теми, С кем сегодня встречаться я почел бы за честь, — Но хотя мы живыми до конца долетели — Жжет нас память и мучает совесть, у кого, у кого она есть» («Песня о погибшем летчике», 1975)В «Балладе о детстве» (1975) сталкиваются два образа войны, два отношения к ней. Вначале даются непарадные, бытовые детали свидетельствующие о шкурничестве, разрозненности интересов воевавших и скрывавшихся от общей беды: «Пришла страна Лимония, / Сплошная Чемодания! / Взял у отца на станции / Погоны словно цацки я, – / А из эвакуации / Толпой валили штатские». Но этому противопоставлена идея общей судьбы и связи поколений: «А в подвалах и полуподвалах / Ребятишкам хотелось под танки»; «Дети бывших старшин да майоров / До ледовых широт поднялись».
Как у многих поэтов первых лет советской власти, мир Высоцкого стоит на «глыбе слова „Мы”». Поэт любит говорить от лица общего – штрафного батальона, спортивной команды, уличной компании, волчьей стаи. Его сильный человек становится собой, лишь ощущая принадлежность к целому.
Образ России, как и многое другое в лирике Высоцкого, очевидно раздваивается.
Родина – разоренный, погруженный во мрак дом «на семи лихих продувных ветрах» («Старый дом», 1974), и в то же время – сказочная страна чудес, где поют вещие птицы, да звенят серебряные струны («Купола», 1975).
В синем небе, колокольнями проколотом, — Медный колокол, медный колокол — То ль возрадовался, то ли осерчал… Купола в России кроют чистым золотом — Чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, Пред великою да сказочной страною — Перед солоно – да горько-кисло-сладкою, Голубою, родниковою, ржаною.Высоцкий, как и многие в двадцатом веке, в том числе В. М. Шукшин, подхватывает гоголевский вопрос («Русь, куда ж несешься ты?») и дает на него гоголевский же ответ, демонстрируя разрыв между Русью земной, в которой горько и солоно жить, и Русью идеальной, небесной, голубой, без которой жить ненужно и невозможно.
СЛОВО: ЗАБУЛДЫГА ПОДМАСТЕРЬЕ
При жизни Высоцкого его знакомые, профессиональные поэты, относились к его творчеству иронически-снисходительно. «И мне давали добрые советы, / Чуть свысока, похлопав по плечу, / Мои друзья, известные поэты: / «Не стоит рифмовать „кричу – торчу”» («Мой черный человек в костюме сером…», 1979). После его смерти И. А. Бродский говорил о поэте совсем в другом тоне, отмечая у него «абсолютно подлинное языковое чутье» и «феноменальные рифмы»: «Я думаю, что это был невероятно талантливый человек, невероятно одаренный, совершенно замечательный стихотворец».
У Высоцкого действительно есть языковые ошибки, банальные рифмы, которые часто незаметны при авторском исполнении песни (хотя рифму нельзя рассматривать в отрыве от замысла всего стихотворения; ведь и А. Блок в стихотворении «О доблестях, о подвигах, о славе…» рифмует снизошла – ушла и даже мою – свою). Но в лучших произведениях поэт оказывается виртуозным мастером, устраивает словесные фейерверки, демонстрирующие невероятную одаренность, поэтическое мастерство, в том числе мастерство рифмы.
А. Н. Апухтин сто пятьдесят лет назад написал экспериментальное ироническое стихотворение на одну рифму, монорим, которое попало в антологии русского стиха.
Когда будете, дети, студентами, Не ломайте голов над моментами, Над Гамлетами, Лирами, Кентами, Над царями и президентами, Над морями и над континентами… —и так далее, 27 стихов.
Высоцкий играючи сочиняет похожие стихи, но более сложные и по формальному заданию, и по сути, – три строфы-моноримы по шестнадцать стихов, увенчанные композиционным кольцом.
Мне судьба – до последней черты, до креста, Спорить до хрипоты (а за ней – немота), Убеждать и доказывать с пеной у рта, Что – не то это вовсе, не тот и не та! Что лабазники лгут про ошибки Христа… Что – пока еще в грунт не влежалась плита, — Триста лет под татарами – жизнь еще та: Маета трехсотлетняя и нищета. Но под властью татар жил Иван Калита, И уж был не один, кто один против ста. Пот намерений добрых и бунтов тщета, Пугачевщина, кровь и опять – нищета… Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни черта, — Повторю даже в образе злого шута, — Но не стоит предмет, да и тема не та, — Суета всех сует – все равно суета.<…>
…Если все-таки чашу испить мне судьба, Если музыка с песней не слишком груба, Если вдруг докажу, даже с пеной у рта, — Я уйду и скажу, что не все суета!Попробуем пристальнее присмотреться к одной из характерных баллад Высоцкого, «Дорожная история» (1972).
В традиционнейшем ямбе, изобретательно упакованном в строфу с чередованием четырех– и шестистопных стихов, вдруг обнаруживается танцевальная походка. Но сюжет развертывает совсем не легкий смысл.
В первой же строфе, всего в шести стихах, дан рельефный образ очередного сильного героя Высоцкого: «Я вышел ростом и лицом – / Спасибо матери с отцом, – / С людьми в ладу – не понукал, не помыкал, / Спины не гнул – прямым ходил, / И в ус не дул, и жил как жил, / И голове своей руками помогал…»
А дальше рассказана вовсе не «обыкновенная история»: попав по доносу и навету в лагеря и отсидев семь лет, герой «за Урал машины стал перегонять». Заглохший под Новый год на трассе грузовик (слова «назад пятьсот, вперед пятьсот» становятся одним из лейтмотивов баллады) оказывается местом, в котором происходит испытание мужской дружбы. Фабула «Дорожной истории» строится на нескольких психологических парадоксах. Напарник («Он был мне больше, чем родня – / Он ел с ладони у меня») становится неуправляемым, злым, хватается за гаечный ключ и потом уходит, пытается сбежать. Герой дожидается помощи, приходит в себя в больнице, возвращается к прежнему занятию – и прощает бывшего друга. «И он пришел – трясется весь… / А там опять далекий рейс, – / Я зла не помню – я опять его возьму».
В балладе есть и сон, но опять-таки поданный неожиданно, кратко и изобретательно. «Мне снился сон про наш „веселый“ наворот: / Что будто вновь кругом пятьсот, / Ищу я выход из ворот, – / Но нет его, есть только вход, и то – не тот».
В фабулу органично вплетаются и другие сентенции. «Потом – зачет, потом – домой / С семью годами за спиной, – / Висят года на мне – ни бросить, ни продать». – «А что ему – кругом пятьсот, / И кто кого переживет, / Тот и докажет, кто был прав, когда припрут». – «А тут глядит в глаза и холодно спине. / А что ему – кругом пятьсот, / И кто там после разберет, / Что он забыл, кто я ему и кто он мне».
Такая фонетическая и семантическая игра вообще характерна для Высоцкого. Высказывания персонажей часто перерастают фабулу, выходят за пределы текста, превращаются в отточенный афоризм-формулу, пригодную на все случаи жизни – хоть в газетный заголовок, хоть в антологию «народной мудрости».
«Коридоры кончаются стенкой, / А тоннели выводят на свет» («Баллада о детстве»; здесь нельзя забывать и, двойной семантике стенки, важной для темы баллады: стенка – это еще и расстрел). – «Пророков нет в отечестве своем, / – Но и в других отечествах – не густо» («Я из дела ушел», 1973). – «Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши павшие – как часовые…» («Он не вернулся из боя», 1969). – «Жираф большой – ему видней» (Песенка ни про что…», 1968).
Десятки афоризмов из стихов Высоцкого стали крылатыми словами, вошли в современный язык. Это высшая похвала для любого поэта.
За счет обобщенной формулы и ближайшего контекста вроде бы невинные бытовые фабулы баллад Высоцкого оборачиваются притчами.
«Москву – Одессу» (1967), внешне простую историю о бесконечных задержках авиарейса, можно прочесть (в зависимости от понимания последней ключевой строфы) как символическое размышление об укрощении, смирении героя или, напротив, неистребимой тяге его к свободе на фоне покорности других.
Но надо мне туда, куда меня не принимают, — И потому откладывают рейс. Мне надо – где метели и туман, Где завтра ожидают снегопада!.. Открыты Лондон, Дели, Магадан — Открыли все, – но мне туда не надо! <…> Опять дают задержку до восьми — И граждане покорно засыпают… Мне это надоело, черт возьми, — И я лечу туда, где принимают!«Утренняя гимнастика» (1968), юмористическая зарисовка знакомой каждому советскому человеку радиопередачи, вдруг превращается в печальное размышление о феномене толпы, из которой опасно высовываться, проявляя свою индивидуальность. «Не страшны дурные вести – / Начинаем бег на месте, – / В выигрыше даже начинающий, / Красота – среди бегущих / Первых нет и отстающих, – Бег на месте общепримиряющий!»
А «Песенка прыгуна в высоту» (1970) по мере развертывания фабулы, напротив, становится притчей о верности себе, благородном упрямстве, которое, в конце концов, оправдывается и позволяет добиться поставленной цели. «Но лучше выпью зелье с отравою / Я над собою что-нибудь сделаю – / Но свою неправую правую / Я не сменяю на правую левую!» – «Пусть болит моя травма в паху, / Пусть допрыгался до хромоты, – / Но я все-таки был наверху – / И меня не спихнуть с высоты!»
В песнях-стихах Высоцкого, как правило, мало «чистой» лирики, психологической тонкости невыразимого или гармонической точности классической традиции. Его художественный мир строится по-иному: разнообразные типы-маски ролевой лирики, стилистическая игра со штампами, антитеза, реализация метафоры, эффектный афоризм-концовка.
Если в жанровом отношении Высоцкий продолжает балладную традицию, то в области стиля он явно принадлежит к «футуристической» линии словесного конструктивизма, использования языка «улицы», интонации и стихии устной речи. На один уровень с поэтической классикой Высоцкого выводит не всегда результат, но почти всегда – степень самоотдачи.
«У народа, у языкотворца, умер звонкий забулдыга подмастерье». Так Маяковский – тоже на грубоватом языке улицы – сказал про Сергея Есенина, но, как выяснилось совсем скоро, – и про себя самого. После 25 июля 1980 года (день смерти Высоцкого) этот поэтический некролог можно было смело повторить по отношению к забулдыге подмастерью следующей эпохи.
И лопнула во мне терпенья жила — И я со смертью перешел на ты, Она давно возле меня кружила, Побаивалась только хрипоты. Я от суда скрываться не намерен: Коль призовут – отвечу на вопрос. Я до секунд всю жизнь свою измерил И худо-бедно, но тащил свой воз. Но знаю я, что лживо, а что свято, — Я это понял все-таки давно. Мой путь один, всего один, ребята, — Мне выбора, по счастью, не дано. («Мой черный человек в костюме сером!..», 1979)Юрий Валентинович ТРИФОНОВ (1925–1981)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир прозы Трифонова
ВРЕМЯ И МЕСТО: ФОРМУЛА ПАМЯТИ
Юрий Валентинович Трифонов родился в Москве, в семье крупного советского деятеля, старого революционера в огромном Доме Правительства на берегу Москвы-реки, который он позднее сделал символическим заглавием своей повести – «Дом на набережной». Налаженная, сытая, счастливая жизнь баловня советской эпохи рухнула в 1937 году: был арестован и вскоре расстрелян отец, отправлена в ссылку мать и мальчик вместе с бабушкой выселен из старой квартиры. Трифонов жил в эвакуации, работал на военном заводе, в 1942 году вернулся в Москву, поступил в Литературный институт и через несколько лет, написав вполне официозную повесть «Студенты» (1950), получил за нее Сталинскую премию.
Через много лет он вспомнит ироническую реплику напечатавшего повесть А. Т. Твардовского: «…Сейчас у вас самое ответственное время… Сейчас успех – опасность страшная!.. Испытание успехом – дело нешуточное. У многих темечко не выдержало» («Записки соседа», 1972).
Твардовский оказался прав. Успех сменился долгой полосой поисков и неудач, и только через много лет в советской литературе неожиданно появился будто бы новый писатель с прежней фамилией.
С 1969 года Трифонов начинает публиковать так называемые московские повести, представляющие собой цельное повествование, цикл, одно из самых глубоких исследований современности и предшествующего столетия советской и российской истории.
Городская проза Юрия Трифонова воспринималась на фоне деревенской прозы. В это время распутинские старухи, северные крестьяне В. Белова и Ф. Абрамова, солженицынский Иван Денисович, даже шукшинские чудики воспринимались как подлинные национальные типы, трудолюбивые, совестливые хранители предания (традиция отождествления народа и крестьянства, восходит, как мы помним, к литературе XIX века).
К середине века двадцатого большая часть населения Земли, в том числе СССР, становится горожанами. В хронотопе большого города человек вынужден существовать по иным законам. Летописцем этого нового «сословия» – горожан – ощущает себя, вслед за Чеховым, Юрий Трифонов. «…Мне хочется как можно более многообразно и сложно изобразить тот огромный слой людей средней интеллигентности и материального достатка, которых называют горожанами. Это не рабочие и не крестьяне, не элита. Это служащие, работники науки, гуманитарии, инженеры, соседи по домам и дачам, просто знакомые» («Город и горожане», 1981).
Но писателя, как и Чехова, занимали не эксцентричные, необычные события, не жизнь как вечный шум и сияющий праздник, а ежедневное, порой мучительное и однообразное, существование человека в большом городе.
Трифонов переосмысляет, придает индивидуальный смысл привычным словам быт и проза. «Быт – это великое испытание, – утверждает Трифонов. – Не нужно говорить о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт – это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность» («Выбирать, решаться, жертвовать», 1971).
Этот городской быт, прозу жизни и должна изображать литературная проза. «Возвращение к „prosus“ – называется одна из трифоновских статей (1969). «Латинское прилагательное „prosus“, от которого произошло слово проза, означает: вольный, свободный, движущийся прямо. <…> Современная проза, которая иногда ставит читателя в тупик, – роман ли это, рассказ, исторический очерк, философское сочинение, набор случайных оценок? – есть возвращение к древнему смыслу, к вольности, к „prosus“.
Однако «простота» настоящей прозы не менее сложна, чем стихотворная речь или запутанные фабулы детективов. Рассказывая простую «скучную историю» очередного своего героя-горожанина, Трифонов оснащает ее множеством точно увиденных подробностей, включает в исторический контекст, сопровождает лирическими и философскими размышлениями, выявляет ее символический смысл. Бытовая повесть на современном материале превращается, таким образом, в картину человеческого бытия, описывает, раскрывает и исследует «вечные темы» (так назывался один из трифоновских рассказов).
Герой повести «Другая жизнь», ученый-историк, находит точное определение, выражающее смысл трифоновского понимания человека – соединение в его судьбе быта и бытия, биографии и истории: «Человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и – по нему определить многое».
Трифонов точно находил заглавия для своих повестей. Когда московский цикл был написан, вдруг обнаружилось, что заголовки сложились в законченную картину, отражающую важные элементы авторского замысла.
Трифоновские герои живут в «Доме на набережной» (1976) или каком-то другом, менее престижном, городском доме; раньше или позже им приходится совершать «Обмен» (1969) – квартиры, зачастую и нравственных понятий; подводить «Предварительные итоги» (1970); ощутить «Долгое прощание» (1971); если повезет, прожить или хотя бы вообразить «Другую жизнь» (1975).
Писавшиеся параллельно романы расширяли эту картину мира и авторскую мысль. Героем «Нетерпения» (1973), которое вело пламенных революционеров к свержению самодержавия и катаклизмам XX века, становится один из руководителей партии «Народная воля» Андрей Желябов. В «Старике» (1978) вымышленный старый революционер-большевик Павел Евграфович Летунов, за которым узнаются многие реальные прототипы, подводит уже не предварительные, а окончательные – и неутешительные – итоги собственной жизни и советского Настоящего Двадцатого Века. Итог этой жизни, как и любой человеческой жизни, – «Исчезновение» (1968, эта трифоновская книга осталась неоконченной). Наконец, самый широкий исторический охват и символический смысл имеет последний завершенный писателем роман – «Время и место» (1981).
Трифоновское заглавие продолжает литературу великих И девятнадцатого века. Время и место – самые общие характеристики всего: жизни отдельного человека, государства, мира, большой истории.
Осознать свое время и место позволяет такая хрупкая и необходимая вещь, как человеческая память. В повести «Дом на набережной» Трифонов вывел поэтическую формулу памяти: «Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить – это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет» («Время и место»).
Этому изобретенному писателем «глаголу» вспоминать-и-жить в «Старике» соответствует не менее важное «имя» – жизне-смерть.
В романах и повестях Трифонов исследует время и место жизни своих персонажей и развертывает свою художественную философию подробно. В рассказах, в соответствии с их жанровой природой, они даны пунктирно, как формулы формул. Но вечные темы, волнующие писателя, отчетливо проявляются и здесь.
ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ: ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕБЯ
В рассказе «Вечные темы» (1981) редактор отвергает рассказы пришедшего в редакцию писателя за их несовременность («Все какие-то вечные темы»), но на вопрос, что это такое, отвечает как нерадивый школьник: «Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, о чем речь. <….> Вечные темы – это вечные темы».
Из содержания рассказа и других трифоновских вещей становится ясно: к вечным темам можно отнести лишь те, с которыми неизбежно сталкиваются люди в разные эпохи. Настоящая, большая, великая литература только и занимается вечными темами. Отцы и дети, война и мир, преступление и наказание, жизнь как «скучная история» и «смерть Ивана Ильича» – вечные темы, которые завещала двадцатому веку русская классика. Вечные темы литературы отражают архетип, первооснову любой человеческой жизни.
Детство, особенности восприятия ребенка, своеобразие его психики – сравнительно позднее литературное открытие. Оно появляется в литературе лишь в эпоху романтизма (до этого дети изображались в литературе как маленькие взрослые). Но за два века – от Л. Толстого («Детство») до А. Толстого («Детство Никиты») детство тоже превратилось в вечную тему, в которой писатели обнаруживали разные смыслы.
«Игры в сумерках» (1968) – рассказ Юрия Трифонова о детстве, который потом прорастает, многократно отзывается в его повестях и романах.
«Мы знали их всех по именам, но нас не знал никто» – такова первая фраза. Рассказ начинается словно с середины, без подготовки, без развернутой экспозиции.
Кто эти мы? Начальные эпизоды (подобное возможно только в литературе) строятся как изображение коллективного восприятия двух друзей-мальчишек («мы с Саввой»). Они живут летом на даче, но все вечера проводят не на реке или в лесу, а у теннисного корта. Смыслом их существования в это лето становится игра, игры в сумерках.
Настоящая проза, как и поэзия, умеет не просто рассказывать, но изображать мир. В начале рассказа Трифонов передает мелькание теннисного мяча, движение детских голов, наблюдающих за игрой взрослых, затягивающую силу этого занятия, проникающего «в глубь сознания».
«Это длилось часами. Ни голод, ни жажда, никакие земные желания не могли отвлечь нас от этого замечательного занятия. Направо – налево, направо – налево, мелькал маленький, направо – налево, белый, направо – налево, теннисный мячик вместе с тугими ударами, которые равномерно направо – налево, направо – налево, направо – налево, направо – налево вколачивались в наши мозги и укачивали, завораживали, усыпляли, мы становились как пьяные, не могли ни уйти, ни встать, хотя дома нас ждали головомойки, и продолжали, одурманенные, сидеть, вертя головами направо – налево, направо – налево».
Почему, зачем мальчишки вечера напролет наблюдают за играющими, запоминают на слух фамилии, придумывают клички, воображают характеры? Они неосознанно ищут образцы для поведения, хотят быть допущенными к жизни взрослых, но пока наблюдают ее со стороны, оставаясь для взрослых безличными «Эй, мальчик! Принеси мячик!» (Трифонов ненавязчиво ироничен, используя рифму считалки или детского стишка.)
Поэтому из всех играющих они выделяют двоих: лучшего игрока, аристократа, владельца модного велосипеда Татарников а и Анчик, «высокую, стройную, с осиной талией, с черными, как смоль, волосами и с большими глазами, черными и глубокими, как ночь» (снова писатель выделяет ироническим курсивом определения, которые мальчик-повествователь позаимствовал из романтической литературы).
«Не знаю, может быть, из-за Анчик мы и притаскивались каждый вечер на корт. Тогда это мне не приходило в голову, но теперь я думаю, что так и было», – догадывается повествователь уже из взрослого будущего, опять не договаривая все до конца.
Трифонов очень любил Чехова и считал, что именно он «совершил переворот в области формы»: «Он открыл великую силу недосказанного. Силу, заключающуюся в простых словах, в краткости» («Правда и красота», 1960). Этот прием (обычно его называют подтекстом) Трифонов часто использовал в своих произведениях.
Романтическое описание внешности Анчик, восемь раз повторенное «нравилось» (мальчишки замечают мельчайшие детали ее одежды и поведения) говорят об их влюбленности в эту недоступную красавицу, то ли десятиклассницу, то ли студентку, которая старше их на целую жизнь (хотя слово «любовь» ни разу не возникает в тексте). А она, в свою очередь (что тоже очевидно из подтекста), безответно влюблена в Татарникова: «Татарников садился на свой „Эренпрайз“ и укатывал, и сразу начинала собираться Анчик. То есть не то чтобы она тут же бросала ракетку, но видно было, как все ей становилось неинтересным, она переставала стараться, мазала и пререкалась».
Тем поразительнее оказывается для повествователя сцена унижения Анчик, происходящая на том же корте, но уже следующим летом, «когда пошли первые пароходы» (это – кульминация рассказа).
Крикливый и нахальный новый игрок лжет о гибели общего знакомого, с которым у Анчик, видимо, были близкие отношения («В первую минуту все, конечно, взволновались, а Анчик даже вскрикнула»), избивает девушку, а она смиренно переносит оскорбление, будто осознавая какую-то вину. «И тут Борис еще раз ударил Анчик по рукам, закрывавшим лицо с такой силой, что она вся перекосилась, выгнулась назад, как ветка, и едва не упала. Потом быстро пошла, почти побежала прочь, и Борис пошел с ней рядом. Они шли через сосняк, по кустам, не разбирая дороги, деловито и устремленно, не глядя друг на друга, и каждый был в одиночестве, но их связывало что-то ужасное и простое. Они были как бы один человек, который мелькал между сосен, уходя от нас».
Дети наблюдают драму взрослого мира, но не понимают ее. Они смотрят на происходящее словно сквозь узкую щель или растопыренные пальцы, поэтому многие детали картины остаются непонятными, о них можно только догадываться.
Эта любовная драма помещена в контекст советской истории 1930-х годов, данный в конкретных и характерных деталях. Один из игроков кажется мальчику шпионом, другой оказывается сыном работника Коминтерна. Упоминается, что Москву-реку можно было переходить вброд, а на следующее лето, когда открыли канал Москва – Волга, по ней уже пошли пароходы. Для повествователя полны смысла давно ушедшие моды и вещи; он называет марки велосипеда, машины и автобуса, точно перечисляет, какие ракетки были у игроков, вспоминает чесучовые толстовки, белые брюки и парусиновые туфли, которые чистили зубным порошком.
Кульминацией этой данной пунктиром исторической линии сюжета становится появление праздничной толпы с парохода, которая, после недолгого спора («А вы хотите вчетвером играть и чтоб четыре сотни людей на вас смотрели!»), изгоняет с корта «аристократов» и устраивает вполне демократические танцы.
Поразительно, но этот эпизод имеет вполне точную дату. В дневнике двенадцатилетнего Юры Трифонова (20 августа 1937 г.) рассказано, как на теннисном корте появились люди с пришедших по реке пароходов: «В это время там играли в теннис и волейбол, игроки возмутились и старались своими голосами покрыть все нарастающий шум; но толпа бесцеремонно вошла на корт. Оркестр разместился, и танцы начались. Мы с Танькой бегали все время и до упаду хохотали над одним малышом, который под музыку танцевал с серьезным и сосредоточенным лицом. До сумерек веселились тут мы. А разозленные теннисисты принесли дудочку и всеми силами старались мешать оркестру».
Мальчик вместе с другом воспринимают происходящее как новое развлечение, оказывается частью толпы, сливается с ней, живет ее эмоциями. Точка зрения повествователя «Игр в сумерках» принципиально меняется. Через много лет он смотрит на происходящее с сожалением и грустью. В сюжете рассказа этот праздник оказывается концом прежней довоенной жизни, концом детства. Дальше были война и другая жизнь.
«Во время войны деревянную ограду корта разломали на топку. Однажды, через десятки лет, я приехал туда и поднялся на холм, чтобы увидеть то место, где начиналось так много всего, из чего потом составилась вся моя жизнь. А тогда были только обещания. Но некоторые из них исполнились».
Повествователь снова оставляет в подтексте важные вещи: что это были за обещания и какие из них исполнились. Рассказ акцентирует другой мотив: не прошлого, а будущего, не обещания, а памяти.
Спросив у нового обитателя теперь уже не дачной местности, а московского пригорода с его запахом бензина и пыльной зеленью, откуда здесь цементная площадка, он получает уверенный ответ: «Это с войны, ага». Как в финале романа «Мастер и Маргарита», даже недавнее прошлое затягивается пеленой забвения. Бороться с ним способна лишь слабая человеческая память.
Лирический мотив конца, исчезновения (как мы помним, так назывался неоконченный трифоновский роман) неоднократно возникает в рассказе, подготавливая его финал.
Сначала распадается детское «мы»: повествователь внезапно и навсегда расстается с другом: «В середине лета у Саввы умер отец, и мать повезла Савву в Ленинград. Он оставил мне свою ракетку со стальными струнами. Обещал вернуться в конце лета, но не вернулся. Никогда в жизни я больше не встречал Савву и ничего не слышал о нем».
Затем исчезает тот круг, за которым наблюдали и в который стремились мальчишки: «После этого <случая с Анчик> жизнь на корте стала как-то быстро, непоправимо меняться. Одни вообще исчезли, перестали приходить, другие уехали. Приехали новые».
Грандиозное историческое событие, война, довершает дело. Новых людей встречает на вершине холма новое развлечение, величественный летний кинотеатр.
Концовка, как это часто бывает у Юрия Трифонова, концентрирует смысл рассказа, однако дает его не прямолинейно (писатель, как и Чехов, не любил прямолинейных поучений и умозаключений), а подтекстно. «Я подошел к реке, сел на скамейку. Река осталась. Сосны тоже скрипели, как раньше. Но сумерки стали какие-то другие: купаться не хотелось. В те времена, когда мне было одиннадцать лет, сумерки были гораздо теплее».
«Не время проходит, проходим мы», – сказано в одной древней книге. Природа (река, сосны) осталась вроде бы той же самой, но изменившийся человек воспринимает эти сумерки совсем по-иному, потому что они являются частью другой жизни. А те сумерки детства стали «изделием памяти» (определение из романа «Старик») и наполнились неосознаваемым когда-то ощущением счастья, связанного с обещаниями, исполнившимися лишь отчасти.
Детство кончается тогда, когда ты осознаешь, что оно окончилось.
Тему повести «Дом на набережной» Трифонов первоначально определил как «конец одного детства». А начинается она с лирического зачина, стихотворения в прозе, словно подводящего итог «Играм в сумерках»: «Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете. Кто погиб на войне, кто умер от болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей. И если бы эти другие люди встретили бы каким-нибудь колдовским образом тех, исчезнувших, в бумазейных рубашонках, в полотняных туфлях на резиновом ходу, они не знали бы, о чем с ними говорить. Боюсь, не догадались бы даже, что встретили самих себя».
Парадоксам сознания, временным перевертышам посвящен другой трифоновский рассказ, «Прозрачное солнце осени» (1962). В аэропорту (традиционный хронотоп большой дороги, место случайных встреч, заменившее в XX веке прежние постоялые дворы и почтовые станции) внезапно встречаются, как чеховские Толстый и Тонкий, два старых товарища студенческих времен. Один, Галецкий, давно стал «рядовым огромной физкультурной машины», преподавателем техникума и тренером мальчишеской футбольной команды в маленьком сибирском городе, другой, Величкин, – крупным московским спортивным чиновником, летающим с командами за границу (важная привилегия советских времен).
Как и в «Играх в сумерках» Трифонов из простого бытового эпизода добывает важное психологическое наблюдение: «Сейчас они пытались рассказать друг другу о том, как они прожили эти двадцать лет, и чего добились, и как они, в общем, довольны. Но разве можно рассказать жизнь!
Разговор был бессмысленный. Они говорили о чем-то пустяковом, неглавном, вспоминали всякую чушь, перебирали в памяти людей, давно забытых, ненужных, о которых оба не вспоминали годами и, не встретясь сейчас, не вспомнили бы еще десять лет».
Парадокс в том, что, рассказывая о своих удачах, каждый считает неудачником другого!
«„Вот этот самый Аркашка Галецкий всегда был неудачником. И в институте и вообще. <…> Как-то не везет ему всю жизнь… Помню, мы ухаживали за одной девчонкой, вместе, он и я. Был такой период. Очень люто соперничали.“ – „Ну и чем кончилось?“ – спросил тренер. – „Это целая история. В конечном счете, я, кажется, победил”». Такова точка зрения чиновника.
«Когда-то он был влюблен в мою жену! В Наталью Дмитриевну! А парень он очень хороший… Жаль только, жизнь у него сложилась как-то неудачно… Ведь он талантливый человек, а стал администратором». Таков взгляд на прошедшие десятилетия преподавателя.
Трифонов представляет и точку зрения иронического свидетеля разговора: «Тренер смотрел на них пристальными круглыми, как у птицы, черными глазами и улыбался в душе. Итог жизни этих старых людей казался ему незавидным. Один стал чиновником, другой прозябал в глуши. Тренер был молод, честолюбив и наделен волей. Говорили, что он „далеко пойдет”».
В рассказе отражен и взгляд на Галецкого молодых волейболистов: «Спортсмены по очереди вставали, пожимали Галецкому руку и называли себя. Они делали это довольно небрежно. Галецкий не вызывал у них интереса, он казался им старым и провинциальным».
Рассказ о случайно столкнувшихся в юности людях, проживших абсолютно разные жизни, обнаруживает относительность побед и поражений, разное понимание удачи и счастья. Галецкий, Величкин, тренер, волейболисты видят удавшейся свою жизнь и считают неудачниками других, опасаясь повторить их путь. Но печальный закон, усмешка судьбы оказывается глубже спора их самолюбий: «Величкин даже не спросил Галецкого, женат ли он и есть ли у него дети. Надо в следующий раз спросить. В какой следующий раз? Он вдруг понял, что следующего раза не будет. Никогда больше он не увидит Галецкого. Никогда в жизни».
На фоне взрослого, горького, подводящего итоги никогда, в финале этой поэмы о разных точках зрения возникает еще один взгляд – двух мальчишек из маленького сибирского городка: «Ученики Галецкого смотрели в окно. Им не казалось, что жизнь Величкина сложилась неудачно, но они и не завидовали ему. Нет, они были уверены, что им предстоит жизнь еще более заманчивая и прекрасная. И они с жадностью смотрели вниз, как будто надеялись увидеть свое будущее там, внизу, где проплывало рыжее бескрайнее, залитое прозрачным осенним солнцем таежное редколесье. С высоты трехсот метров каждое дерево было видно отчетливо, и тайга была похожа на мох».
Эти ребята пытаются вглядеться в свое будущее, угадать его в таежном редколесье. Наверное, в их жизни тоже что-то сбудется, а что-то – нет. Пока они переживают свои игры в сумерках, конец их детства еще впереди. Но прозрачное солнце осени кажется таким же символом-предостережением, как холодные сумерки в финале первого трифоновского рассказа.
Рассказ «Путешествие» (1969) еще короче, а его мысль – парадоксальнее.
Герой-писатель, персонаж очевидно автобиографический, вдруг ощущает страшный кризис, который отчетливо проявляется даже в мелочи, детали: «Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно: путешествие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как, самолетом, пароходом, на лошади, на самосвале – уехать немедленно. <…> Трудно объяснить, что делается с человеком на рассвете, в апреле, когда открытая рама слегка раскачивается от ветра и скребет по подоконнику сухой неотодранной бумажной полосой».
В редакции, куда повествователь приходит за командировкой, его поражает реплика неизвестного молодого человека. «„Если вам нужны впечатления, – сказал он, – тогда вовсе не обязательно ехать куда-то далеко, в Тюмень или в Иркутск. Поезжайте поблизости, в Курск, в Липецк, там не менее интересно, чем в Сибири, ей-богу“.
„Вы так думаете? – спросил я, втайне обрадовавшись. Он высказал мои собственные мысли. – Конечно, вы правы: дело не в километрах…”»
Повествователь идет по улице, и чувство, которое можно ощутить не в тайге, а только в городской толпе, приобретает еще более острый характер: «Я всматривался в лица, бесконечно возникавшие передо мной и исчезавшие сзади, за спиной, исчезавшие бесследно, для того чтобы никогда больше не появиться в моей жизни, и думал: зачем ехать в Курск или в Липецк, когда я как следует не знаю Подмосковья. Я никогда не был в Наро-Фоминске. Не знаю, что такое Мытищи. Да и в самой Москве есть улицы и районы совершенно мне неведомые».
Через полчаса он выходит из троллейбуса возле дома, в котором прожил много лет: «На скамейках, расставленных кольцом вокруг фонтана, сидели, подставив солнцу лица, десятка четыре пенсионеров, стариков и старух. Они сидели тесно, по пятеро на скамейке. Я не знал никого из них».
Финальная точка ожидаема и, тем не менее, парадоксальна: «Я открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру. На кухне жарили навагу. Внизу, на пятом этаже, где жила какая-то громадная семья, человек десять, кто-то играл на рояле. В зеркале мелькнуло на мгновенье серое, чужое лицо: я подумал о том, как я мало себя знаю».
Путешествие заканчивается в собственном доме взглядом в зеркало.
Герой рассказа видит там незнакомца. В сюжете этого рассказа Юрий Трифонов словно реализует афоризм великого Сократа: «Познай самого себя».
Лучшие чеховские рассказы Трифонов определял как «спрессованные гигантской силой чеховского искусства романы» («Возвращение к „prosus”», 1969). Трифоновские рассказы часто тоже напоминают романы. В них скрыто и одновременно раскрыто огромное содержание. Юрий Трифонов учит видеть и понимать обычную жизнь, быт как притягательную загадку, тайну, вечную тему.
Сергей Донатович ДОВЛАТОВ (1941–1990)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир прозы Довлатова
ПРОФЕССИЯ: РАССКАЗЧИК
Сергей Донатович Довлатов родился в самом начале Великой Отечественной войны в эвакуации в Уфе, большую часть жизни прожил в Ленинграде, умер в эмиграции в Нью-Йорке и стал одним из любимых писателей конца XX века всюду, где читают по-русски.
В его записных книжках есть классификация разных типов авторов, напоминающая ту, которую мы использовали в первой книге (поэт – писатель – литератор).
«Рассказчик действует на уровне голоса и слуха. Прозаик – на уровне сердца, ума и души. Писатель – на космическом уровне.
Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик – о том, как должны жить люди. Писатель – о том, ради чего живут люди» («Записные книжки»).
В других случаях Довлатов сокращал эту триаду до двучлена, всегда сохраняя за собой скромное место рассказчика. «Не думайте, что я кокетничаю, но я не уверен, что считаю себя писателем, – объясняет он в интервью. – Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами – он пишет о том, во имя чего живут люди. А рассказчик пишет о том, КАК живут люди. Мне кажется, у Чехова всю жизнь была проблема, кто он: рассказчик или писатель?»
Чехов занимает особое место в размышлениях Довлатова. В «Записных книжках, есть такое признание: «Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее.
Однако похожим хочется быть только на Чехова».
Довлатов-человек напоминал Чехова высоким ростом. Довлатов-рассказчик походит на Чехова много больше.
Во-первых – краткостью (Чехов, как мы помним, считал ее сестрой таланта). Довлатов написал дюжину книг. Это – либо сборники рассказов («Зона», «Компромисс», «Наши»), либо короткие повести («Заповедник», «Филиал»). Единственный законченный Довлатовым роман остался в рукописи (Чехов тоже так и не написал романа, хотя одно время работал над ним).
Все, что необходимо, рассказчик Довлатов умел сказать в малых эпических жанрах. «Я проглатывал его книги в среднем за три-четыре часа непрерывного чтения…» – признавался И. Бродский («О Сереже Довлатове», 1992).
Во-вторых, общей оказывается исходная точка чеховского и довлатовского художественных миров. Заглянем еще раз в довлатовские «Записные книжки». Там много фраз-афоризмов, то непритязательно-смешных, то задумчиво-печальных: «Я болел три дня, и это прекрасно отразилось на моем здоровье»; «Гений – это бессмертный вариант простого человека». Там не меньше словесной игры, смешных фамилий, оговорок, переделанных цитат (с такими языковыми «молекулами» любят работать авторы-«часовщики»): «Опечатки: „Джинсы с тоником“, „Кофе с молотком“; „Две грубиянки – Сцилла Ефимовна и Харибда Абрамовна“; „Балерина – Калория Федичева“; „Рожденный ползать летать… не хочет!“ Но больше всего там коротких историй о себе и других, об известных всем (исторических) и известных только автору родственниках, друзьях и знакомых.
«Соседский мальчик ездил летом отдыхать на Украину. Вернулся домой. Мы его спросили:
– Выучил украинский язык?
– Выучил.
– Скажи что-нибудь по-украински.
– Например, мерси».
«Я был на третьем курсе ЛГУ. Зашел по делу к Мануйлову. А он как раз принимает экзамены. Сидят первокурсники. На доске указана тема: „Образ лишнего человека у Пушкина“.
Первокурсники строчат. Я беседую с Мануйловым. И вдруг он спрашивает:
– Сколько необходимо времени, чтобы раскрыть эту тему?
– Мне?
– Вам.
– Недели три. А что?
– Так, – говорит Мануйлов, – интересно получается. Вам трех недель достаточно. Мне трех лет не хватило бы. А эти дураки за три часа все напишут».
«Набоков добивался профессорского места в Гарварде. Все члены ученого совета были – за. Один Якобсон (известный филолог Р. О. Якобсон. – И. С.) был – против. Но он был председателем совета.
Его слово было решающим.
Наконец коллеги сказали:
– Мы должны пригласить Набокова. Ведь он большой писатель.
– Ну и что? – удивился Якобсон. – Слон тоже большое животное. Мы же не предлагаем ему возглавить кафедру зоологии!»
Как назвать эти мини-произведения? Это – анекдоты, причем не только в современном смысле слова (краткий устный рассказ с неожиданной концовкой), но и в понимании пушкинской эпохи. Когда автор «Евгения Онегина» замечает, что герой хранил в памяти «дней минувших анекдоты», он имеет в виду не просто смешные и краткие, но примечательные, характерные истории, отражающие какие-то существенные черты известных людей и исторической эпохи.
Довлатов не просто собирает и пересказывает анекдоты в записных книжках. Многие его сюжеты (как и чеховские) имеют анекдотическую природу, вырастают из анекдота.
После Пушкина, в писательскую эпоху, к анекдоту стали относиться высокомерно-снисходительно, не считая его серьезным жанром. Лескова и Чехова некоторые критики презрительно называли писателями-анекдотистами. Но один из современников Довлатова, писатель и литературовед А. Д. Синявский (придумавший себе футуристски-провокационный псевдоним Абрам Терц), создал настоящий панегирик анекдоту, увидев в этом сверхкратком жанре романную широту и философскую глубину.
«Если мы представим себе анекдоты в виде бесконечной цепочки, то она, эта цепочка, охватит чуть ли не все искомые или возможные положения человека на земле. Как таблица химических элементов Менделеева, оставляющая пустоты, незаполненные ячейки для новых валентностей, для новых анекдотов. Общий заголовок этой таблицы, составленный из юмористических притч, гласит: „человеческое бытие“, „человеческое существование“. И эта воображаемая таблица будет отличаться не только полнотой охвата, но философским спокойствием, мудрым юмором, снисходительной высшей точкой зрения на жизнь и на все на свете» (Абрам Терц «Анекдот в анекдоте», 1978).
В своем размышлении об анекдоте Синявский дважды отсылает к еще одному важному для понимания прозы Довлатова понятию: юмор. В записных книжках Довлатова есть афоризм и о нем: «Юмор – инверсия жизни. Лучше так: юмор – инверсия здравого смысла. Улыбка разума». В довлатовской статье есть чуть более подробное объяснение: «Юмор… – не цель, а средство, и более того, – инструмент познания жизни: если ты исследуешь какое-то явление, то найди – что в нем смешного, и явление раскроется тебе во всей полноте».
Юмор в отличие от других видов комического прекрасно сочетается с печалью и даже трагизмом, снисходительностью к людям и философским отношением к несовершенству бытия. Немецкий философ А. Шопенгауэр специально подчеркивал скрывающуюся в юморе «глубочайшую серьезность». Гоголевский смех сквозь слезы в этом смысле – принцип юмористического отношения к миру. У Довлатова есть ее своеобразная вариация: «Существует понятие – „чувство юмора“. Однако есть и нечто противоположное чувству юмора. Ну, скажем – „чувство драмы“. Отсутствие чувства юмора – трагедия для писателя. Вернее, катастрофа. Но и отсутствие чувства драмы – такая же беда».
Чувство драмы обычно связано в прозе Довлатова с находящимся в центре повествования рассказчиком. В разных книгах он носит различные имена: Алиханов («Зона»), Далматов («Филиал»). Но в «Компромиссе», «Наших», «Чемодане» его зовут так же, как и автора: Сергей Довлатов.
Довлатова-героя, как и других персонажей довлатовской прозы, носящих реальные имена, конечно, нельзя полностью отождествлять с его создателем. Особенностью писательской манеры является правдоподобная выдумка, замаскированная под реальность. Сергей Довлатов – один из литературных героев, образов рассказчика Довлатова.
«Дело в том, что жанр, в котором я, наряду с другими, выступаю, это такой псевдодокументализм. Когда все формальные признаки документальной прозы соблюдаются, то художественными средствами ты создаешь документ… И у меня в связи с этим было много курьезных ситуаций, когда люди меня поправляли. Читая мои сочинения, они говорили, все это было не так, например, ваш отец приехал не из Харбина, а из Владивостока. Или история моего знакомства с женой несколько раз воспроизведена в моих сочинениях, и каждый раз по-разному. Была масса попыток объяснить мне, как все это на самом деле происходило. Во всяком случае, правды и документальной правды и точности в моих рассказах гораздо меньше, чем кажется. Я очень многое выдумал», – признавался писатель.
Отказываясь от писательских претензий на учительство, претендуя всего лишь на анекдотическую историю современной жизни, рассказывая о том, как живут люди, Сергей Довлатов вовсе не отрицал огромного воздействия литературы на человека, но связывал его (и в этом он тоже похож на Чехова) не с проповедью, а с литературным качеством произведения, определяемым талантом.
«Когда вы читаете замечательную книгу, слушаете прекрасную музыку, разглядываете талантливую живопись, вы вдруг отрываетесь на мгновение и беззвучно произносите такие слова: „Боже, как глупо, пошло и лживо я живу! Как я беспечен, жесток и некрасив! Сегодня же, сейчас же начну жить иначе – достойно, благородно и умно…“ Вот это чувство, религиозное в своей основе, и есть момент нравственного торжества литературы, оно, это чувство, – и есть плод ее морального воздействия на сознание читателя, причем воздействия чисто эстетическими средствами…» («Блеск и нищета русской литературы», 1982).
Подведем итог. Вообразим творческую анкету Сергея Довлатова.
Любимый жанр – рассказ или короткая повесть.
Форма мышления – анекдот.
Личные предпочтения, свойство таланта – юмор.
Отношение к действительности – псевдодокументализм, выдумка, которая оказывается правдивее реальности.
Задача – рассказать о том, как живут люди.
Сверхзадача – вызвать глубокую эмоциональную реакцию, заставить читателя задуматься и – если возможно – хоть чуть-чуть измениться.
«Я пытаюсь вызвать у читателя ощущение нормы… Одним из таких серьезнейших ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением… Значит, абсурд и безумие становятся чем-то совершенно естественным, а норма, то есть поведение нормальное, естественное, доброжелательное, спокойное, сдержанное, интеллигентное, – становится все более из ряда вон выходящим событием… Вызывать у читателя ощущение, что это нормально, – может быть, вот в этом заключается задача, которую я предварительно перед собой не ставил, но это и есть моя тема, тема, которую не я изобрел и не я один посвятил ей какие-то силы и время. Если нужны красивые и, в общем, точные и верные слова, то это попытка гармонизации мира» («Писать об абсурде из любви к гармонии»).
«ЧЕМОДАН»: ВЕЩИЕ ВЕЩИ
Все эти сложные проблемы рассказчик Довлатов мог и умел поставить и раскрыть через внешне непритязательный анекдот. Структуру довлатовской книги можно представить таким образом: медленно вращается колесо «большого», центрального сюжета, а на нем беспрерывно и весело позвякивают бубенчики анекдотов.
Присмотримся пристальнее к нескольким историям, из которых слагается «Чемодан» (1986), одна из лучших довлатовских книг, написанная в эмиграции в Америке, но посвященная, как и почти вся проза Довлатова, России.
Чемодан «Чемодана», кажется, реален. «Вы уехали почти в 37 лет, с одним чемоданом, перевязанным бельевой веревкой…» – интересуется американский литературовед. «Да, чемодан был неказистый. Все так, и что же?» – соглашается и задает ответный вопрос Довлатов (Дж. Глэд «Беседы в изгнании», 1991).
Но у чемодана, возможно, существуют литературные прототипы.
«Всеми фибрами своего чемодана он стремился за границу», – замечено в записных книжках И. Ильфа, по жанру похожих на записные книжки Довлатова, которые мы цитировали.
А у ленинградского писателя. В. Голявкина, которого Довлатов знал и ценил, есть коротенький рассказик «О чемодане». Одна старушка жалуется другой, что уехавший сынок оставил дома ненужный чемодан, и она никак его не может пристроить: под кроватью будет пылиться, на шкаф не помещается, шкаф на чемодан у людей ставить не принято. «Чемодан, он чемоданом останется – и ничего для него не придумаешь нового. Если бы, например, стол или шкаф, или к примеру, диван какой, так на диване сидеть еще можно. А чемодан не пригоден к этому. Горе мне с чемоданом!»
В предисловии к довлатовской книге чемодан оказывается к этому пригоден. Наказанный сын отправляется в шкаф. «Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю:
– Тебе было страшно? Ты плакал?
А он говорит:
– Нет. Я сидел на чемодане».
Но главная, новая выдумка в другом. Чемодан в довлатовской книге – хранитель «пропащей, бесценной, единственной жизни» (любимый писательский психологический оксюморон).
Книга начинается эпиграфом из А. Блока: «…Но и такой, моя Россия, / ты всех краев дороже мне…» Вспомним этот блоковский текст:
Грешить бесстыдно, непробудно, Счет потерять ночам и дням, И, с головой от хмеля трудной, Пройти сторонкой в божий храм. Три раза преклониться долу Семь – осенить себя крестом, Тайком к заплеванному полу Горячим прикоснуться лбом. Кладя в тарелку грошик медный, Три, да еще семь раз подряд Поцеловать столетний, бедный И зацелованный оклад. А воротясь домой, обмерить На тот же грош кого-нибудь, И пса голодного от двери, Икнув; ногою отпихнуть. И под лампадой у иконы Пить чай, отщелкивая счет, Потом переслюнить купоны, Пузатый отворив комод, И на перины пуховые В тяжелом завалиться сне… Да, и такой, моя Россия, Ты всех краев дороже мне.В первой редакции блоковское стихотворение называлось «Россия». Под ним стояла дата: «30.XII.1913–26.VIII.1914» (восемь месяцев на шесть четверостиший). Потом от даты осталось только второе число, заглавие исчезло, но текст был включен в третьем томе лирики в раздел «Родина».
Блоковский образ России контрастен. Он строится на противопоставлении благочестия и греховности, душевной щедрости и скопидомства, доброты и равнодушия. Блоковское утвердительное да Довлатов заменяет сомневающимся но. Оно обращено не столько к блоковскому поэтическому сюжету, сколько к сюжетам собственной прозы.
В предисловии, перебирая заглавия, Довлатов словно ищет конструкцию книги, уточняет ее смысл.
«От Маркса к Бродскому» – заглавие идеологическое, история обязательных изучений и собственных увлечений. Однако, в нем скрывается ирония. Маркс, которого в советскую эпоху обязательно «проходили» в школе и институте, представлен не серьезными работами, а страницей газеты «Правда» за май восьмидесятого года (уже в этой детали проявляется довлатовский псевдодокументализм: газета не могла оказаться в чемодане, потому что автор с чемоданом уехал из СССР на два года раньше). И фотография литературного кумира Довлатова, Иосифа Бродского, оказывается в довольно странном соседстве с джазовым музыкантом Армстронгом и актрисой Лоллобриджидой в прозрачной одежде.
Другое название – «Что я нажил» – словно колеблется между полюсами духовного и материального. Оно варьирует заголовки детских книжек Бориса Житкова «Что я видел» и «Что бывало».
Окончательный вариант обращает повествование к быту, к немногим вещам, увезенным в эмиграцию. Каждый довлатовский рассказ привязан к вещи и нанизан на стержень биографии главного героя. Восемь вещей – восемь историй. «Вещественные знаки невещественных отношений», как говорил герой романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история», классической книги об утрате иллюзий.
В 1927 году эмигрант первой волны М. А. Осоргин написал рассказ «Вещи человека», который вряд ли был известен Довлатову, но оказывается удивительно близок ему по настроению, по пониманию роли родного предмета.
«Умер обыкновенный человек. Он умер. И множество вещей и вещиц потеряло всякое значение…» – так начинается осоргинский рассказ. И вот чья-то белая рука с обручальным кольцом (вдовы? судьбы?) медленно перебирает кургузый остаток карандаша-ветерана, пережившего несколько уборок, прокуренную трубку, давно остановившиеся карманные часы, старые письма, футляр очков, портсигар… Вещи были «маленьким храмом человеческого духа». Теперь «осколки храма стали мусором».
Действительно, даже в простых предметах, нас окружающих, есть своя философия и даже мистика. Вещи долговечнее человека, они переживают его, оставаясь – для тех, кто поймет и увидит, – памятником прошедшему времени и ушедшей жизни. Вещи обладают своей атмосферой. Они плотно срастаются с какой-нибудь ситуацией (у каждого – своей), вызывая обвал воспоминаний.
Психологи различают понятия «значение» и «смысл». Значение – объективно, всеобще (вот стул, вот старый чемодан). «Личностный смысл» воплощается в значениях, прикрепляется к ним и создает «пристрастность человеческого сознания» (А. Н. Леонтьев). Личностный смысл и превращает обыкновенную материальную вещь в «храм духа».
«Чемодан» – книга о личностных смыслах вещей, которые стали для автора этапами его судьбы, воспоминанием о «такой России».
«Я оглядел пустой чемодан. На дне – Карл Маркс. На крышке – Бродский. А между ними – пропащая, бесценная, единственная жизнь.
Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал – неужели это все? И ответил – да, это все.
И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья. И теперь вырвались наружу».
В книге подводятся предварительные итоги пропащей, бесценной, единственной жизни. Образ героя-повествователя собирается, складывается из вещей по принципу детской считалки: «Точка, точка, запятая, минус: рожица кривая». Носки, полуботинки, рубашка, костюм, куртка, офицерский ремень, шапка, перчатки – вот и вышел человек-человечек.
И он уже не деталь в пейзаже «зоны» или «заповедника», не один из персонажей на страницах «семейного альбома», а портрет на фоне вещей и времени. Потому наряду с уже не раз использованными армейским, семейным, газетным пластами жизни появляются студенческие и рабочие истории.
М. Горький придумал когда-то литературную серию «История молодого человека XIX столетия». «Чемодан» вполне может претендовать на фрагментарную историю молодого человека середины века двадцатого. Обыкновенную российскую историю. Забавную и грустную. Развертывающуюся между полюсами анекдота и драмы.
Все начинается с «копеечных», анекдотических историй. Фарцовщики купили носки, надеялись серьезно заработать при их перепродаже – а назавтра ими завалили все магазины, и дело прогорело («Креповые финские носки»). Стащил ради шутки работяга у начальника туфли – и тому пришлось притворяться больным, чтобы выйти из конфузной ситуации («Номенклатурные полуботинки»). Приехал дружественный швед писать книгу о России, шесть лет язык изучал – но его приняли за шпиона и через неделю отправили обратно («Приличный двубортный костюм»). Однако эти простые сюжеты автор расцвечивает афоризмами, неожиданными гиперболами, психологическими парадоксами.
Абсолютно бытовая, правдоподобная история о неудачной фарцовке на последней странице приобретает фантастический колорит. «Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял двести сорок пар. <…> После этого было многое». Дальше конспективно перечисляются вехи «трудовой» биографии Довлатова-героя: переход на другой факультет, новые финансовые операции, женитьбы и рождение ребенка, робкие литературные попытки. «И лишь одно было неизменным, – продолжает рассказчик. – Двадцать лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки, вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшилось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь три пары сунул в чемодан».
Поделите двести сорок пар на двадцать лет, добавьте кучу брошенных в квартире, использованных и подаренных. Злосчастные носки превращаются в сказочную фольклорную кашу, которая не кончается, сколько ее ни ешь.
Но даже в этом абсолютно анекдотическом тексте появляется тень драмы – рассказ о несчастной первой любви, из-за которой и возникла афера с носками. В последних сюжетах грусть, тоска накапливаются, тяжелеют, выходят на первый план, окончательно превращают анекдот в драму.
«Поплиновая рубашка» – история трудных отношений повествователя с женой, рассказанная простодушно, сентиментально, почти по-карамзински: и писатели-неудачники любить умеют. Парадоксальное двадцатилетнее сосуществование двух не очень удачливых и не очень счастливых людей заканчивается просмотром семейного альбома.
На старых фотографиях перед героем калейдоскопически быстро проходит, оказывается, совсем незнакомая жизнь. Детство, родители, школа, институт, отдых на юге. Самодельная кукла, стоптанные туфли, дешевый купальник. «И везде моя жена казалась самой печальной». И вдруг на последней странице этой трогательно-жалкой родословной оказывается квадратная фотография размером чуть больше почтовой марки. «Узкий лоб, запущенная борода, наружность матадора, потерявшего квалификацию. Это была моя фотография. Если не ошибаюсь – с прошлогоднего удостоверения».
Что произошло? Почему у него перехватывает дыхание?
Нормальное детское чувство единственности и незаменимости в мире обычно сменяется у взрослого человека зыбким ощущением анонимности, неуверенности в собственном существовании. Вероятно, это комплекс «маленького человека», «нищего», «изгоя». Лучше всего о нем писали Достоевский и Франц Кафка (Довлатов ценил этого писателя, посвятил ему отдельную статью). Человек существует, пока он рядом. Он исчезает – ив мире возникает пустота, дыра, абсолютное забвение. И каким же оказывается потрясение, когда внезапно слышишь разговор о себе в твое отсутствие.
Название вырывает нас из анонимности существования. Фотография в альбоме свидетельствует о том же. «Хотя, если разобраться, что произошло? Да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа. Это нормально».
Рассказывая похожую историю в «Заповеднике» и «Наших», повествователь подводил итог иронически-застенчивым афоризмом: «Тут уже не любовь, а судьба». Здесь же Довлатов меняет итоговую формулу, обращается к иному, драматически-прямому слову: «Значит, все, что происходит, – серьезно. Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы?..
У меня не хватало сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты.
Я подумал: „Если у меня сейчас трясутся руки, что же будет потом?”».
Однако долго существовать в состоянии такого прозрения невозможно. Потом оказывается простым и будничным: «В общем, я собрался и поехал на работу…»
Кульминацией «Чемодана» становится последний рассказ «Шоферские перчатки».
Банальная идея «пылкого Шлиппенбаха», расчетливого диссидента («Фильм будет, мягко говоря, аполитичный… Надеюсь, его посмотрят западные журналисты, что гарантирует международный резонанс»), посмотреть на советский Ленинград глазами его основателя Петра Великого приводит к неожиданному результату. Одетый Петром герой сначала мерзнет на стрелке Васильевского острова, а потом оказывается в очереди у пивного ларька. «Вокруг толпятся алкаши. Это будет потрясающе. Монарх среди подонков», – развивает свою идею неуемный Шлиппенбах.
«Подонки» тут, пожалуй, значит не «мерзавцы», а нечто иное, почти горьковское: «люди дна» – «измученные, хмурые, полубезумные». Среди них какой-то кавказец, железнодорожник, оборванец, интеллигент.
И – первый парадокс: воскресший император оказывается своим в этом жизненном маскараде, «роковой очереди» за пивом. Ему удивляются так же мало, как ожившему Носу у Гоголя. Он – последний. «Ну что я им скажу? Спрошу их – кто последний? Да я и есть последний». Он подчиняется законам российского демократического похмельного общежития. «Стою. Тихонько двигаюсь к прилавку. Слышу – железнодорожник кому-то объясняет: „Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем…”» (Андрей Платонов, говорят, считал умение стоять в очереди одной из черт настоящего – советского? – интеллигента.)
А активное вмешательство в жизнь диссидента-демократа («Шлиппенбах кричит: «Не вижу мизансцены! Где конфликт?! Ты должен вызывать антагонизм народных масс!») вызывает – и это второй парадокс – резкий отпор. «Ходят тут всякие сатирики… <…> Такому бармалею место у параши…»
Новая Полтавская битва завершается посрамлением шведского потомка: он смиряется, стоит как все и получает большую кружку пива с подогревом. Памятью об этой истории и остаются шоферские перчатки, последняя вещь в чемодане.
Довлатовский «Чемодан», в сущности, машина времени. Фанерный сундучок воспоминаний, полный вещих вещей. Жалкая и трогательная память об ушедшей жизни, о родине. «…Но и такой, моя Россия, / ты всех краев дороже мне…»
Следующая книга должна была называться «Холодильник». Но для нее Сергей Довлатов успел написать только два рассказа.
«Все интересуются, что там будет после смерти? После смерти начинается – история» («Записные книжки»).
Иосиф Александрович БРОДСКИЙ (1940–1996)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
Художественный мир лирики Бродского
ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС
Иосиф Александрович Бродский стал самым молодым лауреатом самой престижной в мире литературной награды и первым русским поэтом, получившим Нобелевскую премию (Б. Л. Пастернаку она была присуждена, прежде всего, за роман «Доктор Живаго», И. А. Бунин тоже получил ее как прозаик). В «Нобелевской лекции» (1987) он вспомнил своих предшественников, которые тоже могли оказаться на этой трибуне: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, американского поэта Роберта Фроста (1874–1963), Анну Ахматову, англо-американского поэта Уинстона Одена (1907–1973). «Я назвал лишь пятерых – тех, чье творчество и чьи судьбы мне дороги, хотя бы потому, что, не будь их, я бы как человек и как писатель стоил бы немногого: во всяком случае, я не стоял бы сегодня здесь», – признавался Бродский.
Особое место в этом ряду занимают две русские женщины-поэты. Марина Цветаева, покончившая с собой через год после рождения нобелевского лауреата, наиболее близка Бродскому эстетически, художественно. Цветаеву Бродский считал самым значительным русским поэтом XX века. Анна Ахматова сыграла огромную роль в творческом становлении Бродского. О «великой душе» он написал стихи к столетию Ахматовой (они цитировались в главе о ней).
Ахматова, которая была старше Бродского более чем на полвека, дружила с ним, высоко ценила его раннее творчество, верила в его огромное будущее. «Какую биографию делают нашему рыжему!» – сказала она во время судебного процесса над Бродским, когда поэта обвинили в тунеядстве.
Несмотря на колоритную биографию (Бродский рано ушел из школы и больше нигде не учился, сменил множество работ, включая место санитара в морге, был арестован и сослан, в эмиграции стал университетским профессором и со стихами и докладами объехал весь мир), главным делом своей жизни он считал поэтическое творчество, воспринимаемое им и как призвание, и как профессия.
Во время судебного процесса (одна из свидетельниц застенографировала его, и этот текст, первоначально распространявшийся в самиздате, стал историческим источником и своеобразной документальной драмой) состоялся такой обмен репликами между судьей и подсудимым: «Судья: Где вы работали? – Бродский: На заводе. В геологических партиях… – Судья: Сколько вы работали на заводе? – Бродский: Год. – Судья: Кем? – Бродский: Фрезеровщиком. – Судья: А вообще какая ваша специальность? – Бродский: Поэт. Поэт-переводчик. – Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? – Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому? – Судья: А вы учились этому? – Бродский: Чему? – Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят… где учат… – Бродский: Я не думал, что это дается образованием. – Судья: А чем же? – Бродский: Я думаю, это (растерянно)… от Бога…»
Позднее к этому от Бога Бродский сделал важное добавление, называя себя профессиональным литератором, «человеком, чья профессия язык». «Пишущий стихотворение пишет его, прежде всего, потому, что стихотворение – колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом («Нобелевская лекция», 1987).
Таким образом, поэт, по Бродскому, одновременно посланник Бога (таково старинное, восходящее к мифологии и утвержденное романтиками представление о творце) и пленник языка (эта концепция стала распространенной в XX веке).
Бродский начинает писать довольно поздно, уже в юности. Он вспоминал, что, с одной стороны, на него «очень сильное впечатление» произвели стихи Б. А. Слуцкого, а с другой стороны, прочитав любительский сборник геологов, он подумал, что «на эту же самую тему можно и получше написать». «И я чего-то там начал сочинять сам. И так оно пошло». Пошло так быстро, что через два-три года Бродский становится одним из самых известных, хотя и непечатающихся, молодых поэтов.
Бродский подхватывает многие темы и мотивы поэзии эпохи «оттепели», но пишет «получше» – развивает их с изобретательностью, энергией, мощью.
В «Рождественском романсе» (28 декабря 1961) есть обаяние недоговоренности, прелесть недосказанности. Анафорический первый стих «Плывет в тоске необъяснимой», чуть варьируясь («Плывет в тоске замоскворецкой»), втягивает в свое движение приметы и реалии московской жизни (Александровский сад, Ордынка), которые сочетаются с намеками на биографические обстоятельства (на Ордынке часто останавливалась Ахматова, стихи посвящены жившему в Москве другу-поэту) и загадочно-фантастическими деталями («И мертвецы стоят в обнимку / С особняками»; «Полночный поезд новобрачный / Плывет в тоске необъяснимой»).
В таинственном московском предновогоднем вечере проплывают, как на картинах Марка Шагала, около десятка персонажей, связанных между собой только воображением поэта. Это сомнамбулическое движение занимает первые четыре строфы.
Последние две строфы строятся по-иному. Они даны с точки зрения неназванного лирического героя («Плывет в глазах холодный вечер»).
Каждая из двух последних строф распадается на две части: холод, ветер, вагон (мотив расставания) мгновенно сменяются другим вечером – с медовыми огнями, запахом халвы и огромным пирогом счастья, который несет Сочельник (можно, как в XVIII веке, обозначить этот образ-персонификацию с заглавной буквы). Новый год, приходя в необъяснимой тоске, дарит надежду на самые простые и вечные вещи, на возобновление жизни.
Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою; ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый Год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.В «Рождественском романсе» тонко передано настроение рубежа, обычно связанное с Рождеством и Новым годом, когда сливаются до неразличимости грусть и веселье, прощание с прошлым и надежда на будущее.
Тема рубежа-рождества окажется для Бродского постоянной. Он, называющий себя то неверующим, то агностиком, много лет будет сочинять стихи к Рождеству. В конце концов они составят целую книгу.
Вскоре после «московского» рождественского романса Бродский написал «Стансы» (1962), строфы о любви и смерти, начинающиеся с одного из главных петербургских (ленинградских) топонимов.
Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я впотьмах не найду, между выцветших линий на асфальт упаду. И душа, неустанно поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму, и апрельская морось, под затылком снежок, и услышу я голос: – До свиданья, дружок. И увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне прижимаясь щекой, – словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед.Даже в юности Бродский тяготеет к монументальным формам. Наряду с обычными лирическими стихами он сочиняет поэмы и тексты, которые сам называет «большими стихотворениями», реализуя страсть к описательности, расширению эмпирической части произведения, включению в нее все новых и новых подробностей.
В «Большой элегии Джону Донну» (7 марта 1963) центром композиции становится известный английский поэт-метафизик XYII века, спящий в собственном доме в доброй старой Англии.
Джон Донн уснул, уснуло все вокруг. Уснули стены, пол, постель, картины, уснули стол, ковры, засовы, крюк, весь гардероб, буфет, свеча, гардины. Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы, хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда, ночник, белье, шкафы, стекло, часы, ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.Мотив сна развертывается, приобретает обобщенный, философский характер. Сон охватывает не только мир земной, но и небо.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт во сне святыми – к их стыду святому. Геенна спит и Рай прекрасный спит. Никто не выйдет в этот час из дому. Господь уснул. Земля сейчас чужда. Глаза не видят, слух не внемлет боле. И дьявол спит. И вместе с ним вражда заснула на снегу в английском поле.Во сне поэт общается со своей душой, она напоминает ему о грозящей смерти, но все-таки возвращается, потому что Донн еще не исполнил свое предназначение: «Уснуло все. Но ждут еще конца / два-три стиха и скалят рот щербато». Огромная композиция из 212 стихов завершается лирической точкой: символическим появлением первой звезды, возможно тоже рождественской:
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь. Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло. Того гляди и выглянет из туч Звезда, что столько лет твой мир хранила.В огромной «поэме-мистерии в двух частях и в 42 главах-сценах» «Шествие» (сентябрь-октябрь-ноябрь 1961) появляются литературные персонажи («Дон-Кихот, князь Мышкин, принц Гамлет), сказочные герои (король), басенные типы (лжец, вор, торговец, честняга), они исполняют романсы, поэт лирически или иронически комментирует их и по-пушкински завершает эту галерею – тоже накануне Рождества – обращением к теме искусства, поэзии, воссоздающей мир, придающей ему смысл:
Три месяца мне было, что любить, Что помнить, что любить, что торопить, Что забывать на время. Ничего. Теперь зима и скоро Рождество, И мы увидим новую толпу. Давно пора благодарить судьбу За зрелища, даруемые нам Не по часам, а иногда по дням, <…> Стучит машинка. Вот и все, дружок. В окно летит ноябрьский снежок, Фонарь висячий на углу кадит, Вечерней службы колокол гудит, Шаги моих прохожих замело. Стучит машинка. Шествие прошло.Одним из самых важных для юного Бродского становится большое стихотворение «От окраины к центру» (1962). Оно начинается с пушкинской реминисценции («…Вновь я посетил / Тот уголок земли…»). Но предметом изображения у Бродского становится Ленинград, совершенно не похожий на пушкинский Петербург или даже Петербург Достоевского: не город Невского проспекта или даже домиков, Коломне, а местность окраин, заводов и фабрик, которая в девятнадцатом веке просто не существовала, не была городом.
Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик, рай речных пароходов, я опять прошептал: вот я снова в младенческих ларах. Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.На этот город, новый Ленинград, Бродский смотрит сквозь призму поэзии пушкинской эпохи, соединяя в причудливых сочетаниях поэтическую лексику и современную терминологию (парадиз мастерских, аркадия фабрик, рай пароходов).
Движение от окраины к центру развертывается не только в пространстве, но и в нескольких временах, как серия кинематографических кадров-наплывов: одна из следующих строф строится на современной музыкальной метафоре (джаз предместий); городские арки Охты рифмуются с арфами; вдруг среди такси и фабричных труб появляются несущиеся по холмам борзые; расстающиеся на трамвайной остановке влюбленные напоминают поэту новую Еву и «ярко-красного» Адама.
Но главным в стихотворении становится мотив смены поколений, прощания с «бедной юностью».
До чего ты бедна. Столько лет, а промчались напрасно. Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты прекрасна. <…> Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает. Значит, нету разлук. Существует громадная встреча. Значит, кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи, и полны темноты, и полны темноты и покоя, мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.Через много лет Бродский объяснял, что «тут многое намешано, в том числе и современное кино», и современная мода («Там даже есть, буквально, отклик на появление узких брюк»). Но, прежде всего, он видел свое раннее стихотворение в двойной перспективе.
С одной стороны, «это стихи о пятидесятых годах в Ленинграде, о том времени, на которое выпала наша молодость». Наряду с историческим контекстом в этой «большой элегии» самому себе, как и в «Большой элегии Джону Донну», обнаруживается «музыка» и философская (метафизическая) проблематика: «И вообще в этом стихотворении главное – музыка, то есть тенденция к такому метафизическому решению: есть ли в том, что ты видишь, что-либо важное, центральное? <…> Ну, это мысль об одиночестве… о непривязанности. Ведь в той, ленинградской топографии – это все-таки очень сильный развод, колоссальная разница между центром и окраиной. И вдруг я понял, что окраина – это начало мира, а не его конец. Это конец привычного мира, но это начало непривычного мира, который, конечно, гораздо больше, огромней, да? И идея была в принципе такая: уходя на окраину, ты отдаляешься от всего на свете и выходишь в настоящий мир. <…> Окраины тем больше мне по душе, что они дают ощущение простора. Мне кажется, в Петербурге самые сильные детские или юношеские впечатления связаны с этим необыкновенным небом и с какой-то идеей бесконечности. Когда эта перспектива открывается – она же сводит с ума. Кажется, что на том берегу происходит что-то совершенно замечательное» (С. Волков «Диалоги с Иосифом Бродским»).
Оказывается, идя от окраины к центру (такова «материальная» композиция стихотворения), в метафизическом смысле поэт движется в противоположном направлении: покидает любимый город и равнодушную отчизну. Главной в стихотворении Бродский через много лет считал строчку «Слава Богу, что я на земле без отчизны остался», которая стала пророческой. Через десять лет – не по своей воле – он оказался «на том берегу».
Эмиграция значительно изменила не только судьбу поэта, но и его поэтику.
КОНЕЦ ПЕРСПЕКТИВЫ: ЧАСТЬ РЕЧИ
«И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, / но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут – / тут конец перспективы» («Конец прекрасной эпохи», декабрь 1969), – написал Бродский, имея в виду и страну, из которой был вынужден уехать (пространство), и культуру, в которой он остался (время).
«Состояние, которое мы называем изгнанием» (так называлось выступление на одной из литературных конференций, 1987) поэт воспринял как естественный человеческий удел, школу одиночества и смирения: «…Изгнание учит нас смирению, и это лучшее, что в нем есть. Можно даже сделать следующий шаг и предположить, что изгнание является высшим уроком этой добродетели. И он особенно бесценен для писателя, потому что дает ему наидлиннейшую перспективу. <…> Затеряться в человечестве, в толпе – толпе ли? – среди миллиардов; стать пресловутой иголкой в этом стоге сена – но иголкой, которую кто-то ищет, – вот к чему сводится изгнание. „Оставь свое тщеславие, – говорит оно, – ты всего лишь песчинка в пустыне. Соизмеряй себя не со своими собратьями по перу, но с человеческой бесконечностью: она почти такая же дурная, как и нечеловеческая. Ты должен говорить исходя из нее, а не из своих зависти и честолюбия”».
В изгнании Бродский увидел также метафору писательской судьбы, затерянной в безграничном культурном пространстве: «Жизнь в изгнании, за границей, в чуждой стихии есть, в сущности, предварение вашей литературной судьбы, затерянности на полке среди тех, с кем вас роднит лишь первая буква фамилии. Вот вы в читальном зале какой-то гигантской библиотеки, в виде книги, еще раскрытой… Чтобы вас не захлопнули и не поставили на полку, вы должны рассказать вашему читателю, который думает, что он все знает, о чем-то качественно новом – в его мире и в нем самом».
Осмысление этого нового опыта потребовало и новых художественных средств. Бродский почти отказывается от классических размеров и песенных, романсовых интонаций. Он обращается к акцентному стиху, сложным разветвленным синтаксическим конструкциям, которые перетекают из стиха в стих, из строфы в строфу. Множество стихотворных переносов, анжанбеманов (фр. enjambement – перенос, перескок), возникающих в самых неожиданных местах, даже после предлогов, превращают стихотворение Бродского в огромный период, имитирующий поток внутренней речи, мучительное развертывание мысли.
Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса налетают порывы резкого ветра. Голос старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла. («Часть речи», 1975–1976)Но главное изменение Бродского-поэта в изгнании состояло в новом понимании лирического «Я». «Автор „Остановки в пустыне“ (последний сборник, в котором были собраны стихи, написанные на родине. – И. С.) – это еще человек с какими-то нормальными сантиментами. Который расстраивается по поводу потери, радуется по поводу – ну не знаю уж по поводу чего… По поводу какого-то внутреннего открытия, да? – объяснял поэт. – А к моменту выхода книжки я уже точно знал, что никогда не напишу ничего подобного – не будет ни тех сантиментов, ни той открытости, ни тех локальных решений» (С. Волков «Диалоги с Иосифом Бродским»).
Поэт отказывается от слишком конкретных биографических деталей, от образа лирического героя. В центре его художественного мира оказывается человек вообще и его отношение также с общими категориями, прежде всего со временем. «Все мои стихи более или менее об одной и той же вещи – о Времени. О том, что Время делает с человеком», – объяснял Бродский («Никакой мелодрамы», беседа с В. Амурским).
Что же делает с человеком Время? Оно предоставляет ему возможность учиться, думать, путешествовать, любить. Но одновременно оно старит его, отнимает у него близких и любимых, отставляет в одиночестве, наконец, убивает.
Время больше пространства. Пространство – вещь. Время же, в сущности, мысль о вещи. Жизнь – форма времени. Карп и лещ — сгустки его. И товар похлеще — сгустки. Включая волну и твердь суши. Включая смерть. («Колыбельная Трескового Мыса», 1975)Бродский по-прежнему любит включать в «большие стихотворения» множество подробностей. Но и они, и «нормальные сантименты» (чувства), жестко подчинены иной художественной доминанте.
Основная интонация стихотворений Бродского, написанных в эмиграции, – скорбное размышление. Поэтому теперь Бродскому оказываются близки не идеи пушкинской гармонической точности или открытый лиризм Блока, а сдержанная муза Баратынского и традиции английской «метафизической» поэзии.
«Можно сказать, что метафизическая школа создала поэтику, главным двигателем которой было развитие мысли, тезиса, содержания. В то время как их предшественников более интересовала чистая – в лучшем случае, слегка засоренная мыслью – пластика. В общем, похоже на реакцию, имевшую место в России в начале нашего века, когда символисты довели до полного абсурда, до инфляции сладкозвучие поэзии конца XIX века», – объяснял поэт (С. Волков «Диалоги с Иосифом Бродским»).
Стилистическому сладкозвучию, пафосу, сентиментальности Бродский противопоставляет трудность речи, трезвость мысли, беспощадность итогов. Сергей Довлатов, близкий знакомый поэта в эмиграции («Он не первый. Он, к сожалению, единственный», – так оценивал он Бродского), представлял разницу между поэтом-современником и Бродским как различие между печалью и тоской, с одной стороны, и страхом и ужасом – с другой. «Печаль и страх – реакция на время. Тоска и ужас – реакция на вечность. Печаль и страх обращены вниз. Тоска и ужас – к небу». (С. Довлатов «Записные книжки»).
Вопросы, обращенные к вечности (для нерелигиозного или скептического сознания), всегда трагичны, потому что сопровождаются мыслью о неизбежном конце, смерти без надежды на воскресение. «Иосиф Бродский любит повторять: „Жизнь коротка и печальна. Ты заметил, чем она вообще кончается”», – еще одна запись С. Довлатова.
Этот итог, старинный девиз memento mori, помни о смерти, которым обменивались при встрече монахи одного католического ордена, организует поэзию Бродского.
Оказавшись на Западе, Бродский много путешествует и создает рифмованные и прозаические отчеты о своих поездках. Он сочиняет стихи об Италии, Голландии, Швеции, американской провинции, Востоке, пишет очерки о поездках в Мексику и Стамбул. Но разнообразные пейзажи обычно увидены поэтом сквозь призму тоски и ужаса, с точки зрения конца.
Одинокий ястреб гордо парит над осенней провинциальной Америкой, видит гряду покатых холмов, серебро реки, бисер городков, шпили церквей, пожар листьев, но воздушный поток несет его все выше, «в астрономически объективный ад птиц, где отсутствует кислород», и, в конце концов, он становится «горстью юрких / хлопьев, летящих на склон холма. / И, ловя их пальцами, детвора / выбегает на улицу в пестрых куртках / и кричит по-английски «Зима, зима!» («Осенний крик ястреба», 1975).
Созерцание прекрасной Венеции (Бродский очень любил этот город и много писал о нем) завершается мыслью о чуждости, ненужности поэта-наблюдателя этой вечной воде.
Я пишу эти строки, сидя на белом стуле под открытым небом, зимой, в одном пиджаке, поддав, раздвигая скулы фразами на родном. Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней мелких бликов тусклый зрачок казня за стремленье запомнить пейзаж, способный обойтись без меня. («Венецианские строфы», VIII, 1982)(Вода для Бродского – символ времени: «Ведь вода, если угодно, это сгущенная форма времени. <…> Если можно себе представить время, то скорее всего оно выглядит как вода. Отсюда идея появления Афродиты-Венеры из волн: она рождается из времени, то есть из воды».)
«Пейзажная» лирика Бродского не экзотична, а метафизична, подчинена главной теме и потому рассчитана на особое восприятие. «Позвольте сделать вам комплимент: если в ваших стихах я встречаю описание какого-то конкретного места, то немедленно даю себе слово, что никогда в жизни туда не поеду», – признался собеседник-журналист. Бродский со смехом попросил подтвердить этот «комплимент» в письменном виде: «Тогда ни одно рекламное агентство меня не возьмет на работу!» (Интервью С. Биркертса, 1979)
Но с точки зрения конца поэт смотрит не только на пейзаж.
В большом стихотворении «Новый Жюль Верн» иронически перелицованы фантастические мотивы названного автора: корабль оказывается внутри гигантского осьминога, которого, протестуя против общества, вырастил капитан Немо; английский лейтенант пишет изнутри чудовища письмо любимой и обсуждает с Немо философские вопросы. Но, в отличие от старого, новый Жюль Верн оканчивается не оптимистическим торжеством техники и человеческого разума, а очередной катастрофой. Время-вода снова побеждает человеческую жизнь.
В океане все происходит вдруг. Но потом еще долго волна теребит скитальцев: доски, обломки мачты и спасательный круг; все – без отпечатка пальцев. <…> Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод. Вдалеке на волне покачивается какой-то безымянный предмет. И колокол глухо бьет в помещении Ллойда. («Новый Жюль Верн», 1976)У Бродского даже детская считалка в финале «Представления» превращается в страшилку с участием неизменного Времени:
Это – кошка, это – мышка. Это – лагерь, это – вышка. Это – время тихой сапой убивает маму с папой. («Представление», 1986)В одном из самых безнадежных циклов стихов Бродского, «Часть речи», Время превращает человека даже в грамматическую категорию.
…Жизнь, которой, как дареной вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи. («…и при слове «грядущее» из русского языка…», 1975)Человек после смерти превращается в часть речи. Но речь, слово и спасает. По крайней мере, пишущего человека. Стихи становятся формой сопротивления, формой борьбы человека с беспощадным временем.
«Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох. / Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах, / эпоха на колесах нас не догонит, босых», – утверждает Бродский в «Пятой годовщине» (4 июня 1977), отмечающей очередную дату его расставания с родиной.
В большом «географическом» стихотворении «Назидание» (1987) в редкой для лирики форме второго лица описано путешествие по Азии и многочисленные опасности, с ним связанные: тебя могут зарубить топором или украсть сапоги вместе со спрятанными в них деньгами; ты можешь свалиться с горы или заблудиться в пустыне; твою душу могут терзать демоны, а твои письма – перехватить враги.
Никто никогда ничего не знает наверняка. Глядя в широкую, плотную спину проводника, думай, что смотришь в будущее, и держись от него по возможности на расстояньи. Жизнь в сущности есть расстояние – между сегодня и завтра, иначе – будущим. И убыстрять свои шаги стоит, только ежели кто гонится по тропе сзади: убийца, грабители, прошлое и т. п.Однако в последней, одиннадцатой, строфе Бродский меняет тон, в стихотворении появляется проблеск если не надежды, то – смысла.
Когда ты стоишь один на пустом плоскогорьи, под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот или ангел разводит изредка свой крахмал; когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал, помни: пространство, которому, кажется, ничего не нужно, на самом деле нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты. И сослужить эту службу способен только ты.Оказывается, пейзаж, равнодушная природа все-таки не может обойтись без взгляда со стороны, без поэта. А для него творчество становится оправданием жизни, аналогом молитвы, заменой религии.
Бродского называли певцом пустоты и отчаяния, апологетом одиночества, поэтом небытия. «Век скоро кончится, но раньше кончусь я», – еще раз угадал он свою судьбу в стихотворении «Fin de Siede» <Конец века> (1989).
Но этот безнадежный скептик, монотонно, мужественно и мучительно выражающий метафизическую тоску и привычный ужас («Ты заметил, чем она кончается?») временами вспоминал о Рождестве, о юношеских надеждах и клятвах («Значит, нету разлук. / Существует громадная встреча»).
Эти два трудносовместимых чувства сошлись в рубежном и очень важном стихотворении, написанном Бродским в день сорокалетия, 24 мая 1980 года.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки, помимо воя; перешел на шепот. Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.ИТОГИ: русский мир и русское слово
В конце Настоящего Двадцатого Века, после исчезновения СССР, четвертая волна русской эмиграции, большей частью невольной, оказалась намного большей, чем три предыдущие, вместе взятые. За границами современной России живут десятки миллионов людей, которые считают себя принадлежащими к русской культуре. Тысячи, если не десятки тысяч из них сочиняют прозу и стихи. Книги, журналы и газеты на русском языке выходят не только в Москве, Петербурге, Архангельске и Владивостоке, но и в Хельсинки и Чикаго, Берлине и Сеуле, Таллине, Алма-Ате, Хайфе. Социологи не случайно говорят о существующем поверх государственных границ и национальных различий русском мире.
Русское слово – главное и последнее, что объединяет этот мир. «Ничего более русского, чем язык, у нас нет. Мы пользуемся им так же естественно, как пьем или дышим» (А. Г. Битов «От „A“ до „Ижицы”», 1971).
Русская литература была и остается лучшим свидетельством о нашей истории, нашем национальном характере. Словесность Настоящего Двадцатого Века – память о его трагедиях и катастрофах. Достоевский и Чехов, Булгаков и Пастернак все еще являются культурным паролем, по которому нас знают в мире.
Литература, поэзия прежде всего, напоминает человеку иную жизнь и берег дальний. Она отражает и выражает не только реальность, но идеальную сущность жизни: мечты о социальной гармонии, грезы о счастье, стремление к истине, поиски Бога, любви, красоты. Постоянно в этом мире жить невозможно, но стоит хотя бы помнить о его существовании.
«Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела» (А. П. Чехов).
Настоящие книги лучше людей, потому что они открывают лучшее в людях.
Может быть, поэтому они делают жизнь немного лучше.


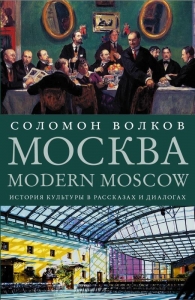

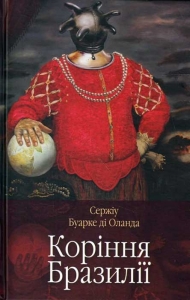

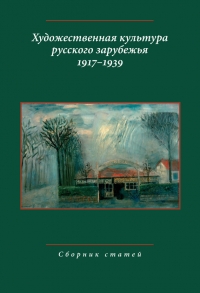
Комментарии к книге «От Блока до Бродского», Игорь Николаевич Сухих
Всего 0 комментариев