Бенедикт Сарнов Наш советский новояз Маленькая энциклопедия реального социализма
Падение человека влечет за собой падение языка.
Ралф У. ЭмерсонПадение языка влечет за собой падение человека.
Иосиф БродскийЯд и противоядие (Что-то вроде предисловия)
Впервые этот замысел блеснул мне, когда я читал (давным-давно, еще в самиздате) книгу Джорджа Оруэлла «1984».
Хоть книга эта с тех пор прочно вошла в наш интеллектуальный обиход и объяснять, что такое «новояз», сегодня уже никому не надо, на всякий случай все-таки напоминаю:
► Новояз, официальный язык Океании, был разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца, или английского социализма…
Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли…
Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначения…
Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли…
Прочитав это, я подумал, что хорошо было бы написать статью, — нет, пожалуй, даже не статью, а целую книгу, — про наш советский новояз.
Мысль, что статьей тут ограничиться не удастся, а понадобится именно книга, возникла у меня потому, что самым интересным в этом замысле мне представлялась идея собрать и рассмотреть чуть ли не все словечки и речения советского политического жаргона, чтобы на каждом таком примере показать, вскрыть самый механизм вот этого сужения горизонтов мысли.
Реализовать этот замысел я даже не пытался — прежде всего потому, что не считал, что это мне по силам.
А сравнительно недавно я узнал, что такая книга уже существует. Правда, написана она на материале не советского, а совсем другого «новояза». Я имею в виду книгу немецкого филолога Виктора Клемперера «Язык Третьего рейха». (На Западе эта книга известна давно. Но на русском языке появилась лишь несколько лет тому назад.)
► …Всё, что говорилось и печаталось в Германии, — говорит автор в предисловии к этой своей «Записной книжке филолога», — проходило нормативную обработку в партийных инстанциях: в случае малейших отклонений от установленной формы материал не доходил до публики. Книги и газеты, служебная переписка и бюрократические формуляры — всё плавало в одном и том же коричневом соусе. Эта полнейшая стандартизация письменной речи повлекла за собой единообразие речи устной…
Нацизм въедался в плоть и кровь масс через отдельные словечки, обороты речи, конструкции предложений, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями и поглощаемые ею механически и бессознательно. Принято истолковывать дистих Шиллера об «образованном языке, что сочиняет и мыслит за тебя» чисто эстетически и, так сказать, безобидно…
Но язык не только творит и мыслит за меня, он управляет также моими чувствами, он руководит всей моей душевной субстанцией, и тем сильнее, чем покорнее и бессознательнее я ему отдаюсь. А если образованный язык образован из ядовитых элементов или служит переносчиком ядовитых веществ? Слова могут уподобляться мизерным дозам мышьяка: их незаметно для себя проглатывают, они вроде бы не оказывают никакого действия, но через некоторое время отравление налицо. Если человек достаточно долго использует слово «фанатически», вместо того чтобы сказать «героически» или «доблестно», то он в конечном счете уверует, что фанатик — это просто доблестный герой и что без фанатизма героем стать нельзя. Слова «фанатизм» и «фанатический» не изобретены в Третьем рейхе. Он только изменил их значение и за один день употреблял их чаще, чем другие эпохи за годы… Во многом нацистский язык опирается на заимствования из других языков, остальное взято в основном из немецкого языка догитлеровского периода. Но он изменяет значения слов, частоту их употребления… и всё это — слова, группы слов, конструкции фраз — пропитывает своим ядом, ставит на службу своей ужасной системе, превращая речь в мощнейшее, предельно открытое и предельно скрытое средство вербовки.
Все это в полной мере относится и к нашему советскому новоязу.
«Язык сочиняет и мыслит за тебя», — говорит Клемперер.
В применении к языку Третьего рейха — равно как и к нашему советскому новоязу — это означает, что политический жаргон, который навязывала (и навязала) нам власть, был вовсе не безобиден. Это был яд, который люди впитывали бессознательно. И незаметно для них самих он оказывал на них свое пагубное действие.
Изменение смысла слов, их эмоциональной окраски меняет человека. Постепенно привыкнув употреблять слово в новом значении, человек незаметно для себя меняется, становится иным.
Самым ужасным свидетельством справедливости вывода, к которому пришел автор этой замечательной книги, может служить одно, ставшее и для него самого привычным словоупотребление. Объясняя, почему ему в некоторых случаях приходилось легче, чем другим его соплеменникам, он время от времени упоминает, что жена его была арийка.
Именно ей, жене, посвятил он эту свою книгу:
► …без Тебя этой книги сегодня вообще не было бы, а ее автора — и подавно. Если бы я захотел все это подробно объяснить, потребовалось бы написать сотни страниц, и среди них множество интимных… Ты знаешь — и это расслышит даже глухой, — о ком я думаю, когда говорю моим слушателям о героизме.
И вот о ней, дороже и ближе которой у него нет никого на свете, он говорит — безлично, словно бы даже отчужденно, — арийка.
В Третьей империи это был постоянно употреблявшийся термин, и, в общем-то, нет ничего удивительного в том, что слово это Клемперер пишет без кавычек. Для него оно звучит нейтрально, как простая констатация факта: на его жену нюрнбергские законы не распространялись, вот и всё. Весь гнусный смысл, все уродство, весь идиотизм этого придуманного нацистами понятия автором как бы уже не замечается.
Вот как сильна была эта отрава!
По правде говоря, написав эту фразу, я чувствовал себя не совсем уверенно.
Кто его знает? Может быть, это слово только на мой, советский слух кажется таким уродливым? Может быть, там, у них, в Германии, оно звучало естественно, буднично, нормально и до прихода к власти Гитлера и его банды?
Оказалось, что нет. Не звучало:
► …Она была неумолима. И даже пустилась на шантаж: мол, она все выложит его начальству. Оберштурмфюрер ее высмеял: да кто ей поверит! Тут показание и там показание. Ее слово против его слова! Оберштурмфюрер — и какая-то жена еврея!
— Такая же арийка, как и вы, — парировала госпожа Боссе, впервые в жизни произнося смешное слово «арийка».
(Э.М. Ремарк. Земля обетованная. «Иностранная литература», 2000, № 3)Клемпереру пущенное нацистами слово «арийка» уже не режет слух. Ему (в отличие от Ремарка) оно уже не кажется ни уродливым, ни даже смешным.
Вероятно, это связано с тем, что Ремарк очень рано, в 1932 году, покинул Германию и таким образом вышел из зоны влияния «языка Третьего рейха». А Клемперер, оставаясь в Германии, испытал на себе всю силу действия этого яда. И полностью защитить, охранить свое сознание от этого зловредного воздействия не удалось даже ему, филологу, написавшему целую книгу об уродстве нацистского «новояза».
Что уж говорить тогда о простом немецком обывателе! Он перед тем ядовитым зельем, каким стал для него этот политический жаргон, оказался совсем уж беззащитен. И Клемперер своей книгой это блистательно показывает и доказывает.
* * *
Резонно предположить, что у советского человека сопротивляемость к этому яду была ослаблена даже больше, чем у немцев. Ведь нас нашим новоязом пичкали не двенадцать, а целых семьдесят лет.
Но когда я читал книгу Клемперера и невольно переносил его наблюдения на наш, российский, советский опыт, я вдруг испытал неожиданный прилив национальной гордости. Нет, вдруг подумал я, у нас эта самая сопротивляемость оказалась выше, чем у них.
Издавна привыкли мы посмеиваться над немецкой аккуратностью, немецкой педантичностью, немецкой законопослушностью.
С детства помню такой анекдот.
Почему в Германии не победила пролетарская революция?
А вот почему.
Послали в Берлине отряд рабочих-красногвардейцев (или как они там у них назывались — спартаковцев?) захватить — согласно великому учению — вокзал.
Спустя короткое время те вернулись.
— Ну? Взяли вокзал?
— Нет, не взяли.
— Почему?
— Касса была закрыта, где перронные билеты продаются. И мы не смогли пройти на перрон.
Или вот еще такой анекдот на ту же тему: его я услышал совсем недавно.
Должны казнить (гильотинировать) англичанина, француза и немца. Каждому перед казнью предлагают назвать свое последнее, предсмертное желание.
Француз просит бокал хорошего вина. Выпивает. Ложится под нож гильотины — но там, в механизме, что-то не срабатывает. А второй раз казнить не полагается. И его отпускают.
Наступает очередь англичанина. Тот просит хорошую сигару. С чувством, с толком, с расстановкой выкуривает ее. Кладет голову под нож — и опять что-то не срабатывает. И его тоже отпускают на волю живым и невредимым.
Наконец доходит очередь до немца.
— Ну-с? — обращаются к нему. — Какое у вас последнее желание?
Немец отвечает:
— Да почините вы, наконец, эту дурацкую гильотину!
Вероятно, под влиянием таких вот анекдотов я самодовольно решил, что наш, российский человек не так законопослушен, как немец, более беззаботен, что ли. Потому и устоял перед официальным новоязом, не поддался его ядовитому действию.
А может быть, думаю я теперь, меня невольно ввел в заблуждение сам Клемперер, сосредоточивший все свое (а таким образом и мое, читательское) внимание на силе воздействия этого яда, а не на сопротивлении ему, которое у немцев, наверное, тоже было. (Не могло ведь не быть!)
Так или иначе, но мне вдруг пришло в голову, что интересно было бы обратить внимание на другую сторону этой медали. На то противоядие, которым обладали — в разной, конечно, степени — мои соотечественники и которое помогало им (увы, не всегда) не поддаваться злокачественному действию этой языковой отравы.
Ролан Барт заметил однажды, что язык — это власть:
► Некогда мы полагали, что власть — это сугубо политический феномен; ныне считаем, что это также феномен идеологический, просачивающийся даже туда, где его невозможно распознать с первого взгляда… И мы начинаем догадываться, что ее воплощением являются не только Государство, классы и группы, но также и мода, расхожие мнения, зрелища, игры, спорт, средства информации, семейные и частные отношения — власть гнездится везде, даже в недрах того самого позыва к свободе, который жаждет ее искоренения… Причина этой живучести в том, что влиятельность, или, точнее, ее обязательное выражение, — язык.
Языковая деятельность подобна законодательной деятельности, а язык является ее кодом… В языке, благодаря самой его структуре, заложено фатальное отношение отчуждения. Говорить… это значит подчинять себе слушающего; весь язык целиком есть общеобязательная форма принуждения…
Как только язык переходит в категорию говорения (пусть даже этот акт совершается в сокровеннейших глубинах субъекта), он немедленно оказывается на службе у власти.
(Р. Барт. Лекция, прочитанная при вступлении в должность заведующего кафедрой литературной семиологии в Коллеж де Франс 7 января 1977 г. На русском языке — в кн.: Ролан Барт. Избранные работы. М., 1994)Рабство и власть, говорит далее автор этого замечательного рассуждения, переплетены в языке неразрывно. А поскольку свобода — это не только способность ускользать от любой власти, но также — и даже прежде всего — способность не подавлять кого бы то ни было, то это значит, что свобода возможна только вне языка. Но за пределы языка выхода нет: это замкнутое пространство.
Выход из этого порочного круга, по мысли Р. Барта, есть только один: остающаяся нам возможность, как он говорит, плутовать с языком, дурачить язык:
► Это спасительное плутовство, эту хитрость, этот блистательный обман, позволяющий расслышать звучание безвластного языка, я называю литературой… Силы свободы, заключенные в литературе, не зависят ни от гражданской личности, ни от политической ангажированности писателя (который в конечном счете есть всего лишь человек среди многих других), ни даже от направленности его произведений, но от той работы по смещению, которую он производит над языком…
(Там же)Присоединяясь к этому замечательному рассуждению, я бы сделал к нему только одно небольшое добавление.
Силы свободы, зависящие от той работы по смещению, которую писатель производит над языком, действуют не только в литературе, но и в нашей повседневной устной речи. Можно даже сказать, что возможность освобождения от власти, которую несет в себе язык, заложена в нем самом.
Ярче всего это проявляется в тех смещениях, которые рождаются непроизвольно. Обычно это — острота.
► Острота, — говорит по этому поводу Фрейд, — имеет чрезвычайно резко выраженный характер «внезапно пришедшей в голову мысли». Еще за один момент до этого человек не знает, какую он создаст остроту… Человек испытывает… нечто не поддающееся определению, что я мог бы скорее всего сравнить с… внезапным разрядом интеллектуального напряжения.
Результатом как раз такого «разряда» и становится вот это самое «смещение», о котором говорит Барт.
Блестящий пример такого смещения приводит В.Б. Шкловский, рассказывая о взаимоотношениях молодого Маяковского с В.Я. Брюсовым.
Маяковскому передали, что Брюсов якобы сказал о нем: «Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет»:
► Владимир Владимирович очень забавно показывал, как Брюсов спит и просыпается ночью с воплем:
— Боюсь, боюсь!
— Ты чего боишься?
— Боюсь, что из Маяковского ничего не выйдет.
В этой остроте — обычный метод Маяковского: перестановка ударения на второстепенное слово, переосмысливание этого слова и разрушение обычного значения.
Получается — правда. Брюсов боится.
(Виктор Шкловский, О Маяковском. М., 1940)Примерно такое же смещение было произведено в анекдоте, обыгравшем знаменитые строки самого Маяковского.
► Рабинович (этому постоянному герою многих советских анекдотов сейчас в Одессе даже поставили памятник) то ли читает, то ли слышит, как кто-то читает с эстрады:
Мы говорим: Ленин, подразумеваем — партия, мы говорим: партия, подразумеваем — Ленин.— Вот всегда у нас так, — отзывается на это герой анекдота. — Говорим одно, а подразумеваем совсем другое.
Такое же резкое смещение смысла сплошь и рядом мы обнаруживаем в каком-нибудь прочно вошедшем в живую народную речь словоупотреблении.
«Наградила меня», — говорит кто-нибудь о женщине, от которой подцепил дурную болезнь. И мы настолько привыкли к этому словесному обороту, что даже не замечаем, как поменялся в этом контексте (с точностью до наоборот) первоначальный смысл глагола.
«И тут ему намотали новый срок», — слышим мы чей-то рассказ. И тоже воспринимаем это как простое сообщение, не вдумываясь в смысл, но в то же время понимая, что глагол «намотали» как бы сам собой предполагает, что этот новый срок кому-то там добавили так, за здорово живешь, ни за что ни про что.
Когда в ходе реконструкции Москвы был выстроен Новый Арбат, москвичи сразу же присвоили этому проспекту прозвище «Вставная челюсть», коротким этим определением дав не только исчерпывающую эстетическую оценку этого архитектурного чуда, но и подчеркнув его искусственность, чужеродность сердцу старой Москвы.
Вот это свойство языка (и, конечно, литературы) и стало противоядием, ослабившим вредоносное действие на наши души советского новояза.
Надо к тому же отметить, что новояз этот бытовал и воспринимался на фоне языковой традиции, еще не вовсе выветрившейся языковой нормы. И теми, кто еще не утратил ощущение этой нормы, отдельные новоязовские обороты воспринимались отстраненно. Тут сам собой возникал некий иронический сдвиг, то самое смещение.
На этом эффекте построен такой (уже сегодняшний) анекдот.
► Встреча Нового года. Елка, всеобщее веселье. Появляется Дед Мороз. Его встречают радостными возгласами:
— Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Здравствуй, Дедушка Мороз!
Вдруг — бац! — выстрел. Дед Мороз падает замертво.
И тут все видят, что в дверях стоит застреливший его киллер. Пряча в карман револьвер, он деловито спрашивает.
— Деда Мороза заказывали?
Тут иронический сдвиг основан на столкновении двух значений глагола «заказывали» — старого, традиционного, и — нового, сегодняшнего.
Но тот же иронический сдвиг мог возникнуть и на основе не смыслового, а чисто стилистического различия.
Взять хотя бы такие — вполне обыденные — новоязовские словосочетания: «культурный досуг», «здоровый сон». Ничего специфически советского в этих выражениях как будто бы нет. Во всяком случае, ничего политического, окрашенного в резкие тона официальной советской идеологии. Разве только некоторый аромат искусственной, казенной речи (вроде как «зеленый массив» вместо «лес»).
Но вот как звучат они в результате легкого иронического смещения на фоне языковой нормы:
И где-нибудь, среди досок, Блаженный, приляжет он. Поскольку — Культурный досуг Включает здоровый сон… (Александр Галич)Отчасти смещение это достигается изменением ударения в слове «досуг». Но и без этого иронический оттенок все равно ощущался бы благодаря простому соединению двух однотипных казенных, искусственных оборотов и соединяющему оба эти оборота такому же казенному словечку: «включает».
* * *
Читая книгу Клемперера, я постоянно отмечал, что едва ли не каждое приведенное им слово или языковое клише из языка Третьего рейха вызывает у меня в памяти совершенно точный его советский аналог. Но, припоминая эти наши, родные, советские клишированные словосочетания, я всякий раз ловил себя на том, что они неизменно вызывают у меня самые разнообразные комические ассоциации. То всплывала какая-нибудь история из собственной моей «кладовой памяти», то припоминался какой-нибудь анекдот, то какая-нибудь литературная цитата (как сейчас вот — строчки из песни Галича).
Анекдот, частушка, эпиграмма, глумливый, пародийный перифраз какого-нибудь казенного лозунга… Ну и, конечно, — самое мощное наше оружие, универсальное наше лекарство от всех болезней, — благословенный русский мат.
Я подумал, что было бы не только забавно, но и в высшей степени поучительно вникнуть хотя бы в некоторые из этих юмористических (а то и саркастических) реакций народного сознания на мертворожденные конструкции заместившего и изуродовавшего живой язык новояза.
Так окончательно выкристаллизовался этот мой замысел. Так определилась не только главная идея задуманной мною книги, но и ее характер, самая ее структура, ее странный, межеумочный жанр.
В каком-то смысле это мое сочинение тоже можно назвать «записной книжкой филолога». Но правильнее все-таки, наверно, было бы назвать ее записной книжкой носителя языка. Ведь, как и все мои современники, на протяжении всей моей жизни я не только говорил, но и думал на этом языке, иногда сохраняя, а иногда и не сохраняя отстраненное, юмористическое, глумливое, издевательское отношение к разнообразным его перлам.
Разоблачение ядовитых свойств советского новояза тоже, конечно, входит в мой замысел (куда ж тут без этого!), но гораздо больше, чем яд, природа которого более или менее ясна, меня интересует состав того противоядия, благодаря которому мы все-таки не поддавались и в конечном счете так и не поддались губительному воздействию этого смертоносного яда.
Анализируя этот состав, мне придется по ходу дела вдаваться в разного рода рассуждения, в «размышлизмы», как иронически назвал этот род умственной деятельности один юморист. Но поскольку я полностью согласен с героиней знаменитой книги Льюиса Kэppoла, которая говорила, что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров? — то я постарался, чтобы в этом моем сочинении были не только «размышлизмы», но и запечатлевшиеся в моей памяти разнообразные картинки из той нашей, прежней жизни, а также припомнившиеся мне — такие же разнообразные — тогдашние разговоры.
A
Антикоммунист
В двадцатитомном Словаре современного русского литературного языка слово это объясняется так: «Активный противник идеологии коммунизма и общественного строя, основанного на коммунистических принципах». Там же поясняется, что «основным содержанием антикоммунизма является клевета на социалистический строй».
В повседневной жизни слово это порой воспринималось (и трактовалось) иначе.
Вот что рассказал мне по этому поводу один мой приятель, волею обстоятельств переселившийся в Америку.
Там у них, в Вашингтоне, была какая-то коммунистическая демонстрация. И полиция ее разгоняла. А в толпе демонстрантов оказался один довольно известный наш диссидент, ставший эмигрантом. Бог его знает, как оказался он в той толпе: то ли случайно, то ли любопытство привело его туда. Как бы то ни было, он оказался среди ненавистных ему коммунистов, и полицейский огрел своей дубинкой и его тоже.
— Как вы смеете! — возмущенно заорал он. — У меня с этими людьми нет ничего общего! Я антикоммунист!
На что полицейский хладнокровно и, честно говоря, довольно-таки резонно ответил:
— Мне совершенно все равно, сэр, коммунистом какого сорта вы являетесь.
Активность
Слово это я слышал с детства. Уже тогда меня упрекали в том, что я недостаточно активен. Началось это, кажется, с детского сада.
Но истинное значение этого слова мне открыл Виктор Николаевич Ильин.
Виктор Николаевич Ильин был оргсекретарем Московской писательской организации. Должность эта была кагэбэшная. Все оргсекретари — и в так называемом Большом Союзе, то есть в Союзе писателей СССР (сперва Воронков, потом Верченко), и в Союзе писателей РСФСР, и в Московском отделении — были связаны с КГБ. Это ни для кого не было тайной. Когда Ильина на его посту сменил новый оргсекретарь, фамилия которого была «Кобенко», — язвительная писательская молва сразу дала ему прозвище: «Кагебенко».
Но Виктор Николаевич Ильин ни в каких прозвищах не нуждался. Он свою связь с «органами» не только не скрывал, он ее всячески подчеркивал и даже афишировал. Воронков и Верченко до назначения на свои должности были партийными функционерами (как и их предшественники — Щербаков, а потом Поликарпов). А Виктор Николаевич Ильин, до того как стать оргсекретарем Московской писательской организации, был генерал-лейтенантом КГБ. Объектом его тамошней деятельности были писатели, так что и в той, прежней своей жизни он был прикосновенен к литературе. Потом его посадили. Ходили слухи (вернее, он сам их распространял) — за то, что он не пожелал дать показания против своего товарища.
Насчет того, как стал он оргсекретарем Московского отделения Союза писателей, существовали разные версии. По одной, его пристроил туда знакомый писатель, один из его бывших «клиентов». По другой, новая его должность была прямым продолжением старой, и сама идея назначения его на эту новую должность исходила оттуда.
Сам Виктор Николаевич, разумеется, изо всех сил старался укрепить веру в то, что верна именно эта, вторая версия.
Писатели перед Виктором Николаевичем трепетали. Но у меня было подозрение, что он слегка блефовал, подчеркивая, что и ТАМ, в ТЕХ сферах, его влияние по-прежнему остается соответствующим его генеральскому званию.
На эту мысль меня натолкнуло впечатление от первой моей с ним встречи.
В конце пятидесятых создавался писательский жилищный кооператив, в который я очень хотел вступить. (Это был единственный способ выбраться из коммуналки.) Я тогда еще не был членом Союза писателей. Но тут как раз в каком-то важном докладе меня помянул Степан Петрович Щипачев, возглавлявший в то время Московскую писательскую организацию. Он назвал меня в числе двух или трех подающих надежды молодых критиков, и кто-то посоветовал мне обратиться к нему за помощью. Степан Петрович встретил меня ласково и выразил полную готовность поддержать мою просьбу. Он нажал кнопку звонка. Появилась секретарша. Он сказал:
— Виктор Николаевич на месте? Скажите ему, что он мне нужен.
Тут же — «на полусогнутых» — явился Виктор Николаевич. Наклонив голову, внимательно выслушал Степана Петровича. Взяв меня под локоток, увел из начальственного кабинета к себе. Быстро и очень толково составил нужную бумагу, отдал ее машинистке. Через несколько минут ходатайство — на бланке Союза писателей — было отпечатано, подписано Щипачевым и вручено мне. В кооператив меня сразу же приняли.
У меня тогда создалось впечатление, что должность «оргсекретаря» — вполне ничтожная, скорее техническая, для которой как раз и годится такой вот слегка постаревший Молчалин. Но вскоре облик Виктора Николаевича чудесным образом переменился. От его молчалинских манер не осталось и следа. А когда выяснилось, что руководители Московской организации приходят и уходят (Щипачева вскоре сменил Луконин, Луконина — Сергей Сергеевич Смирнов, Смирнова — Наровчатов), а Ильин остается, все постепенно поняли, кто в этой конторе зицпредседатель Фунт, а кто — настоящий хозяин.
Однажды, еще сравнительно слабо понимая, каковы истинные масштабы той роли, которую стал играть в нашей конторе Виктор Николаевич, я пришел к нему за какой-то справкой. Точнее — за характеристикой, заключать которую, согласно установленному порядку, должна была сакраментальная фраза: «Идейно выдержан, морально устойчив».
Проглядев отпечатанный его секретаршей стандартный текст, Виктор Николаевич вдруг сказал:
— Я не могу это подписать.
— Почему? — удивился я.
— Вы не активны.
— В каком смысле?
— В общественном. Идейное лицо писателя выражается в его общественной активности. А у вас с этим слабо.
— В ресторане, что ли, каждый вечер не сижу? — разозлившись, сказал я.
Естественно было ожидать, что такое объяснение возмутит генерала. Но Виктор Николаевич встретил это мое предположение с неожиданным добродушием. И даже легко с ним согласился.
— А что? — весело сощурившись, сказал он. — Всё-таки на глазах!..
Аморалка
Это слово — не из официального советского новояза. Но оно должно войти в наш словарь, во-первых, потому, что несет в себе одну из ярчайших характеристик советской политической системы, а во-вторых — и это главное, — выражает именно официальный, государственный взгляд на обозначаемое им явление.
Выражение это хотя и подразумевало аморальное поведение того, к кому этот ярлык приклеивали, но истинный его смысл состоял совсем в другом.
Этот истинный смысл великолепно выявил в одной из самых знаменитых своих песен Александр Галич:
И тогда прямым путем в раздевалку я К тете Паше, говорю, мол, буду вечером, А она мне говорит: «С аморалкою Нам, товарищ дорогой, делать нечего».Слово «аморалка» тут (и не только тут!) вовсе не означает, что человек совершил аморальный поступок и поэтому с ним не хотят больше знаться. Аморальное поведение героя тетя Паша раньше не только поощряла, но даже приветствовала:
Да, я с Нинулькою гулял с тети-Пашиной, И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновый И в палату с ней ходил в Грановитую, А жена моя, товарищ Парамонова, В это время находилась за границею.На все это тетя Паша закрывала глаза. Может быть, даже и поощряла, помогала своей Нинульке заарканить мужика, надеясь, что, глядишь, и ей тоже что-нибудь перепадет от этого Нинулькиного адюльтера.
А не хочет она теперь с ним знаться только и исключительно потому, что на него навесили ярлык персонального дела. С этим клеймом он теперь — прокаженный, зачумленный. Это — жизненный крах. Конец карьеры.
Особенно интересно тут то, что такой подход в сознании партийной и советской элиты, в ее, так сказать, «моральном кодексе» идет от самого Ильича.
Однажды ему доложили, что какие-то старые его товарищи по партии, люди с большими (в прошлом) революционными заслугами, морально разложились. Устраивали какие-то пьянки и чуть ли даже не афинские ночи. Дело происходило в квартире, размещавшейся на первом этаже, и кто-то из прохожих увидал в окно, чем занимаются почтенные «старые большевики».
Выслушав это донесение, Ильич отреагировал на него такой саркастической репликой:
— Позог! Стагые геволюционегы! Конспигатогы! Штогу не догадались задегнуть…
Не в том, стало быть, позор, что старые революционеры погрязли в пучине разврата, а в том, что так глупо попались!
Наследники Ильича, верные его заветам, действуют в точном соответствии с этой ленинской двойной моралью:
Я иду тогда в райком, шлю записочку, Мол, прошу принять, по личном делу я, А у Грошевой как раз моя кисочка, Как увидела меня, вся стала белая! И сидим мы у стола с нею рядышком, И с улыбкой говорит товарищ Грошева: Схлопотал он строгача, ну и ладушки, Помиритесь вы теперь, по-хорошему. И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку, И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку, И она выпила «дюрсо», а я «Перцовую» За советскую семью, образцовую.Б
Бурные аплодисменты
Для обозначения интенсивности аплодисментов в стенограммах разного рода торжественных собраний и заседаний существовал тщательно разработанный и раз навсегда утвержденный набор эпитетов: «Продолжительные», «Бурные», «Несмолкаемые», «Долго не смолкающие», «Переходящие в овацию» и т. д.
Эпитетов было не так много, но благодаря умелому их комбинированию можно было создать весьма впечатляющую картину массового энтузиазма.
Сперва, например, так:
► Продолжительные аплодисменты.
Потом:
► Бурные, продолжительные аплодисменты.
Потом:
► Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию.
И наконец — пик, высшая точка народного энтузиазма:
► Бурные, несмолкаемые аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.
В стенограммах это всегда было тщательно выверено, до каждой запятой, до каждого печатного знака.
Но в натуре все это бывало иначе.
Первый раз я это заметил, слушая по радио знаменитый доклад Сталина «О проекте Конституции». Мне было тогда всего девять лет, но я, как и все мои сверстники, был политически развит, и выражение «несмолкаемые аплодисменты» было мне хорошо известно. И именно во время этого доклада я, помнится, впервые подумал, что выражение это — не бессмысленно. Раньше я в этом сомневался. «Что значит несмолкаемые?» — думал я. Ведь раньше или позже они обязательно смолкнут. Но тут, похоже, аплодисменты были и в самом деле несмолкаемые. Только мне начинало казаться, что они смолкают — ну, не совсем смолкают, но как бы стихают и вот-вот совсем смолкнут, как вдруг, точно по команде, раздавался возглас: «Родному… любимому… вождю… учителю… лучшему другу…» — и аплодисменты вспыхивали с новой силой, словно в догорающий и готовый погаснуть костер плеснули керосину.
Это продолжалось так долго, что я, помнится, даже усомнился, что эти неугомонные хлопальщики в конце концов все-таки дадут Сталину начать свой доклад.
Постепенно вся эта канитель стала меня слегка раздражать. Я смутно чувствовал в ней что-то ненастоящее, искусственное, фальшивое. Мне показалось, что даже самым неистовым хлопальщикам давно уже надоело хлопать, а хлопают они с каждым таким выкриком все сильнее, чтобы никто не заметил, что им это надоело. Самым странным тут было не то, что аплодисменты были несмолкаемые, а то, что я не мог понять, что же должно произойти, чтобы они кончились. Я не понимал, какая у хлопальщиков цель — к чему они стремятся, чего хотят добиться этими своими аплодисментами?
Это смутное, неясное мне самому ощущение очень, как мне кажется, удачно сумел выразить Фазиль Искандер, поглядев на описываемую мной ситуацию глазами своих простодушных героев — жителей высокогорного Чегема:
► Так как чегемцы, за исключением дяди Сандро, которому еще во времена революционных митингов в городах и низинных селах удалось услышать аплодисменты в качестве одобрения ораторской речи, слышали и сами неоднократно били в ладоши только во время пиршественных плясок, Они долго не понимали, почему во время аплодисментов никто не выскакивает на сцену и не начинает плясать.
Ну, вождь, конечно, рассуждали чегемцы, не выскочит на сцену и не закружится в лезгинке, на то он и вождь. Ну, русские, рассуждали чегемцы, и не умеют плясать, на то они и русские. Ну, а Микоян-то чего стесняется? Все-таки армянин, все-таки на нашей земле вырос, знает вкус нашей хлеба-соли?
Постепенно чегемцы свыклись с тем, что после аплодисментов ничего не будет, и только если появлялся новичок и, услышав знакомое битье в ладоши, радостно настораживался, они, махнув рукой в сторону пластинки, говорили:
— Не… Не… Эти попусту хлопают…
Я, как и дядя Сандро, в отличие от наивных чегемцев знал, что в наших краях люди хлопают в ладоши не для того, чтобы пуститься в пляс, а чтобы поощрить оратора. Я и сам с другими мальчишками, бывало, когда в кинотеатре долго не гас свет, начинал неистово бить в ладоши, чтобы ускорить начало сеанса. Но люди, собравшиеся в том зале, чтобы послушать Сталина, не призывали его как можно скорее начать свой доклад, а, наоборот, мешали ему своими аплодисментами наконец-то приступить к делу…
Была там и еще одна загадка: кто были эти крикуны, которые в нужный момент подбрасывали охапку хвороста — или выплескивали банку керосина — в угасающий костер, чтобы он вспыхнул с новой силой? Просто восторженные энтузиасты-добровольцы? Непохоже. Очень уж все это как-то слаженно у них получалось. И лозунги, которые они выкрикивали, были какие-то уж очень гладкие, словно заранее кем-то составленные.
Нет, эта загадка была, как сказано у дедушки Крылова, не так большой руки. Этот ларчик открывался просто.
До сих пор, правда, мне так и не удалось узнать, состояли эти крикуны на специальной штатной должности или это была у них такая общественная нагрузка. Знаю только (совсем недавно прочел в книге А.Н. Яковлева «Омут памяти»), что было у них даже официальное наименование — «Ответственные за энтузиазм».
Можно не сомневаться, что действовали эти ответственные лица в строгом соответствии с заранее заготовленным сценарием. Никакой самодеятельности тут быть не могло.
Однако, как вы сейчас увидите из следующего моего рассказа, и тут тоже случались разные неожиданности, а иногда и драмы, и даже трагедии.
Бдительность
В одном учреждении на какой-то не шибко крупной должности работал человек, обладавший замечательной способностью. Способность эта не то чтобы была дана ему от рождения: он, конечно, развил ее долгой и упорной тренировкой. Но в основе его уникального дара все-таки было поистине редкостное сочетание и некоторых прирожденных качеств: сообразительности, интуиции, мгновенной спортивной реакции.
Суть дела состояла в том, что на каждом многолюдном собрании или митинге, — а собрания и митинги тогда происходили чуть ли не каждую неделю, — этот талантливый человек в нужный момент выкрикивал нужный лозунг.
Вспомнит, скажем, какой-нибудь оратор про Красную армию, и тотчас откуда-то с галерки или из ложи хорошо всем знакомый пронзительный голос выкрикивает:
— Да здравствует выдающийся организатор нашей славной Красной армии, железный сталинский нарком, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов!
И в ответ — буря аплодисментов.
Для наглядности я привел самый простой, даже примитивный пример, как будто бы не требующий особой сообразительности. Но бывали и более сложные ситуации, когда прореагировать надо было на какое-нибудь не столь заметное слово. Нет-нет, не думайте, что это было так просто. Я уж не говорю о том, что, помимо всего прочего, тут необходим был и недюжинный политический опыт. Не дай бог промахнуться и выкрикнуть что-нибудь не то! Короче говоря, хоть и известно было, что незаменимых людей у нас нет, поручить это тонкое и ответственное дело в том учреждении больше было некому.
Но однажды вышло так, что этот незаменимый человек довольно долго отсутствовал. Он был в отпуске. И вот он возвращается из своего отпуска — свежий, загорелый — и сразу, с новыми силами приступает к своим неформальным обязанностям, потому что аккурат в тот самый день проходил в их учреждении какой-то особенно важный и особенно многолюдный митинг.
Будучи настоящим асом — высоким мастером своего дела, — он даже и не старался вслушиваться, а тем более вдумываться в смысл произносимых с трибуны речей. Он, как всегда, реагировал на знаковое слово. И вот оно прозвучало — это ключевое слово, главное из всех тогдашних политических слов: «БДИТЕЛЬНОСТЬ».
Услыхав его, он вскочил, как заведенный, и посвежевшим за время отпуска, хорошо поставленным своим голосом выкрикнул в зал:
— Верному сыну Коммунистической партии, железному сталинскому наркому Николаю Ивановичу Ежову — слава!
Этот лозунг (а выкрикивал он его, как вы понимаете, не в первый раз) неизменно вызывал бурные аплодисменты. А в последнее время, когда Николай Иванович стал чуть ли не вторым — по значению — человеком в стране, даже — переходящие в овацию.
Но тут случилось нечто невероятное. Вместо грома аплодисментов зал ответил на этот пронзительный ликующий призыв гробовым молчанием.
Специалист по выкрикиванию лозунгов, как я уже сказал, был человек политически опытный: он сразу понял, что Ежов больше уже не железный сталинский нарком, а может быть, даже уже и не верный сын Коммунистической партии. Смертельная бледность проступила на его загорелом под южным солнцем лице, и, не издав ни единого звука, он грохнулся в обморок.
Большевистская принципиальность
Эта фраза прозвучала однажды с высокой трибуны:
— Какой беспринципный человек Тарасенков! Он хвалил Пастернака раньше, до статьи «Правды», в которой была высказана суровая партийная оценка творчества этого чуждого нам поэта. И как ни в чем не бывало продолжает хвалить его и сейчас, после появления этой статьи.
Сказано это было искренне, от души. И не демагогией эта фраза меня поразила (тоже, нашли чем удивить), а именно — простодушием. Во всяком случае, это была простодушная демагогия.
Анатолия Кузьмича Тарасенкова я хорошо помню. Он был красивый, живой, обаятельный. Как выражаются герои Зощенко, любимец женщин. И не только любимец, но и любитель.
Но больше, чем женщин, чем все прелести и радости жизни, больше всего на свете он любил стихи.
Стихи он любил самозабвенно.
Была у него такая игра: кинуть вдруг в разговоре — ни с того ни с сего — какую-нибудь строчку любимого своего Пастернака. Или Цветаевой. Это была проверка собеседника: откликнется или нет? Продолжит ли строчку следующей? И если собеседник оказывался на высоте, начинался матч-турнир: стихотворные строки летели от одного к другому, как мячи от ракеток.
У Анатолия Кузьмича была потрясающая, поистине уникальная библиотека русской поэзии XX века. Располагалась она в подполье — не в переносном, а в буквальном смысле этого слова: под полом их крохотной квартирки. Не конспирации ради, а просто потому, что в квартирке для этой тьмы журналов и книг просто не было места.
Хотя и для конспирации основания тоже были. И немалые. Там ведь был у него и запретный Гумилев, и еще более запретная Цветаева: поэтические сборники начала века и 20-х годов, журналы тех же времен, выдирки из эмигрантских журналов, машинопись. И все это аккуратно подобрано, переплетено в ситчик. Называлось это — «Тарасиздат». (Слово пустил Твардовский — задолго до того, как родились вошедшие потом в нашу речь «самиздат» и «тамиздат».)
Кого там только не было среди его любимцев — и Ходасевич, и Бунин, и Сологуб, и Андрей Белый, и Кузмин…
Но самым любимым из любимых был Пастернак. Они были знакомы, и было время, когда Борис Леонидович отвечал на его преданную любовь взаимностью. На подаренной ему своей статье «Несколько положений» сделал такую надпись:
► Толя, я по твоему желанию надписываю тебе эту статью в октябре 1947 года… Меня с тобой связывает чувство свободы и молодости, мы всё с тобой победим. Я целую тебя и желаю тебе и всему твоему счастья.
Но «всё победить» Анатолию Кузьмичу было не дано.
Ведь он был, как сказано у Зощенко, «кавалер и у власти» — занимал разные высокие (не слишком, но — все-таки) литературные посты: был ответственным секретарем, а потом и заместителем главного редактора журнала «Знамя», позже — замом главного в «Новом мире». Без «большевистской принципиальности» на таких высотах было не удержаться. И пришлось ему этой самой большевистской принципиальности учиться. Овладевать ею.
И он, увы, много в этом преуспел. Даже о любимом своем Пастернаке сказал (и с трибуны, и в печати) все, что предписывалось тогда о нем говорить.
Когда Аля (Ариадна Сергеевна) Эфрон вернулась из ссылки, она пришла к Тарасенкову и с доставшейся ей по наследству от матери знаменитой цветаевской прямотой, глядя ему в глаза, сказала:
— Я пришла к вам от Эренбурга, он сказал, что он вас не уважает за ваши статьи, но уверен в том, что вы искренне любите поэзию, и потом, лучше вас никто не знает Цветаеву, и никто, кроме вас, не может мне помочь. Я хочу издать мамину книгу-
Тарасенков молча проглотил эту пилюлю. И, как мог, старался помочь Ариадне Сергеевне выполнить задуманное.
Умер он рано, после пятого, кажется, инфаркта, сорока семи лет от роду. Умер в день открытия XX съезда, застав только самые первые, совсем еще бледные лучи хрущевской оттепели, всего нескольких дней не дожив до знаменитого «секретного» хрущевского доклада.
Узнав (от Али) о его смерти, Борис Леонидович Пастернак сказал:
— Сердце устало лгать.
Буревестник революции
Это словосочетание не имело обобщающего смысла. Оно было сугубо конкретным: так называли Алексея Максимовича Горького. Только его одного, других буревестников у нас не было. Зато уж к имени Горького это определение приросло, как постоянный эпитет — добрый молодец, чистое поле и мать сыра земля в русских сказках.
В давние — еще сталинские — времена один литературный критик поспорил с друзьями-приятелями, что не только напишет, но и напечатает статью о Горьком, ни разу не помянув в ней про буревестника.
Критик этот был штатным сотрудником «Литературной газеты», поэтому у него была возможность наблюдать за прохождением своей статьи на протяжении всего производственного цикла, бдительно следя, чтобы на каком-нибудь этапе чья-нибудь редакторская рука не вписала ему злополучного «буревестника». И вот — цикл завершен. Вычитана последняя контрольная полоса. Дальше — то, что на тогдашнем газетном (типографском) языке называлось «пресс». После этого никакая правка практически была уже не возможна: для этого пришлось бы разбивать металлическую форму (матрицу). Такое иногда тоже случалось. Но только в случае какого-нибудь уж совсем жуткого ЧП.
Тут никакого ЧП не было, отсутствие «буревестника» в юбилейной горьковской статье никакими особыми карами никому вроде не грозило. Поэтому наш критик, подписав (уже глубокой ночью) этот самый «пресс», спокойно ушел домой спать, пребывая в полной уверенности, что свое пари с друзьями он выиграл.
Но утром, развернув газету…
Нет, в самой статье никакого «буревестника» действительно не было: «пресс» никто не бил, и текст статьи остался нетронутым. Но НАД этим текстом красовался заголовок:
«ВЕЛИКИЙ БУРЕВЕСТНИК РЕВОЛЮЦИИ».
Смеяться над этим постоянным эпитетом, иронизировать по его поводу было, пожалуй, не менее опасно, чем глумиться над постоянными эпитетами, прилагаемыми к имени Сталина: «родной», «любимый», «корифей всех наук», «лучший друг физкультурников» и т. д.
Однако — смеялись.
Самым удачным из всех известных мне насмешливых откликов на эту тему была пародия д'Актиля (настоящие имя и фамилия пародиста — Анатолий Френкель), сочиненная, правда, еще до того, как Горький стал уж совсем культовой фигурой.
Вот она.
► ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ
(На этот раз в миноре)
Были дни:
Среди пернатых, призывая и волнуя, реял гордый Буревестник, черной молнии подобный, и вопил — обуреваем духом пламенного бунта:
— Бури! Бури! Дайте бурю! Пусть сильнее грянет буря!
Напророчил Буревестник несказанные событья:
Буря грянула сильнее и скорей, чем ожидалось. И в зигзагах белых молний опалив до боли перья, притащился Буревестник, волоча по камням крылья:
— Так и так, мол. Буревестник. Тот, который… Честь имею.
И сказали буйной птице:
— Мы заслуги ваши ценим. Но ответьте на вопросы общепринятой анкеты: что вы делали, во-первых, до 17-го года?
Вздыбил перья Буревестник и ответил гордо:
— Реял.
— Во-вторых, в чем ваша вера? Изложите вкратце credo.
Покосился Буревестник:
— Я предтеча вашей бури. Верю в то, что надо реять и взывать к ее раскатам.
— В-третьих: ваша специальность? Что умеете вы делать?
Покривился Буревестник и сказал:
— Умею реять.
— Ну, а чем служить могли бы в обстоятельствах момента?
И, смутившись, Буревестник прошептал:
— Я реять мог бы!
— Нет — сказали буйной птице. — Нам сейчас другое нужно. Не могли бы вы, примерно, возглавлять хозучрежденье? Или заняли, быть может, пост второго казначея при президиуме съездов потребительских коопов? Или в области культуры согласились по районам инспектировать работу изб-читален и ликбезов? Или, в крайности, на курсах изучили счетоводство и пошли служить помбухом по десятому разряду?
— Ах! — промолвил Буревестник. — Я, по совести, не мастер на ликбезы и коопы, на торговые балансы и бухгалтерские книги… Если реять — я согласен!
Почесались на такие Буревестниковы речи — и свезли назавтра птицу без особого почета в помещение музея при «Архивах революций»: отвели большую клетку, подписали норму корму и повесили плакатик:
— Буревестник. Тот, который…
Мало кто, в музей забредши, между многих экспонатов отмечает с уваженьем запылившуюся клетку.
Только я, седой романтик, воспитавшийся на вольных Буревестниковых криках, живо помнящий те годы, в кои над морским простором гордо реял Буревестник, черной молнии подобный, и вопил, обуреваем духом пламенного бунта:
— Бури! Бури! Дайте бурю! Пусть сильнее грянет буря!
Только я, седой романтик, прихожу по воскресеньям в помещение музея, приношу обрюзгшей птице канареечное семя, заменяю в ржавой банке застоявшуюся воду и — с оглядкой на прохожих — говорю не очень громко:
— Пребывай себе в почете, птичка Божья — Буревестник!
Пародия эта сохранилась в рукописном альманахе К.И. Чуковского, в его знаменитой «Чукоккале».
В конце 60-х, готовя «Чукоккалу» к изданию — не всю, конечно (об этом тогда не приходилось и мечтать), а только «выбранные места», Корней Иванович попытался было включить туда и эту пародию. Понимая, что напечатать ее будет ох как непросто, он написал к ней вот такое небольшое послесловьице:
► Д'Актиль — псевдоним газетного поэта-юмориста, переводчика «Алисы в стране чудес». Вскоре после юбилея А.М. Горького д'Актиль подарил мне для «Чукоккалы» свою пародию на горьковского «Буревестника». В пародии он высмеял бюрократическое пристрастие некоторых тогдашних учреждений обрушивать на каждого желающего поступить на работу громадное количество докучливых и праздных вопросов, которые казались особенно нелепыми, когда их предлагали работникам науки и искусства. Не обращая внимания на подлинные революционные заслуги горьковского Буревестника, новые бюрократы трактовали его как заурядного и мелкого «служащего».
Из этой наивной затеи, разумеется, ничего не вышло. В тогдашнее издание «Чукоккалы» эта пародия так и не вошла. Не удалось хитроумному Корнею Ивановичу замаскировать тот несомненный и очевидный факт, что пародия д'Актиля метила отнюдь не в «бюрократические пристрастия некоторых тогдашних учреждений» и даже не в горьковскую «Песню о Буревестнике» — а в самого «Буревестника», лично в него, в Алексея Максимовича Горького.
Пародия эта была написана в 1928 году — том самом, когда Горький в первый раз приехал в СССР. В том году ему стукнуло 60, и этот его юбилей праздновался с большой помпой. Окончательно в Советский Союз он решился переехать только в 1931-м. А тогда, в 28-м, его еще надо было к нам, сюда, заманивать.
Заманивали всеми доступными им средствами. А средств — во всех смыслах этого слова — в их распоряжении было достаточно:
► Еще в ноябре 1927 года была создана правительственная комиссия по юбилейному чествованию Горького (такие же комиссии были созданы в десятках городов), превращенная затем в комитет по его встрече. В него вошли два члена политбюро — Бухарин и Томский, два наркома — Луначарский и Семашко…
27 мая 1928 года на советской границе дорогого гостя ожидали отправленная ему навстречу делегация писателей и всевозможные официальные лица. Для него был выслан персональный салон-вагон. В Минске, Смоленске и других городах по дороге, несмотря на то что поезд прибывал туда глубокой ночью, Горького ожидали тысячные толпы людей. В Москве ему была устроена торжественная встреча. На вокзал приехали глава правительства Рыков, члены политбюро Бухарин, Ворошилов, Орджоникидзе, нарком Луначарский, члены ЦК, делегация Художественного театра во главе со Станиславским, огромная группа писателей. Десятки тысяч людей собрались на привокзальной площади, где состоялся митинг. Выстроившись вдоль тротуаров, празднично одетые москвичи приветствовали кортеж машин, направлявшийся к Машкову переулку, где жила Екатерина Пешкова: ее квартира, по прежней традиции, стала временной резиденцией Горького.
Ему удалось отдохнуть только два часа, после чего он сразу отправился в Большой театр на торжество по случаю десятилетия Коммунистического университета. Здесь впервые он встретился со Сталиным. Рукопожатие было крепким, сталинская улыбка обворожительной: множество людей отмечали, что Сталин, когда хотел, умел влюблять в себя даже самых заядлых скептиков.
(Аркадий Ваксберг. Гибель Буревестника. М. Горький: последние двадцать лет).Буревестник, растроганный всеми этими знаками внимания, то и дело смахивал слезу.
Всенародная любовь, в которую его окунали, далеко не всегда была искусственной, умело организованной: настоящих, искренних почитателей у него тоже было немало.
Но и официальные почести тоже грели его сердце. Нельзя сказать, чтобы он был к ним так-таки уж совсем равнодушен.
Однако главным для него в той встрече и в том юбилее были не почести. Почести были для него только знаком. Он искренне верил, что, возвратившись в Советский Союз, станет там фигурой влиятельной. Может быть, даже и кое-что определяющей в государственной политике — и внутренней, и международной. Во всяком случае, находясь где-то поблизости от вождя, сумеет как-то воздействовать на него, смягчать суровость его нрава.
Виктор Борисович Шкловский однажды пересказал мне рассказ Алексея Максимовича о том, как он пытался помирить Сталина с Бухариным.
— Такие люди, как вы, не должны ссориться, — сказал он, по обыкновению упирая на «о». — Помиритесь.
Сталин неохотно протянул Бухарину руку.
— Нет-нет, — не удовлетворился этим Горький. — Обнимитесь… А теперь — поцелуйтесь…
Подставляя Бухарину губы для поцелуя, Сталин сказал:
— Не укусишь?
— Тебя укусишь — зубы обломаешь, — ответил Бухарин. — У тебя ведь губа-то железная.
Пересказывая Шкловскому этот эпизод, Горький восторженно сказал:
— Какой диалог! Шекспир!
И промокнул платком увлажнившиеся глаза.
Это было, конечно, позже, уже в 30-е. А в год своего первого приезда в СССР он, бедняга, искренне верил, что сумеет не только мирить ссорящихся соратников, но, может быть, даже обретет и какое-нибудь официальное место в иерархии советских вождей, усядется где-нибудь там рядом с САМИМ и будет давать ему разумные советы насчет того, как именно надлежит руководить если не страной, так по крайней мере культурой.
Учитывая грандиозность той встречи и того юбилея, надо признать, что для таких надежд у него (и не только у него) могли быть кое-какие основания. И можно только подивиться проницательности пародиста, который уже тогда так ясно увидел, какая жалкая роль ждет бывшего Буревестника в новой советской реальности — роль музейного чучела.
Даже на Первом съезде писателей, где ему, казалось бы, была назначена не просто важная, а по-настоящему заглавная роль, он тоже был всего лишь чучелом:
► Пантелеймон Романов: Доклад Горького для тех, кто читал его в газетах, в обрамлении всяческих энтузиастических комментариев, может быть, и представляет интерес, но для… нас, слышавших его здесь, это было очень тяжелое зрелище… Начальник департамента прочел, без всякого внутреннего подъема, приказ своего высшего начальства…
Бабель: Мы должны демонстрировать миру единодушие литературных сил Союза. А так как все это делается искусственно, из-под палки, то съезд проходит мертво, как царский парад, и этому параду, конечно, никто за границей не верит. Пусть раздувает наша пресса глупые вымыслы о колоссальном воодушевлении делегатов. Ведь имеются еще и корреспонденты иностранных газет, которые по-настоящему осветят эту литературную панихиду. Посмотрите на Горького и Демьяна Бедного. Они ненавидят друг друга, а на съезде сидят рядом, как голубки.
(Спецсообщение секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР «О ходе Всесоюзного съезда советских писателей». Отклики писателей на работу съезда)Роль чучела, которая была определена Горькому даже во внутрилитературных, писательских делах, была организационно оформлена назначением ему «в помощники» (а на самом деле — в комиссары) партийного функционера А.С. Щербакова, который и был в отличие от «зицпредседателя Фунта» реальным руководителем Союза писателей.
Кстати говоря, структура эта сохранялась и после смерти Горького: недаром один из преемников Алексея Максимовича на этом посту — Константин Федин получил у коллег-писателей красноречивое прозвище «Чучело орла».
Да, роль Горького на Первом писательском съезде была чисто декоративной. Но все-таки — публичной.
А когда праздник кончился и начались будни, предвидение пародиста («Отвели большую клетку, подписали норму корму и повесили плакатик: „Буревестник. Тот, который…“») сбылось уже почти буквально.
Можно было бы даже обойтись без этого осторожного «почти», если бы не грандиозные габариты «клетки», а в особенности — «плакатика».
Плакатик, обозначающий былые заслуги Буревестника, был выполнен с особым размахом. Именем великого пролетарского писателя были названы заводы, пароходы, улицы, города. Даже Московский Художественный театр, занавес которого с дней его основания украшала чеховская чайка, получил имя Горького. (Карл Радек, которому приписывали авторство всех тогдашних антисоветских анекдотов, предлагал даже всей эпохе присвоить имя Максима Горького, назвав ее максимально горькой.)
В такую же музейную табличку превратился и намертво приставший к его имени постоянный эпитет — «Великий Буревестник революции». Он тоже служил прикрытием того печального факта, что «Буревестник» — давно уже никакой не Буревестник, а всего лишь музейное чучело.
Ну, а «большая клетка», которую в пародии д'Актиля отвели бывшему Буревестнику, уже и вовсе не была метафорой.
Особняк Рябушинского, предоставленный в распоряжение великого пролетарского писателя, стал вот этой самой «большой клеткой», в которой Буревестник доживал последние свои годы.
С.Я. Маршак рассказал мне однажды такую историю.
Кто-то передал ему, что Горький сильно на него обижен. «Как же так, — будто бы сказал он. — Когда-то он был мне почти что сыном, а теперь даже и не вспомнит, совсем у меня не бывает».
Услышав это, Самуил Яковлевич (который, к слову сказать, и раньше не раз безуспешно пытался посетить Алексея Максимовича) обрадованно кинулся в особняк Рябушинского в надежде, что теперь-то уж его долгожданная встреча с любимым писателем наконец-то состоится. Однако ему с холодной вежливостью дали понять, что Алексей Максимович занят и принять его не может.
— Можете себе представить, голубчик, как я был возмущен! — закончил свой рассказ Самуил Яковлевич. — Ведь я решил, что переданная мне обида Алексея Максимовича на то, что я будто бы совсем его забыл… Я, грешным делом, подумал, что все это — чистейшей воды лицемерие. И только много лет спустя я понял, что Алексей Максимович… что он был полностью изолирован от внешнего мира… Полностью, голубчик…
А вот еще одна история, которую я услышал от Ираклия Луарсабовича Андроникова.
Устные рассказы молодого Ираклия, в которых сразу проявилась его поразительная способность перевоплощаться в людей, которых он изображал, совершенно покорили влюблявшегося в любой талант Алексея Николаевича Толстого.
Слушая эти рассказы, он смеялся до колик. А однажды, отсмеявшись, сказал:
— Непременно надо будет показать тебя Алексею Максимовичу. Порадовать старика. Да и для тебя тоже это будет нелишнее…
И вот однажды, приехав ненадолго в Москву (он жил тогда в Ленинграде), Ираклий напомнил Алексею Николаевичу об этих его словах.
— Я, — сказал он, — пробуду тут еще целую неделю…
— Как ты сказал? Не-де-лю?! — захохотал рабоче-крестьянский граф. — Да к нему оформление — не меньше месяца… О-хо-хо! Ты меня просто уморил… Не-де-лю!
Вон оно, оказывается, как было. Оформление — не меньше месяца. Как за границу. И далеко не всем (вспомним рассказ Маршака) даже и за месяц удавалось пройти через это «оформление».
* * *
О том, каково было реальное положение Буревестника в последние годы его жизни, теперь уже написаны горы статей и книг. И все они, увы, подтверждают точность картинки, нарисованной д'Актилем.
Но тут надо еще раз напомнить, что ироническому осмеянию в этой пародии подверглась не только та жалкая роль, которая была уготована ему на родине. Как уже было сказано, жало этой художественной сатиры было нацелено в самого Буревестника. И — мало того! — в эту вот самую «буревестническую» сторону его славной деятельности:
► —…Что умеете вы делать?
Покривился Буревестник и сказал:
— Умею реять.
— Ну, а чем служить могли бы?..
И, смутившись, Буревестник прошептал:
— Я реять мог бы!
Это было началом той великой переоценки ценностей, окончательное завершение которой произошло спустя лет сорок:
Любовь к Добру разбередила сердце им. А Герцен спал, не ведая про зло… Но декабристы разбудили Герцена. Он недоспал. Отсюда все пошло. И, ошалев от их поступка дерзкого, Он поднял страшный на весь мир трезвон. Чем разбудил случайно Чернышевского, Не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, Стал к топору Россию призывать, — Чем потревожил крепкий сон Желябова, А тот Перовской не дал всласть поспать… Был царь убит, но мир не зажил заново, Желябов пал, уснул несладким сном. Но перед этим разбудил Плеханова, Чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с теченьем времени. В порядок мог втянуться русский быт… Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит?.. И с песней шли к Голгофам под знаменами Отцы за ним — как в сладкое житье… Пусть нам простятся морды полусонные, Мы дети тех, кто недоспал свое. Мы спать хотим… И никуда не деться нам От жажды сна и жажды всех судить… Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!.. Нельзя в России никого будить. (Н. Коржавин. Памяти Герцена. Жестокий романс по одноименному произведению В. И. Ленина)В 1972 году, когда Коржавин сочинил этот свой «жестокий романс», такое иронически глумливое отношение к «Буревестникам революции», распространившееся уже даже и на Герцена и разбудивших его декабристов, было проявлением величайшей дерзости. (Я имею в виду дерзость, так сказать, интеллектуальную, а не гражданскую.)
Над нашим же «Буревестником», который «гордо реял», страстно призывая: «Буря! Пусть сильнее грянет буря!», глумиться стали гораздо раньше. И особой дерзостью это давно уже никому не казалось.
Я имею в виду отнюдь не только пародию д'Актиля.
Была, например, такая байка. (Выдавалась она за подлинную историю — «из жизни», — но подлинная она или выдуманная, особого значения не имеет.)
Приехал будто бы один московский интеллигент, скажем, в Астрахань. Во всяком случае, куда-то туда, на Каспий. И говорит местным жителям, рыбакам:
— Хотелось бы мне поглядеть на буревестника… Птица такая… Здесь где-то она, в ваших краях, обитает…
Рыбаки пожимают плечами: не знают. И слыхом не слыхали.
— Ну как же! — втолковывает им москвич. — Большая такая, черная… Реет, дескать… Над седой равниной моря… Черной молнии подобный…
Жмутся рыбаки, переглядываются. Понятия не имеют о такой птице.
И вдруг кто-то из них догадался:
— A-а!.. Говноед!..
И все радостно подхватили:
— Ну да!.. Как же!.. Есть тут у нас такая птица!.. Знаем… Так бы сразу и сказали!
— А почему вы его так называете? — удивился и слегка даже оскорбился москвич.
— А как еще его звать? — удивились рыбаки. — Говноед — он говноед и есть. Мы его завсегда только так и зовем…
Безработица
В «Советском энциклопедическом словаре» это слово объясняется так:
► Явление, присущее капитализму, когда часть экономически активного населения не может применить свою рабочую силу, становится «излишним» населением, резервной армией труда… Порождается действием всеобщего закона капиталистического накопления; усиливается в периоды экономических кризисов и последующих депрессий в результате резкого сокращения спроса на рабочую силу. В промышленно развитых странах капитала носит хронический характер.
Само собой, при этом предполагалось, что у нас, в стране победившего социализма, никакой безработицы нет и быть не может.
В былые времена — на заре, так сказать, туманной юности — так думал и я.
Помню, однажды завязался у нас бурный спор на эту тему. К нам — вернее, к родителям — пришли в гости старые друзья отца — Ленские. Были они какие-то заштатные актеры, а в то время работали, кажется, в Москонцерте или в другом каком-то тогдашнем учреждении: ездили на гастроли по области, а может быть, и не только по области, но и по другим каким-нибудь более далеким провинциальным городам. В общем, жили довольно трудной кочевой жизнью.
— А почему бы вам не попробовать найти какую-нибудь постоянную работу в Москве, — сказал мой отец.
— Ну что вы, — горько усмехнулся его приятель. — При нашей-то безработице.
И тут я произнес назидательным, докторальным тоном:
— У нас в стране нет безработицы.
— То есть как это нет? — удивился Ленский.
Я объяснил, что при социализме никакой безработицы нет и быть не может.
То ли этот мой тон задел Ленского за живое, то ли сама, так сказать, постановка вопроса его возмутила, но он ужасно разволновался:
— Вы будете мне тут повторять все эти басни, когда я на собственной шкуре… уже двадцать лет… Дай вам бог столько счастливых дней, молодой человек, сколько месяцев в году я сижу без работы…
Но я стоял на своем. Да, тупо твердил я, все это может быть… Отдельные факты… Любой человек временно может оказаться без работы… (Я сам в это время, надо сказать, уже окончил институт и из-за своего пятого пункта не мог устроиться ни на какую штатную работу.) Может быть, даже можно сказать, что у нас есть безработные… Но безработицы как социального явления у нас нет и быть не может… Надо точно употреблять такие ответственные политические термины…
Бедняга Ленский, почувствовав, видно, что разговор переходит уже в некую опасную плоскость, не то чтобы сдался, но — прекратил сопротивление. А я, болван, вполне искренне при этом полагал, что разбил противника по всем пунктам. И считал себя при этом очень умным, а его — темным, невежественным обывателем, не знающим азбуки социализма.
А между тем уже тогда, наверно, ходила, передаваясь из уст в уста, такая ироническая характеристика нашего «реального социализма»:
У нас в стране нет безработицы.
Безработицы нет, но никто не работает.
Никто не работает, но все получают зарплату.
Все получают зарплату, но купить на нее ничего нельзя.
Купить ничего нельзя, но у всех все есть.
У всех все есть, но все недовольны.
Все недовольны, но все голосуют «за».
БАМ
Байкало-амурская магистраль. Железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Строилась — с перерывами — несколько десятилетий. Последний этап строительства — с 1974 по 1981 г. — сопровождался грандиозной пропагандистской шумихой.
Фазиль Искандер — человек, погруженный в себя и не очень вслушивающийся в шумы окружающей его реальности, однажды сидел на каком-то собрании в журнале «Юность» и, удивившись однообразию произносимых речей, с удивлением спросил у соседа:
— Что это они все говорят: бам, бам, бам?
Сосед рассмеялся и объяснил оторвавшемуся от жизни писателю значение неведомой ему аббревиатуры.
Но страна хорошо знала, что такое БАМ: кто из газет, радио и телевидения (телевизор ведь тоже постоянно бубнил: «бам, бам, бам»), кто из анекдотов (был, например, такой: «Если тебя посылают на три буквы, это еще не значит, что тебя собираются послать на БАМ»), а кто и из личного опыта, вложив в строительство знаменитой магистрали толику собственного трудового пота.
Отношение подавляющего большинства населения страны к этому всенародному трудовому подвигу выразилось в такой — в то время популярной — частушке:
Приезжай ко мне на БАМ, Я тебе на рельсах дам. Пускай потешится пизда, Пока не ходят поезда.Битва за урожай
Так на советском новоязе официально называлась уборочная. В средствах массовой информации слово «уборочная» этой пропагандистской формулой постепенно было совсем вытеснено. И в газете уже нельзя было прочесть, и по радио или по телевизору уже не услышать было: «В Ставропольском крае началась уборка урожая». Только такое: «На полях Ставрополья развернулась битва за урожай».
Оборот этот (как и все такие же. — «бились» ведь у нас не только за урожай) стал настолько привычным, что весь его идиотизм я по-настоящему ощутил, только прочитав в знаменитом в ту пору романе Фейхтвангера:
► Он подошел к радио, принялся вертеть ручки приемника… Со всего мира хлынули на него разнообразнейшие звуки. Назойливее всех выделялся один голос — пошловатый тенор, который вещал со всех германских радиостанций. Зепп Траутвейн часто слышал этот голос, он принадлежал германскому министру. То, что говорил сей субъект и как он говорил, показалось Траутвейну одновременно гнусным и смешным…
Траутвейн злобно усмехнулся. На каком солдатском языке говорят теперь в Третьей империи. Даже и тон у них казарменный; насильники и фанфароны, они переносят слова из области военной в те области, с которыми не имеют ничего общего. «Трудовой фронт», «бои за производство». Разве фабрики — это поля сражений? Разве труд — военная деятельность? Скоро о германском министре, сходившем в уборную, газеты будут сообщать, что он выдержал «опорожнительную битву».
Впрочем, то, что кричал в эфир этот голос, столь очевидно противоречило действительности, что Траутвейн не мог понять: как человеческий язык способен произносить во всеуслышание такую насквозь лживую бессмыслицу? Голос расписывал жителям Германии, у которых с каждым днем становилось все меньше хлеба, насколько им живется лучше, чем жителям других стран; он говорил людям, которые со страхом озирались по сторонам, прежде чем прошептать слово безобиднейшей критики, что только они пользуются подлинной свободой. Голос нагло искажал все, что делалось вокруг, представляя все навыворот… Каждый слушатель, сохранивший хотя бы крупицу разума, не мог не заметить этого. Но в той аудитории, перед которой выступал оратор, как видно, очень немногие были в здравом рассудке.
(Лион Фейхтвангер. Изгнание)Наши радиоголоса так же «нагло искажали все, что делалось вокруг, представляя все навыворот». И людей, которые верили в эту ложь, принимали ее за чистую монету, в нашей стране тоже было предостаточно. Но немало было и неверивших, остававшихся «в здравом рассудке».
Но герой фейхтвангеровского романа Зепп Траутвейн — эмигрант. Он живет в Париже, и на все, что происходит в нацистской Германии, смотрит извне. А мы, даже самые трезвые из нас, жили внутри этой тотальной лжи, внутри этого ставшего для нас привычным тотального идиотизма.
Посмеяться и даже поглумиться над выражением «Битва за урожай» я, конечно, мог. А вот саркастическая мысль, что скоро, пожалуй, о ком-нибудь из наших вождей, сходивших в уборную, станут говорить и писать, что он «выиграл опорожнительную битву», мне, наверно, в голову прийти не могла. Разве только если бы я, как фейхтвангеровский Зепп Траутвейн, тоже оказался в эмиграции, в Париже, и слушал эти наши радиоголоса оттуда.
В
Враги народа
Это было, наверно, самое жуткое языковое клише из политического языка советской эпохи.
В России этот якобинский термин в ход пустил Ленин в 1917 году, обозвав так своих политических противников. Потом он стал — не слишком часто — мелькать в различных постановлениях и декретах: в 1918 году декрет ВЦИК «О поставках продовольствия» предлагает сопротивляющихся крестьян «объявить врагами народа… с тем, чтобы приговаривались к тюремному заключению на срок не менее 10 лет».
Но прочно в официальный политический язык это словосочетание вошло лишь в 1927 году, после того как Сталин назвал так Троцкого, а потом уже стал называть и других своих политических противников.
В годы так называемой ежовщины и радио, и газеты этим термином клеймили уже без разбора всех жертв сталинских репрессий. И вскоре формула эта стала уже официальным юридическим термином: часовым, охраняющим места заключения, велено было произносить при смене: «Под сдачей пост №… по охране врагов народа». И: «Пост №… по охране врагов народа принял».
Ужаснее всего было то, что формула эта была усвоена (принята, узаконена) языком, а значит, в какой-то мере и народом. И должно было пройти три десятка лет — целая историческая эпоха! — чтобы этому словосочетанию был возвращен его истинный смысл.
► Случалось ли вам, любезный читатель, бывать в Доме свиданий? Если нет, позвольте для начала, ради удобства рассказывания, описать вам эту скромную, барачного типа гостиницу, прилегающую к вахте и контрольно-пропускному тамбуру, на рубеже лагерной зоны и вольной проезжей дороги…
Здесь, на тюремной земле, раз в год — на трое суток в лучшем случае, на сутки, на одну ночевку — утраченная семья арестанта восстанавливает как умеет законные права и обязанности сумбуром поцелуев и кладезем слёз…
В отдельной комнатке — все как у людей. Два стула. Тумбочка. Стол. Кровать. На окне — белые створки. Можно задернуть решетку, и — как дома… Раз уж дали вам личное счастье, на столе — что душа пожелает… Белый хлеб. Сало. Ешь не хочу. Гужуйся! Консервы — тресковая печень. Сливочное масло. Сахар-рафинад. Повидло… Набивают курсак отощавшему постояльцу — за год назад, на год вперед… И это главное, зачем едут бабы, с узлами, с баулами, с тремя пересадками, в очередях, на вокзалах, за билетами, ложась. Да еще скоро ли пустят? Да и пустят ли? — не то сиди, кукуй в вольном поселке, снимай сенник втридорога у прижимистой жены вертухая, а дома — на другом конце света — корова не доена, дети болеют и отпуск, за свой счет, с МТС уже просрочен… А мир — холоден. А начальство-то грозное… Ежели, говорит, ваш супруг не одумается, не изменит поведения, не родит норму выработки, — не дам свидания. Не дам, да и только! — смеется, змей. Что хотят, то и делают, враги народа…
(Андрей Синявский. Спокойной ночи)Услышал Андрей Донатович это классическое советское словосочетание в таком нетрадиционном контексте где-то там, в Потьме, где пришлось ему отбыть свои шесть лагерных лет? Или сам додумался перевернуть его, поставить с головы на ноги?
Не могу сказать. Не знаю.
Но так ли уж это важно?
Гораздо важнее тут то, что это леденившее душу, а теперь уже полузабытое словосочетание все-таки обрело наконец точный адрес. А с ним — уже не мифическое, а вполне реальное содержание.
* * *
Объявляя своих недоброжелателей (действительных или мнимых) не врагами Сталина, не врагами режима, не врагами советской власти даже, но врагами народа, Сталин руководствовался безошибочным инстинктом демагога. Он и сам вряд ли понимал, насколько слово было выбрано удачно.
Не зря и народ поверил в эту формулу, принял ее, привык к ней. Привык, быть может, не слишком даже вникая в смысл понятия. Но принял, пустил в оборот, бессознательно ее узаконил.
Как бы то ни было, каждый арестованный по политическому обвинению в глазах миллионов людей был врагом народа. И обвиняемый знал это. И ему непросто было от этого знания отделаться, внутренне пренебречь этим знанием, считать его несущественным.
Конечно, заклеймив каждого арестованного по политическому обвинению формулой «враг народа», Сталин меньше всего вдавался в какие-либо психологические тонкости, связанные с особым складом души российского интеллигента.
Но не случайно этот психологический шок действовал именно на интеллигентов. На человека из народа смысл этого словосочетания вряд ли действовал так ошеломляюще. А интеллигент — страдал. Еще бы! Обвинить его в том, что он — враг народа! Можно ли было придумать для русского интеллигента психологическую травму более страшную?
Формула была так удачна, она так точно била в цель, что просто трудно поверить в то, что она не была создана со специальным расчетом, исходящим из точного знания всей истории русской интеллигенции, ее специфического социального опыта, ее особого психологического склада.
Как уже было сказано, формула эта была взята из арсенала Великой французской революции и механически перенесена на русскую почву. Но не случайно именно на этой почве ей суждено было дать такие небывалые всходы.
Вряд ли во времена французской революции формула «враг народа» имела такое всепоглощающее действие на душу французского интеллигента. Вряд ли вообще, даже при прочих равных условиях, эта формула могла бы так подчинить себе, так загипнотизировать душу западного интеллигента, как это удалось проделать с душой интеллигента русского.
Можно даже с уверенностью предположить, что на сознание западного интеллигента это клеймо вообще не произвело бы особенно сильного действия.
Вспомним ситуацию, легшую в основу знаменитой драмы Ибсена «Враг народа». (Кстати, не случайно в России, даже в дореволюционное время, она никогда не шла на театральных подмостках под этим своим названием: при первой постановке — в Театре Корша в 1892 году — она называлась «Враг человечества», а при постановке во МХТ в 1900-м — «Доктор Штокман». Ну, а уж в советское время — и говорить нечего!)
Когда ибсеновский доктор Стокман впервые слышит обращенный к нему возглас «враг народа!», он потрясен. Как? Это он, для которого нет ничего выше, чем забота о благе и чести родного юрода? Он — враг народа?
Но буквально через секунду он осваивается. И — принимает это клеймо. И произносит монолог, из коего следует, что клеймо его не пугает.
«Да, — говорит он, — если угодно, пожалуйста! Можете называть это так. Да, я враг народа! Потому что народ — это косное ленивое стадо, и только единицы, только такие люди, как я, помогают народу стать народом».
Монолог этот настолько важен для понимания самой сути дела, что есть смысл привести его почти полностью:
► ДОКТОР СТОКМАН. Опаснейшие среди нас враги истины и свободы — это сплоченное большинство. Большинство никогда не бывает право. Никогда — говорю я! Это одна из тех общепринятых ложных условностей, против которых обязан восставать каждый свободный и мыслящий человек. Что это за истины, вокруг которых обыкновенно толпится большинство? Это истины, устаревшие настолько, что пора бы их уже сдать в архив. Когда же истина успела так устареть — ей недолго стать и ложью, господа. Да, да, хотите верьте, хотите нет… Все эти истины, признанные большинством, похожи на прошлогоднее копченое мясо, на прогорклые, затхлые, заплесневевшие окорока. От них-то и делается нравственная цинга, свирепствующая повсюду в общественной жизни… Истины, признаваемые ныне массой, толпой, — это те истины, которые признаны были передовыми людьми еще во времена наших дедушек. Мы, современные передовые люди, уже не признаем их больше истинами…
Западный интеллигент лишен суеверного преклонения перед мнением большинства, он с готовностью принимает клеймо «врага народа», и это ничуть не отражается на его нравственном самочувствии, потому что у него есть только один бог — истина.
Ибсеновскому доктору Стокману ничего не страшно, ничто не может лишить его сознания своей правоты, потому что он непоколебим в своем служении истине. Он твердо знает: место, где расположен курорт, кишит гнилостными бактериями. Это, так сказать, медицинский факт. Его долг врача состоит в том, чтобы, установив непреложность этого факта, сделать его достоянием гласности. А повредит это благосостоянию родного города или нет, проклянут его за это разоблачение или нет, лишат всех жизненных благ или нет — все это существенно, конечно, все это и составляет содержание его драмы, но все это меркнет перед тем, что служение истине стало для него главной жизненной потребностью, единственным условием существования его личности.
Для русского интеллигента все было иначе. Он не сотворил себе кумира из истины. У него были совсем другие кумиры.
Если для западного интеллигента истина — это кумир, требующий жертв, то для русского интеллигента — это нечто такое, что само может и должно быть принесено в жертву.
Русский интеллигент всегда был готов во имя каких-то «высших» соображений отказаться не только от своих симпатий, привязанностей, вкусов, не только от всего, что было ему дорого по воспоминаниям детства, не только от всего, что он когда-либо любил, в чем видел самую большую радость своего существования. Он готов был отказаться даже от того единственного, от чего никогда, ни при каких обстоятельствах не должен был отказываться, — от истины.
Как это могло произойти?
Разве не была русская интеллигенция сектой святых, для которых не существовало на свете ничего важнее поисков правды? Разве не была русская литература признана самой правдивой литературой мира? Как же могло случиться, что именно русский интеллигент, этот профессиональный правдоискатель, предал истину? Во имя чего? Вот в этом-то все и дело. Он предал ее во имя правды.
Вовсе неспроста один из последышей русской интеллигенции, бухгалтер Берлага, совершив поступок, согласно традиционной интеллигентской этике недостойный порядочного человека, так объяснял мотивы своего поведения:
— Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды.
Берлага, конечно, прохвост. Он лишь маскирует «высшими» соображениями свою корысть и свою трусость. Это — злая пародия. Но, как во всякой пародии, здесь сгущена, доведена до абсурда некая реальность.
Слово «правда» в России издавна имело два значения: правда-истина и правда-справедливость.
В силу ряда причин богом русской интеллигенции, высшим оправданием ее бытия стала правда во втором значении этого слова. Не истины, а справедливости жаждали русские правдоискатели.
Установилась своеобразная иерархия «правд». Согласно этой иерархии, правда-справедливость стояла бесконечно выше правды-истины. Пока господствовало убеждение, что истина и справедливость неразлучны, в этой иерархии еще не было особой беды. Но как только пути правды-истины и правды-справедливости разошлись, как только надо было выбирать, русский интеллигент бестрепетно выбрал справедливость. Он был уже готов к мысли, что правду-истину можно предать, отказаться от нее, принести ее на алтарь другой, неизмеримо более важной, высшей правде.
«Если истина вне Христа, то я предпочитаю оставаться не с истиной, а с Христом!» — говорил Достоевский (и устами своего героя, и своими собственными). И эта фраза проливает больше света на духовный облик российского интеллигента, чем все писания всех Чернышевских и Добролюбовых, вместе взятые. Я, разумеется, вовсе не собираюсь утверждать, что русская интеллигенция оказалась в плену у религиозной проповеди Достоевского. Я имею в виду другое. Подобно Достоевскому, она всегда, выражаясь фигурально, готова была «Христа» предпочесть «Истине». А Христом русской интеллигенции был народ.
Русский интеллигент — точно по слову Достоевского — всегда предпочитал остаться не с истиной, а с народом. Вот почему этот жупел: «враг народа» — действовал на душу русского интеллигента так безошибочно и так страшно.
И тем не менее…
* * *
Однажды я заговорил на эту тему с Борисом Слуцким. Он был старше меня на восемь лет: в 37-м мне было десять лет, а ему — восемнадцать.
Я тоже помнил этот приглушенный, шелестящий шепоток: «Слыхали?.. И этот тоже…» И неизменно следующее за этим: «Расстрел». Или: «К расстрелу».
Но мне — повторяю — было тогда всего-навсего десять лет, и хотя мы, мальчишки, постоянно слышали тогда от взрослых эти вполголоса произносившиеся слова (всякий раз в сочетании с какой-нибудь новой фамилией: Тухачевский… Егоров… Блюхер…), на нас они не производили такого жуткого впечатления, как на взрослых. Так, во всяком случае, мне казалось, когда я вспоминал об этом уже в иные, «вегетарианские» времена.
— Мы повторяли эти слова вслед за взрослыми, — рассказывал я Борису, — но страшный их смысл понимали слабо. Ну, а уж о том, правда это или неправда, — и вовсе не задумывались. А вы?
— Вас интересует, верил ли я тогда, что Тухачевский и Блюхер — враги народа? — спросил он.
— Да нет, — сказал я. — Я не про это. Меня интересует, как звучали тогда для вас эти слова. Какие чувства они у вас вызывали. Гнев? Ненависть к предателям? Или ужас? Страх, что тень этого жуткого словосочетания, не дай бог, ляжет и на кого-нибудь из вас?
— Да вы что? — засмеялся Борис. — Каждый вечер, возвращаясь домой, в общежитие, где мы жили, тот, кто приходил последним, неизменно произносил одну и ту же ритуальную фразу: «Враги народа сильно навоняли». И с треском распахивал форточку.
Всё для человека
Слегка сокращенная и перефразированная цитата из «Программы КПСС», принятой в 1961 году на XXII съезде КПСС. Полностью она звучала так: «Всё во имя человека, всё для блага человека».
Лицемерие этой расхожей формулы сразу нашло отражение в песне, которую сочинил (так, во всяком случае, тогда говорили: автор по понятным причинам на своем авторстве не настаивал) Зиновий Паперный.
Музыкальной основой для сочиненного им текста стал, с одной стороны, похоронный марш Шопена, а с другой — старая хулиганская песенка:
По блату, по блату Дала сестренка брату, А он ее по блату В родильную палату.На мотив шопеновского похоронного марша — печально, торжественно — звучала дважды повторенная фраза:
В сельском хозяйстве опять большой подъем…А за ней — на разухабистый мотивчик «по блату, по блату…» — следовал припев:
Полвека, полвека, И всё для человека!Был на эту тему и анекдот.
► Чукча побывал в Москве и, вернувшись домой, рассказывает:
— Всё для человека… Всё для человека… И чукча видел этого человека…
Человека, которого видел чукча, звали Леонид Ильич Брежнев.
В последние годы своего царствования он казался нам выжившим из ума стариком, который, как любил говорить один мой приятель, уже сосет рукав. Этому представлению весьма способствовала постоянная каша во рту у генсека.
На самом деле, однако, даже и в эту, закатную пору своего физического и политического бытия Леонид Ильич был в полном разуме, а нередко даже выказывал и подлинное остроумие. Вот, например, что рассказал мне один мой приятель, как говорится, приближенный к сферам.
Дело было в Якутии. В столице республики, которую генсек осчастливил своим прибытием, местное начальство устроило для него и для его свиты сверх официального еще и неофициальный прием. Такой, что ли, товарищеский ужин. И там был приготовлен для высокого гостя один весьма пикантный сюрприз. На стол подали огромную зажаренную — или запеченную в духовке — индюшку. Хозяин пира, ловко разрезав птицу, извлек из ее недр увесистое яйцо из чистого золота и с улыбкой поднес его «дорогому Леониду Ильичу». (Любовь генсека к дорогим подаркам ни для кого не была тайной.)
Благосклонно приняв этот скромный дар, Леонид Ильич улыбнулся и сказал:
— А что, алмазы у вас уже кончились?
Великий русский народ
10 декабря 1939 года московская школьница Нина Костерина побывала в Третьяковской галерее, на выставке русской исторической живописи. На другой день она записала у себя в дневнике:
► Вчера, когда я после осмотра выставки шла домой через центр, по Красной площади, мимо Кремля, Лобного места, храма Василия Блаженного, — я вдруг почувствовала какую-то глубокую внутреннюю связь с теми картинами, которые были на выставке. Я — русская. Вначале испугалась — не шовинистические ли струны загудели во мне? Нет, я чужда шовинизму, но в то же время я — русская. Я смотрела на изумительные скульптуры Петра и Грозного Антокольского, и чувство гордости овладело мной — это люди русские. А Репина — «Запорожцы»?! А «Русские в Альпах» Коцебу?! А Айвазовский — «Чесменский бой», Суриков — «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» — это русская история, история моих предков…
Запись очень личная. В подлинности и искренности чувства, охватившего мою (почти) сверстницу, у меня нет и тени сомнения. Но остановись Нина перед скульптурами Петра и Ивана всего какими-нибудь пятью годами раньше, эти же самые скульптуры вызвали бы у нее совсем иные чувства. Вряд ли она подумала бы с гордостью — «это люди русские». Глядя на «Утро стрелецкой казни», скорее всего вспомнила бы, с какой жестокостью подавляли цари народные восстания. Увидав репинских «Бурлаков на Волге», с горечью подумала бы о том, как угнетали буржуи рабочий класс в проклятое царское время, а также, наверно, вспомнила бы о несчастных китайских кули, жизнь которых и сейчас так же тяжела и ужасна, как в репинские времена у нас была жизнь бурлаков.
Так было бы, остановись Нина перед этими картинами и скульптурами в 1928-м, и в 1932-м, и даже в 1935-м. А вот в 1939-м те же картины вызвали у нее совсем другие чувства и совсем другие мысли.
Нина чувствует, что это новое ее сознание находится в некотором противоречии с прежним, таким еще недавним. Но чувство это — мимолетно: «Вначале испугалась — не шовинистические ли струны загудели во мне?» Что-то в этом новом, вдруг возникшем у нее чувстве все-таки ее смущает. Но смущение это какое-то неясное, смутное. И она на нем не задерживается — сразу его от себя отбрасывает: «Нет, я чужда шовинизму…»
А между тем испугалась она не зря.
* * *
Наш сосед по коммуналке — Иван Иванович Рощин, старый большевик, бравший в семнадцатом Зимний, потерявший на Гражданской ногу, окончивший потом не то ком-, не то промакадемию, а теперь возглавлявший какой-то важный главк (то ли Главсоль, то ли Главхлеб, а может быть, как иронизировал по этому поводу мой отец, — Главспички; соль этой его иронии состояла в том, что раньше, при царе-батюшке, никаких «Главспичек» не было, а спички были. И зажигались они легко, с первой попытки. Теперь же, когда «Главспички» есть, коробок спичек купить не так-то просто; а если это и удается, то загорается эта советская спичка в лучшем случае лишь с третьей попытки: у одной ломается палочка, у другой отлетает головка и только третья, если повезет, может быть, даст слабое, ненадежное, мгновенно гаснущее пламя), — так вот, этот Иван Иванович в 1945 году, когда Сталин произнес свой знаменитый тост за русский народ, счастлив был беспредельно. И ликования своего по этому поводу не скрывал. Подумав (точь-в-точь как Нина Костерина) уж не шовинистические ли струны вдруг загудели в сердце старого большевика, я спросил его, чему он так радуется. И даже, кажется, пробормотал что-то в том духе, что воевали ведь все, а не только русские. Зачем же, мол, противопоставлять один народ всем другим народам многонационального нашего отечества?
Иван Иванович вздохнул — но не горько, а как-то облегченно, — улыбнулся еще раз своей счастливой улыбкой и сказал:
— Эх, милый!.. Знал бы ты, как мы жили!.. Ведь я двадцать лет боялся сказать, что я русский!..
Насчет двадцати лет это он, положим, преувеличил. Задолго до того знаменитого тоста можно было уже не бояться. Но социальный опыт у Ивана Ивановича, видать, был не такой, как у меня. И не такой, как у Нины Костериной. И в 39-м, и уж тем более в 41-м он мог, конечно, сказать, что он русский. Вполне мог. Но — боялся. И даже когда давно можно было уже не бояться — все-таки робел. Робел, как Иван Бровкин у Алексея Николаевича Толстого, — не умом, а поротой задницей.
В отличие от меня и моей почти сверстницы Нины Иван Иванович хорошо помнил времена, когда слово «русский» было чуть ли не синонимом слова «белогвардеец». На политическом жаргоне его молодости слова «Я — русский» звучали примерно так же, как если бы он сказал: «Я — за единую и неделимую Россию». А произнести вслух такое в те времена мог разве что какой-нибудь деникинский офицер.
* * *
Про моего соседа Ивана Ивановича и про ту его реакцию на знаменитый сталинский тост я вспомнил, чтобы понятней было, как на самом деле огромна была та перемена в сознании моей сверстницы Нины Костериной, которой сама Нина, как это видно из ее дневниковой записи, особого значения не придала, даже смысла ее по-настоящему не осознала.
Произошла же с ней эта перемена потому, что в 1934 году появились так называемые «Критические заметки» Сталина, Кирова и Жданова к проекту школьного учебника истории СССР. И хотя опубликованы они были только в 1936-м, но уже 15 мая 1934 года на основе этих заметок было принято специальное постановление ЦК. А чуть позже по инициативе того же Сталина резкой критике была подвергнута пьеса Демьяна Бедного «Богатыри» — за издевательское отношение к великому историческому прошлому России.
Это и было началом того великого поворота, итогом которого стал тост Сталина за великий русский народ.
В первые послевоенные годы едва ли не каждый советский кинофильм был фильмом о Сталине. Сталина в них обычно играл грузин — Геловани. Но в какой-то момент его сменил замечательный русский актер — Алексей Денисович Дикий. Сменил, я думаю, потому что догадался играть Сталина без присущего тому грузинского акцента, чем, вопреки страхам кинематографического начальства, вызвал милостивое благорасположение отца народов.
Правда, спустя некоторое время Дикий все-таки впал в немилость. По слухам, Ворошилов где-то сказал, что Алексей Денисович артист, конечно, хороший, но с таким брюхом, которое он себе отрастил, играть вождя нельзя. Дикий тотчас был отлучен от этой — самой главной в стране — театральной и кинематографической роли, и единственным исполнителем Сталина во всех фильмах снова стал Геловани.
За всеми этими переменами я следил с гигантским интересом, различая за этими движущимися фигурками властную волю САМОГО. Может быть, прямо и не выраженную, но легко угадываемую.
Я, например, был уверен, что Дикий решил играть Сталина без грузинского акцента не по каким-нибудь там эстетическим соображениям, а потому, что ему было сказано, что ТАК НАДО. Во всяком случае, в отличие от киношного начальства, которое (об этом я узнал позже) это дерзкое решение встретило с испугом, я точно знал, что СТАЛИНУ ЭТО НРАВИТСЯ.
Я не сомневался в этом, потому что хорошо помнил, как в день победы над Японией Сталин сказал: «Мы, русские люди старшего поколения, сорок лет ждали этого дня». Тогда, услышав эту фразу, я был возмущен. Меня ведь учили, что позорное поражение России в Русско-японской войне обнажило всю гнилость царского самодержавия. И это было хорошо. Недаром же большевики занимали в той войне пораженческую позицию. Фраза Сталина, причислившего себя к русским людям старшего поколения, которые восприняли поражение России в той войне как личную травму и сорок лет мечтали о реванше, была в моих глазах предательством. Она означала, что Сталин больше не считает себя большевиком. (Так оно, в сущности, и было.) Но теперь в этой сталинской фразе мне слышалось совсем другое: мне показалось, что, назвав себя русским человеком старшего поколения, Сталин был искренен. Им двигал, думал я теперь, не только политический расчет, не только желание потрафить национальным (а также имперским) чувствам и настроениям народа. Это была, как мне показалось, подлинная, самая что ни на есть искренняя его самоидентификация. И это меня даже тронуло.
Много лет спустя, прочитав книгу Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу», я узнал, что не слишком тогда обманывался на этот счет. Светлана вспоминает о своем детстве:
► Грузинское не культивировалось у нас в доме, отец совершенно обрусел… Брат мой Василий как-то сказал мне в те дни: «А знаешь, наш отец раньше был грузином».
И в другой главе той же книги:
► Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно полюбил бы все русское.
Эту свою любовь к России и ко всему русскому он полагал взаимной. Где-то (кажется, у Авторханова) я прочел, что, когда Берия заменил всю его охрану специально вызванными для этой цели грузинами, он немедленно отменил этот приказ, озадачив Лаврентия таким раздраженным вопросом:
— Что же, по-твоему, русские меньше любят товарища Сталина, чем грузины?
Всего этого я тогда, понятное дело, не знал. Но я чувствовал, что Сталину нравится видеть и ощущать себя не грузином, а именно вот — русским человеком старшего поколения. И не без некоторых к тому оснований подозревал, что его грузинский акцент, от которого он до последнего своего дня так и не смог избавиться и который казался мне таким обаятельным, ему самому давно уже был в тягость. Поэтому-то ему и понравился (не мог не понравиться!) Дикий.
Помню, в каком-то фильме (кажется, это было «Падение Берлина») герой с ярко выраженной русопятской внешностью (его играл замечательный актер Борис Андреев), представляясь Сталину, настолько обалдел от счастья, что у него напрочь вылетело из головы имя и отчество вождя.
— Здравствуйте, — в растерянности пролепетал он, — Виссарион Иванович.
Сталин (в тот раз это опять был возвращенный из немилости Геловани) с доброй улыбкой протянул ему руку для рукопожатия и мягко поправил:
— Это отца моего звали Виссарион Иванович. А я — Ёсиф Виссарионович.
Обмолвка, спровоцировавшая эту реплику, не казалась нарочитой, искусственно подогнанной к имени и отчеству сталинского отца. Она была живой, достоверной, можно даже сказать — художественной. Из уст героя, которого играл Борис Андреев, она вырвалась естественно: этот человек, если уж случилось бы ему в растерянности запамятовать имя вождя, мог обмолвиться только так, и никак иначе. Какое еще отчество могло прийти ему на ум в этот критический момент? Только «Иванович» — и никакое другое…
У меня был дядя (строго говоря, не дядя, а муж моей тетки), которого звали Исаак Аронович. Он работал главбухом на каком-то заводе. Работал он там много лет, рабочие хорошо ею знали, относились к нему уважительно и звали его — даже за глаза — по имени-отчеству. Но запомнить настоящее его имя и отчество решительно не могли. Они звали его Иваном Моисеевичем. Отчество «Моисеевич» было для них как бы верхним, последним пределом «нерусскости». До «Ароновича» им было уже не дотянуться.
А вот еще одно, пожалуй, даже более красноречивое семейное предание. Двоюродного брата моей жены зовут Иван. Когда он родился, мать твердо решила назвать первенца Евгением. Очень ей нравилось это имя. Но отец ребенка — дядя моей жены, Иван Макарович, — перед тем как отправиться в сельсовет записывать родившегося сына, на радостях слегка принял. И имя, которым жена наказала ему наречь младенца, начисто вылетело у него из головы. Придя в контору, он долго мялся, пытаясь вспомнить красивое имя, которое настойчиво втемяшивала ему жена. Вспоминал, вспоминал, да так и не вспомнил. И в конце концов — сдался. Безнадежно махнул рукой и сказал: «Пиши Иван!» Так и не привелось этому моему свойственнику стать Евгением.
Все это говорит о том, что автор сценария, сочинивший так ярко запомнившуюся мне сцену (это был Петр Павленко) не просто высосал эту свою художественную находку из безымянного пальца. Он исходил из точного и довольно даже тонкого знания психологии простого русского человека.
Но была у этого хитроумного автора тут еще и некая важная сверхзадача.
Вся эта хитрая игра затевалась с одной-единственной целью: надо было, чтобы «русский Иван» узнал, что отца Сталина звали «Виссарион Иванович». То есть чтобы все узнали, что дед нашего вождя — этого человека с чужим, нерусским именем и не особо русским отчеством (про «неистового Виссариона» слыхала лишь малая часть населения державы), тоже был Иваном. Это был все тот же сигнал, знак, пароль: «Мы с вами одной крови…» Благодаря этой словно бы невзначай подброшенной зрителю информации, Сталин становился ему (зрителю) еще понятнее, еще ближе, еще роднее.
* * *
В то, что Сталин, причислив себя к «русским людям старшего поколения», был искренен, я склонен верить. Но не сомневаюсь при этом, что в основе всех этих его игр был и определенный политический расчет. Можно даже сказать — продуманная политическая концепция.
Разобравшись с народами, которые оказались лишними за нашим столом, Сталин создал строгую иерархию народов, этакую пирамиду, вершиной которой был великий русский народ, получивший официальный титул Старшего Брата, затем шли славянские народы — украинцы и белорусы, затем — грузины и армяне (хоть и не славяне, но — православные), ну и так далее, тоже в строгом порядке: сперва народы, составляющие основное население Союзных республик, потом — автономных, потом автономных областей — и так до самого последнего, нижнего этажа пирамиды, можно даже сказать, подвала, население которого составляли евреи. Не отправившись в ссылку вслед за чеченцами, ингушами, калмыками и крымскими татарами (вождь просто не успел довершить этот свой замысел, умер), они тоже оказались лишними за нашим праздничным многонациональным столом.
Строгая иерархия эта не всем была понятна, из-за чего подчас возникали разные комические недоразумения.
Вот одно из них.
Фейерверк всевозможных празднеств и юбилеев был как бы постоянным фоном нашей прежней, советской жизни. Особое место в этой череде знаменательных дней, недель и декад были праздники разных национальных культур. (Это была плата за сохранение рухнувшей в 1918 году империи, существование которой большевикам удалось продлить на целых семьдесят лет.)
Декада таджикской культуры сменялась декадой киргизской, киргизская — узбекской, та — якутской, карельской или еще какой-нибудь. И так — по кругу. А когда круг замыкался, все начиналось сызнова.
Ритуал таких праздников был более или менее одинаков. Одни и те же речи, тосты. Одни и те же слова благодарности советской власти и, разумеется, старшему брату — русскому народу, который вывел всех меньших братьев из тьмы к свету.
И вот однажды — дело было в Тбилиси, на очередном празднике грузинской культуры, — один из ораторов, представлявших какой-то из малых народов многонациональной нашей империи, безмятежно произнес фразу, которую он, видать, уже неоднократно произносил на разных таких же торжествах, всякий раз ловко приспосабливая ее к конкретным обстоятельствам места и времени.
— У вас, грузин, как и у нас, башкир, — сказал он, — до Великой Октябрьской социалистической революции не было своей письменности…
Не знаю, как удалось темпераментным грузинам примирить естественную реакцию на это чудовищное оскорбление с не менее древними, чем грузинская письменность, законами кавказского гостеприимства.
Что же касается тоста за великий русский народ, то он — с легкой руки Сталина — для партийных функционеров даже и не самого крупного ранга (особенно в нацреспубликах) стал вроде как общеобязательным. И однажды даже случилось так, что я сам оказался объектом, так сказать, точкой приложения этого тоста.
* * *
В 1985 году я подрядился переводить один грузинский роман. Работа эта не так дурна, как кажется, — говорит классик. Вспоминая о том, как он всю ночь «прорубал просеки в чужом переводе», он эту свою мысль поясняет так:
► Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два.
(И. Бабель. Гюи де Мопассан)Я, правда, в отличие от Бабеля (или его героя) переводил не Мопассана. Да и переводом мою работу в строгом смысле этого слова назвать было нельзя. Рукопись (так называемый подстрочник), которую я должен был превратить в роман, представляла собой ком сырого теста, из которого мне предстояло вылепить некое подобие человеческой фигуры. Помимо всего прочего, и теста-то было маловато: приходилось добавлять свое. Тут уж было не до фраз, и рычаг приходилось поворачивать не раз и не два, а вертеть его постоянно в самые разные стороны. Но книга, как и фраза, тоже рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. И в самой плохой книге всегда можно найти, за что зацепиться воображению.
Ну, а кроме того, за такую работу в то время неплохо платили.
Впрочем, главный мой гонорар исчислялся не деньгами. Он состоял в том, что я увидел Грузию. И уже одно это стоило обедни.
У автора книги, которую я должен был перепереть на язык родных осин, был друг — секретарь райкома. Он и открыл нам самое сердце этой благословенной страны.
Для начала он повез нас в горы — показать какой-то старинный грузинский храм. Он не был действующим, но в нем не было и следа той разрухи и гнилостного запустения, какими были отмечены превращенные в склады для картошки бездействующие русские церкви. Принимая во внимание его возраст (двенадцатый век), он поражал удивительной своей сохранностью.
Когда я выразил по этому поводу восторженное изумление, наш гид (секретарь райкома) подмигнул мне и сказал: «Так не большевики ведь строили», — чем навсегда завоевал мое сердце.
Но окончательно он покорил меня чуть позже — одним своим тостом.
Тост этот был произнесен во время большого застолья, которое нам устроили в тот же вечер. Дело происходило на дивной лесной полянке, как видно, давно уже приспособленной для мероприятий такого рода. Там уже был накрыт длинный стол, за которым разместилось все районное начальство. Рядом плескался ручей, в котором охлаждались бутылки с грузинским вином и чешским пивом. На столе было все, что только может вообразить фантазия художника — лобио, бастурма, шашлыки, золотая форель, красная и черная икра. Вино лилось рекой. И рекой лились тосты — один затейливее другого. Официальные, государственные перемежались личными и даже интимными. Никогда в жизни не чувствовал я себя так легко и радостно, как во время этого застолья: вероятно, вино было легкое, хорошее, и похмелье от него было приятное. Одна только мысль где-то на дне сознания терзала меня: что, если вдруг кто-нибудь из этих уже сильно принявших на грудь грузинских партийных начальников предложит выпить за Сталина? Я гнал от себя эту ужасную мысль, но время от времени она все-таки возникала и начинала меня мучить. И вдруг — о, ужас! На самом дальнем краю стола встал маленький человечек с бокалом в руке. Лицо его было залито слезами.
— Дорогие друзья! — сказал он. — Этот тост, который сейчас скажу, прошу выпить стоя.
«Вот оно!» — с ужасом подумал я.
— Кто это такой? — шепотом спросил я у соседа.
— Рапо, — таким же таинственным шепотом ответил он мне.
Что такое «Рапо», я не знал, но в этом слове мне почудилось что-то жуткое.
Человек, которого звали «Рапо», тем временем стоял, заливаясь слезами, и, еле ворочая языком, повторял:
— Как братьев прошу, выпить стоя.
Все встали.
И тогда «Рапо» торжественно провозгласил:
— Выпьем за наших матерей!
У меня сразу отлегло от сердца. И жуткий «Рапо» сразу показался мне очень милым человеком. И само это слово, как вскоре выяснилось, не таило в себе ничего ужасного: это была всего-навсего аббревиатура, означавшая, что маленький человечек заведовал у них в райкоме агропромышленным отделом.
Тосты меж тем становились все менее официальными. Даже я расхрабрился и предложил выпить за великого грузинского художника Нико Пиросманишвили. Это мое предложение растрогало соплеменников художника до глубины души. Мой сосед слева громко говорил, восхваляя Нико:
— Какой талант! И какая нэсчастная жизнь была у человека. Бэдний был. Совсем бэдний…
Я громко возразил ему:
— Да, он был бедный человек. Но он не был несчастным. Он был счастливый человек, — я сделал эффектную паузу, — потому что он не знал, что такое партийное руководство искусством!
Ликование, которым районная партийная элита встретила эту мою не совсем лояльную шутку, не поддается описанию. После этого я окончательно уверился, что все сидящие за этим длинным столом — люди бесконечно милые, а главное — свои в доску.
И вот тут-то и прозвучал тот тост, ради которого я начал этот свой несколько затянувшийся рассказ.
Не теряющий головы хозяин стола поднял свой бокал и торжественно начал:
— Дорогие друзья! Я хочу выпить за великий русский народ! Нет на свете другого такого народа. Великодушного, щедрого…
— А мы не русские, — вдруг, к величайшему моему ужасу, прервала его моя жена. — Я украинка, а он, — она кивнула в мою сторону, — еврей…
Хозяин стола улыбнулся.
— Дорогие друзья! — повторил он. — Как только что выяснилось, за нашим столом нет ни одного русского. С тем большим удовольствием я хочу выпить за великий русский народ. Нет на свете другого такого народа. Великодушного, щедрого…
Он говорил еще долго. Но я уже не слушал. Я просто смотрел на него и восхищался. Восхищался свободой и артистизмом, которые были у него в крови и до которых нам, посланцам того великого народа, о котором он говорил, было еще расти и расти.
* * *
Так обстояло дело с младшими братьями. Что же касается Старшего Брата, то он к своему величию, равно как и к другим замечательным качествам, отмеченным вождем в том его историческом тосте, относился с неизменной иронией. (Уж чем-чем, а иронией, направленной на самого себя, русский человек обделен никогда не был.)
— У русского народа, — сказал тогда вождь, — есть два замечательных качества: ясный ум и терпение.
И добавил, что другой народ давно бы уже прогнал такое правительство.
Так вот, насчет этого самого ясного ума и терпения.
Один мой приятель, человек нервный, вспыльчивый, можно даже сказать — взрывной, постоянно собачился со своими соседями по коммунальной квартире. А жена его, напротив, была женщина спокойная, сдержанная. Все обиды и несправедливости сносила молча, никак на них — во всяком случае внешне — не реагировала. Темпераментного ее супруга такое ее поведение бесконечно раздражало. Он ярился, требовал от жены, чтобы она давала достойный отпор склочничавшим соседям. А поостыв, безнадежно махал рукой и с добродушной иронией произносил: «Великий русский народ». Постепенно эта неизменно повторявшаяся реплика так приросла к этой женщине, что превратилась в постоянное ее прозвище. И не только муж, но и все ее друзья и знакомые стали называть ее — и в глаза, и за глаза — не иначе как вот этими привычным словосочетанием:
— Нина вчера сказала мне…
— Какая Нина?
— Ну, какая, какая… Наша Нина… Великий Русский Народ…
Были и анекдоты, отразившие ироническое отношение русского человека к присущему ему ясному уму и терпению.
Вот, например, такой.
► В одной деревне (дело происходит в старые, дореволюционные времена) кончилось у мужиков терпение. И решили они пойти погромить барина. Взяли колья, вилы, топоры — и двинулись к барской усадьбе.
Увидал их барин, вышел на крыльцо — как водится, в шлафроке, с чубуком. И лениво эдак, благодушно спрашивает:
— Вам чего, мужички?
Ну, мужики помялись, потоптались на месте, развернулись и пошли назад. Прошли молча шагов триста, а может, и все пятьсот, и только тогда один из них (вожак, наверно) наконец отреагировал.
— Чаво, чаво, — злобно передразнил он барина. И в сердцах выдал ему: — Ничаво!!!
Вечно живой
Поначалу это была просто поэтическая метафора, доставшаяся нам от Маяковского («Ленин и теперь живее всех живых…», «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!»).
Но по мере того как культ Ленина окостеневал, обретая статус государственного и даже религиозного, формула эта постепенно обрастала чертами чуть ли не мистического (но в то же время и комического) свойства.
При обмене партийных документов партбилет № 1 неизменно выписывался на имя В.И. Ульянова (Ленина), как если бы Ильич был жив и по-прежнему руководил партией и страной.
На каком-то приеме в Кремле Сталин однажды провозгласил тост:
— За здоровье Ленина.
Весельчаки утверждали, что такое вождь мог произнести только с большого бодуна. Более нахальные предполагали, что в основе этой несуразицы лежало недостаточно свободное владение русской разговорной речью.
Не исключено, однако, что этим не совсем обычным тостом самый верный ученик Ленина хотел лишний раз подчеркнуть, что его Великий Учитель — жив. И, надо признать, нашел довольно яркую форму для того, чтобы как можно доходчивее донести до аудитории эту свою мысль.
В резонности такого предположения меня утвердил рассказ моего соседа Александра Григорьевича Зархи, присутствовавшего на том кремлевском приеме.
— Все уже немного подвыпили, расковались, расслабились, — рассказывал он. — Михоэлс — он любил выпить — засунул два пальца в рот, чтобы оглушительно свистнуть: он всегда, подвыпив, свистел в два пальца… И тут… — На лице рассказчика была в этот момент какая-то странная смесь ужаса и восторга. — И тут ОН встал…
Сталин поднялся с бокалом в руке, и все замерли в тех позах, в каких застигло их внезапное желание вождя произнести тост.
Тут Александр Григорьевич употребил профессиональное выражение: «Стоп-кадр». И при этом с необычайным артистизмом (режиссер все-таки) показал, в какой именно позе застыл каждый участник этой пантомимы: кто с поднятой ногой, кто с вилкой, поднесенной ко рту, а Михоэлс с засунутыми в рот для свиста двумя пальцами и застывшими, остекленелыми глазами.
Предложив выпить за здоровье Ленина, Сталин этой репликой не ограничился. В мертвой тишине он произнес довольно длинный тост, смысл которого состоял как раз в том, что Ленин и теперь живее всех живых, а «мы все» (это он повторил несколько раз, как бы постоянным рефреном) «только тень от Ленина… Тень от Ленина…».
Будучи тоже только «тенью от Ленина», сам Сталин тоже получил (в отличие от Учителя — при жизни) статус вечно живого.
Был, например, такой случай.
Молодая ленинградская поэтесса сочинила (и опубликовала) стихотворение, в котором выражала уверенность, что товарищ Сталин безусловно доживет до того момента, когда на всей нашей планете образуется Всемирный Союз Советских Социалистических (или даже уже Коммунистических) Республик.
Беднягу вызвали в райком комсомола и спросили, как она себе это представляет. Что значит — «доживет»? А потом? После того, как коммунизм победит во всем мире? Не предполагает ли она, что потом (не сразу, конечно, но рано или поздно) товарищ Сталин все-таки умрет?
Поэтесса осторожно, взвешивая каждое слово, ответила, что идеи, выразителем которых является товарищ Сталин, конечно, бессмертны, и дело его жизни, конечно, тоже бессмертно. Но лично товарищ Сталин, как человек… мы ведь с вами материалисты, не так ли?.. Так вот, лично товарищ Сталин рано или поздно, увы, вынужден будет прекратить свое земное существование.
Был грандиозный скандал, в ходе которого поэтесса покаялась, признала свою грубую политическую ошибку и, если не ошибаюсь, отделалась всего лишь строгим выговором с занесением в личное дело.
Римский император, как известно, после смерти причислялся к сонму богов.
Сталин стал богом при жизни:
Мы все ходили под богом, У бога под самым боком. Он жил не в небесной дали, Его иногда видали Живого. На Мавзолее. Он был умнее и злее Того — иного, другого, По имени Иегова, Которого он низринул, Извел, пережег на уголь, А после из бездны вынул И дал ему стол и угол. Мы все ходили под богом, У бога под самым боком. Однажды я шел Арбатом, Бог ехал в пяти машинах. От страха почти горбата, В своих пальтишках мышиных Рядом дрожала охрана. Было поздно и рано. Серело. Брезжило утро. Он глянул жестоко, мудро Своим всевидящим оком, Всепроницающим взглядом. Мы все ходили под богом. С богом почти что рядом.Строго говоря, «того — иного, другого, по имени Иегова» низринул и «пережег на уголь» не он, а его Учитель. А вот «из бездны вынул и дал ему стол и угол» действительно он, Сталин. Но даже слегка потеснившись, дав Ему этот самый «стол и угол», он не переставал тешиться по отношению к этому низринутому Богу сознанием несомненного своего перед Ним превосходства.
* * *
На всех съездах и конференциях борцов за мир, среди артистов, писателей, ученых и прочих представителей борющейся с поджигателями войны советской духовной элиты непременно мелькали два-три митрополита в рясах и высоких клобуках. Высшие иерархи Русской православной церкви еще во время войны были извлечены на свет и причислены Сталиным к сонму «советской общественности». В «борьбе за мир» они снова пригодились. Вид какого-нибудь такого митрополита, сидящего в президиуме очередного съезда, придавал мероприятию не только необходимую в таких случаях декоративность, но и служил как бы подтверждением широты и беспартийности развернувшегося всенародного движения.
И вот на одном таком съезде сидящий в президиуме митрополит передал председательствующему — Николаю Тихонову — записку, в которой уведомлял, что он, такой-то, учился некогда с товарищем Сталиным в духовной семинарии. И выражал робкую надежду, что, быть может, вождю будет интересно с ним встретиться.
Тихонов сильно в этом сомневался, но на всякий случай доложил. И Сталин отреагировал благосклонно. Встреча была назначена. И тут для митрополита настала пора мучительных колебаний: в каком виде предстать пред светлые очи вождя? В обыкновенном цивильном платье? Но это значило бы — унизить свой сан. В рясе и клобуке? В Кремль, к главному идеологу- атеистического государства, корифею и признанному основоположнику безбожного коммунистического учения? Тоже вроде как не совсем удобно: это может быть истолковано как некий вызов, демонстрация нелояльности.
Промаявшись в этих сомнениях долгую бессонную ночь, митрополит решил все-таки идти на встречу с бывшим соучеником в штатском.
И вот, трепеща, он входит в кремлевский кабинет вождя. Тот поднимается ему навстречу.
Оглядев гостя, Сталин понимающе усмехнулся и, ткнув указательным пальцем в потолок, удовлетворенно произнес
— Его не боишься? Меня боишься!
* * *
Все полагающиеся ему божественные почести Сталин взял себе при жизни, на посмертное его бытие уже не хватило.
Ленин же — точь-в-точь как императоры древнего Рима — стал богом после того, как земная его жизнь завершилась.
В присвоении ему звания (лучше сказать — статуса) вечно живого, как уже было сказано, присутствовал и некоторый комический оттенок. Но была тут — и это я тоже уже отметил — и своя мистика. Или, скажем так, чертовщина.
Какая-то — не самая продвинутая, конечно, — часть советского народа восприняла эту формулировку всерьез.
Я сам, собственными своими глазами, читал письмо какой-то полуграмотной бабки, жалующейся, что уже много лет живет она в невыносимых жилищных условиях, давно подала «на улучшение», всех соседей давно уже переселили, хибары, такие же, как у нее, снесли, а ее из ее развалюхи все не переселяют.
Письмо начиналось так:
► Дорогой дедушка Ленин!
Ты умер, а мы живем по твоим заветам и мучаемся…
Мистическое (обращение к покойнику, как к живому) и комическое («живем по твоим заветам и мучаемся») здесь соединилось так прочно, что не разорвешь.
Но народ наш (это отмечал еще Виссарион Григорьевич Белинский) в принципе чужд мистики. И комическое начало в отношении народа к «вечно живому» вождю преобладало.
Свидетельство тому, как всегда, — анекдоты.
В одном официальная формула «Ленин умер, но дело его живет», была перефразирована таким образом:
► Ленин умер, а ТЕЛО его живет.
В другом — она же — травестировалась ответной репликой:
► — Уж лучше бы он жил, а дело его умерло.
Был еще такой анекдот на эту тему:
► Рабинович пытается прорваться с какими-то своими жалобами в здание ЦК.
— Вы к кому? — спрашивают его.
Он отвечает:
— К Ленину.
— Вы с ума сошли, ведь он же умер!
— A-а, как для вас, так вечно живой, а как для меня — так умер!
Ну и, наконец, такой, уже без тени мистики:
► — Ты где был вчера вечером?
— В театре.
— Что смотрел?
— «Живой труп».
— Опять про Ленина? Неужели не надоело!
Г
Генеральная линия
В разные времена она называлась по-разному. Но менялись только определения, эпитеты. Линия неизменно оставалась линией, и всегда — во все времена — линией партии. А уж именовалась ли она генеральной, или руководящей, или политической, или пролетарской, ленинской или сталинской — все это особого значения не имело.
Значение имело то, какой смысл вкладывался в это понятие. А смысл вкладывался всегда один и тот же:
► ПРОВОДИТЬ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ.
Строго следовать установкам высших партийных инстанций.
(КПСС в резолюциях, т. 3. С. 20)При том что смысл этот всегда оставался неизменным, партийные работники разных уровней в разные времена высказывались на эту тему по-разному. На заре советской государственно-партийной диктатуры принято было говорить, что главное — руководствоваться в своей работе партийными, пролетарскими принципами. Позже о принципах предпочитали уже не вспоминать и со всей большевистской прямотой стали ссылаться на установки высших партийных инстанций.
Что же касается высказываний партийных работников разных уровней, то из всех, с которыми приходилось сталкиваться, мне особенно запомнилось одно.
Услышал я его от Владимира Николаевича Войновича. И совсем было уже собрался пересказать сейчас тот его устный рассказ. Но на всякий случай решил спросить разрешения у автора, а заодно попросил освежить в моей памяти некоторые конкретные детали.
Просьбу мою Владимир Николаевич выполнил и разрешение сослаться на его устный рассказ охотно дал, но тут же припомнил, что эта рассказанная им мне когда-то история была им записана и даже опубликована. И хотя устный его рассказ произвел на меня когда-то более сильное впечатление (первое впечатление всегда бывает более сильным), я решил привести здесь этот его рассказ не в моем, а в его собственном, авторском изложении:
► Когда я учился в десятом классе вечерней школы в Крыму, мне было двадцать три года, то есть для школьника уже многовато. Но среди моих одноклассников некоторые были и постарше. Самому старшему было сорок шесть лет, мне он, естественно, казался стариком… В школу он всегда приходил в строгом сером костюме, длинный пиджак, широкие брюки и туго затянутый галстук. Сидел на задней парте. Когда вызывали к доске, выходил и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, по выражению одной нашей учительницы, как партизан на допросе…
У доски на Еременко было жалко смотреть. Ему задают прямой вопрос — молчит. Задают вопрос наводящий — молчит. Краснеет, потеет и ни слова…
Преподаватели просто не знали, что с ним делать. Учительница химии была агрессивнее других и говорила, что его не выпустит. Другие были более либеральны… Они говорили: «Садитесь, Еременко». И, смущаясь, ставили двойку. Или вообще ничего не ставили: «Ну, хорошо, я вам сегодня оценку ставить не буду, но уж к следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь».
Ученики, конечно, везде бывают разные. Бывают блестящие, хорошие, средние и плохие. Но ученики такой тупости до десятого класса, как правило, не доходят… И Еременко, будь он простой ученик, до десятого класса никак бы не добрался, но в том-то и дело, что он был не простой ученик, а номенклатурный: заведовал отделом в райкоме КПСС, и для продвижения по службе ему нужно было по крайней мере среднее образование…
Обычно представители номенклатуры держатся подальше от простых смертных, но мы с Еременко сошлись, потому что я ему помогал по химии и математике. Потратив сколько-то бесполезных часов, мы иногда даже выпивали вместе, и тогда он был со мной вполне откровенен. Он с возмущением отзывался о нашей химичке: «А что это она позволяет себе так со мной говорить? Она, наверно, не представляет себе, кто я такой. Да я в нашем районе могу любого директора школы вызвать к себе в кабинет, поставить по стойке „смирно“, и он будет стоять хоть два часа…»
В конце концов Еременко школу закончил и получил аттестат… Теперь перед ним открылся путь для дальнейшего, уже специального партийного, образования и продвижения по служебной лестнице… Несколько лет спустя я узнал, что Еременко повышен в должности и переведен в обком КПСС, где руководит промышленностью. Всякой промышленностью, в том числе, разумеется, и химической.
(Владимир Войнович. Антисоветский Советский Союз)Войнович — человек деликатный. Может быть, даже чересчур деликатный. Поэтому он никак не решался задать этому своему номенклатурному соученику постоянно возникавший у него вопрос: каково ему, с такими мозгами и таким образовательным цензом, работать на такой ответственной должности? Но однажды все-таки решился, спросил.
То есть про мозги он ему, конечно, ничего не сказал, хотя подразумевал именно это. Просто спросил: не трудно ли, мол, приходится ему на службе?
► Ответ его, — рассказывает Войнович, — я запомнил на всю жизнь. «Да нет, не трудно. В нашей работе главное — не искривить линию партии. А как ее искривишь?»
Искривить ее он и в самом деле никак не мог.
Не потому, конечно, что линия эта отличалась такой уж особенной несгибаемой прямотой. Просто от него тут ничего не зависело, поскольку «искривлять» эту линию было прерогативой партработников совсем другого ранга, находящихся на недосягаемых для него ступеньках иерархической партийной лестницы.
Впрочем, иногда в попытке искривить линию партии обвиняли и рядовых партийцев.
Вот, например, такой случай.
► Моего друга, знаменитого филолога, исключили из партии в начале семидесятых годов, в частности, за то, что когда-то, в тридцатые-сороковые годы, он проявлял свое несогласие с академиком Марром. Как известно, Н.Я. Марр в течение нескольких десятилетий считался единственным носителем марксистского языкознания, и противники Марра приравнивались к противникам диалектического материализма. В 1949 году Сталин вдруг развенчал Марра, и марксистами стали считаться именно и только противники его идей. В начале же семидесятых нашего лингвиста исключают из партии, выдвигая среди прочих обвинение в том, что в сороковых годах он выступал против Марра!
— Как, — изумленно спрашивает лингвист, — но ведь я оказался прав? Ведь позднее партия встала на мою точку зрения?
Тогда ему заявили (на заседании в парткоме):
— Вы что же, умнее партии? Вы были правы, когда партия ошибалась? Вы хвалитесь тем, что не ошибались вместе с ней? Что она пришла к вам и согласилась — после того, как вы боролись с ней? Да, вы с партией боролись, вы ей противопоставили себя. Вам в партии не место.
И лингвиста исключили. Он пробовал спорить, но ничего ему не помогло. Партия всегда права.
(Ефим Эткинд. Записки незаговорщика)Если бы мы попытались представить всю историю разнообразных партийных решений в виде некой геометрической фигуры, линия у нас получилась бы не то что не прямая, а самая что ни на есть ломаная.
На всякий случай напоминаю, что в определении этом нет ничего обидного — это просто такой математический термин: в геометрии так называется линия, состоящая из отрезков прямой, соединяющихся под углом.
Применительно к партийной линии, однако, в таком определении заключался, безусловно, обидный смысл. Поэтому вслух об этом говорить не полагалось. Тем более что углы изломов бывали порой весьма крутые, а отрезки, где линия ломалась, — предельно короткие. Пяти лет не прошло с тех пор, как генеральная линия определялась репликой Сталина: «Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте» (по слухам, вождь даже выразился так: «Нашего Бухарчика мы вам не отдадим!»), и вот уже «Бухарчика» и его единомышленников клянут последними словами, обвиняя в антипартийном «правом уклоне».
Все это, конечно, сразу же находило отражение в устном народном творчестве.
Остряки говорили, что генеральную линию партии можно изобразить в виде пятиконечной звезды: то правый уклон, то левый, то — «великий перелом», а то — «великий перегиб».
Были и анекдоты. Например, такой:
► Вопрос анкеты:
— Были ли у вас колебания в проведении линии партии?
Ответ:
— Колебался вместе с линией.
Или вот — такая загадка:
► — Может ли змея сломать себе хребет?
Ответ:
— Да, если она будет ползти, следуя генеральной линии нашей партии.
Готовы выполнить любое задание партии и правительства
Это была не уставная, но распространенная (еще со времен спасения челюскинцев) формула, заключающая воинский рапорт о выполнении какого-либо боевого или просто трудного, опасного задания. В официальный новояз вошла во время первых космических полетов: вернувшиеся на Землю космонавты рапортовали:
► — Готовы выполнить любое задание Советского правительства и Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
В середине 60-х возник и стал популярен такой иронический перифраз этого рапорта:
► — Готовы выполнить любое задание любого правительства и любого Центрального Комитета!
Эта глумливая, ерническая формула родилась в ответ на «нештатную» ситуацию, в которую попали космонавты, вернувшиеся из полета в середине ноября 1964 года.
За несколько дней до приземления с ними говорил по радиотелефону и поздравлял с удачным полетом тогдашний Председатель Совета министров и Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. (Хорошо помню опубликованную тогда в печати его реплику: «Здесь рядом со мной товарищ Микоян, он рвет у меня трубку!»)
А когда космонавты вернулись на Землю, им пришлось рапортовать уже другому Предсовмина и другому Первому секретарю: Хрущева к этому времени успели отправить в отставку.
Гражданское мужество
Проявление гражданского мужества — в советском понимании этого слитного словосочетания — состояло в том, чтобы разоблачить, ошельмовать, осудить себя, какое-нибудь свое неаккуратное высказывание или неосторожный поступок.
Наглядным выражением этой парадоксальной ситуации может служить одно — особенно ярко запечатлевшееся в моей памяти — зрительное впечатление.
В середине 60-х Евтушенко опубликовал на Западе свою «Автобиографию», и это стало поводом для очередного политического скандала. Насколько я помню, никакой крамолы в этой «Автобиографии» не было. С упоением автор рассказывал там о многочисленных своих победах — в жизни и в искусстве. Но главным образом почему-то — в физкультуре и спорте.
Был там, например, замечательный рассказ о том, как в юности, играя в футбол, он, стоя вратарем, забил гол прямо из своих ворот в ворота противника, послав мяч через все поле.
Запомнилась еще такая душераздирающая история.
Гостя у Федерико Феллини и Жюльетты Мазины, отправился он на рассвете купаться. Заплыл — по обыкновению — далеко в море. А когда стал возвращаться, вдруг началась у него судорога — свело ногу. И он стал тонуть. Никакого страха, однако, он при этом не испытывал. Было только чувство некоторой неловкости от того, что, утонув, он причинит тем самым некоторые неприятности своим друзьям — Федерико и Жюльетте. Именно эта мысль побудила его отчаянно бороться за свою жизнь. И он вспомнил, что в плавках, в специальном карманчике, у него, как у всякого опытного пловца, была припрятана иголка — специально на такой вот случай. Достав иголку, он воткнул ее себе в ногу, судорога прошла, и он благополучно выплыл на берег. Федерико и Жюльетта так и не узнали, какой опасности подвергалась их репутация гостеприимных хозяев.
Именно из таких вот историй, напоминающих не столько даже россказни Хлестакова, сколько рассказы барона Мюнхгаузена, и состояла эта «Автобиография».
Скандал тем не менее разразился большой. Крамола — с точки зрения начальства — состояла не в содержании неразрешенного произведения, а в самом факте его опубликования. И поэту пришлось каяться, признавать ошибки, разоружаться, как тогда говорили, перед партией.
«Разоружение» происходило в большом зале Центрального дома литераторов. Зал был полон. Были среди зрителей и сочувствующие поэту, были и злорадствующие. А поэт, стоя на трибуне, держал речь.
Наблюдая это зрелище, я подумал, что, если бы снять все это на кинопленку и показать потом на экране немой фильм, зрителям этого фильма представилась бы картина, не имеющая ничего общего с тем, что происходило в натуре. Они увидели бы на трибуне — агитатора, горлана, главаря. С вдохновенным лицом, потрясая сжатым кулаком, он выкрикивал что-то гневное и патетическое. Это был пламенный трибун, готовый идти за свои убеждения на костер, как какой-нибудь Джордано Бруно.
Но если бы под эту неозвученную пленку подложили фонограмму и немой фильм стал звуковым, изумленные зрители услышали бы:
— Мое позорное легкомыслие!
Д
Дефицит
Вообще-то слово это имеет два значения. Первое — превышение расходов над доходами, то есть убыток. И второе — недостача, нехватка чего-либо.
Но в советском новоязе оно обрело еще одно, третье значение, если и не вытеснившее окончательно первые два, то — это уж точно! — сильно их потеснившее. Во всяком случае, в повседневной речи оно употреблялось именно в этом, советском значении.
Дефицит («дюфсит», как произносил это слово любимый народом персонаж Аркадия Райкина) это значило — дефицитный, трудно доставаемый товар. Чаще даже — товар, добытый не совсем обычным, обходным, сложным, а иногда и не вполне законным путем (по блату, из-под прилавка, «я — тебе, ты — мне»).
Этот самый «дюфсит» в советские времена был не каким-нибудь там эпизодическим явлением, а, как выразился однажды — совсем, правда, по другому поводу — наш вождь, отец и учитель, постоянно действующим фактором.
Постоянным-то постоянным, но в то же время не стоящим на месте, развивающимся. То есть по мере дальнейшего — поступательного, как тогда говорили, — движения советского общества к сияющим вершинам, товаров становилось все меньше, а «дюфсита» все больше. И эту тенденцию отразил язык.
В 30-е годы родилось у нас слово «авоська». Это была такая плетеная нитяная сумочка, которую можно было сунуть в карман — на авось, то есть на всякий случай: вдруг что-нибудь выбросят, или будут давать, или что-нибудь удастся достать.
Все эти словечки привычного нашего советского лексикона вовсе не были метафорами. Ведь все необходимое для жизни советские люди не покупали, а именно доставали. И весь этот самый дефицит (а дефицитом у нас было всё) не продавали, а именно давали. И не постоянно, не всегда, а от случая к случаю, выбрасывали. И оказаться в нужный час в нужном месте, когда такой вот «дюфсит» вдруг выбросили, всякий раз бывало большим везением, редкой удачей.
Забыть не могу восторженного сияния в глазах моей тещи, вернувшейся после какого-то очередного похода за продуктами и радостно возгласившей — прямо с порога:
— Масло выбросили!
Прочно вошедшие в наш быт словечки, отражавшие эту уродливую ситуацию, не раз становились поводом для всевозможных острот, каламбуров, анекдотов. Рассказывали, например, что сами слышали, как продавщица в магазине кричала кассирше:
— Кончай выбивать языки! Выбивай яйца!
Так что юмор и тут нас не покинул.
Вернемся, однако, к слову «авоська», родившемуся на свет, как уже было сказано, в 30-е годы.
Я еще помню времена, когда это слово несло в себе некий аромат новизны. Над ним еще смеялись, как над проявлением неиссякаемого народного юмора. Но со временем этот оттенок стерся: слово стало просто названием предмета, и этимологическая связь его со старым русским народным шиболетом, как определил словечко «авось» Пушкин, стала незаметной.
Однако, по мере того как надежды на то, что и что-нибудь будут давать, или выбросят, или удастся достать, становились все более призрачными, неиссякаемый творческий дух народа-языкотворца вновь обратился на ту же плетеную нитяную сумочку, которую в соответствии с изменившейся ситуацией теперь стали называть уже не авоськой, а напраской или нихераськой. (Был и вариант для дам — нифигаська.)
Эти последние наименования, однако, в повседневный наш быт так и не вошли. Но отмеченную нами тенденцию неуклонного исчезновения товаров и окончательного торжества «дюфсита» язык отразил постепенным забвением отдельных — некогда весьма употребительных слов. В основном это были названия отдельных сортов сыра, колбасы, селедки: «залом», «керченская», «краковская», «швейцарский», «чеддер», «рижское», «московское», «жигулевское». Все эти слова постепенно стали архаизмами. Нам теперь было не до сортов и отдельных наименований. И никому уже не пришло бы в голову спросить продавщицу в магазине: «А чеддер у вас есть?» Спрашивали просто: «Сыр есть?» И никто уже не интересовался, какое пиво нынче в продаже — «московское» или «рижское». Нам довольно было уже того, что есть пиво, просто пиво. (Тем более что в пивных ларьках, как правило, красовалась одна и та же, чуть ли не золотом на мраморе высеченная, постоянная вывеска: «ПИВА НЕТ».)
Эта тенденция нашла свое отражение и в анекдотах.
Вот один из них.
► В рыбный магазин входит пожилой человек. Спрашивает у продавщицы:
— Скажите, осетрина у вас есть?
Продавщица, естественно, отвечает, что нет.
— А белуга?
Нет, и белуги тоже, конечно, нет.
— А сёмга?
Услыхав, что нету в этом магазине не только осетрины, белуги или сёмги, но даже и кеты и горбуши, обескураженный покупатель, покачав головой, удаляется. А молоденькая продавщица, показывая на него глазами напарнице, крутит пальцем у виска: видала, мол, психа? На что та отвечает:
— Да, но память-то какая!
Этот анекдот довольно выразительно отразил тот несомненный факт, что такое уродливое положение вещей уже мало кому представлялось ненормальным. Оно стало нормой.
Это, впрочем, можно было узнать не только из анекдотов.
Однажды жена попросила меня купить луку. Она готовила обед, и ей необходима была луковица.
Я заглянул в ближайший овощной магазин — луку там не было. Я заглянул во второй, в третий. Там надо мной сжалились и объяснили:
— Да вы что? С луны свалились? Нету луку. Во всей Москве нету. Уже месяц как нету. Даже и не ищите.
К тому, что «в отдельных магазинах нет отдельной колбасы», что исчез сыр, что в ближайшей молочной вместо молока и кефира продают мясорубки и детские куклы, — ко всему этому я в то время уже как-то притерпелся. Но лук!
— Черт знает что! — не выдержал я. — Докатились!
— Вот люди! — возмутилась продавщица. — Подумаешь, какое дело: луку нет!.. Войну забыли!
Совсем молоденькая девушка. Ну, прямо девчонка. Во время войны не то что ее самой, даже и матери ее еще на свете не было. А вот поди ж ты: знает, что, соразмеряя свои потребности, мы и сегодня, сорок лет спустя, обязаны оглядываться на те далекие военные годы.
Это сознание тоже закрепил язык. Когда старики говорят: «в мирное время», они вовсе не имеют при этом в виду предвоенные 30-е годы. «Мирным» называют они время до Первой мировой войны, до 1914-го. А сорок (теперь уже шестьдесят) лет, прошедшие после Великой Отечественной, в сознании народа так и не стали мирными. Как, впрочем, и все восемьдесят, прошедшие с того выстрела в Сараеве, с которого начался «не календарный, настоящий XX век».
Но, пожалуй, удивительнее всего была изобретательность, с какой советский человек приспосабливался к самым причудливым жизненным коллизиям, порожденным этим самым «дюфситом».
Вот какую историю — как раз на эту тему — рассказал мне однажды мой приятель и сосед Шера Шаров. (Вообще-то его звали Александр, но все друзья привыкли звать его этим, домашним его именем — Шера.)
Дело было в начале шестидесятых.
Я в то время, как и все мои друзья и знакомые, давно уже брился электрической бритвой и совсем не знал, что мои соотечественники, сохранившие верность старому способу бритья, попали в то время в весьма трудное, отчасти даже безвыходное положение.
Из магазинов исчезли лезвия для безопасной бритвы.
То ли производители этих лезвий и те, кто решал вопрос об их импорте, исходили из того, что эпоха этого старинного способа бритья уже прошла. То ли были у них какие-то иные соображения. А может быть, сталь, которая раньше шла на изготовление этих лезвий, понадобилась для каких-то других, более важных государственных нужд. Так или иначе, лезвий в продаже не было. И Шера, который в отличие от меня на электрический способ бритья не перешел, очень от этого страдал. Он брился одним лезвием десять-пятнадцать раз. Потом точил его (кто-то его научил) о внутренность стеклянного стакана. Однажды даже приобрел у спекулянта — за немалые деньги — какую-то специальную машинку для точки использованных и затупившихся лезвий. Но все эти хитрости лишь увеличивали его страдания. А переходить на электрический способ он не хотел, вернее, не мог. У него это не получалось. У него была очень нежная кожа, и от бритья электрической бритвой на лице у него появлялось раздражение.
Положение было безвыходное.
И вот однажды он отправился в путешествие по Волге. И пароход, на котором он совершал эту свою речную прогулку, остановился у какой-то пристани. Это был какой-то маленький городок, названия которого Шера даже не запомнил. Пассажиры вышли на берег — погулять. Вышел и Шера.
Потолкавшись некоторое время около пристани, он двинулся дальше, по направлению к центру городка. И вдруг увидал магазинчик. Такой, знаете, маленький магазинчик, в котором продавались самые разные товары народного потребления. Что-то вроде сельпо. Из любопытства решил заглянуть: как-никак писатель все-таки. Интересно было ему узнать, какие предметы имеются в этой местной лавчонке. И вдруг… О, радость! О, восторг! На прилавке лежали лезвия для бритья. И не какие-нибудь там жалкие отечественные, а заграничные «Матадор». Одним таким лезвием опытный Шера мог бриться целый месяц!
Дрожащими от нетерпения руками Шера достал бумажник и судорожно стал пересчитывать свои ресурсы, соображая, сколько денег оставить на окончание поездки, чтобы на все остальные закупить вожделенные лезвия.
Но — не тут-то было…
Оказалось, что лезвия принадлежат к числу тех дефицитных товаров, которые в этой лавчонке простым смертным не продаются. Они отпускаются только колхозникам. В обмен на сельскохозяйственную продукцию. На что, например? Например, на яйца…
Я — да, наверно, и не только я — тут бы сник, погоревал немного, поцокал сокрушенно языком (счастье было так близко, так возможно!) и отправился на свой пароход несолоно хлебавши. Или стал бы канючить у продавщицы, чтобы она в порядке исключения продала лезвия за деньги. Может быть, стал бы даже предлагать ей двойную или тройную цену.
Но Шера недаром прожил при советской власти на двадцать лет больше, чем я. У него был другой — не то что у меня — социальный и исторический опыт. Не тратя времени на пустые уговоры, он пулей выскочил из магазина Быстро разузнал у прохожих, где тут у них базар. Добежал до базара, купил там, не торгуясь, несколько десятков яиц, вернулся в магазин и на законном основании обменял эти яйца на лезвия. И успел добежать до своего парохода буквально за минуту до того, как начали поднимать сходни.
Представляю себе, как он был счастлив. Ведь даже несколько месяцев спустя, когда он рассказывал мне эту историю, лицо его прямо-таки светилось блаженным сознанием нежданно свалившейся на него удачи.
— Вот видите, — назидательно сказал я, когда он закончил свой рассказ. — Некоторые глупые наши соотечественники завидуют американцам. А ведь американцу не то что испытать, даже и умом постичь не дано такую радость.
— Да уж, — самодовольно согласился Шера. — Где ему!
Догнать и перегнать
В ответ на этот государственно-партийный лозунг народ родил байку про мужика, у которого было три сына: Игнат, Догнат и Перегнат. Но это был еще более или менее добродушный юмор.
Уже чуть более злой, но тоже еще сравнительно добродушной была шутка 30-х годов:
► — Догнать — пожалуй что и догоним. А вот перегонять — не надо бы: все сразу нашу голую задницу увидят.
Тогда, в 30-е, этот лозунг предполагал, что наша страна должна в кратчайший исторический срок догнать и перегнать передовые капиталистические страны по производству чугуна и стали на душу населения.
Настоящая реакция на этот призыв воспоследовала чуть позже — в известной песне Юза Алешковского:
Живите же тыщу лет, товарищ Сталин! И пусть в тайге придется сдохнуть мне, Я знаю, будет чугуна и стали На душу населения вполне.А еще позже — в 60-е — перед страной была поставлена новая задача: догнать и перегнать Америку по производству молока и мяса.
О том, как она была выполнена, можно судить по такой популярной в те годы частушке:
Мы Америку догнали По надою молока. А по мясу мы отстали: Хер сломался у быка.В это же время Ольга Берггольц, кинув взгляд на входящего в зал — еле умещаясь в дверях — тучного, жирного Софронова, сказала:
— Этот Америку уже обогнал не только по мясу, но и по яйцам.
А на задних бортах разъезжающих по городу грузовиков, где белой масляной краской было выведено: «Не уверен — не обгоняй», политически развитые остряки мелом дописывали: «Америку».
Дружбы народов надежный оплот
В конце 40-х или начале 50-х в Московском зоопарке в одной клетке жили огромный лев по имени Чандр и маленькая собачка, которую звали Тобик. Экскурсоводы красноречиво рассказывали глазеющим на это диво зевакам, как трогательно относится царь зверей к крошечной собачонке и какой преданной и нежной любовью отвечает Тобик на дружеские чувства Чандра.
Эту идиллию слегка нарушала надпись на клетке. Она гласила:
► Дружба между этими двумя животными обеспечивается своевременной подачей пищи.
Прочитав эту разъясняющую вывеску, я подумал, что совместное проживание Чандра и Тобика в одной клетке — это своего рода символ дружбы народов нашей великой многонациональной страны. А что, мелькнула мысль, если надежный оплот этой дружбы — своевременная подача пищи начнет давать сбои? Не завершится ли она так же печально, как завершилась бы в этом случае трогательная дружба льва Чандра и собаки Тобика, на что прямо намекала та мудрая надпись?
До кровавых развязок 80-х и 90-х годов (Вильнюс, Тбилиси, Сумгаит, Чечня) было еще бесконечно далеко. Но кое-какие основания для этого грустного пророчества у меня тогда уже были.
О том, как на самом деле — уже тогда — обстояло дело с этой самой «дружбой народов», можно судить по нескольким тогдашним анекдотам.
► Кавказское застолье. Встает грузин с бокалом (или рогом) вина и провозглашает такой тост:
— Дорогие друзья! Я предлагаю выпить за нерушимую дружбу народов нашей великой страны! — И наклонившись к сидящему рядом армянину: — Не бойся, Арутюн! Пей, дорогой, пей!
Другой анекдот на ту же тему уже совсем прямо и грубо объяснял, как надлежит понимать эту самую дружбу.
► — Дружба народов, — объяснял «тостующий», — это когда я, грузин, да? Ты, русский, да? Ты, азербайджанец, да? Когда мы собираемся все вместе и дружно идем бить армян.
Это в анекдотах.
А вот картинка из жизни:
►…Как-то шли по Осетии с группой альпинистов и туристов. В одном из селений подошел к нам старик и сказал: «Мы приглашаем вас на свадьбу. Вся деревня будет гулять; а ты, — показал он на меня, — не приходи». И вот я остался сторожить вещи группы. Сижу читаю книжку и вдруг вижу: улица селения в пыли, словно конница Буденного мчится, меня хватают и тащат. Жених и невеста кричат: «Извини, дорогой!» — меня притаскивают на свадьбу, наливают осетинскую водку арака в огромный рог и вливают в меня. Я спрашиваю моего друга: что произошло? Почему они меня раньше не пригласили, а сейчас потчуют, как самого дорогого гостя? Оказывается, мой друг спросил несколько ранее старика, и тот объяснил гордо: «Мы грузинов не приглашаем!» Мой друг сказал, что я не грузин. Тогда старик закричал, что только что кровно оскорбил человека, и он, этот человек, будет мстить. И вот свадьба, чтобы не было мести, сорвалась — и за мной… На другой день старик приходил узнать, простил ли я ему, что он принял меня за грузина..
Когда кончился маршрут, мы спустились в Тбилиси. Вечером вышли гулять. Подходят два подвыпивших гражданина и что-то говорят по-грузински. Я не понимаю. Тогда один размахивается и бьет меня в ухо. Я падаю. Кто-то в подъезде гостиницы кричит «Наших бьют!» Альпинисты выскакивают из гостиницы, и начинается потасовка.
И вот мы в милиции. Идет разговор по-грузински. И вдруг бивший меня кидается к моему паспорту, лежащему на столе, изучает его и идет ко мне, говоря: «Извини, мы думали, что ты армяшка, из Еревана. Идем, будем гулять».
В нашей группе альпинистов половина была из Прибалтики. Они прекрасные спортсмены. После того как все это произошло, мы сблизились. Но когда они о чем-то говорили и мы подходили — они замолкали, а когда я спросил, в чем дело, мне ответили: «Ты же русский».
Когда я приехал в Москву, узнал, что меня не утвердили в должности члена редколлегии литературного журнала, потому что я еврей…
(Григорий Свирский. Из выступления на собрании московских писателей. Журнал «Горизонт», 1990, № 3)Дата, стоящая под этой публикацией, не должна вас обманывать. Опубликованная в 1990 году, речь эта была произнесена двадцатью годами раньше. И оратор поплатился за нее исключением из партии, а потом и вынужденной эмиграцией.
Нарисованная им картинка может показаться придуманной для пущего эффекта. Но никто из сидевших в том зале не усомнился в ее правдивости. Достоверность рассказанной Свирским истории, помимо всего прочего, подтверждала внешность оратора, настолько колоритная, что его и в самом деле легко можно было принять и за грузина, и за армянина, и за любое другое, как теперь у нас говорят, лицо кавказской национальности.
А что касается самой истории, то, по правде говоря, в ней не было для сидящих в том зале ничего нового. Сенсационность сказанного состояла лишь в том, что впервые все это было сказано вслух. И — публично.
Ведь все мы хорошо знали о судьбе чеченцев и ингушей, калмыков и крымских татар. Знали, что они были изъяты, вычеркнуты из жизни. И подобно тому как имя человека, оказавшегося «за чертой запретной зоны», становилось неупоминаемым, даже самые имена этих репрессированных народов нельзя было произносить вслух.
* * *
Семен Израилевич Липкин рассказал мне однажды о том, как секретарь Дагестанского обкома Даниялов спас свой народ от судьбы, постигшей чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар…
Во время войны Берия был представителем Ставки Верховного Главнокомандующего на Северо-Кавказском фронте и жил у Даниялова, который и тогда уже был секретарем Дагестанского обкома. Вряд ли можно сказать, что они подружились, но, во всяком случае, отношения были не только официальные. Поэтому, почуяв, что дело пахнет керосином, Даниялов сразу кинулся в Москву, к своему другу Лаврентию. Тот не скрыл от него, как обстоит дело.
— ОН все уже решил, — сказал Берия. — Вся территория до Дербента останется в РСФСР, а от Дербента — отойдет к Азербайджану. Народ будет выслан. Готовься.
— Неужели ничего нельзя сделать? — спросил Даниялов, прекрасно понимая, что если ОН уже решил, любые разговоры на эту тему бесполезны. Но Берия вдруг подал ему некоторую надежду.
— Один я ничего не могу, — сказал он. — Но я устрою тебе встречу с Георгием. (Имелся в виду Маленков.) Если Георгий согласится, вдвоем мы попробуем… Оставайся пока в Москве и жди.
И Даниялов стал ждать.
И вот в один прекрасный день ему объявили, что товарищ Маленков его примет. Встреча, которую он так долго ждал, к которой с трепетом готовился, наконец состоялась.
Восточный человек, он начал издалека. Рассказывал о трудовом подъеме, с которым народы Дагестана приступили к весеннему севу. О строительстве железной дороги, которая должна была пройти через Дагестан…
Маленков слушал его вполуха. Вопрос был решен, и все, о чем говорил секретарь обкома обреченной республики, не имело никакого значения. Но тут — без нажима, тем же деловым, будничным тоном — Даниялов сказал:
— Собираемся отметить круглую дату выступления товарища Сталина, лично провозгласившего автономию Дагестана.
Маленков встрепенулся:
— Как это — лично?
— Лично. 13 ноября 1920 года выступал в Темир-Хан-Шуре, в местном театре.
— Речь опубликована?
Даниялов достал и положил на стол заранее припасенную книгу Отца Народов, где специальной закладкой была отмечена названная речь.
Быстро проглядев заложенную страницу, Маленков встал, протянул Даниялову руку для рукопожатия и сказал:
— Езжайте, товарищ Даниялов, домой и спокойно работайте.
Вопрос о высылке народов Дагестана в места не столь отдаленные больше не поднимался.
Этот рассказ Семена Израилевича я вспомнил однажды в разговоре со своим другом — дагестанским (точнее — кумыкским) писателем Магометом-Султаном Яхъяевым. Магомет-Султан жаловался, что Даниялов, который возглавлял Дагестанский обком на протяжении четверти века, будучи по национальности аварцем, неизменно выдвигал аварцев и оттеснял на второй план кумыков, хотя, как он уверял, по справедливости именно кумыки должны были бы играть в Дагестане ведущую роль. Несправедливость эта коснулась и истории Дагестана: всячески подчеркивалась роль Махача Дахадаева, даже столицу республики назвали его именем (Махачкала), потому что Махач был аварцем. А именем кумыка Уллубия Буйнакского назвали Темир-Хан-Шуру, заглохшую и прозябающую ныне бывшую столицу края. Поэтому и книга Магомета-Султана, главным героем которой был Буйнакский, обкомом не очень поддерживалась. Хотя это явно несправедливо: ведь Уллубий Буйнакский был большевик, а прославленный Махач даже и большевиком-то не был — был он то ли меньшевик, то ли эсер. (Историк, как он себя называл, автор нескольких романов о революции и гражданской войне на Северном Кавказе, разницу между меньшевиками и эсерами Магомет-Султан представлял себе смутно. На мой вопрос: кем же все-таки был Махач, меньшевиком или эсером, он ответил: «Это ваши русские дела, я в этом плохо понимаю».)
И вот, когда Магомет-Султан завел однажды в очередной раз эту свою пластинку про Даниялова, при котором на первые роли неизменно выдвигались аварцы, а кумыки, лезгины и представители прочих народов республики оттеснялись на обочину, я сказал:
— Что ни говори, а ведь этот Даниялов, которого ты так не любишь, все-таки вас спас.
— Кого спас? От чего спас?
— От ссылки.
Я уже предвкушал, как поразится Магомет-Султан, услышав сейчас в моем пересказе рассказ Липкина.
— Ведь Сталин и вас тоже собирался выслать. Как чеченцев, как ингушей, как крымских татар…
Магомет-Султан поднял на меня глаза, в которых светилось искреннее изумление:
— А нас за что?
* * *
Насчет того, «за что» были сосланы чеченцы, ингуши, крымские татары и калмыки, слухи ходили разные. Но главное идеологическое обоснование вождь дал лично — в свойственной ему образной форме.
— В известной народной песне, — сказал он на каком-то кремлевском банкете, — сказано: «За столом никто у нас не лишний». Но жизнь показала, что есть лишние за нашим столом.
А уж кого надо объявить этим «лишним», решал он сам. О чем несколько позже с легким ужасом, но и с некоторым даже восторгом сказал Александр Трифонович Твардовский:
Он мог на целые народы Обрушить свой державный гнев.Кстати, о той самой «народной песне», на которую сослался вождь, объясняя природу своего державного гнева.
Когда этот его державный гнев коснулся евреев, народная молва внесла в нее — в ту самую ее строку — такое небольшое изменение:
За столом никто у нас не Лифшиц!Эту шутку, надо полагать, придумали сами евреи. Государственный антисемитизм был тогда только в зачатке, и они еще смеялись.
Наверняка они же выдумали и такой тогдашний анекдот:
► — Что общего у Сталина с Моисеем?
— Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин — из Политбюро.
Но в 49-м, а уж тем более в январе 53-го стало уже не до смеха. Хотя поводов для юмора и тогда было предостаточно.
Вот, например, такая незатейливая история.
Ранним утром 13 января 1953 года…
Но сперва надо напомнить, что принесла с собой эта дата. А принесла она вместе с утренними газетами сообщение о разоблачении чудовищного заговора врачей-убийц. Виднейшие представители отечественной медицины обвинялись в том, что злодейски умертвили ближайших соратников Сталина — Жданова и Щербакова, и если бы не бдительность наших славных органов государственной безопасности, теми же изощренно-коварными способами отправили бы на тот свет и всех прочих его соратников, а затем и его самого. В перечне имен названных в этом сообщении злодеев доминировали еврейские фамилии: Фельдман, Эттингер, Вовси, Коган… Коганов было даже двое. И хотя упоминался в этом перечне и знаменитый русский врач — профессор Виноградов, сообщение не оставляло ни малейших сомнений насчет того, КТО был душой и главной действующей силой этого вселенского заговора.
Сценарий дальнейшего развития событий был уже написан. Осужденных «убийц в белых халатах» должны были повесить на Красной площади, после чего по всей стране прокатилась бы волна еврейских погромов. И тогда, спасая уцелевших евреев от справедливого гнева народного, их сослали бы в места отдаленные, где уже загодя строились для них бараки.
13 января этот сценарий во всех деталях и подробностях, разумеется, еще никому не был известен. Но зловещий смысл сообщения был очевиден. О том, затронет ли дальнейшее развитие событий всех «лиц еврейской национальности», или в водоворот грядущих бедствий будут втянуты лишь некоторые — наиболее заметные, предстояло только гадать.
И вот в этот роковой день, ранним утром 13 января 1953 года в квартире театрального критика Константина Рудницкого, к слову сказать, за несколько лет до этого (в сорок девятом) причисленного к «космополитам», раздался телефонный звонок.
Сняв трубку и произнеся традиционное «Я слушаю», критик узнал голос близкого своего приятеля, известного московского репортера Наума Мара, которого злые языки наградили прозвищем «Трижды еврей Советского Союза». (Прозвали его так потому, что подлинная его фамилия — «Мармерштейн» — состояла как бы из трех еврейских фамилий.) Помимо этого прозвища, Мар был знаменит бурным темпераментом и неумением держать язык за зубами.
Опасаясь, что «трижды еврей» наговорит сейчас много лишнего (а он почти не сомневался, что его телефон прослушивается), Костя решил держаться с ним сухо, даже холодно, и, уж само собой, ни в какие обсуждения газетных новостей ни в коем случае не вступать.
Но мудрое это решение ему не помогло.
— Костя! Ты уже читал газеты? Что ты молчишь? Сообщение про врачей читал? — сразу взял быка за рога «трижды еврей».
Деваться было некуда: ответишь, что не читал, тот начнет пересказывать и, разумеется, комментировать. Уж лучше сказать, что читал.
— Читал, — сдержанно ответил он.
— Я надеюсь, ты понял, что это значит?
— Да, конечно, — так же сдержанно ответил Костя.
— Что конечно? Что ты понял? Я вижу, что ничего ты не понял. Так вот, Костя! Слушай меня внимательно!.. Ты должен вести себя так, как будто к тебе все это никакого отношения не имеет.
— Но ведь это и в самом деле никакого отношения ко мне не имеет, — сказал Костя, стараясь, чтобы его ответ звучал как можно простодушнее.
— Слушай, Костя! — разозлился «трижды еврей». — Не валяй дурака! Ты ведь прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Так вот, заруби, пожалуйста, себе на носу! Ты должен вести себя так, как будто тебя все это совершенно не касается. Как будто к тебе лично — повторяю, к тебе лично — это никакого отношения не имеет. Ты меня понял?
При мысли, что этот идиотский диалог кто-то (не просто «кто-то», а известно, КТО!) слушает, у Кости по спине потекла струйка холодного пота.
— Но ведь ко мне лично все это действительно… — снова начал он.
Договорить ему не удалось. На него обрушился такой поток ругательств, обвинений в слепоте, идиотизме, непонимании, где он живет и что вокруг него происходит, а также многословных раздраженных объяснений, чем это непонимание ему грозит, что он не нашел в себе сил продолжать этот разговор и в смятении повесил трубку. На душе у него было муторно. Он почти не сомневался, что эта история наверняка будет чревата для него самыми дурными последствиями.
Но, слава богу, пронесло. То ли подслушка плохо работала, то ли у слушавших руки до всех не доходили. А вскоре умер Сталин, врачей выпустили на свободу, и народ-языкотворец подвел всем этим событиям такой стихотворный итог
Дорогой товарищ Вовси, Друг ты наш и брат, Оказалось, что ты вовсе И не виноват. Дорогой товарищ Коган, Кандидат наук! Виновата эта погань — Лидка Тимашук. Дорогой товарищ Фельдман — Ухо-горло-нос, Ты держал себя, как Тельман, Идя на допрос…Были, кажется, у этой народной песни и другие куплеты, но я их не помню.
* * *
Как видите, смеяться и веселиться мы не переставали даже в самые жуткие и трагические моменты нашей истории. Но это, правда, уже потом, когда «врачи-убийцы» были реабилитированы. Песня, несколько куплетов которой я тут припомнил, была чем-то вроде вздоха облегчения после пережитого ужаса. Слава богу, пронесло! Можно, значит, и посмеяться.
Ну, а позже, когда государственный антисемитизм, пережив свой кровавый пик, стал бытом, пошла уже мощная волна анекдотов на еврейскую тему. Особенно когда началась еврейская эмиграция.
► — В чем дело, товарищ Рабинович? — спрашивают у Рабиновича то ли в ОВИРе, то ли в КГБ, — почему вы вдруг решили покинуть Родину?
Рабинович, ссылаясь на склероз и вообще плохую память, отвечает, что забыл, по какой причине вдруг решился подать на отъезд.
— Может быть, у вас работа была не соответствующая вашей квалификации?
— Да нет, работа у меня была прекрасная: я был главным инженером на большом заводе.
— Может быть, квартирные условия?
— И квартира отличная. Четыре светлые комнаты. Все удобства, балкон…
— Так что же все-таки вас толкнуло на отъезд?
— Хоть убей, не помню… Склероз, знаете ли… Совсем память отшибло…
— Может быть, вам хотелось иметь дачу? Машину?
— Да нет, дача у меня была. И машина тоже…
— Так чего же тебе не хватало, жидовская морда! — взрывается начальник.
— О! — бьет себя по лбу Рабинович. — Вспомнил!
А вот еще один анекдот, в котором фигурирует эта классическая еврейская фамилия. На этот раз не выдуманный, а подлинный, самый что ни на есть реальный. (С полной уверенностью, впрочем, утверждать это я не могу — за что купил, за то продаю.)
В Советском Союзе шахматный гроссмейстер, участвовавший в матче на звание чемпиона мира, играл не только со своим партнером, но и с Государством. Условия этой игры были хорошо известны. Вот, например, берут у кандидатов в чемпионы интервью. В числе задаваемых вопросов не последнее место занимает такой:
— Ваша любимая книга?
Гроссмейстер Карпов, не колеблясь, отвечает.
— «Как закалялась сталь» Николая Островского.
А гроссмейстер Корчной, то ли по недостаточно ясному пониманию правил игры, то ли одержимый бесом гордыни, называет роман Хемингуэя «По ком звонит колокол».
Вот вам уже очко (а может, даже и не одно) в пользу Карпова.
Все гроссмейстеры, не желавшие — или не умевшие — считаться с этими правилами, в конце концов терпели поражение. И только один из них сумел одержать победу: Гарри Каспаров. Правда, это было уже на заре новой эпохи. Да и Гарри тоже одно — главное! — правило все-таки принял во внимание: от фамилии, доставшейся ему от родителя («Вайнштейн»), вынужден был отказаться — взял фамилию матери. Оставаться Вайнштейном в тех условиях — это было все равно что играть без ладьи. Может быть, даже без ферзя.
Но даже перестав быть Вайнштейном и став Каспаровым, свои шансы с Карповым Гарри все-таки не уравнял. Могучая ядерная держава делала все, что было в ее силах, чтобы чемпионом мира стал Карпов.
Добиться этого, однако, она не смогла. Чемпионом стал Гарри.
Его победа была предвестьем наступающих новых времен. Может быть, даже первым симптомом грядущего краха могущественной Империи Зла. И естественно, она вызвала бурное ликование в жидких рядах либеральной интеллигенции.
Кое-кому это ликование казалось не вполне обоснованным, а восторги, высказываемые по адресу юного чемпиона, преувеличенными.
Некоторое неудовольствие по этому поводу высказал и патриарх советской шахматной школы — Михаил Ботвинник.
— Этот ваш Гарри, — будто бы сказал он, — не такой уж герой, каким он вам представляется… Взял фамилию матери… Вот я же этого не сделал!
— А какая была фамилия у вашей мамы, Михаил Моисеевич? — спросили у него.
Ботвинник улыбнулся:
— Рабинович.
Анекдотов на еврейскую тему и даже только на тему еврейской эмиграции такая тьма, что без особого труда ими можно было бы заполнить всю эту книгу. Поэтому пора поставить точку.
Но прежде чем ее поставить — еще один анекдот, последний. Он заслуживает включения в эту маленькую коллекцию потому, что освещает затронутую нами проблему в совершенно ином, несколько даже неожиданном аспекте.
Дело происходит во время так называемой шестидневной войны. Когда она началась, вся официальная машина нашей государственной пропаганды бодро внушала советскому народу, что объединившиеся арабские страны не оставят от агрессора (так именовался тогда Израиль) мокрого места В это легко было поверилось. Во-первых, потому что арабов — сто миллионов, а Израиль — крошечный, совсем малявка. Ну, а во-вторых, потому что евреи — какие они вояки! Где им — против такой громады. И вдруг оказалось, что за шесть дней маленький Израиль расколошматил напавших на него арабов в пух и прах.
Вот в эти самые дни и разворачивается нехитрое действие нашего анекдота.
► В битком набитый автобус влезает мужик, слегка, конечно, поддатый, — богатырского телосложения и весьма при этом агрессивно настроенный. Обводит пассажиров мутным взором, находит среди них еврея, проталкивается к нему и рявкает:
— Еврей?
Тот, испуганно втянув голову в плечи, признается:
— Еврей.
И тут наш русский богатырь протягивает свою мощную десницу, хватает руку этого испуганного еврея, крепко жмет ее, трясет и громогласно, на весь автобус провозглашает:
— Мо-ло-дец!
Друзья и враги
Советский новояз не мог состоять только из «советизмов» — новых слов и словосочетаний, придуманных в советское время. Весь старый словарный состав русского языка, конечно, не мог в одночасье быть заменен на новый. Хотя кое-какие шаги в этом направлении были сделаны. В научной литературе этот процесс был отражен в замечательной книге А. Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1925». А в литературе художественной он нашел свое отражение в рассказе Михаила Зощенко «Обезьяний язык». Вот какой любопытный диалог происходит между персонажами этого маленького рассказа:
► — А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?
— Пленарное, — небрежно ответил сосед.
— Ишь ты, — удивился первый, — то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.
— Да уж будьте покойны, — строго ответил второй. — Сегодня сильно пленарное, и кворум такой подобрался — только держись…
— Скажи на милость, — с огорчением покачал головой первый сосед. — С чего бы это он, а?
Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника. Потом добавил с мягкой улыбкой:
— Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные заседания… А мне они как-то ближе. Все как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня… Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.
— Не всегда это, — возразил первый. — Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то — да, индустрия конкретно.
— Конкретно фактически, — строго поправил второй.
Даже в этом — откровенно пародийном — диалоге, где количество новых слов — именно вот в этих самых пародийных целях — явно завышено, автор все-таки не смог обойтись без старых, бытующих в родном языке исстари.
Но создателям — и пользователям — новояза удавалось обойти эту трудность. Они и в старые, коренные, исконно русские слова ухитрялись вкладывать новое значение, нередко даже противоположное тому, какое те несли в себе раньше.
В середине 60-х началась в нашей стране эпоха так называемого «подписанства». Писатели (не только писатели, конечно, но я больше знаю эту среду) подписывали коллективные письма в защиту преследуемых диссидентов. Сначала начальство просто игнорировало это поветрие, а потом слегка взволновалось и решило принять кое-какие меры. Поначалу — довольно мягкие. «Подписантов» стали вызывать на разные собеседования, увещевать, воспитывать, осторожно намекая в то же время, что, если они будут упрямиться, могут воспоследовать и наказания.
Вызвали на такое собеседование и Лидию Корнеевну Чуковскую.
Беседовал с ней один из многочисленных тогдашних секретарей Московского отделения Союза писателей — Виктор Тельпугов.
Огорченно сообщив ей, что письмо, которое она подписала, злорадно подхватили и транслировали по радио «вражеские голоса», он сказал:
— Как же вы могли, Лидия Корнеевна, обратиться за помощью или даже просто за сочувствием — к врагам?
— Не понимаю, — пожала плечами Лидия Корнеевна, — почему людей, которые меня печатают, я должна считать своими врагами, а тех, кто запрещает даже упоминать в печати мое имя, — друзьями?
Тельпугова такой ответ, я думаю, изумил. И дело тут было не в разности их, так сказать, общественных позиций. Не в том, что те, кого Лидия Корнеевна считала своими друзьями, для него, Тельпугова, были врагами.
Причина этого их полного взаимонепонимания лежит не в плоскости социологии или даже психологии, она исключительно филологического (лингвистического) свойства.
Для Лидии Корнеевны понятия «друзья» и «враги» выражали личные ее приязни и неприязни, притяжения и отталкивания. Она сама решала для себя, кого ей считать своими друзьями, а кого врагами. Для Тельпугова же эти слова выражали спущенную, навязанную ему сверху, но при этом совершенно для него безусловную шкалу ценностей.
Природа этого взаимонепонимания, основанная на разном восприятии семантики одних и тех же слов, была мне хорошо знакома. Впервые я столкнулся с ней еще в детстве. И — уж не знаю, случайно это вышло или нет, — но слова и тогда были те же самые: «друзья» и «враги».
* * *
Было это в 1937 году. (Мне было десять лет.)
Вся страна с большой помпой отмечала столетие со дня гибели Пушкина.
Естественно, не осталась в стороне от этого события и наша школа. Были торжественные вечера, концерты. Ну, и на уроках литературы, конечно, тоже постоянно толковали о Пушкине. И вот однажды наша учительница принесла в класс какой-то громоздкий рулон, торжественно развернула его и достала два больших — каждый величиной с нашу школьную стенгазету — листа. Попросила дежурных по классу помочь ей прикрепить эти листы кнопками к стене. Вид у нее при этом был такой, точно она приготовила нам какой-то приятный сюрприз. Мы с интересом ждали.
И вот наконец долгая процедура прикрепления этих учебных пособий к стене закончилась, и перед нашим взором открылась такая картина.
Слева висел плакат, на котором — вверху — красовалась надпись: «ДРУЗЬЯ ПУШКИНА». Под надписью размещались портреты людей, многие из которых были нам хорошо знакомы: Пущин, Кюхельбеккер, Пестель, Рылеев, Чаадаев…
Справа был укреплен другой плакат, на котором такими же крупными буквами была выведена другая надпись: «ВРАГИ ПУШКИНА». Под ней красовались портреты людей, многие из которых тоже были хорошо нам известны: Николай Первый, граф Бенкендорф, Дантес… Замыкала эту галерею врагов Пушкина прелестная женская головка. То была красавица Натали, Наталья Николаевна, жена поэта.
* * *
Вспоминая военные годы, Борис Пастернак написал:
► Трагический, тяжелый период войны был вольным, радостным возвращением чувства общности со всеми.
Это «чувство общности со всеми» вернулось к нам потому, что слову «враги» на время (на целых четыре года) был возвращен его настоящий смысл.
Впрочем, даже война не совсем очистила это слово от налипшего на него слоя искаженного, новоязовского значения:
Я с детства мечтал, что трубач затрубит, И город проснется под цокот копыт, И все прояснится открытой борьбой: Враги — пред тобой, а друзья — за тобой. И вот самолеты взревели в ночи, И вот протрубили опять трубачи, Тачанки и пушки прошли через грязь, Проснулось геройство, и кровь пролилась. Но в громе и славе решительных лет Мне все ж не хватало заветных примет. Я думал, что вижу, не видя ни зги, А между друзьями сновали враги. И были они среди наших колонн, Подчас знаменосцами наших знамен. Жизнь бьет меня часто. Сплеча. Сгоряча. Но все же я жду своего трубача. Ведь правда не меркнет и совесть — не спит. Но годы уходят, а он — не трубит. И старость подходит. И хватит ли сил До смерти мечтать, чтоб трубач затрубил? А может, самим надрываться во мгле? Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле.Это звонкое стихотворение Н. Коржавина, написанное в 1955 году, при всей ясности и прозрачности его смысла, по-настоящему может быть понято только в сопоставлении с другими, более ранними стихами того же поэта:
Гуляли, целовались, жили-были… А между тем, гнусавя и рыча, Шли в ночь закрытые автомобили И дворников будили по ночам. Давил на кнопку, не стесняясь, палец, И вдруг по нервам прыгала волна… Звонок урчал… И дети просыпались, И вскрикивали женщины со сна… А южный ветер навевает смелость. Я шел, бродил и не писал дневник, А в голове крутилось и вертелось От множества революционных книг. И я готов был встать за это грудью, И я поверить не умел никак, Когда насквозь неискренние люди Нам говорили речи о врагах… Романтика, растоптанная ими, Знамена запыленные кругом… И я бродил в акациях, как в дыме. И мне тогда хотелось быть врагомЭто было написано в 1944-м. Автору было тогда девятнадцать.
Вот как рано разошлось его понимание смысла слова «враги» с тем значением этого слова, которое навязывало нам Государство. И вот почему он навсегда утратил надежду на то, что в один прекрасный день «все прояснится открытой борьбой: враги — пред тобой, а друзья — за тобой».
Но таких, как он, тогда были единицы. А большинство принимали на веру ежедневно спускаемые нам «сверху» списки все новых и новых разоблаченных врагов. Позавчера это были Троцкий, Каменев, Зиновьев… Вчера — Бухарин, Рыков, Томский… Сегодня — Тухачевский, Егоров, Блюхер… Завтра-
Завтра это мог быть уже кто угодно.
Помимо поименных списков, «сверху» спускались и указания, кого надлежит считать друзьями, а кого — врагами в более, так сказать, широком, общем плане. Эти указания подхватывали поэты и на присущем им эмоциональном языке несли их в массы. Тут врагами огулом назывались уже американские политики, английские лорды со своими «в воротнички продетыми стареющими мордами», польский генерал Андерс, командовавший польским экспедиционным корпусом в войсках союзников в Италии. («В это время в своем штабе в Риме Андерс с генералами своими составлял реляцию для Лондона, сколько польских душ им черту продано».) Все эти цитаты — из книги Константина Симонова, которая так и называлась «Друзья и враги», — самой знаменитой стихотворной книги конца 40-х — начала 50-х: с 1948 до 1952 года она выдержала шесть изданий.
В последние годы жизни Сталина накал этой государственной ненависти приблизился к критической точке и почти достиг уровня 37-го года.
И на инерции этой новой волны опять вспомнили про Наталью Николаевну Гончарову:
Уйдя с испугу в тихость быта, живя спокойно и тепло, ты думала, что все забыто и все травою поросло. Детей задумчиво лаская, старела как жена и мать… Напрасный труд, мадам Ланская, Тебе от нас не убежать! То племя честное и злое, тот русский нынешний народ, и под могильною землею тебя отыщет и найдет. Еще живя в сыром подвале, где пахли плесенью углы, мы их по пальцам сосчитали, твои дворцовые балы. И не забыли тот, в который, раба страстишечек своих, толкалась ты на верхних хорах среди чиновниц и купчих. И, замирая то и дело, боясь, чтоб Пушкин не узнал, с мольбою жадною глядела в ту бездну, где крутился бал. Мы не забыли и сегодня, что для тебя, дитя балов, был мелкий шепот старой сводни важнее пушкинских стихов.Это свое стихотворение Ярослав Смеляков написал аж в 1959 году. Было ему тогда сорок шесть лет. Но чувства, внушенные ему в пору его комсомольской юности, не остыли. Стихотворение прямо-таки обжигает яростной ненавистью автора к вдове великого поэта. И ненависть эта не личная, а — классовая.
Тут надо сказать, что с этими своими яростными разоблачениями пушкинской вдовы Смеляков слегка припозднился.
В ту пору, когда стихотворение это появилось в печати, оно все-таки воспринималось уже как некий комический анахронизм.
Именно так отнеслись к нему три сравнительно молодых критика (Л. Лазарев, С. Рассадин и автор этих строк), откликнувшиеся на грозную смеляковскую инвективу короткой пародией, не слишком далеко ушедшей от пародируемого ими текста:
Царевых прихвостней лаская, Балы и бланманже любя, Не знала ты, мадам Ланская, Что мы возьмемся за тебя. Взломавши склеп укромной лавры, Тебя мы вытащим на суд, И даже пушкинские лавры Тебя нисколько не спасут. Его постылых заблуждений Касаюсь вовсе не в укор. Он ошибался, бедный гений, Но поумнели мы с тех пор. Потомки тульских Робеспьеров, Лишь мы назначены судить, Кому отмерить высшей мерой, Кого положено любить. Пускай смазливая канашка Как бы добилась своего. Была у Пушкина промашка, Но мы поправили его.Пародия эта была написана (и напечатана) в самом начале 60-х. Стало быть, над классовым подходом и революционным пафосом («потомки тульских Робеспьеров») тогда уже можно было смеяться.
Да и сам Смеляков, видать, почувствовал, что с этим своим комсомольским задором он вроде как сел в лужу.
Спустя всего лишь несколько лет (в 1966 году) он обратился к Наталье Николаевне с новым, совсем уже другим стихотворным посланием. Называлось оно — «Извинение перед Натали»:
Теперь уже не помню даты — ослабла память, мозг устал, — но дело было: я когда-то про Вас бестактно написал. Пожалуй, что в какой-то мере я в пору ту правдивым был. Но Пушкин Вам нарочно верил и Вас, как девочку, любил. Его величие и слава, уж коль по чести говорить, мне не давали вовсе права Вас и намеком оскорбить. Я не страдаю и не каюсь, волос своих не рву пока, а просто тихо извиняюсь с той стороны, издалека. Я Вас теперь прошу покорно ничуть злопамятной не быть и тот стишок, как отблеск черный, средь развлечений позабыть. Ах, Вам совсем не трудно это: ведь и при жизни Вы смогли забыть великого поэта — любовь и горе всей земли.Строго говоря, стихотворение это должно было бы называться не «Извинение перед Натали», а «Извинение перед Пушкиным». Что же касается отношения поэта к Наталье Николаевне, то оно, по правде говоря, изменилось не слишком.
Хотя — как сказать!
На первый взгляд может показаться, что изменился только тон, форма обращения. На самом деле изменилась самая его суть: на сей раз поэт обращается к жене Пушкина уже не от имени всего советского народа, а от себя лично. Поэтому и форма обращения тут другая: раньше он обращался к Наталье Николаевне на «ты», теперь он говорит ей «Вы» и даже пишет это «Вы», как принято у людей вежливых, с заглавной буквы. Ну, и ожесточенность, даже некоторая озлобленность, которыми было отмечено прежнее стихотворение, сменились грустной, усталой снисходительностью, звучавшей в известной песенке Вертинского: «Разве можно от женщины требовать многого!»
Изменился и самый характер его претензий. Даже, я бы сказал, их адрес. Если раньше эти претензии были обращены к жене великого поэта, то теперь они адресуются его вдове. Поэт больше не называет Наталью Николаевну «рабой страстишечек своих», не подозревает ее в тайной склонности к Дантесу. Теперь он обвиняет ее в другом: в том, что она не сохранила верность Пушкину потом, после его смерти. Вскользь брошенное в первом стихотворении «мадам Ланская» во втором становится главной, доминирующей темой: «…ведь и при жизни Вы смогли забыть великого поэта…» Теперь, стало быть, он упрекает Наталью Николаевну лишь в том, что она не стала вековать остаток жизни в трауре, не удержалась, выскочила-таки замуж, променяв титул вдовы Пушкина на пошлую, благополучную участь генеральши Ланской…
Чем так извиняться, лучше, пожалуй, было бы промолчать, не вспоминать о былой своей бестактности, усугубляя ее этими неуклюжими извинениями.
Но главная беда этого стихотворения Смелякова была в том, что, как и первое, оно было — не ко времени.
Время требовало уже совсем других песен. И эти другие песни не замедлили явиться на свет.
* * *
Прошло двадцать лет. И к судьбе вдовы Александра Сергеевича Пушкина решился прикоснуться еще один поэт — Николай Доризо.
Его стихотворение называлось «Генерал Ланской». И был ему предпослан такой эпиграф:
► Отправляйся в деревню, носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, только за порядочного человека.
(Пушкин, прощаясь с женой. Со слов В.Ф. Вяземской)Далее следовал текст:
Хоть звезд он с неба не хватал, Да и к тому ж не спорил с веком, Но был хорошим человеком Служивый русский генерал. В день скромной свадьбы он, жених — Совсем не просто было это, — В приданое взял четверых Детей великого поэта… Он не был гением-творцом, В стихах и в бронзе не был славен. В одном он Пушкину был равен — Он стал его детей отцом. Растил их нежно генерал, Любовь к усопшему внушая, Как будто Пушкин, умирая, Его им, детям, завещал Он как бы был предсказан им Вдове, рыдавшей безутешно: «Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим!»Вот, оказывается, как было дело!
Вопреки грубым и необоснованным обвинениям Смелякова Наталья Николаевна вовсе не предала Пушкина, не изменила его скорбной тени. Наоборот! Она покорно исполнила его последнюю волю, вышла замуж «за порядочного человека».
Генерал Ланской в этой трогательной идиллии предстает перед нами не просто порядочным человеком, а прямо-таки подвижником, чуть ли не святым.
Раньше (лет за пятьдесят до того, как появилось на свет стихотворение Доризо) у второго мужа Натальи Николаевны Гончаровой была совсем другая репутация.
Вот небольшая выдержка из краткой биографии Петра Петровича Ланского, написанной в 1937 году:
► В январе 1837 года перед одною из офицерских квартир кавалергардских казарм расхаживал по улице бравый кавалергардский ротмистр и зорко вглядывался в прохожих — не следит ли кто за квартирой. В квартире происходило тайное свидание его приятеля Дантеса с красавицей Пушкиной, женой поэта. Свидание это устроила, по просьбе Дантеса, хозяйка квартиры, жена кавалергарда, Идалия Григорьевна Полетика. Она пригласила к себе Наталью Николаевну, а сама уехала. Наталья Николаевна очутилась с глазу на глаз с Дантесом. Дантес стал страстно объясняться ей в любви, молил отдаться ему, вынимал пистолет и грозил застрелиться. По-видимому, настояния его не увенчались успехом… Стороживший квартиру офицер был Петр Петрович Ланской. Уж конечно, он понимал, что подобного рода тайные свидания устраиваются не для платонических бесед на возвышенные темы, и о даме, соглашающейся на такие встречи, должен был получить определенное представление. Однако ни свидание это, ни странное покровительство императора Наталье Николаевне не помешали Ланскому в 1844 году жениться на ней и получить все бесчисленные выгоды, вытекшие для него из этой женитьбы. Карьера его оказалась обеспеченной. Вместо провинциального армейского полка Ланской получил в командование один из первых гвардейских кавалергардских полков, вскоре затем произведен в генерал-адъютанты, потом назначен начальником первой кавалерийской дивизии. Позднее он исправлял должность петербургского генерал-губернатора…
Современник, знавший Ланского, когда ему было уже за пятьдесят, сообщает, что он даже в эти годы был еще замечательно красивый мужчина и добродушнейший по природе человек, но то, что на военном жаргоне называется «ремешок». В обществе это был элегантный, вполне светский человек, а на конногвардейском плацу, где происходило учение солдат, строго придирчивый николаевский генерал, не стеснявшийся, как говорят, самыми бесцеремонными приемами и суровыми наказаниями.
(В.В. Вересаев. Спутники Пушкина)И — еще один отрывок из той же биографии, где автор уже не обиняками, а прямо и откровенно объясняет, каковы были мотивы, побудившие императора Николая Павловича так щедро осыпать нового супруга Натальи Николаевны своими царскими милостями:
► В 1844 году кавалергардский офицер, генерал-майор П.П. Ланской сделал Наталье Николаевне предложение. Ему в скором времени предстояло назначение командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье, как вдруг, — рассказывает его дочь А.П. Арапова, — «ему выпало негаданное, можно даже сказать, необычайное счастье». Он был назначен командиром лейб-гвардии Конного полка, шефом которого состоял сам император, получил блестящее положение, великолепную казенную квартиру — и женился на Н. Н. Пушкиной… Царь прислал новобрачной в подарок великолепный бриллиантовый фермуар и велел передать, что первого их ребенка будет крестить сам… Когда у Натальи Николаевны родился ребенок (будущая А.П. Арапова), царь лично приехал в Стрельну для его крестин… Наталья Николаевна задумала устроить вечеринку в полковом интимном кругу. Когда Ланской был у царя на докладе, Николай по окончании аудиенции сказал ему:
— Я слышал, что у тебя собираются танцевать? Надеюсь, ты своего шефа не обойдешь приглашением?
Приехав на бал, царь велел провести себя в детскую, взял на колени старшую девочку, разговаривал с нею, целовал и ласкал. Когда, по поводу юбилея полка, Ланской хотел поднести императору альбом с офицерами полка, Николай пожелал, чтоб на первом месте, рядом с портретом командира полка, был помещен портрет жены (!! При чем тут жена?). Кроме того, миниатюрный портрет Натальи Николаевны был вделан во внутреннюю крышку золотых часов, которые носил император. После смерти Николая камердинер взял себе эти часы, «чтобы не было неловкости в семье».
Все эти данные с большою вероятностью говорят за то, что у Николая завязались с Натальей Николаевной очень нежные отношения, результаты которых пришлось покрыть браком с покладистым генералом.
(Там же)К очерку Вересаева нельзя относиться как к абсолютно надежному историческому источнику. Не все у него достоверно. Во многом он опирается не на тщательно проверенные факты, а на слухи и даже на сплетни.
К тому же он далеко не беспристрастен. Не так раздражителен и запальчив, как Смеляков, но в его изложении обстоятельств дела тоже видна отчетливая неприязнь к Наталье Николаевне. (Чего стоит одна только вскользь брошенная фраза: «При чем тут жена?»)
Пушкинскую эпоху и все обстоятельства жизни и гибели поэта Вересаев знает, конечно, лучше, чем Смеляков и Доризо. Сути дела, однако, это, как видим, не меняет.
Но ведь и стихотворение Доризо (равно как и оба стихотворения Смелякова) я привел здесь совсем не для того, чтобы поиздеваться над некоторой, мягко говоря, приблизительностью исторических познаний обоих поэтов.
Смелякова, например, можно было бы упрекнуть в том, что он почему-то поместил Наталью Николаевну «на верхних хорах среди чиновниц и купчих», где она вряд ли могла оказаться.
Николаю Доризо можно было бы попенять, что строки Пушкина, обращенные совсем к другой женщине («Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим»), он переадресовал «вдове, рыдавшей безутешно».
Что говорить, все три стихотворения уязвимы, и каждое из них уязвимо по-своему. Но, «сталкивая их лбами», я преследовал совершенно иную цель.
Собрав и, так сказать, положив рядом исторический очерк Вересаева, написанный в 1937 году, стихотворение Смелякова, написанное в 1959-м, его же стихотворение, датированное 1966 годом, и стихотворение Доризо, написанное в 1985-м, я хотел как можно нагляднее показать, как менялось время. И как — вместе с временем — менялись общепринятые представления о том, кого нам надлежит считать друзьями Пушкина (а значит, и нашими друзьями), а кого — врагами.
Тут, конечно, можно сказать, что время здесь совершенно ни при чем. Как будто в одно и то же время не случается разным людям, тем более поэтам, которые, как известно, отличаются особой пристрастностью, субъективностью суждений, высказывать разные, а иногда и полярно противоположные взгляды!
Так-то оно так. И все-таки есть определенная закономерность в том, что Вересаев, написавший свою книгу «Спутники Пушкина» в 1937 году, отмечает, что П.П. Ланской на конногвардейском плацу был «строго придирчивый николаевский генерал, не стеснявшийся… самыми бесцеремонными приемами и суровыми наказаниями», невольно вызывая тем самым в нашей памяти образ вот такого же николаевского служаки из рассказа Л. Толстого «После бала», а Николай Доризо спустя полвека рисует тот же образ уже совсем иными красками:
Хоть звезд он с неба не хватал, Да и к тому ж не спорил с веком, Но был хорошим человеком Служивый русский генерал.Сочтя нужным оговорить, что генерал Ланской «не спорил с веком», Доризо тем самым как бы не скрывает, что его герой был плотью от плоти и костью от кости того самого века. Который Пушкин в своем «Памятнике» назвал жестоким. Да, говорит нам поэт, в отличие от Пушкина генерал Ланской был не пасынком, а верным сыном своего жестокого века. Но при всем при том он был «хорошим человеком». А поскольку строка «да и к тому ж не спорил с веком» представляет собой перифраз пушкинской — «К чему бесплодно спорить с веком?», сказанной совсем по другому поводу, то и выходит, что гонять солдат сквозь строй шпицрутенов было в те времена таким же обыкновенным и, следовательно, простительным делом, как заботиться о красе ногтей.
Вот как изменился за какие-нибудь пятьдесят лет взгляд на суровую действительность николаевской России…
Тут, конечно, опять можно было бы сказать, что изменившийся взгляд на историю России здесь решительно ни при чем. Николай Доризо выразил свой, и только свой, взгляд. Точно так же, как Ярослав Смеляков выразил свой. Яростная запальчивость Смелякова, его резкая антипатия к Наталье Николаевне — это, в конце концов, его личное дело. И точно так же благостный, сусальный взгляд на ту же коллизию, выразившийся в стихотворении Доризо, характеризует исключительно Николая Доризо. Только его одного, и никого больше!
Я бы с радостью принял это объяснение, если бы не множество других фактов, неопровержимо свидетельствующих, что дело обстоит совсем не так просто.
* * *
Для начала — небольшой отрывок из статьи Сергея Эйзенштейна «Цветовая разработка фильма „Любовь поэта“» (фильм был задуман в 1940 году, статья писалась, вероятно, уже во время войны):
► Снег.
И силуэты дуэлянтов.
И одно цветовое пятно.
Кровавое.
Красное…
Кроваво-красный круг солнца…
Красный ромбик зайчика через пестрые стекла из двери в антресоли падает на побелевшие от страха пальцы Натальи Николаевны.
Поэта внесли домой…
Красный зайчик кажется кровью.
Смыть его с руки Натальи Николаевны так же невозможно, как сделать это леди Макбет.
Наталья Николаевна прячет руки.
И вот уже ее белое пышное платье усеяно каскадом ромбиков-зайчиков…
И белый ее наряд внезапно превратился в подобие того маскарадного костюма дамы-арлекина, в котором проходят сцены особо жгучей ревности Пушкина на маскараде…
Смысл этих цветовых образов никаких разъяснений не требует. В своем отношении к Наталье Николаевне Эйзенштейн пошел даже дальше Смелякова. Тот все-таки убийцей Пушкина ее не называл, а тут — кровь, которую не смыть с рук, упоминание о леди Макбет…
А вот как видится Наталья Николаевна Пушкина в наше время. Не только художникам и поэтам, но даже исследователям:
► Перенесемся почти на полтора столетия назад, войдем в положение этой молодой, необыкновенно красивой женщины, которой трудно живется с четырьмя маленькими детьми, которую преследуют недвусмысленные ухаживания поклонников. Вспомним, что ей было всего 24 года, когда погиб ее муж. Вспомним, что сам Пушкин, умирая, завещал ей носить по нему траур два года, а потом выходить замуж за порядочного человека. Он был мудр и хотел ей добра, он понимал, зная ее мягкий характер и тяжелое материальное положение семьи, как трудно будет ей без него. Такой порядочный человек нашелся. Не будем же осуждать ее за то, что она решила опереться на дружескую мужскую руку, чтобы поднять детей, чтобы иметь твердое положение в обществе…
Генерал Ланской был уже немолод, ему шел 45-й год, женат до этого он не был. По свидетельству современников, это был хороший добрый человек. Главным в решении Натальи Николаевны был, несомненно, вопрос об отношении будущего мужа к детям от первого брака. И она не ошиблась…
(И. Ободовская, М. Дементьев. После смерти Пушкина)Это взгляд, так сказать, бытовой («…войдем в положение молодой, необыкновенно красивой женщины, которой трудно живется с четырьмя маленькими детьми…»). А вот — взгляд философский, чуть ли не мистический:
► Женщин он знал как никто и выбор сделал безошибочно.
Увлечения его были многочисленны. Но для него, больше всего любившего свою несравненную Музу, та или иная женщина оказалась слишком ярко ограничена своей земной определенностью. Его пленяла сама стихия женственности — безбурная, мирно объемлющая и приемлющая…
Такою субстанцией женственности явилась ему Наташа Гончарова. Ему, в ком бушевала и кому смиренно повиновалась стихия поэзии, это было под стать…
В области идеала они абсолютно дополняли друг друга: она стала для него зеркалом красоты его гения. Посягнуть на ее честь значило в его глазах посягнуть на честь его Музы… У него было чувство абсолютного — он полюбил и избрал ту единственную женщину, на которую ему указало это чувство, чей облик так же непроницаемо прост, как белое сияние его гения, — и избрал ту судьбу, что была связана с этой женщиной. Он сделал это потому, что нужно было изменить жизнь, приведя ее в соответствие с нравственным призванием русского поэта, как он его понимал… Стало быть, абсолютное содержалось и в самом этом шаге, в его свободе и неизбежности, равной свободе и неизбежности творческого акта…
(В. Непомнящий. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине)А вот пример, пожалуй, даже еще более наглядно показывающий прямую зависимость личного, субъективного, «индивидуального» взгляда от представлений и предрассудков своего времени.
В 1937 году С. Эйзенштейн написал небольшую статью «Из истории создания фильма „Александр Невский“».
Начиналась она так.
► Пушкин умирал.
Сперва его поразила пуля, умело направленная вдохновителем политической интриги, под видом дуэли маскировавшей просто убийство. Когда же пуля не посмела взять насмерть великого человека, дело политического убийства завершила медицина. Неправильный метод лечения, не те мероприятия. Секретная инструкция врачу. И сто лет тому назад умирал от рук убийцы великий русский писатель Пушкин…
«Врача-убийцу», которому якобы была дана эта самая «секретная инструкция», звали Николай Федорович Арендт. Он был лейб-медиком, то есть личным врачом императора Николая Павловича.
Спустя 47 лет после того, как была написана процитированная статья Эйзенштейна, в 1983 году, в издательстве «Знание» вышла книга, скромно озаглавленная «История одной „болезни“». Автор этой книги — хирург, доктор медицинских наук — подробно исследует обстоятельства «болезни» и смерти Пушкина, рисует портреты врачей, которым выпало на долю наблюдать последние часы и минуты жизни Пушкина, по мере возможностей тогдашней медицины облегчить страдания умирающего.
Об Арендте в этой книге говорится так:
► Николай Федорович Арендт начинал свою хирургическую карьеру в качестве полкового доктора. Участвуя в многочисленных сражениях, которые вела Россия в 1806–1814 годах, пройдя от Москвы до Парижа, он закончил войну в должности главного хирурга русской армии во Франции…
По мнению Н.И. Пирогова, Арендт в недостаточной степени обладал теми качествами, которые необходимы для успешной службы при дворе, чем резко отличался от его преемника, профессора Мандта — карьериста и царедворца.
«Н. Ф. Арендт был человеком другого разбора», — сказал в своих записках Н.И. Пирогов…
В 1855 году медицинская общественность торжественно отметила 50-летие врачебной деятельности Николая Федоровича Арендта, которому было присвоено символическое звания «Благодушный врач».
(Б. Шубин. История одной «болезни»)Поскольку сегодня слово «благодушие» значит не совсем то, что оно обозначало в пушкинские времена, откроем словарь Даля и обратимся к тогдашнему, первоначальному его смыслу:
► Доброта души, любовные свойства души, милосердие, расположение к общему благу, добро, великодушие, доблесть, мужество на пользу ближнего, самоотвержение.
Вот какой человек был заклеймен позорным клеймом врача-убийцы!
Конечно, С. Эйзенштейн не обязан был дотошно изучить весь послужной список Н.Ф. Арендта. Он мог даже заблуждаться и насчет его нравственных качеств. В конце концов, он ведь не был ни врачом, ни историком медицины. Однако он и не принадлежал к той категории «публицистов», которые в хорошо памятные нам времена начинали свои «письма в редакцию» такой стереотипной фразой: «Я Пастернака не читал, но, как и все советские люди, возмущен…»
Сергей Михайлович Пастернака читал. И не только Пастернака. Прочел он на своем веку множество мудрых книг. Мог, кстати говоря, читать и записки Н.И. Пирогова. А уж историю царствования Николая Первого наверняка знал хорошо.
Нет-нет, отнюдь не недостаток образования побудил этого умного и талантливого человека обвинить беднягу Арендта в чудовищном злодеянии.
Да и Николая Павловича, каков бы он там ни был, тоже вряд ли следовало называть «вдохновителем политической интриги», целью которой было «просто убийство», маскируемое под дуэль.
С. Эйзенштейн был на десять голов выше этого своего запальчивого суждения. Но лицемером и приспособленцем он тоже не был. Он даже не был «первым учеником». Он лишь повторял то, что в ту пору твердили все:
…Наемника безжалостную руку Наводит на поэта Николай! Он здесь, жандарм! Он из-за хвои леса Следит упорно, — взведены ль курки. Глядят на узкий пистолет Дантеса Его тупые скользкие зрачки. (Эдуард Багрицкий)Нет, это не был личный, субъективный, индивидуальный взгляд.
Викентия Викентьевича Вересаева, Сергея Михайловича Эйзенштейна, Эдуарда Багрицкого, Ярослава Смелякова, Николая Доризо, Валентина Непомнящего — всех этих — таких разных! — людей (разных по возрасту, по мировоззрению, по уровню образованности) объединяет то, что все они в данном случае выполняли определенный (не все — один и тот же, но все достаточно для каждого из них ясный) социальный заказ.
* * *
Словосочетание это было не последним в ряду самых распространенных идеологем советской эпохи. Существовала даже теория социального заказа.
Насчет теории, правда, высказывались разные мнения.
Один мой знакомый рассказывал мне, что у его университетского профессора — Валериана Федоровича Переверзева (одного из первых в России литературоведов-марксистов) — то ли на лекции, то ли на семинаре однажды спросили, как он относится к этой самой теории социального заказа.
Ответ был краток и категоричен:
— Никакой теории социального заказа нет. Есть теория социального приказа.
Доля истины в этом утверждении была. Но только — доля.
На самом деле, конечно, ни Смелякову, ни Эйзенштейну, ни Вересаеву никто не приказывал разоблачать жену Пушкина и объявлять ее чуть ли не соучастницей политической интриги, приведшей поэта к гибели. Так же, как Николаю Доризо и Валентину Непомнящему тоже никто не приказал пускать слюни и рисовать сусальный портрет кроткой голубицы, послушно выполнившей последнюю волю умирающего супруга.
Все они до этих мыслей додумались самостоятельно. И чувства, выплеснувшиеся в цитировавшихся мною их произведениях, тоже скорее всего были ненаигранными и не навязанными им, а подлинными, искренними, на самом деле испытываемыми ими чувствами.
Но социальный заказ был.
Хотя не исключено, что все они слегка себя накачивали, так сказать, возбуждали, выполняя (вполне искренне, конечно) этот самый социальный заказ.
Время, говорившее устами Вересаева, Эйзенштейна и Смелякова, не признавало оттенков. Оно знало только два цвета. Как сказал в одном из своих стихотворений Константин Симонов, мир тогда был «неделим на черных, смуглых, желтых, а лишь на красных — нас и белых — их».
И был тогда у советских людей свой иконостас, где рядом с ликами главных святых (Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина) красовались лики их предшественников — революционеров и борцов за народное счастье всех времен и народов: Спартака, Марата, Робеспьера, Степана Разина, Емельяна Пугачева, Пестеля, Рылеева, Каховского, Герцена, Чернышевского…
Среди этих последних нашел свое место и иконописный лик Пушкина.
В 1937 году особенно торжественно отмечали столетие со дня гибели великого поэта его земляки — крестьяне (само собой, уже не просто крестьяне, а — колхозники) села Михайловского.
Вот как описал это празднество Виктор Борисович Шкловский:
► Дом стоит над обрывом. Под обрывом — Сороть, обозначенная на снежном поле темно-желтой проталиной…
На обрыве стоит толпа в тысяч десять-двенадцать. Это колхозники округа…
…Сказали, что будет парад пушкинских героев.
Было холодно…
Маскарадные костюмы были надеты на теплое.
Но вот поехали пугачевцы.
Ехал на ковровых санях колхозник, одетый Пугачевым, с белизной в бороде человек, который торжествовал, который чувствовал себя хозяином, победителем. Рядом с ним — ряд генералов с голубыми лентами через плечо.
За ними ехали крестьяне с крестьянской посадкой на лошадях, ехали они с пиками, которые они держали так, как никогда не будет держать актер. Это — отряд осоавиахимовцев…
Это было колхозное войско, которое помогает охранять границу в помощь пограничникам.
За пугачевцами шли сани с очень красивой кибиткой из расписной крашенины, а в кибитке красивая белокурая девушка — капитанская дочь Маша Миронова со своим женихом…
За кибиткой капитанской дочки ехал с пулеметом Чапаев.
Отряд осоавиахимовцев не мог представить себя без пулемета, а национальный праздник не мог обойтись без Чапаева.
Чапаев ехал за Пугачевым, был сам на себя очень похож…
Это и есть Пушкин.
(Виктор Шкловский. Дневник)Чапаев среди героев пушкинской «Капитанской дочки» у столичного писателя мог бы, наверно, вызвать насмешливую улыбку. Но вызвал совсем другие чувства. И это можно понять.
Даже в странно звучащем сегодня утверждении Шкловского, что «это и есть Пушкин», тогда, вероятно, тоже была своя правда.
Выбор-то ведь был небольшой: либо объявить Пушкина «белым» (выразителем интересов помещиков и капиталистов, в лучшем случае — либерального дворянства), либо «красным» — то есть революционером, тираноборцем, ненавидящим царя и ненавидимым царем. И, ей-богу, в этом последнем «перегибе» было все-таки больше правды, чем в первом. Как-никак Пушкин не зря гордился тем, что в свой жестокий век восславил свободу.
Но время шло. И на официальном советском иконостасе появились другие лики: Александра Невского, Суворова, Кутузова…
Но Чапаев при этом тоже сохранил свое место. И это было даже соответствующим образом идеологически оформлено:
Бьемся мы здорово. Колем отчаянно — Внуки Суворова, Дети Чапаева. (С. Маршак. Плакат времен Великой Отечественной войны)Сохранил в том иконостасе свое место и Пугачев. И никого это особенно не смущало. Далеко не все ведь помнили, что плененного Пугачева в железной клетке в Москву, на место казни, привез не кто иной, как Александр Васильевич Суворов.
Теперь они были рядом, в общем сонме наших великих предков.
Это было началом той смены вех, конечным результатом которой (хочется надеяться, что все-таки не конечным) стала сегодняшняя наша государственная символика — красный флаг с серпом и молотом и триколор с двуглавым орлом.
Страна меняла свои идеологические ориентиры. И тогда могло показаться, что эти новые ориентиры мудрее, шире, человечнее прежних, что наконец-то «мы на людей становимся похожими», как позже скажет об этом в своей «Советской пасхальной» Юз Алешковский.
На самом деле, однако, все было куда сложнее. И хуже.
Прежние наши идеологические ориентиры были тупы, жестоки, чудовищно несправедливы. То время грубо разделило весь мир на «своих» и «чужих», «красных» и «белых». Оно в совершенстве владело только одним языком — «шершавым языком плаката». А этот язык, как известно, не знал тонкостей и оттенков:
Мы твоих убийц не позабыли: в зимний день, под заревом небес, мы царю России возвратили пулю, что послал в тебя Дантес. (Ярослав Смеляков)Был ли Дантес наемником, исполнившим тайное поручение царя, или не был — какая разница? Сказал ведь Николай Павлович: «Собаке собачья смерть». Не про Пушкина, правда, про Лермонтова… Ну, не все ли равно!
«Мы царю России возвратили пулю, что послал в тебя Дантес». Не тому, правда, царю, другому… Не важно! К черту подробности!..
Эта картина мироздания сегодня ужасает нас своей грубой и жестокой примитивностью. Но она логична и внутренне непротиворечива.
Так же по-своему логична и внутренне непротиворечива картина мироздания, отразившаяся в благостном и примитивно плоском стихотворении Николая Доризо. (И других подобных — сегодня имя им легион.)
Но совместить эти две картины, соединить их в одну общую — невозможно. А мы попытались (и до сих пор пытаемся) сделать именно это.
Перефразируя знаменитый афоризм Н. Коржавина («Плюрализм в одной голове — это шизофрения»), можно сказать, что именно тогда началась та государственная шизофрения, из которой мы до сих пор никак не можем выбраться.
Как и всякая опасная болезнь, она чревата разнообразными трагическими коллизиями. Но случается ей проявляться и в комических, а иногда даже и совсем анекдотических жизненных ситуациях.
Был, например, такой случай.
► Корреспондент «Комсомольской правды» приехал в Таллин с заданием написать очерк о каких-нибудь особенно интересных формах комсомольской (а может, пионерской?) работы.
В ЦК комсомола ему сказали, что комсомольцы республики взяли шефство над могилой декабриста. И это наверняка может стать хорошим материалом для его будущего очерка.
— А в чем выражается шефство? — спросил журналист.
— Постоянно ухаживаем за могилой. Следим, чтобы поддерживался порядок. Сажаем цветы. По праздникам пионеры и комсомольцы несут там почетный караул.
Выяснив, кто был инициатором этого мероприятия, кто разыскал могилу, записав все нужные ему для очерка сведения и имена, журналист напоследок спросил:
— А как фамилия этого декабриста?
Ему ответили:
— Бенкендорф.
Вернувшись в Москву, журналист расспросил знакомых историков: кто его знает, может, помимо известного ему Бенкендорфа, был еще и какой-то другой? Но знакомые историки заверили его, что никакого другого Бенкендорфа, тем более Бенкендорфа-декабриста, — они не знают. А под Таллином похоронен — тот самый Бенкендорф, Александр Христофорович, шеф жандармов.
Доска почета
Это был такой стенд — деревянный щит, обтянутый красной материей, с именами и фотографиями передовиков производства.
Назначение ее объяснялось так:
► Доска почета — средство поощрения передовиков социалистического соревнования.
(Малая советская энциклопедия, т. 1. С. 577)В первые годы советской власти она называлась «Красная доска», потому что в противоположность ей существовала тогда «Черная доска», на которой красовались имена лодырей, пьяниц, прогульщиков:
► Кого бы из вверенных ему жильцов на черную доску занести, как злостного неплательщика.
(М. Зощенко)Как там у них было тогда — не знаю. Может быть, на заре советской власти на Красную доску и в самом деле вывешивали портреты лучших людей цеха, завода или города. Но в мое время все это выглядело уже иначе.
► …вечером на террасе мы угощали наших хозяев купленным у них же вином. Говорила Егоровна:
— Я, Володя, работаю ото ж бригадиром на винограднику. Ото ж така важка, така тяжела работа, Володя. 3 пяти утра и до самого вечора. Така важка, така трудна работа. Но я люблю важко работать. Когда важко поработаешь, тогда ты собой тоже довольный побываешь.
Дом их, довольно большой, был забит отдыхающими. Мы снимали отдельную комнату. В других комнатах, как в общежитии, койки стояли рядами, каждая стоила два рубля в сутки.
Утром мы проснулись рано, солнце стояло уже высоко. Я вышел в сад к умывальнику и увидел в глубине сада сарай. Дверь сарая открыта, а внутри сарая на раскладушке ничком, в том же самом рваном, высоко задравшемся сарафане лежит наша хозяйка. Надо же, на работу не пошла. Видимо, заболела.
После завтрака я опять увидел ее: она стояла у сарая, потягиваясь как штангист перед взятием веса.
— Вы сегодня не на работе? — спросил я. — Заболели?
— Та ни. У мене ж ото сэссия.
— Сегодня? — удивился я. — Сельсовета?
— Та ни. Ото ж горсовета. Я там у культурной комиссии состою.
Мы с женой уехали на пляж, потом были в кино, потом в ресторане, вернулись — хозяева уже спали. Утром выхожу в сад, вижу — хозяйка опять спит в сарайчике.
— Опять сессия? — спросил я, когда она вышла.
— Та ни. Ото ж партсобрание.
На третий день у нее было совещание передовиков производства. На четвертый что-то еще. В этом доме по-настоящему трудился только ее беспартийный муж. Утром, пока она спала, он по ее приказу уже бежал, как он говорил, «на шоссу» ловить новых квартирантов. А потом в саду что-то строгал, пилил, окапывал деревья.
Поскольку мы уходили из дома раньше ее, а возвращались позже, я никогда не видел нашу хозяйку в достойном ее положения костюме. Всегда в одном и том же сарафане.
Она была словоохотлива и много раз повторяла, что любит тяжелую работу. Что работала во время войны на Алтае шофером и оттуда привезла своего теперешнего мужа. В партию вступила недавно.
— Мэне ж ото парторг наш, Иван Семенович, вызвал. «Ты что ж это, говорит, Егоровна, така хороша работница, а не в партии. Невдобно все же». Ну, я ж ото подумала, Володя, шо як мы, передовые труженики, не будем поступать у партию, то тогда хто ж? Тем более шо партия наша, она же руководит народом, она ж мудрая, миролюбивая, так же ж, Володя?..
Она мне свои тайны раскрывала постепенно. Накануне нашего отъезда мы опять пили вино на террасе.
— Ото ж стыдно сказать, Володя, но мэне ж ото орденом наградылы.
— Каким орденом? — я уже не удивлялся, но все-таки подумал, что орденом каким-нибудь маленьким.
— Та ото ж Лэнина. Меня в Краснодаре Полянский принимал, пальто подавал. Если бы, говорит, до того, Егоровна, у тебя б не медаль, а хотя б «Знак почета», мы б тебе сейчас Героя далы.
Мы прожили в этом доме не неделю, а полторы. В последнее утро мы проснулись от шума. На крыльце галдели человек десять студентов, которых хозяин успел уже притащить «с шоссы» на наше место. Прощаясь с хозяином, я спросил: «А где Егоровна?» — «Ушла на виноградник», — сказал он.
Это был ее первый выход на работу за полторы недели.
Все эти дни мы провели или дома, или на берегу. А тут первый раз ехали через центр города. И в скверике перед зданием горкома увидели шеренгу портретов, над которыми было написано: «Лучшие люди города».
На четвертом слева портрете красовалась наша хозяйка. В темном костюме, в белой блузке, с орденом Ленина на высокой груди.
(Владимир Войнович. Антисоветский Советский Союз)А герой песен Галича Клим Петрович Коломийцев на Лоску почета так и не попал. Хотя оснований для этого у него было вроде побольше, чем у войновичевской Егоровны.
Клим Петрович — мастер цеха, кавалер многих орденов, член бюро парткома и депутат горсовета — главный герой целого цикла галичевских песен. И в одной из них он рассказывает как раз о том, как боролся за место на Доске почета. Не за себя лично боролся, за весь свой героический цех:
«Как хотите — на доске ль, на бумаге ль, Цельным цехом отмечайте, не лично. Мы ж работаем на весь наш соцлагерь, Мы ж продукцию даем на отлично! И совсем мне, — говорю, — не до смеху, Это чье же, — говорю, — указанье, Чтоб такому выдающему цеху Не присваивать почетное званье?!» А мне говорят, Все друзья говорят — И Фрол, и Пахомов с Тонькою: «Никак, — говорят, — нельзя, — говорят, — Уж больно тут дело тонкое!»Не добившись правды в своем родном парткоме, Клим Петрович кинулся в обком. Но и там дали ему от ворот поворот. Опять-таки упирая на то, что дело это тонкое, и объясняя свой отказ какими-то не очень понятными обиняками:
— Мало, что ли, пресса ихняя треплет Всё, что делается в нашенском доме? Скажешь — дремлет Пентагон? Нет, не дремлет! Он не дремлет, мать его, он на стрёме!Но Клим Петрович уверен в своей правоте:
Как завелся я тут с пол-оборота: — Так и будем сачковать?! Так и будем?! Мы же в счет восьмидесятого года Выдаем свою продукцию людям!И получив окончательный отказ, объявил, что на этом не успокоится:
А я говорю, в тоске говорю: — Продолжим наш спор в Москве, — говорю!И не соврал — добрался-таки до самой Москвы:
…Проживаюсь я в Москве, как собака. Отсылает референт к референту: — Ты и прав, — мне говорят, — но, однако, Не подходит это дело к моменту. Ну, а вздумается вашему цеху, Скажем — встать на юбилейную вахту? Представляешь сам, какую оценку Би-би-си дадут подобному факту?! Ну, потом — про ордена, про жилплощадь, А прощаясь, говорят на прощанье: — Было б в мире положенье попроще, Мы б охотно вам присвоили званье. А так, — говорят, — ну, ты прав, — говорят, — И продукция ваша лучшая! Но все ж, — говорят, — не ДРАП, — говорят, — А проволока колючая!..И, так и не добившись правды, Клим Петрович ушел в запой.
Такая вот история.
Финал, конечно, эффектный. И насчет построения сюжета — тут все, может быть, и правильно. Но что касается правды жизни — тут, я думаю, Александр Аркадьевич слегка дал маху.
Это подтверждает другая песня того же Галича — про того же Клима Петровича Коломийцева. Про то, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира.
«Пижон-порученец» в суматохе перепутал бумажки, подсунул Климу вместо его речи — другую, чужую. И произнес Клим с трибуны от своего имени такие слова:
«Израильская, — говорю, — военщина Известна всему свету! Как мать, — говорю, — и как женщина Требую их к ответу! Который год я вдовая, Все счастье — мимо, Но я стоять готовая За дело мира! Как мать заявляю вам и как женщина!..»Казалось бы, такой конфуз должен вызвать если не скандал, так хотя бы смех, какое-никакое замешательство.
Но никто даже и глазом не моргнул. И растерянный Клим принимает единственно правильное решение:
Ну, и дал я тут галопом — по фразам (Слава Богу, завсегда все и то же!), А как кончил — Все захлопали разом, Первый тоже — лично — сдвинул ладоши. Опосля зазвал в свою вотчину И сказал при всем окружении: «Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему! Очень верно осветил положение!»Вот так же и в песне про то, как Клим Петрович Коломийцев добивался, чтобы его цеху присвоили почетное звание «Цеха коммунистического труда», я думаю, правдоподобнее было бы, если бы он все-таки добился своего и фотографии его и его товарищей появились бы на заводской — или даже городской — Доске почета.
Потому что на самом деле никому не было решительно никакого дела до того, какую продукцию производят рабочие этого цеха и каков конечный результат их труда. Весь этот сюжет про колючую проволоку был всего лишь развернутой метафорой, игрой слов, основанной на двойном значении слова «лагерь». («Мы ж работаем на весь наш соцлагерь…», то есть вся наша большая зона опутана этой самой колючей проволокой, которую производит Клим Петрович со своими товарищами по цеху.)
Слов нет, метафора хороша.
Но в жизни все это выглядело бы совершенно иначе, подтверждением чего может служить такая правдивая история.
* * *
Андрей Дмитриевич Сахаров умер внезапно. И сразу поползли разные нехорошие слухи.
Надо сказать, что слухи эти возникли не на пустом месте.
Во-первых, все уже хорошо знали, что возможности КГБ в этом смысле безграничны. Наслышаны были и про уколы зонтиком, и про другие достижения тайных лабораторий «конторы». Знали, что тайные яды эти не оставляют никаких следов. И это были уже не слухи, не сплетни: об этом тогда уже писали в газетах.
А для подозрений, что Андрей Дмитриевич умер не своей смертью, были еще дополнительные основания.
Накануне на Съезде народных депутатов Сахарова «захлопали» и согнали с трибуны. Многие слышали, как сидящий в президиуме Горбачев, не рассчитавший чуткости микрофона, удовлетворенно сказал вполголоса кому-то сидящему рядом: «Что и требовалось доказать».
Но и те, кто не слыхал этой реплики генсека, не сомневались, что «нардепы», сгонявшие академика с трибуны, действовали не по своей инициативе, а выполняли указание САМОГО.
Говорили, что в тот день Сахаров открыто предупредил, что завтра же официально объявит о своей оппозиции Горбачеву. Но осуществить это свое намерение он не смог: помешала смерть.
Обстоятельства его смерти тоже вызывали нехорошие подозрения.
У Сахаровых были две двухкомнатные квартирки — одна над другой. В одной — той, что выше этажом, — они жили. А в нижней Андрей Дмитриевич работал и иногда уходил туда отдохнуть.
В тот вечер он спустился в нижнюю квартиру, сказав Елене Георгиевне, что хочет часа полтора поспать перед тем, как сесть за работу над завтрашней речью. Через полтора часа, как договорились, Елена Георгиевна спустилась вниз. Дверь квартиры была открыта (они никогда ее не запирали). Мертвый Андрей Дмитриевич лежал на пороге.
Короче говоря, основания для нехороших подозрений были немалые.
И более всего заинтересован в том, чтобы положить им конец, был, конечно, сам Горбачев.
Но и те, кто не доверял Горбачеву, тоже были заинтересованы в том, чтобы начальству не удалось скрыть истинную причину смерти опального академика.
И вот поэтому-то решили обратиться к Я.Л. Рапопорту, крупнейшему патологоанатому страны.
Яков Львович был не только величайшим артистом своего дела (слово «артист», вроде не слишком тут уместное, принадлежит ему самому. «Я тоже артист театра, — сказал он однажды Вере Пашенной. — Правда, анатомического»). Так же высока, как профессиональная, была и его человеческая репутация. (Это к делу, пожалуй, не относится, но не могу не сказать здесь о том, что Я.Л. Рапопорт был одной из жертв знаменитого «Дела врачей» 1953 года и — единственным, кто оставил об этом «Деле» самые подробные свидетельства: книга его на эту тему вышла в свет в 1988 году.)
Присутствовать при вскрытии тела покойного академика Я.Л. Рапопорта попросили члены семьи Андрея Дмитриевича и его друзья и коллеги (физики ФИАНа).
Яков Львович, разумеется, согласился. Но ему в ту пору было уже — ни много ни мало — 90 лет. И в Кунцево (вскрытие происходило именно там, в прозекторской Кремлевской больницы) вместе с ним поехала его дочь Наталья.
Сперва ее закрыли в кабинете начальника патологоанатомической службы 4-го Главного управления Минздрава СССР Постнова и приказали никуда из него не выходить. Но примерно через час после начала вскрытия дверь кабинета отворилась — и на пороге появился сам его хозяин.
— Что вы здесь делаете? — удивился он.
Наталья объяснила, что ее посадили здесь какие-то люди в военной форме и запретили выходить.
— Здесь не они хозяева! — вспылил Постнов. — Здесь я хозяин! Если хотите, можете пройти в зал и быть рядом с отцом.
Пройти в прозекторскую она не захотела, но из кабинета ушла и стала — в ожидании — слоняться по коридорам. И вот тут-то и произошло то мелкое происшествие, ради которого я и затеял весь этот довольно длинный рассказ, который на самом деле был всего лишь предысторией:
► Бродя по коридору кремлевской прозектуры, я наткнулась на Доску почета с многочисленными грамотами. «Почетная Грамота дана коллективу Патологоанатомического отделения 1-й больницы 4-го Главного управления Минздрава СССР за победу в Социалистическом соревновании».
Что-что?! Патологоанатомическое отделение побеждает в социалистическом соревновании? С кем? С коллективом хирургов, терапевтов, гинекологов, ухо-горло-носов? Несчастная страна…
(Наталья Рапопорт. То ли быль, то ли небыль. СПб., 1998)Мелкий этот эпизод (один из десятков, сотен тысяч таких же), казалось бы, не заслуживает такой высокой патетики. Скорее — усталой улыбки.
Но пафос этого горестного восклицания («Несчастная страна!») был рожден, я думаю, не только тем, что идиотская Доска почета попалась ей на глаза в такую трагическую минуту. Истинный смысл ее восклицания я вижу в другом.
Разве не главным несчастьем нашей страны был этот торжествующий абсурд — это принципиальное нежелание считаться с реальностью, это повсеместное вытеснение ее показухой, эта тотальная, заполонившая всю страну подмена живой жизни тоской почета.
E
Единство
Это было одно из главных, ключевых слов советского новояза. Обычно оно употреблялось в таких словосочетаниях: «монолитное единство партии», «морально-политическое единство советского народа», «нерушимое единство партии и народа».
Попробуем понять, что — конкретно — стояло за каждой из этих (и им подобных) словесных формул.
1. Нерушимое единство партийных рядов.
Природа этого нерушимого единства хорошо известна. Еще при Ленине (в 1921 году) на Десятом партийном съезде была принята знаменитая резолюция «О единстве партии», запрещающая всякую фракционную деятельность, а по существу — так даже и все внутрипартийные дискуссии.
Все, кто пытался (в той или иной форме) не подчиняться этой резолюции, в конце концов получали пулю в затылок: кто — после грандиозного судебного процесса в Колонном зале Дома союзов, а кто — без всякого суда и следствия (по приговору Особого Совещания — знаменитого ОСО. «Две ручки — одно колесо», как шутили старые лагерники).
В результате в партийных рядах утвердилось настолько прочное и нерушимое единство, что ни в каких таких чрезвычайных мерах надобности уже не возникало (интересующиеся подробностями могут заглянуть в главы «Партдисциплина» и «Положишь партийный билет».)
2. Морально-политическое единство советского народа.
Эта формула тоже не была фикцией. Но тут все было уже совсем не так просто.
Когда Осипа Эмильевича Мандельштама отправили в его первую ссылку (в Чердынь), за ним разрешили последовать его жене — Надежде Яковлевне. Об этом их путешествии она рассказала в первой книге своих воспоминаний. Было там, понятное дело, немало всякого рода физических неудобств и тягот. Но более всего поразило и травмировало их тогда не это:
► В переполненных вагонах, на шумных вокзалах, на пароходе, словом, всюду никто не обращал внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под конвоем трех солдат. Никто даже не обернулся и не посмотрел на нас. Привыкли они, что ли, к таким зрелищам или боялись «заразы»? Кто их знает, но думаю, что это было проявлением особой советской вежливости: раз ссылают, да еще под конвоем, видно, так и надо… Это равнодушие толпы очень огорчало О. М.: «Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят». Он с ужасом говорил, что на глазах такой толпы можно сделать что угодно — растерзать, убить арестанта, а зрители повернутся спиной.
(Надежда Мандельштам. Воспоминания)Потрясло Мандельштама не просто равнодушие. С равнодушием и даже с враждебностью толпы арестант мог столкнуться и по дороге в царскую ссылку. Но тут было другое. Это было столкновение с монолитом, именуемым «морально-политическим единством советского народа». Не зря, оказавшись в Чердыни, озабоченная тяжелым психическим состоянием Мандельштама, Надежда Яковлевна расспрашивала ссыльных эсеров и меньшевиков, хорошо помнивших царские тюрьмы: «А раньше тоже из тюрьмы выходили в таком виде?»
Ссыльные в один голос отвечали, что прежде арест почему-то так не действовал на психику заключенного.
Мандельштам с ужасом ощутил, что фактом ареста его обрекли на полное, абсолютное отщепенство.
В результате на свет явились хорошо известные стихи, доныне поражающие нас пронзительной, предельно искренней попыткой поэта, как выразилась по этому поводу его вдова, «примириться с действительностью».
Она считала, что эти его настроения были последствием травматического психоза, который Мандельштам перенес вскоре после ареста. Болезнь была очень тяжелой, с бредом, галлюцинациями, с попыткой самоубийства.
Говоря о том, как быстро Мандельштам сумел преодолеть эту тяжелейшую психическую травму, Надежда Яковлевна замечает:
► Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникавшее время от времени желание примириться с действительностью и найти ей оправдания. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в те минуты он находился под гипнозом. В такие минуты он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах.
Можно, конечно, считать это болезнью. Но тогда придется признать, что болезнь эта была чрезвычайно широко распространена.
Вряд ли в ту пору можно было найти в стране интеллигента, который в той или иной форме не был бы тронут этой болезнью. Но рассмотреть подробно ее течение лучше не на рядовом, а на каком-нибудь особенно выразительном, особенно ярком примере.
Такая возможность у нас есть.
* * *
В 1960 году в Москве, в издательстве «Советский писатель», вышла книга Александра Афиногенова «Дневники и записные книжки». Она включала в себя выбранные места из дневников и записных книжек драматурга, начиная с 1927 года по 1941-й.
Это был, как принято выражаться в таких случаях, совершенно замечательный человеческий документ.
Поначалу, правда, читать этот человеческий документ было не слишком интересно.
На первых страницах там шли записи примерно такого рода:
► Можно не замечать мелких мыслей и случайных предметов. Но, заметив их, нужно обязательно додумать до конца мысль и оглядеть предмет. Не бросай ничего посредине. Разброс, путанье, потеря мыслей, измельчание чувств.
Мелькали и заметки чисто профессиональные: наброски приходящих автору в голову сюжетов. Размышления о читаных или увиденных на сцене пьесах классического репертуара. Например, об ибсеновской «Норе»:
► В первом акте открывает основные черты характера, крупными мазками очерчивает фигуры, не торопится с развертыванием действия… В то же время упорно идет подводное накопление фраз, поступков, характеристик, которые впоследствии вступят в бой как аргументы и не будут загружать собой действия.
Другие замечания и соображения, приоткрывающие дверь в так называемую «творческую лабораторию» драматурга:
► Перипетия — трагический момент, дающий действию новое направление, благодаря случайному, но предусмотренному в завязке происшествию…
Поступок сам по себе не производит драматического действия, а как раз разряжает напряжение, освобождая героя от замешательства. Только то действие интересно, которое пробуждает в герое новые чувства для новых замыслов, решений и напряжений.
Все это было, по правде говоря, довольно-таки банально.
Немного интереснее были записи, помеченные мартом — августом 1932 года — в это время Афиногенов путешествовал по Италии:
► Венеция туристов и сама по себе — матроны, грязные лавчонки, босые, рваные ребята, матрацы висят из окон, в переулках нельзя ходить под руку — не разойдешься, — копоть, все окна за решетками, улица в белье — идти и нагибаться, чтобы не свалить чужие подштанники…
В соборе Св. Марка священники отпускают грехи через окошко — как билеты из кассы. Отпуск грехов на четырех языках.
Но и это тоже не так чтобы очень захватывало.
Интересное началось, когда записи подошли к тридцать седьмому году. Точнее — к короткому периоду в жизни автора: с мая 1937-го по февраль 1938-го.
Вдруг — совершенно неожиданно — в эти спокойные, несколько даже отвлеченные размышления на профессиональные темы ворвалась совершенно иная нота. И — совершенно иная тема:
► Нет, все же наше поколение неблагодарно, оно не умеет ценить всех благ, данных ему Великой Революцией, как часто забываем мы все, от чего избавлены, как часто морщимся и ежимся от мелких неудобств, чьей-то несправедливости, считаем, что живем плохо, а если бы мы представили себе прошлую жизнь, ее ужасы и безысходность, все наши капризы и недовольства рассеялись бы мгновенно, и мы бы краснели от стыда за свою эгоистическую забывчивость.
В дневниковых записях прежних лет Афиногенов тоже время от времени отдавал дань размышлениям на эту тему. О прежней, дореволюционной жизни и — современной, новой, сегодняшней. Но там в основе этих размышлений лежало стремление понять эту новую жизнь, разобраться в ее сложностях и противоречиях, в стимулах поведения людей, в движущих ею механизмах:
► Тема неравенства в социалистическом обществе.
Почему ты получаешь большую зарплату?..
Почему она любит тебя, а не меня?
В этих записях он тоже представал перед нами искренним и убежденным сторонником происшедших перемен, а нередко даже и человеком, искренне влюбленным в эту новую, «социалистическую» реальность. Но не было там и тени этого страстного, чуть ли даже не истерического биения себя в грудь.
А теперь это — на каждом шагу.
Буквально в каждой записи ощущается нетерпеливое желание автора не просто заявить (часто совершенно не к месту, ни к селу ни к городу) о своей лояльности, а с какой-то прямо-таки патологической страстью выкрикнуть: «Я люблю! Люблю эту новую жизнь! Я предан ей всем сердцем, всей душой, каждым атомом, каждой молекулой всего моего существа!»
Как и раньше, он делится в дневнике впечатлениями о только что прочитанных книгах. Но раньше все эти его впечатления были в таком роде:
► …В «Виндзорских женах» интрига переплетена очень ловко и опять-таки идет прежде всего от характера Фальстафа-
Шекспир разминается долго, прежде чем пуститься в путь… но разница между ним и Скрибом именно та, что Шекспир строит сюжет из характера и на нем, а Скриб — характер из готового сюжета… подчиняя характер сюжету…
Сомерсет Моэм не оставляет без короткой заметки ни одного виденного им человека… отсюда рождаются сюжеты, образы, положения и характеры…
Теперь же только что прочитанная — или перечитанная заново — книга вызывает у него совсем иные мысли, чувства, ощущения:
► Читал не отрываясь «Боги жаждут». Читал давно когда-то, и тогда запомнилась только мансарда старика, его паяцы и потом — как судья воспользовался девушкой и обманул ее… А теперь прочел, захлебываясь, чтобы со всей силой еще раз ощутить — великое милосердие нашей революции. Там было метание людей, зажатых тисками измены, смены классов, разных интересов. У нас — спокойное шествие вперед одного победившего класса и его партии…
Ну, положим, «Боги жаждут» — книга о революции, и аналогия с «нашей революцией» тут как бы сама собой напрашивается.
Но совершенно те же мысли и те же чувства рождает теперь в его душе и Гамсун, и «Жан Кристоф» Романа Роллана:
► Вот Жан Кристоф, одинокий и раздавленный, бродит по ярмарке на площади среди тучи завистливых карьеристов, лживых журналистов, продажных душ, денежных мешков — нигде не находит он участия… погибай — никому до тебя нет дела… И все кругом — все эти кружки, салоны, кучки, журналы — все покрыто плесенью продажности и разложения, — и, читая, не отрываясь, изредка вздохнешь полной грудью, оглянешься, подумаешь: это же как сон, как кошмар, и какое счастье, что у нас нет ничего на это похожего, что мы, суровые и строгие, не очень-то щедрые на похвалы, — в тысячу раз лучше, и целомудреннее, и чище, и человечнее всех этих фарисеев волчьего мира, где только один закон — угнетения сильным слабого…
Фразочка о «наших людях», суровых, строгих и не очень щедрых на похвалы, явно намекает на то, что автору дневника, как и герою Романа Роллана, тоже иногда приходилось несладко, что и ему случалось страдать от одиночества, не находить участия… Но разве можно сравнивать «их нравы», где человек человеку волк, с нашими, где человек человеку друг, товарищ и брат!
Это, конечно, утешает. Но, как видно, не до конца. И, так и не сумев утешиться этим нехитрым рассуждением, он все больше и больше себя накачивает и в конце концов из крохотной искры этого слабенького самоутешения раздувает пламя уже самой настоящей мазохистской истерики:
► Те, кто дали нам теперешнюю полноводную счастливую жизнь, — те сами хорошо испытали, что значит жизнь прошлая. Нам же она досталась только по воспоминаниям. И только когда читаешь такое вот воспоминание из хорошей книги, глаза наливаются слезами, сердце переполняется благодарностью к тем, кто, несмотря ни на какие препятствия, протесты, крики и измены, — ведет нас по этой дороге настоящей и замечательной жизни…
Таких записей здесь так много и все они так упорно бьют в одну точку, что поневоле — в особенности по контрасту с записями предыдущих лет — начинаешь ощущать за всем этим какую-то странность.
Собственно, ничего такого уж особенно странного тут, пожалуй, и не было бы, если бы не одно обстоятельство. Странность состояла в том, что за семь лет до описываемых событий, а именно в 1930 году, драматург Александр Афиногенов написал самую знаменитую свою пьесу — «Страх».
* * *
Совсем недавно я прочел (в «Аргументах и фактах») интервью с одним из старейших наших театральных деятелей — Борисом Гавриловичем Голубовским. Журналистка, расспрашивавшая его о самых заметных событиях театральной жизни 30-х годов, между прочим, задала ему такой вопрос:
— Советское искусство было сплошь верноподданническим?
— Совсем нет! — живо отреагировал старый режиссер. — Была, например, пьеса Афиногенова «Страх»…
Между тем, если исходить из драматургического конфликта, лежащего в основе этой старой афиногеновской пьесы, из логики ее сюжета, пьеса эта тоже была вполне верноподданнической.
Некий профессор Бородин, научный руководитель Института физиологических стимулов, занят разработкой какой-то своей доморощенной теории. Он отнюдь не враг советской власти, он просто заблуждается. Но эти его заблуждения используют враги. Кончается дело тем, что профессора арестовывают. Он попадает в НКВД. Но мудрые, все понимающие чекисты устраивают ему очную ставку с предавшими его учениками. Профессор прозревает и, поняв, к чему могут привести (отчасти даже уже привели) его научные заблуждения, отрекается от своих ложных теорий. Он даже отказывается идти на пенсию. Он будет с новыми силами, с удвоенной энергией трудиться на благо нашей родной советской власти и на страх ее врагам.
Почему же в таком случае Борис Гаврилович Голубовский выделил эту пьесу из бесконечного потока верноподданических и даже решительно ее им противопоставил? Может быть, такое впечатление на него произвела не сама пьеса, а поставленный на ее основе спектакль? Скажем, исполнение роли профессора Бородина каким-нибудь выдающимся тогдашним актером, который привнес в эту роль что-то такое, чего в пьесе вовсе даже и не было?
Да, пожалуй что так. Весь ход воспоминаний Голубовского это предположение вроде бы подтверждает. Он рассказывает о спектакле Ленинградского театра драмы, где профессора Бородина играл замечательный артист — Певцов. (Несколькими годами позже его на всю страну прославила блистательно сыгранная им роль белогвардейского полковника в «Чапаеве».)
Вспоминая, а отчасти даже и анализируя свои давнее зрительское впечатление, Голубовский сказал, что Певцов в той сцене — и в этом как раз и состояла сила его актерского дара — не только заставил каждого зрителя проникнуться сознанием того страха, под давлением которого жила страна, но и «заставлял каждого переводить этот страх на себя».
Да, роль актера тут, видно, и впрямь была велика. Но и драматург тоже кое-что сделал для того, чтобы эта его пьеса впечаталась в сознание современника как противостоящая мутному потоку угодливых, сервильных, верноподданнических пьес и спектаклей того времени.
«Что сделалось с людьми? — восклицает профессор Бородин уже в первой картине. — Профессоров сажают в тюрьму, аспиранты лезут на кафедры, таланты гибнут от выдвиженцев… Сыновья отказываются от матерей и скрывают прошлое, дочери обвиняют отцов…»
Предполагалось, конечно, что реплики, подобные этой, характеризуют не столько советскую действительность, сколько растерянность и идейную близорукость «заблуждающегося» профессора Бородина. Но согласно неписаным (а позже уже и писаным, четко сформулированным) законам советской драматургии вкладывать такие суждения не полагалось даже в уста заведомо отрицательных персонажей. Это называлось — «предоставлять трибуну врагу». Афиногенов же мало того что нарушил это жесткое, железное правило. Мало того что «предоставил трибуну врагу» с неслыханной по тем временам щедростью. Откровениями своего «заблуждающегося» профессора он попал в самый нерв, в главную болевую точку. И это уже была не пара-другая случайных (хотя и очень сильных) реплик. Это была кульминация всей драмы.
Профессор Бородин делает доклад, в котором подводит итог многолетним своим наблюдениям, делится с аудиторией (а тем самым и со зрителями) главным своим научным открытием:
► Бородин. Мы провели объективное обследование нескольких сотен индивидуумов различных общественных прослоек. Я не буду рассказывать о путях и методах этого обследования… Скажу только, что общим стимулом поведения восьмидесяти процентов всех обследованных является страх.
Голос. Что?
Бородин. Страх… Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение… Страх ходит за человеком… никто ничего не делает без окрика, без занесения на черную доску, без угрозы посадить или выслать. Кролик, который увидел удава, не в состоянии двинуться с места — его мускулы оцепенели, он покорно ждет, пока удавные кольца сожмут и раздавят его. Мы все кролики…
Заключая свои рассказ о спектакле Ленинградского театра драмы с Певцовым в главной роли, Борис Голубовский поделился еще одним воспоминанием:
► Я потом спрашивал у режиссера-постановщика Петрова:
— Вы понимали тогда, что вы подняли?
Петров отвечал:
— Понимал бы — не ставил бы.
Может, оно и так. Но автор пьесы, сочинивший этот монолог профессора Бородина, правду которого все сидящие в зале чувствовали кожей, кое-что, наверно, все-таки понимал. И вот в этом-то как раз и состоит главная странность: чтобы у человека, сумевшего в 1930 году поставить происходившему в стране этот поразительный по своей точности диагноз, в сентябре 1937 года, в разгар «ежовщины», в самый пик сталинского террора, когда только что был вынесен и приведен в исполнение расстрельный приговор Каменеву и Зиновьеву и их однодельцам, роман Анатоля Франса «Боги жаждут» не вызвал никаких других мыслей, кроме мысли о «великом милосердии нашей революции»?
Нет, тут что-то не так.
* * *
Окончательно я укрепился в предположении, что тут что-то не так, дойдя до записи, помеченной двенадцатым декабря 1938 года.
Эту дату я хорошо помнил.
В тот день состоялись выборы в Верховный Совет СССР, проходившие по новой, недавно принятой Сталинской Конституции. Родители взяли меня с собой. Обставлено все было очень торжественно. Играл духовой оркестр. Пол на избирательном участке устилали ковровые дорожки. Всюду цветы, много цветов. На стенах — транспаранты, лозунги: «Голосуйте за блок коммунистов и беспартийных!» Афиши с портретами кандидатов в депутаты.
Все было как на Первое мая или Седьмое ноября — главные наши праздники. И лица у людей были праздничные.
Это потом, позже вся эта предвыборная и выборная канитель стала рутинной тошниловкой. В 60-м, когда мы взяли с собой на избирательный участок нашего пятилетнего сына (не с кем было его оставить), он спросил у меня, куда мы идем. Я объяснил, что на выборы. Он спросил, кого мы будем выбирать. Я, кивнув на плакатик, где красовалась упитанная будка нашего кандидата, сказал:
— Вот этого дядю.
— А вы можете выбрать кого-нибудь другого? — спросил он.
Не вдаваясь в сложные рассуждения об оригинальной советской избирательной системе, я коротко ответил, что нет, не можем. И тогда мой ребенок, точь-в-точь как мальчик из андерсеновской сказки, задал следующий, безукоризненно логичный вопрос:
— Почему же тогда это называется «выборы»?
Мне в мои одиннадцать (заметьте — не пять, а одиннадцать!) лет этот простой вопрос в голову не пришел. Я был охвачен радостным праздничным возбуждением. Не забывайте, все это было впервые. Не только в моей жизни, а вообще впервые — первые демократические советские выборы, равные, без всяких там лишенцев, а главное — тайные.
Это поразило меня больше всего.
Не слово (его я слышал и раньше), даже не понятие, а его материальная реализация — кабины. Роскошные, занавешенные бархатными портьерами кабины, куда каждый избиратель мог уединиться, чтобы — как это гарантировала ему самая свободная в мире Сталинская Конституция — в полной тайне исполнить свой гражданский долг: проголосовать за блок коммунистов и беспартийных. Или — против.
Но кто же станет голосовать против? Неужели такие найдутся?
А если не найдутся, так зачем же тогда эти кабины?
Я недолго мучился над этой загадкой. Мне сразу пришло в голову, что кабины эти устроены нарочно. Для того чтобы выявить не только всех голосующих против, но даже и колеблющихся, сомневающихся.
Я даже подумал, что там, в этих кабинах, есть какие-то специальные устройства, регистрирующие всех этих скрытых и даже потенциальных врагов советской власти. Может быть, фотоаппараты, запечатлевающие их лица. Или другие какие-нибудь приборы, благодаря которым их можно будет потом опознать — по почерку или по отпечаткам пальцев.
А если даже никаких таких приборов и аппаратов там нет, то за каждым, кто осмелится войти в такую кабину (у настоящего советского человека такая потребность не может даже и возникнуть!), наверняка будет установлена слежка. И всех их потом арестуют.
Ей-богу, я не вру. Разве только чуть упрощаю: ход моих мыслей был, может быть, не так последователен и логичен, как в этом сегодняшнем, довольно-таки неуклюжем моем изложении. Но самая суть моей реакции на эти поразившие мое воображение кабины была именно такова.
Впечатления Александра Николаевича Афиногенова, если верить его дневниковой записи, помеченной той знаменательной датой, сильно отличались от тех моих детских мыслей и переживаний:
► Пришло и прошло это знаменательное число. С утра уже в самом воздухе было что-то праздничное, особое, нежное… Мы пошли голосовать в полдень… В самом участке (помещается в школе) — тишина, много народа… Народ толпится, не хочет уходить, уж очень скоро проходит вся процедура. За столом регистраторы отмечают прибывших, выдают по конверту и два бюллетеня — белый и голубой.
В стороне — другой стол, покрытый красным, на нем литература, цветы…
Из этой первой комнаты — ход в другую, где отделены пять-шесть кабинок. Там распорядительница — молодая девушка, направляет в свободную кабинку, а в кабинке — крохотный столик, на нем трогательный горшок цветов, привезенных из города, красный карандаш, если хочешь вычеркнуть фамилию. И действительно, не хочется уходить, хочется продлить процедуру голосования, с кем-то поделиться мыслями, задержаться, порасспросить. У выхода из комнаты с кабинками — урна. Деревянный ящик, опечатанный сургучом…
Старушка в полушалке, встречая другую, кричит ей через улицу: «Ну как, причастилась?»
И действительно, в тишине комнаты с кабинками, в процедуре опускания конверта есть что-то торжественное. Почти как причастие для этих самых старушек. Им бы еще ладаном покурить для вящего благолепия — и совсем тогда как в церкви.
Едем в Москву. Там — полное ощущение праздника.
Действительно, как первый день Пасхи по детским воспоминаниям, когда народ высыпал на улицы и шел не торопясь, делясь впечатлениями, здороваясь, останавливаясь…
Обычная суетливая московская толпа шла сегодня неторопливо, без портфелей и сумок. Около некоторых домов стояли кучки — это участковые избирательные комиссии — туда шли и подъезжали машины, повитые лентами, — это привозили пожилых избирателей. Говорят, к больным приезжали на дом и давали им возможность голосовать, не сходя с постели.
Лица улыбающиеся, добрые, в воздухе разлито приветствие и торжество. Рупора передают музыку, флаги полощутся в морозном, тихом воздухе, портреты кандидатов на каждом углу.
Великий день. Его значение сейчас еще не совсем оценено. Только на расстоянии лет будет он выделяться все ярче и ярче как дата первого голосования по новой Конституции.
На расстоянии лет — не только сейчас, но и три десятилетия тому назад, а для многих и раньше — во всем своем комическом безобразии предстало перед нами это очевидное надругательство над самим понятием «выборы». Появились разные анекдоты на эту тему. Например, такой. Первая модель советских выборов описана еще в Библии: сотворив Еву, Бог подводит ее к Адаму и говорит: «Вот, выбирай себе жену!»
Но это все — «на расстоянии лет». А тогда? Не тридцать, а семьдесят лет тому назад?
Может быть, современникам этого «великого события» и в самом деле не так легко, как потомкам (моему пятилетнему сыну, например, задавшему мне свой невинный детский вопрос: «Почему же это называется „выборы“?»), было додуматься до этой простой истины?
Я готов был бы с этим согласиться, если бы сам не был современником. И если бы мне, одиннадцатилетнему, уже тогда все это не виделось совсем не так, как Александру Николаевичу Афиногенову.
Я был сыном своего времени, и тогдашние детские мои мысли были, конечно, чудовищны. Но при всей их чудовищности они были все-таки ближе — гораздо ближе! — к пониманию истинного положения дел, чем те мысли и чувства, которые запечатлел в тот день в своем дневнике Александр Афиногенов.
Ведь что ни говори, а это мое предположение насчет истинного назначения кабин свидетельствует, что я гораздо лучше, чем он, знал, в каком царстве-государстве живу. Знал, что верить в простодушие этой затеи с кабинами ни в коем случае нельзя. Нельзя даже верить, что это — просто-напросто показуха. Нет, не показуха, не фальшивое свидетельство, наглядно удостоверяющее действие «самой демократичной в мире» Сталинской Конституции, а именно — ловушка, капкан. Пусть даже поставленный с благородной, необходимой государству целью, но — капкан.
Так что же это получается? Выходит, что я, одиннадцатилетний, в 1938 году был умнее, — ну, не умнее, скажем так, — проницательнее писателя Афиногенова?
Помня о сказке Андерсена, следует признать, что даже и такое предположение не было бы таким уж невероятным. Если бы…
Если бы, как уже было сказано, не то обстоятельство, что писатель Афиногенов за восемь лет до того знаменательного дня написал пьесу «Страх». Стало быть, уже тогда, в тридцатом, увидел, что король — гол. В тридцатом, значит, видел, а в 38-м перестал видеть?
Все это представлялось мне настолько невероятным, что у меня даже закралась мысль, что эта запись в дневнике была сделана Афиногеновым нарочно. Что она, — как, впрочем, и все другие, говорящие о его верности идеалам и преданности строю, — предназначалась для чужих глаз. Говоря проще, что все это писалось в расчете на то, что, если его, не дай бог, арестуют или — более мягкий вариант — сделают у него обыск и его дневник попадет КУДА НАДО, все эти очень личные, интимные, как бы вырвавшиеся из самого его сердца записи станут самым верным, самым надежным свидетельством его политической благонамеренности.
Ничего фантастического в этом моем предположении нет. Такие случаи бывали.
Да и сам Афиногенов довольно прозрачно намекает на такую возможность.
* * *
В 1993 году в журнале «Современная драматургия» (№ 1, 2, 3) появилась новая публикация дневников А. Афиногенова. (Она была озаглавлена: «Дневник 1937 года».) Это были записи, не вошедшие (вряд ли надо объяснять, по какой причине) в книгу, изданную «Советским писателем» в годы робкой хрущевской оттепели.
По той книге о том, что, делая эти свои записи, Афиногенов со дня на день ждал ареста, можно было лишь догадываться. Конечно, основания для таких догадок были, и немалые. Довольно уже того, что дело происходило в 1937 году: кто не вслушивался тогда с замиранием сердца в любой шорох на лестнице, не опасался, что вот-вот и за ним придут! А у Афиногенова для таких опасений были еще и дополнительные основания: его тогда исключили из партии, а это в те времена было уже почти несомненным предвестием ареста. И все-таки — почти. Все-таки могла в его смятенной душе тлеть надежда — пусть крохотная: авось пронесет!
По записям, появившимся тридцать с лишним лет спустя на страницах «Современной драматургии», видно, что никаких таких надежд у него тогда не было. Не могло быть.
Все вокруг твердило ему об этом, подтверждало, что нет, не пронесет, что арест неотвратим, неизбежен:
► Отпадение людей. Пустое пространство вокруг. Все напряглось до предела. Молчит телефон. Никто не решается снять трубку и позвонить, потому что вдруг да «уже»…
Вчера вечером позвонил Берсенев. Я не узнал его голоса. Испуганный, придушенный, торопливый… Сразу понял картину. Мучила совесть человека — как не позвонить тому, с кем был знаком, кто помогал в беде, утешал… но трусил отчаянно и все откладывал, все придумывал себе оправдания. Потом все-таки снял трубку, она жгла, голос сорвался, он бормотал что-то невнятное, ему хотелось скорей положить трубку, он ведь выполнил свой долг, позвонил, чего же тот еще тянет, разговаривает, спрашивает, а телефон ведь наверняка включен, кто-то подслушивает, господи, какая мука… Да-да, увидимся, на этих днях, как-нибудь, через несколько дней… Ну до свидания, до свидания… Фу, наконец-то можно вздохнуть и считать себя свободным от обязательств.
Так отпадают люди, так обнаруживаются нити связей, так распадается в мире все, и человек остается один.
О том, что это самое «уже» обязательно случится, знали не только близкие, не только отвернувшиеся от него друзья, предавшие, растоптавшие его товарищи по партии (Фадеев, Ставский). Дело было громкое, о нем писали газеты, и совсем чужие, незнакомые ему люди на всех перекрестках шептались, склоняя его имя, и ему то и дело случалось слышать этот испуганный, нервный шепоток:
► В поезде два военных. Один другому — громким шепотом: «Да-с, этот японский шпион Авербах уже расстрелян, его помощник Киршон — тоже, Ясенский остался в живых, его сослали на десять лет, а Афиногенова посадили, но дела еще не разбирали…»
Увидели, что прислушиваюсь, и, толкнув друг друга, перешли на другое.
В нотариальной конторе девушка со светлыми волосами, присмотревшись к его подписи, которую нужно было заверить, вдруг спросила: «А вы тот самый, о котором писали?» Да, тот самый. Тогда девушка вышла к нотариусу, и он пошел за ней. Нотариус, старый, желчный, плохо бритый, посмотрел на него и спросил просто: «А НКВД вас не беспокоит? Нет… Ну, тогда, пожалуй, можно и заверить».
В том, что это неотвратимое «уже» обязательно наступит, что НКВД непременно его побеспокоит, что вот-вот настанет день и за ним придут, — он уже не сомневается. Но еще надеется, что даже и в этом случае все еще как-нибудь обойдется — справедливость восторжествует:
► …конечно же, должна восторжествовать правда. И не через десять лет, а скоро, через два-три года… Ведь у нас же другая жизнь и другие требования к людям, ведь у нас же, несмотря на все искривления и тяжести, действительно единственная в мире и справедливая страна и власть.
Да, самая справедливая и единственная…
Почему я говорю это именно сейчас, когда, казалось бы, должен вопить о несправедливости и думать о несовершенстве всей системы? Да потому, что кто-то там, наверху, видит все… и знает, что эти мухи и липкая вонючая грязь клеветы, и издевательские слова, и все остальное — что это все нарост, а на деле я действительно невиновен… Поэтому меня и не трогают, поэтому я и живу свободным, пусть исключенным и измордованным, но свободным… а это главное! Ибо если я свободен, у меня есть силы и пути — восстановить правду о самом себе, и я ее, конечно, восстановлю…
Но допустим даже, что меня взяли. Вот так, пришли ночью, вежливо постучались и сказали: «Пойдемте, гражданин». Допустим, что меня вызвали из камеры на допрос, а следователь ведь тоже человек, и он читает газеты и может находиться под впечатлением страшных этих слов — допустим все это… И все же будет день, когда меня, небритого и побледневшего от тюремного воздуха, следователь позовет к себе в последний раз. Это будет солнечным днем, необычным и веселым. Он пожмет мне руку и скажет: «Вы должны понять, товарищ, что нам приходится иногда прибегать к профилактике — мы взяли вас, естественно, подозревая нечто большее за теми словами, которые были напущены в газетах. Оказалось, при самом строгом нашем к вам отношении, что и десятой доли правды в этих словах нет. Вы свободны. Имя ваше восстановлено. Идите и работайте». И двери в жизнь снова отворятся для меня…
Мечты! Мечты!
Конечно, он знает, что нет у него никакой вины. Знает, что «дело», которое ему шьют, не стоит и выеденного яйца. И в иные минуты его охватывает ярость от всех этих обрушившихся на него нелепых, лживых, лицемерных обвинений:
► За что меня смешали с грязью и спустили с лестницы? За что меня еще будут мотать и мучить, спрашивать и не верить, требовать правды, хотя большей правды, чем я уже сказал им, вообще нет в мире! За что все это? Только за то, что я был несколько лет знаком с Ягодой. И считал это знакомство честью для себя, и равнялся по людям, которых видел там, и был совершенно уверен, что уж там, в доме Ягоды, не может быть никого, кто подвел бы политически или как-нибудь еще! Ведь там принимались только самые проверенные, самые близкие и все самые знатные и большие люди… Среди них, у них учился я преодолевать свое интеллигентское отношение к людям остальным… Многое мне не нравилось, но ведь это же были стражи государственной безопасности!
А кто, кто отказался бы от чести быть принятым у Ягоды? Фарисеи и лжецы все те, кто кричит теперь — распнись, кто смеется надо мной, над моими искренними сомнениями и словами. Им все равно, они смеются и злорадствуют, они выискивают новые и новые подробности, несуществующие и грязные, — они уже видят меня втоптанным в землю и мертвым и рады этому, а я спрашиваю себя все чаще: за что? И не нахожу ответа. Неужели у нас можно судить человека и уничтожать его за то, что он не знал истинной сути народного комиссара внутренних дел, грозы всех чекистов, человека, который знал все про всех? Неужели поэтому теперь надо бить и бичевать себя? Несправедливо и тысячу раз неверно!
Но тут же этот всплеск ярости сменяется совсем иными мыслями, подозрениями, догадками:
► А может быть, я — жертва какого-то дьявольского заговора, который ставит себе целью истребить талантливых советских художников? Может быть, кто-то сейчас радуется и потирает руки и подталкивает на дальнейший размол всех и вся — скорей, скорей, кончайте с ним, его пьесы слишком долго агитировали за коммунизм, теперь будет сброшен он, с ним его пьесы… все может быть, и заговор растет, от него никто не может уйти, он, как масляное пятно, пачкает всех и всех затягивает, как болото… Я уже на дне, вверху гудит жизнь, а у меня голова гудит от тяжести воды надо мной, кто-то в фашистской свастике спихнул меня на дно и теперь радуется, да-да…
В глубине души он, конечно, знает, что все это ерунда. В конце концов, он же признал себя виновным. И даже сам голосовал за свое исключение из партии:
► Потом проголосовали. Ставский сказал: «Переходим к другим делам». Я встал и вышел в мертвой тишине, неловкий от случившегося, потому что не один, наверное, думал о несправедливости сделанного, но вместе со всеми голосовал за исключение, ибо так надо. Почему надо? Трудно сказать, такая уж волна идет, так надо…
Так надо, потому что таковы условия игры. Потому что единство железных партийных рядов должно быть нерушимо. Потому что партия всегда права. Потому что коммунист не может реализовать свою историческую правоту вне партии, помимо партии. Эта формула была придумана Троцким, имя которого тогда, в 1937-м, было страшнее, чем для истово верующего христианина имя сатаны. Но формула жила, она проникла в мозг каждого из них, стала непререкаемым, несокрушимым, не поддающимся сомнению символом веры.
Коммунист, исключенный из партийных рядов, должен полностью разоружиться перед партией.
И он — разоружается:
► Дни великого очищения! Чем страшнее и злее слова по моему адресу, тем больший подъем духа. Совсем не страшны слова, совсем не злые люди, они говорят правильно со своих точек зрения, я же сам для себя произнес гораздо более жестокий приговор, и потому приговоры людей уже не пугают меня теперь…
Все удары принимаю с благодарностью и не ощущаю боли…
Нет нужды, что вместе с правдой говорят много зряшного — о какой-то нелепой расстановке сил, организационных связях, даже о том, что на моей совести жизнь самоубийцы-поэта, которого я никогда не видел в глаза… Все это пустяки — людям же хочется за внутренними моими причинами найти что-то внешнее, они цепляются, раздувают, стараются создать стройную систему там, где не было ничего, кроме желания жить полегче, получше, потише — о, этот яд хорошей и легкой жизни, не заработанной ничем, кроме знакомства с большими людьми!
И как справедливо все, и как легко на душе от сознания своего прозрения, сколько сразу новых мыслей и чувств перед тобой, и только еще не совсем умершие нервы иногда ноют, как после операции, когда уже удалено гнилое и заражавшее, но еще больно шевельнуться от швов и голова гудит от воспоминаний о муках, с которыми лежал под собственным ножом.
Но так или иначе, это совершено — я положил себя под нож, я взрезал не только желудок, но и сердце, я умертвил себя во мне — и потом совершилось чудо: уже не надеявшийся ни на что, кроме гибели физической, уже приготовивший себе эту гибель, — я понял и увидел вдруг начало совсем нового «я», далекого от прежних смут и сует, «я», возникшего из тумана всего лучшего, что во мне было когда-то…
Вот тут, когда читаешь такое, — а такого, как мы уже знаем, там много! — и приходит мысль, что все это предназначается для глаз будущего следователя. И — что самое интересное — эта же мысль приходит в голову и самому автору дневника.
Вернее, ему приходит в голову, что эта мысль не может не прийти в голову и его будущему следователю тоже.
В начале сентября 1937 года в его дневниках — впервые за все это время — появляются наброски некоего драматургического замысла. Но замысел этот был особого рода. Он не был рожден — как можно было бы предположить — желанием писателя, погрузившись в некий художественный вымысел, отвлечься от своих грустных мыслей, уйти — хоть ненадолго — из страшной реальности в какой-то иной, воображаемый, более светлый и радостный мир.
Впрочем, надо признать, что этот воображаемый им мир, в который он стал уходить, был и в самом деле светлее и чище окружающей его мрачной реальности. Но в основе его лежала все та же проклятая реальность.
«Пьеса», которую он стал сочинять, называлась «протокол допроса». И было в ней всего два действующих лица: следователь и подследственный. Подследственным был не кто иной, как он сам: в набросанных драматургом диалогах он прямо так и обозначается личным местоимением первого лица единственного числа — «Я».
В реальной его жизни никакого такого допроса и никакого такого протокола не было. И воображаемый писателем следователь — суровый, но в то же время мягкий, деликатный, а главное, искренне стремящийся к выяснению истины, — вряд ли был похож на реального, с которым ему, к счастью для него, так и не привелось встретиться.
В ходе этого воображаемого допроса Афиногенов делится со следователем теми своими мыслями, с которыми мы уже знакомы. И однажды, как бы подтверждая, что не лукавит, не врет, ссылается на свои дневниковые записи. И вот тут-то и начинается самое интересное:
► СЛЕДОВАТЕЛЬ. Запискам вашим я не верю.
Я. Я и это знал.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Почему?
Я. Потому что, раз человек ждет ареста и ведет записки, ясно, надо думать, он ведет их для будущего читателя-следователя и, значит, там уже и приукрашивает все, как только может, чтобы себя обелить. А прошлые записки, за прошлые годы — так сказать, «редактирует» — исправляет, вырезает, вычеркивает. Ведь так вы подумали?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Так.
Я. И я об этом думал, и передо мной несколько раз вопрос стоял — не лучше ли прекратить записки свои с того момента, когда я понял, что меня должны арестовать? А потом решил — нет, не надо. Ведь в глубине души я все равно не верил, что меня арестуют… А что касается того, что вы запискам не поверите, так это естественно, так и будет, хотя, конечно, если бы вы в них нашли вредные мысли или даже анекдоты, вы бы тогда им поверили, то есть с другой стороны, стороны обвинения моего. Но это и понятно. Но вы не верите написанному мной для себя, я это знал, об этом думал, и это сразу мне облегчило решение задачи — да, надо продолжать писать. Потому что если б я думал, что вы будете верить запискам, то я бы писал как бы для постороннего человека, прощай моя откровенность с самим собой — все равно я бы чувствовал ваш будущий глаз на эти страницах. А раз я знал уже, что вы все равно не поверите ничему и только усмехнетесь, прочтя мною записанное, — я сразу избавился от вашего присутствия для меня при работе над дневником и опять стал писать свободно и просто, как раньше, в прошлые годы…
Первая мысль, которая тут возникает — не может не возникнуть! — что это такой же хитроумный ход. Новая, чуть более изощренная (хотя, в сущности, такая же наивная) попытка продемонстрировать будущему следователю свою стопроцентную, кристальную «советскость».
Но я не думаю, чтобы это было так.
Я верю Афиногенову.
Нет, нет, он не притворялся, не сочинял свой дневник «понарошку», для чужих глаз. Он был искренен.
Но это была искренность совершенно особого рода.
* * *
О карательных органах «Первого в мире Государства рабочих и крестьян» (ЧК, ГПУ, НКВД, МГК, КГБ, а если совсем коротко, ЧКГБ, как назвал это ведомство Солженицын) существует огромная литература — мемуарная, фактологическая, аналитическая. Это горы книг, статей, исследований. Но чем отличается наша «гэбуха» от всех существовавших когда-либо контрразведок, тайных приказов и тайных канцелярий, по-настоящему понял только один из авторов этой гигантской библиотеки — Джордж Оруэлл.
Усовершенствованный, — мало сказать, усовершенствованный, — доведенный до последней мыслимой черты совершенства пыточный застенок у Оруэлла называется Министерством любви.
Какая жуткая ирония!
Но в том-то вся штука, что никакая это не ирония.
Название этого оруэлловского министерства точно соответствует главной его цели, главной, — в сущности, даже единственной, — стоящей перед ним задаче.
Цель эта состоит в том, чтобы заставить каждого, попавшего туда, полюбить Старшего Брата.
Заставить его не просто «разоружиться перед партией», как это называлось у нас (разоружиться ведь можно только на словах), а именно полюбить. Не притвориться, не прикинуться любящим, а полюбить по-настоящему, искренно, всей душой.
В мире, созданном проникающей в самую суть вещей фантазией Джорджа Оруэлла, есть такое понятие — «мыслепреступление». Не тайные замыслы, не преступные умыслы, которые выпытывали на дыбе у царевича Алексея в Петровском тайном приказе, имеются тут в виду, а любая мысль, уклонившаяся хоть слегка в сторону от тех, которые предписаны всем и каждому.
В мыслях наших мы, как известно, не вольны. Но оруэлловское Министерство любви для того и существует, чтобы контролировать и стирать из мозга «мыслепреступника» именно вот эти невольные, непроизвольно возникающие мысли.
Этим советская тайная полиция тоже отличалась от всех тайных полиций мира. Те не стремились проникнуть так глубоко в душу подследственного. Им важно было выпытать у него лишь то, что имеет отношение к делу, по которому он был взят или в котором подозревался. Их совершенно не волновало, как он (в душе, наедине с собой) относится к музыке Шостаковича или стихам Есенина. Лишь бы не говорил об этом вслух, то есть не занимался антигосударственной пропагандой. Чиновникам оруэлловского Министерства любви недостаточно, чтобы все их подопечные стали законопослушными, лояльными и даже управляемыми гражданами Единого Государства. Одного только послушания им мало. Им нужна любовь. Потому что только неподдельная, искренняя и истовая любовь к Старшему Брату может вытеснить из их сознания — и даже из подсознания — все нежелательные, не одобряемые Государством симпатии, привязанности, предпочтения. К тому же Шостаковичу или Есенину.
Да, Оруэлл увидел в загадочной для западного человека советской системе то, что до него не видел никто. Многое он понял, о многом догадался. Но кое-что он все-таки не угадал.
Чиновник оруэлловского Министерства любви (О'Брайен) дьявольски умен. Как личность он неизмеримо крупнее и сильнее жалкого, нравственно раздавленного героя. Средства психологического воздействия, имеющиеся в распоряжении Министерства любви, ужасны прежде всего тем, что они основаны на безусловном, абсолютном знании самых глубинных тайн человеческой психики.
Палач наперед знает весь путь, который его жертве предстоит пройти. Умело, рассчитанно, тонко направляет он свою жертву по заранее намеченным тропинкам интеллектуальных поисков и духовных сомнений. Тем вернее будут потом выжжены, вытравлены эти сомнения из всех его нервных клеток.
Полная и окончательная победа палача над жертвой в мире Оруэлла обусловлена тем, что палач у него интеллектуально выше жертвы, с которой он играет как кошка с мышью. Это проявляется даже в чисто внешних деталях: домашний кабинет О'Брайена изобличает в хозяине человека образованного, тонкого, любящего редкие книги, живопись, музыку.
Но действительность превзошла самые мрачные предположения фантаста. Даже Оруэлл не мог вообразить себе систему, представляющую олигархию темных, невежественных, примитивных существ, взявшихся направлять, кроить и перекраивать по заранее предусмотренной программе духовный мир подлинных интеллектуалов. И не только взявшихся, но и полностью в этом преуспевших.
Нашему отечественному О'Брайену не было никакой необходимости заниматься всей этой тонкой, изощренной работой со своим подопечным, чтобы заставить его разлюбить Шостаковича. У нас всю эту сложную кропотливую работу тот проделывал с собою сам:
► Должен признаться, что, когда я прочел статью «Сумбур вместо музыки», я растерялся. Первым ощущением был протест. Я подумал: это неверно. Шостаковича ругать нельзя, Шостакович — исключительное явление в нашем искусстве. Эта статья сильно ударила по моему сознанию. Музыка Шостаковича мне всегда нравилась… И вдруг я читаю в газете «Правда», что опера Шостаковича есть «Сумбур вместо музыки». Это сказала «Правда». Как же мне быть с моим отношением к Шостаковичу?..
Легче всего было сказать себе: я не ошибаюсь — и отвергнуть для себя самого, внутри, мнение «Правды».
К чему бы это привело? К очень тяжелым психологическим последствиям.
У нас, товарищи, весь рисунок общественной жизни чрезвычайно сцеплен. У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и движущихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии… Если я не соглашусь с этой линией в каком-либо отрезке, то весь сложный рисунок жизни, о котором я думаю и пишу, для меня лично рухнет: мне должно перестать нравиться многое, что кажется мне таким обаятельным. Например, что молодой рабочий в одну ночь произвел переворот в деле добычи угля и стал всемирно знаменитым. Или то, что Литвинов ездит в Женеву и произносит речи, влияющие на судьбы Европы. Или то, что советские стрелки в состязании с американскими оказываются победителями, или то, что ответы Сталина Рой Говарду с восторженным уважением цитируются печатью всего мира…
Если я в чем-нибудь не соглашусь со страной, то вся картина жизни должна для меня потускнеть, потому что все части, все детали этой картины связаны, возникают одна из другой, и ни одна не может быть порочной.
И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то пренебрежительной. К кому пренебрежительной? Ко мне.
Этот человек очень одарен, очень обособлен и замкнут.
Внешне гений может проявляться двояко: в лучезарности, как у Моцарта, и в пренебрежительной замкнутости, как у Шостаковича.
Мелодия есть лучшее, что может извлечь художник из мира. Я выпрашиваю у Шостаковича мелодию, он ломает ее в угоду неизвестно чему, и это меня принижает. Эта пренебрежительность к «черни» и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича — те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас. Вот эти причуды, которые рождаются из пренебрежительности, названы в «Правде» сумбуром и кривлянием…
(Юрий Олеша. Речь на обсуждении статьи «Правды» — «Сумбур вместо музыки»)Героя романа Оруэлла оперировали изощреннейшие специалисты, понаторевшие в операциях такого рода. Советский писатель Юрий Олеша сам, своей рукой отрезал и беспощадно выкинул в мусорную корзину живой, кровоточащий кусок собственной души. И надо признать, что справился он с этой задачей гораздо лучше, чем если бы доверил эту операцию кому-нибудь другому.
Сознание, что он вырезает у себя злокачественную опухоль, от которой могут быть метастазы, — этот страх остаться больным, не излечиться до конца от своей ужасной болезни побудил его быть особенно добросовестным и захватить скальпелем немалое пространство и здоровой ткани. Во всяком случае, той ткани, которую заподозрить в затронутости болезнью мог только он — и никто другой.
Вот, например: как ему быть с Джойсом? Со своим острым художническим интересом к этому писателю? Однажды он имел неосторожность признаться, что ощущает гениальность этого художника, что Горький для него (сам Горький!!!) «формально менее интересен, чем Джойс». У Джойса встречаются порой совершенно поразительные метафоры. А он, Олеша, не раз говорил, что метафора — это единственное, что остается от искусства в веках. Правильно ли это?
Казалось бы, ну при чем тут Джойс! В статье «Правды» о Джойсе — ни слова. Там речь только о Шостаковиче…
Но он, Олеша, не станет заниматься этим недостойным самообманом. Он знает: Джойс тут очень даже при чем. Джойс сложен, элитарен, а следовательно, пренебрежителен к черни уж никак не меньше, чем Шостакович. Если он не расправится с Джойсом сейчас, потом будет поздно. Нет, лучше сразу, заблаговременно вырезать и этот кусок зараженной ткани:
► Художник должен говорить человеку: «Да, да, да», а Джойс говорит: «Нет, нет, нет». Все плохо на земле, — говорит Джойс. И поэтому вся его гениальность для меня не нужна… Я приведу пример из Джойса. Этот писатель сказал: «Сыр — это труп молока». Вот, товарищи, как страшно. Писатель Запада увидел смерть молока. Сказал, что молоко может быть мертвым.
Хорошо это сказано? Хорошо. Это сказано правильно, но мы не хотим такой правильности. Мы хотим художественной диалектической правды. А с точки зрения этой правды молоко никогда не может быть трупом, оно течет из груди матери в уста ребенка, и поэтому оно бессмертно.
(Из той же речи)Вот какая сложная и тонкая была проделана работа. И вот что самое интересное: в отличие от ситуации, придуманной Оруэллом, в реальной жизни оказалось, что палачу вовсе не нужно было быть умным, проницательным, всезнающим. Интеллигент сам выдумал своего палача, усложнил его, наделил несуществующими свойствами. Интеллигент сам убедил себя в том, что палач знает что-то такое, что ему, интеллигенту, неведомо и недоступно.
Герой Оруэлла, чтобы сделать с собой то, что сотворил со своей душой Юрий Карлович Олеша, должен был пройти через все пытки, изобретенные высокоумными палачами Министерства любви, включая самое страшное и самое действенное их изобретение — комнату сто один. У нас же до изобретения такой комнаты, кажется, не додумались?
Додуматься, может быть, и не додумались. Но такая «комната» у нас тоже была.
Ведь эта оруэлловская «комната» страшна не тем, что в ней с тобой сделают, а тем, что ты знаешь, заранее знаешь, что сделают там с тобой нечто такое, чего ты не выдержишь, — чего никто не выдержит, чего нельзя выдержать:
► То, о чем идет речь, — это отнюдь не учреждения, о которых вы, может быть, подумали, не многоярусные громады, без вывесок, с глухими воротами, с уходящими ввысь рядами квадратных окон, что придает им сходство с колумбариями… Работа секретных учреждений только реализует то, что заложено в душе. Как голос совести служит доказательством существования Бога, так страх сам по себе — доказательство существования Сил, страх привлечь к себе внимание, быть подслушанным, высвеченным, страх наткнуться на луч, который проткнет и пригвоздит, как булавка пронзает дергающееся насекомое. Так смутное чувство мистической вины (перед кем и в чем?) обращается в постулат государственной неполноценности…
Близость губительного луча ощущалась внезапно… Страх охватывал мгновенно, он всецело овладевал вами — сказывалась подготовленность! — и первый момент был момент каталептической скованности…
Первый шок — кто его не помнит? В дрожании наэлектризованного воздуха, в безмолвном грохоте стучащей в висках крови — перед глазами сияют два слова: вам повестка. Вызов в колумбарий. Ожидание, почти уверенность: придешь домой — и он на столе…
Страх гнал вас вперед, как ветер — листья по тротуару, он высекал поступки, но скрытый смысл этой активности был внятен лишь тому, кто так же, как вы, ощутил близость луча.
Это — время деяний, коллекционирования заслуг; время вывешивания флагов. Когда страх расцветал цветами патриотизма. Убежденные речи, каменная верность догме… Уверенность, что сзади надвигается круг света, сейчас он коснется тебя, и паучьи лапы потащат в подвал, в преисподнюю, — эта уверенность подвигала на неслыханные свершения. Это непрерывно длящееся самоутверждение режима, жизнь — молебен, неустанное славословие, в сердцевине которого — страх…
(Борис Хазанов. Страх)Вот она — наша «комната сто один». И можете поверить автору процитированного рассказа: силой своего воздействия на психику подследственного (а подследственными у нас были все!) она не уступала той, оруэлловской.
* * *
В январе 1938 года состоялся Пленум ЦК ВКП(б), на котором было принято постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков».
Прочитав это постановление, Афиногенов записывает в своем дневнике:
► …Я прочел в этом постановлении свою историю, все, все мои мысли, мои бессонные ночи, мои думы о справедливости и неизбежно восторжествующей правде нашей великой партии — все они здесь, в строках ярких и простых этого исторического постановления! О, я не могу продолжать, я должен успокоиться…
Вышел на улицу, гулял ночью без шапки, подставлял лицо ветру, я не боялся простудиться, нет, теперь-то, когда все то, о чем думалось, сбылось, и так скоро, когда названы своими именами методы вражеской работы, клевещущей на членов партии, когда найдены такие проникновенные слова о каждом члене партии и его праве на чуткий подход, — нет, в такое время нельзя простудиться и болеть, в такое время надо нестись вперед, надо возрождаться к творческой работе, к новым порывам жизни, бурной и яркой, как все, что мы делаем сейчас!
О, сердце бьется непривычно сильно, я хочу говорить с людьми, видеть их, всем сказать в лицо — вы видите, видите, мой пример, моя история записаны в этом постановлении, вот как работали враги, карьеристы, трусы и шкурники… вот как они истребляли и клеветали на людей, вот как они раскалывали ряды партии, так прямо и сказано в постановлении…
Ларчик, как сказано у дедушки Крылова, открывался просто. В мае тридцать седьмого года Александра Николаевича Афиногенова исключили из партии. А в январе тридцать восьмого он узнал, что это не родная коммунистическая партия отторгла его от себя, а затесавшиеся в ее святые, железные ряды враги, карьеристы, трусы и шкурники. Теперь, когда все это наконец разъяснилось, справедливость безусловно восторжествует, его, конечно же, восстановят, реабилитируют.
Так оно и вышло:
► Прошедший день — как день жизненного перелома, как самый крутой поворот дороги.
Я восстановлен!
Сейчас два часа ночи. Мы приехали в полночь усталые, нервные, радостные, как никогда. Но слишком сильно было волнение, слишком невероятен такой скорый поворот, слишком замечательно все сложилось.
Я приехал на бюро к восьми. Ждал час с небольшим, потом меня вызвали. Уже по тому, как меня слушали, — я понял, что мне сочувствуют, что меня понимают! Первый раз за девять месяцев — меня слушали люди, стремившиеся меня понять, разобраться, найти настоящую правду! И они нашли ее… Говорили члены бюро — среди них начальник райНКВД.
Он сказал, что, разумеется, решение парторганизации обо мне надо отменить!..
Все согласились, у меня слезы застлали глаза, я что-то пробормотал, что им не придется стыдиться своего решения, что я оправдаю их доверие всей своей жизнью и работой…
Лыткин проводил меня, пожал дружески руку, сразу перешел на «ты» — обещал поскорее выдать билет…
И вот, наконец, свершилось. Спустя четыре дня, седьмого февраля он записывает;
► Партийный билет у меня. Он лежит передо мной, я не могу налюбоваться и все стараюсь подметить в нем что-нибудь новое, какие-то изменения. Ведь девять месяцев он лежал где-то, девять пустых клеточек, нет, даже десять, с апреля прошлого года нет партийных взносов.
Книжечка лежит такая же новая, и номер тот же самый: 0018929. И мой портрет и росчерк и все, все мое, прежнее, возвращающее меня в партию, в ее замечательную жизнь! Я получил билет сегодня в семь вечера, секретарь, дававший его, улыбался и спрашивал; «Ну, как? Чувствуете?» Я сначала и говорить не мог, потом что-то пробормотал невразумительное. Но они и без того поняли. Все хотелось без конца жать им руки и благодарить за чуткость, за быстрое решение, за правду, найденную ими так скоро и полно…
Тут в его искренности не может быть уже никаких сомнений. И эти слезы, застлавшие ему глаза после речи начальника районного отдела НКВД, были искренними (еще бы!), и телячий восторг от того, что Лыткин (видимо, секретарь райкома) сразу перешел с ним на «ты», и эта острая нежность к партийному билету, с которым он был разлучен на целых девять месяцев, — все эти его чувства были не притворные, а самые что ни на есть доподлинные, идущие от самого сердца.
Но такими же непритворными, такими же подлинными были и все те мысли и чувства, которыми он делился со своим дневником на протяжении и всех предшествующих этой записи девяти месяцев.
Пьеса «Страх», написанная Александром Николаевичем Афиногеновым в 1930 году, неопровержимо свидетельствует, что человек он был очень даже неглупый. До того времени, когда души его сограждан оледенил «повальный страх тридцать седьмого года» оставалось еще целых семь лет, а он уже — первый! — произнес вслух это ключевое слово. Но поняв, какую роль играет страх в жизни советских людей, он еще далеко не все знал о некоторых свойствах этого тотального страха. Не знал, даже не догадывался, что при известном стечении обстоятельств этот страх может притвориться любовью. И даже не притвориться, а трансформироваться, превратиться в самую страстную, самую пылкую, а главное, самую искреннюю любовь.
В «Дневнике» К.И. Чуковского, опубликованном сравнительно недавно, меня поразила такая запись, датированная 22 апреля 1936 года:
► Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти. Сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы» — и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!»
Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью…
Прочитав это, я — грешным делом — подумал, что уж это-то точно писалось в расчете на чужой глаз. Никак мне не верилось, чтобы у таких людей эта вспышка истерической любви к Сталину могла быть искренней. Ведь это же не Афиногенов, родившийся в 1904 году (в семнадцатом, значит, ему было 13 лет) и в 1922-м, восемнадцатилетним юнцом, вступивший в коммунистическую партию. Борис Леонидович встретил революцию взрослым, сложившимся человеком, а Корнею Ивановичу в 17-м году было 35 лет, и он к тому времени был уже не только известным, но и довольно влиятельным литератором. И отношение — как того, так и другого — к советской власти вряд ли было таким уж восторженным.
Но в свете всего вышесказанного возникало все-таки подозрение, что и у них тоже это было не лицемерием, не притворством, а все той же как сублимацией страха.
А вот еще один, как говорят в таких случаях, человеческий документ:
► Алексей Максимович!
Искренно прошу Вас, простите мне, что после всего случившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать Вам. У меня давно не было с Вами ни личного, ни письменного общения, и мне, по правде говоря, часто казалось, что я лично не пользовался Вашими симпатиями и раньше. Но ведь Вам пишут многие, можно сказать все… Так разрешите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во всем мире, обратиться к Вам.
Самое страшное, что случилось со мною: на меня легло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на земле, — убийство С.М. Кирова… Конечно, раньше мне и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть в какой-нибудь удаленной степени связанным с таким, по Вашему же выражению, «идиотским и подлым преступлением». А вышло то, что вышло. И пролетарский суд целиком прав в своем приговоре. Сколько ни пришлось бы мне еще жить на свете, при слове «Киров» мое сердце каждый раз должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, идущее от всех лучших людей Союза (да и всего мира). Ибо произошло неслыханное, невиданное, непоправимое. Что ни говори, что ни пиши, как ни терзайся, как ни бейся головой о стену — это непоправимо. Это — навсегда. Какое-то время я еще буду жить. И все это время не будет дня, когда эта мысль не будет гвоздить мой мозг.
(Г.Е. Зиновьев — A.M. Горькому. 27 января 1935 г.)Зиновьев был человек скверный. Но к убийству Кирова — ни сном, ни духом — причастен не был.
И тем не менее я думаю, что в этом своем письме он не кривил душой. Не лгал и не лицемерил.
Что же заставило его так искренно признаваться в несуществующих своих грехах и преступлениях?
Этот проклятый вопрос мучил многих современников знаменитых московских больших процессов.
Вот — один из самых проницательных ответов:
► Оставшееся загадкой для всего мира непонятное поведение на Московских процессах 1936–1938 гг. таких фигур, как Бухарин, Рыков, Пятаков, Каменев, Крестинский, Раковский и другие, не может быть объяснено только тем, что их «физически» мучили. Вместе с этим было и другое, очень сложное, что заставляло «сознаваться», считать «преступным» их уклон от «генеральной линии».
(Н. Валентинов. Недорисованный портрет)Но самый убедительный ответ на этот роковой вопрос дал Сталин.
Вообще-то он не снисходил до психологических тонкостей. Рассказывают, что, когда ему доложили, что арестованные врачи не хотят признаваться в своих мнимых преступлениях, он молча ткнул себя кулаком в зубы, показывая — жестом, — что надо делать в этом случае.
Но при этом нельзя сказать, чтобы душа подследственного его так-таки уж совсем не интересовала. И он знал, что существуют и другие — не только физические — способы воздействия на душу подследственного.
► На одном из кремлевских совещаний Миронов в присутствии Ягоды, Гая и Слуцкого докладывал Сталину о ходе следствия по делу Рейнгольда, Пикеля и Каменева. Миронов доложил, что Каменев оказывает упорное сопротивление мало надежды, что удастся его сломить.
— Так вы думаете, Каменев не сознается? — спросил Сталин…
— Не знаю, — ответил Миронов…
— Вы не знаете? — спросил Сталин, с подчеркнутым удивлением, пристально глядя на Миронова. — А вы знаете, сколько весит наше государство, со всеми его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом?
Миронов и все присутствующие с удивлением смотрели на Сталина, не понимая, куда он клонит.
— Подумайте и ответьте мне, — настаивал Сталин.
Миронов улыбнулся, думая, что Сталин шутит. Но Сталин шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне серьезно.
— Я вас спрашиваю, сколько все это весит? — настаивал он.
Миронов смешался. Он ждал, все еще надеясь, что Сталин превратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор в ожидании ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, сказал неуверенным голосом:
— Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович. Это из области астрономических цифр.
— Ну, а может один человек противостоять давлению такого астрономического веса? — спросил Сталин.
— Нет, — ответил Миронов.
— Ну так вот, не говорите мне больше, что Каменев или кто-то другой из арестованных способен выдержать это давление.
(Александр Орлов. Тайная история сталинских преступлений)Однажды случилось мне прочесть книгу некоего А. Казанцева «Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом». Автор этой книги — видный член НТС — был в центре событий, определивших возникновение армии генерала Власова. Он, в частности, занимался вербовкой пленных наших солдат и офицеров, среди которых, как он говорит, было немало искренних и даже ярых ненавистников советской системы. На сторону Власова они переходили добровольно и даже с радостью. Но когда фронт стал приближаться, в сознании этих людей произошел какой-то странный, поначалу совершенно необъяснимый для автора книги душевный перелом. Солдат и офицеров, которые вчера еще сражались, не щадя жизни, вдруг охватила какая-то апатия, какая-то странная болезнь размягчившейся воли. Люди, которым, казалось бы, уже нечего было терять, без всякого сопротивления, легко и быстро поддались на уговоры просочившихся в их ряды советских агитаторов, зовущих переходить, как пишет автор книги, «на ту сторону, то есть на верную смерть».
Но самым загадочным тут было даже не это. Более всего автор этой книги был поражен тем, что приближение Советской армии стремительно меняло, деформировало сознание этих людей. По мере этого приближения они начинали оценивать все происходящее, исходя не из подлинных (или казавшихся автору подлинными) своих убеждений, а из ортодоксально советских. Их всех вдруг охватило глубокое и самое искреннее сознание своей вины перед родиной.
Впечатление было такое, словно наступающая Советская армия являла собой некий гигантский магнит, властно отклоняющий в свою сторону стрелку того нравственного компаса, который определяет поведение каждого человека.
Автор хоть и изумляется по этому поводу, но в конце концов довольно точно определяет природу этого их душевного состояния. «В душу каждого, — пишет он, — гипнотизирующими глазами удава заглянул многолетний страх». Разгадка кроется в этом одном-единственном словечке — «многолетний». Вот в том-то все и дело, что это был не сегодняшний, сиюминутный, только что охвативший их страх перед надвигающейся неизбежной расплатой, а тот давний, многолетний страх, с которым они родились, который всосали с молоком матери, во власти которого, быть может, даже и не сознавая этого, прожили всю свою предшествующую жизнь. Это был совершенно особый, какой-то мистический страх. «Страх не наказания, не физической смерти, — поясняет автор. — Этот страх был больше, чем страх перед физической смертью. Из страха перед этим страхом люди тогда кончали самоубийством…»
Поверив, что система, породившая этот тотальный страх, рухнула, они почувствовали себя свободными от него. Но как только выяснилось, что система жива, что она не только живет, но и побеждает, надвигается на них всей своей громадой, этот дремавший где-то там в подкорке многолетний страх тут же очнулся, ожил и мгновенно вернул себе свои права, свою власть над их душами.
Они снова оказались в зоне действия гигантского магнита, создававшего вокруг себя то мощное силовое поле, которое мы называли морально-политическим единством советского народа.
3. Народ и партия — едины.
Этот лозунг был, пожалуй, наименее лицемерным из всех трех. В нем, может быть, и вовсе не было никакого лицемерия.
Мало того — он нес в себе не только вполне реальное, но и весьма даже глубокое содержание.
Помните, как на рассказ Петра Степановича Верховенского про «бурбона-капитана», который сказал в растерянности: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» — Ставрогин отозвался:
— Довольно цельную мысль выразил.
Так вот, об этом нашем лозунге «Народ и партия — едины» — хочется сказать теми же словами. Он тоже выразил довольно цельную мысль.
Народ и партия были у нас едины, потому что между ними (народом и партией, а точнее — народом и властью) существовал некий общественный договор, суть которого формулировалась так: «МЫ делаем вид, что работаем, а ОНИ делают вид, что платят нам за нашу работу».
Такое положение дел всех более или менее устраивало.
На эту тему существовало множество анекдотов. Да и сама формула этого «общественного договора» была анекдотической, что, впрочем, не мешало ей быть математически точной.
Помимо анекдотов, были на эту тему и народные частушки.
Вот, например, такая — о том, как ОНИ нам платили:
Я работала в колхозе, Заработала пятак. Пятаком прикрыла жопу, А пизда осталась так.А вот другая — о том, как МЫ работали:
Мы не сеем и не пашем, Мы валяем дурака. С колокольни хуем машем, Разгоняем облака.Кто разгонял облака, а кто (тем же инструментом) околачивал груши, но никто особенно не жаловался.
Был, правда, рассказывают, такой эпизод. Привезли как-то на большой советский завод знатного гостя — Генерального секретаря Коммунистической партии Америки. И какой-то работяга, стоящий у токарного станка, наслышавшийся о том, как много зарабатывают американские рабочие, спросил у него:
— А вот интересно, сколько у вас получает, скажем, токарь?
И главный американский коммунист, уже слегка наглядевшийся на стиль работы наших советских тружеников, ему будто — не без некоторого раздражения — ответил:
— Такой, как вы, ничего не получает.
Эта замечательная особенность нашего «общественного договора» ни для кого не была секретом. О ней знали даже дети.
Помню, где-то в конце 60-х мой сын, которому было тогда двенадцать лет, пришел из школы сильно возбужденный.
— У нас, — сказал он, — такой потрясный урок сегодня был!
— По какому предмету? — спросил я.
Оказалось, что по истории.
Помимо учителя, был на том уроке сам директор школы. Еще какие-то люди. И задали они ребятам вопрос: «Какие преимущества у социализма перед капитализмом?»
Все ученики в один голос ответили: «Никаких».
Времена были тогда довольно либеральные, поэтому возмущаться их политической безграмотностью, исключать из пионеров, вызывать в школу родителей и т. д. никто не стал. Их стали мягко урезонивать.
— Ну вот скажите, — вмешался в разговор директор. — Какая самая большая в мире, самая богатая капиталистическая страна? Правильно, Америка. А социалистическая? Правильно, Советский Союз. А вот теперь подумайте и скажите: неужели у нас, в устройстве нашей жизни нет никаких преимуществ перед американцами?
— Никаких, — твердо стояли на своем ребята.
— Ну вот, у нас, например, бесплатное образование, — сказал директор.
— И у них тоже можно бесплатно учиться, — не сдавались школьники.
— У нас бесплатное медицинское обслуживание.
— Они тоже платят страховку и лечатся практически бесплатно, — возражали насвистанные дети.
Если верить рассказу моего сына, они в этом споре вышли абсолютными победителями. Директор и его свита были полностью посрамлены.
Выслушав этот рассказ, я самодовольно усмехнулся и сказал:
— А ведь вы, братцы, были не правы. На самом-то деле ведь есть у нас одно преимущество перед американцами.
Я уже предвкушал, как будет поражен мой отпрыск, когда я открою ему глаза на это несомненное — и не такое уж пустяковое — преимущество социализма.
Но реакция сына оказалась совершенно для меня неожиданной.
— А то я не знаю, — презрительно сказал он. — У них там вкалывать надо, а у нас всю жизнь на халяву прожить можно.
Ж
Жилплощадь
Словечки и выражения такого рода Корней Иванович Чуковский называл словесными уродами. Он дал им убийственное прозвище — канцелярит. Люди, которые комнату или квартиру называют жилплощадью, а простое русское слово лес заменяют неуклюжим словообразованием зеленый массив, внушали ему ужас и отвращение:
► Представьте себе, что ваша жена, беседуя с вами о домашних делах, заговорит вот таким языком:
«Я ускоренными темпами обеспечила восстановление надлежащего порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовлении пищи подсобном помещении…»
После чего вы, конечно, отправитесь в загс, и там из глубочайшего сочувствия к вашему горю немедленно расторгнут ваш брак.
(К. Чуковский. Живой как жизнь)А вот другой писатель, имя которого ставят обычно рядом с именем Корнея Ивановича — Самуил Яковлевич Маршак, — глядел на это иначе:
Как обнажаются судов тяжелых днища, Так жизнь мы видели раздетой догола. Обеды, ужины мы называли пищей, А комната для нас жилплощадью была. Но пусть мы провели свой век в борьбе суровой, В такую пору жить нам довелось, Когда развеялись условностей покровы И все, что видели, мы видели насквозь.Из второго четверостишия этой лирической эпиграммы можно заключить, что в таком, к сожалению, ставшем привычным для нас, уродливом словоупотреблении автор безусловно находит и некий положительный смысл.
Более того, положительный смысл он находит не только в этом словоупотреблении, но и в самих условиях человеческого существования, уродливым этим словцом обозначаемых. Может даже показаться, что от последней строфы веет казенным советским оптимизмом, отчасти, может быть, ставшим второй натурой поэта, но в какой-то мере, наверно, все-таки связанным с привычной для автора ориентацией на редактора или цензора.
Но вот как говорит об этих самых жизненных условиях другой наш современник, которого в этом самом казенном советском оптимизме уже не заподозришь:
► При всех неприглядных сторонах этой формы бытия, коммунальная квартира имеет, возможно, также и сторону, их искупающую. Она обнажает самые основы существования: разрушает любые иллюзии относительно человеческой природы. По тому, кто как пернул, ты можешь опознать засевшего в клозете, тебе известно, что у него (у нее) на ужин, а также на завтрак. Ты знаешь звуки, которые они издают в постели, и когда у женщин менструация. Нередко именно тебе сосед поверяет свои печали, и это он (или она) вызывает «Скорую», случись с тобой сердечный приступ или что-нибудь похуже. Наконец, он (или она) однажды могут найти тебя мертвым на стуле — если ты живешь один — и наоборот.
(Иосиф Бродский. Полторы комнаты)Фраза Бродского насчет того, что такая жизнь «обнажает самые основы существования», почти буквально повторяет не только стихотворную реплику Маршака, но и суждение на этот счет еще одного автора.
Касаясь той же темы (не темы «жилплощади», конечно, а вот того, что «развеялись условностей покровы»), этот другой автор склонен был скорее сокрушаться, чем радоваться тому обстоятельству, что жизнь ему пришлось увидеть «раздетой догола», вследствие чего были разрушены «любые иллюзии относительно человеческой природы»:
► Мы — в противоположность нашим отцам — получили возможность видеть вещи такими, какие они в действительности, и вот почему основы жизни трещат у нас под ногами.
(Карл Ясперс)А вот — Ахматова:
Чем хуже этот век предшествующих? Разве Тем, что в чаду печали и тревог Он к самой черной прикоснулся язве, Но исцелить ее не мог.О том, хуже или лучше наш век предшествующих, допустим, можно спорить. В особенности если разговор пойдет вот на таком — метафизическом — уровне.
Но между метафизическим и бытовым подходом к одной и той же теме — дистанция огромного размера. Заговорив об этом, не могу не вспомнить забавную историю, которую рассказал мне однажды Самуил Яковлевич Маршак.
В молодости, оказавшись в Лондоне, он попросил первого встречного прохожего сказать ему, сколько сейчас времени. Но не очень хорошо владея английским, вместо того чтобы сказать: «What time is it?», что значило бы: «Который час?», выразился так: «What is the time?», то есть — «Что есть время?»
Англичанин, улыбнувшись, ответил:
— О, это сложный философский вопрос.
В случае с жилплощадью разрыв между бытовым и философским подходом к проблеме, пожалуй, еще более велик. Но и эта, казалось бы, уж такая земная проблема, как явствует из предшествующих моих рассуждений, тоже может быть рассмотрена с двух сторон: не только с бытовой, но и с философской, метафизической.
О том же, как тесно связаны между собой эти две стороны одной проблемы, можно судить по некоторым рассказам и повестям Михаила Зощенко, который посвятил внимательнейшему рассмотрению этого вопроса немало страниц.
* * *
Начал он чуть ли не с самых первых дней существования молодой советской власти:
► Мы, конечно, начнем нашу повесть издалека… Начнем примерно с 1921 года. Тогда будет все наглядней.
В 1921 году, в декабре месяце, приехал из армии в родной свой городок Иван Федорович Головкин.
А тут как раз нэп начался. Оживление. Булки стали выпекать. Торговлишка завязалась. Жизнь, одним словом, ключом забила.
А наш приятель Головкин, несмотря на это, ходит по городу безуспешно. Помещения не имеет. И спит по субботам у знакомых. На собачьей подстилке. В передней комнате.
Ну и, конечно, через это настроен скептически.
— Нэп, — говорит, — это форменная утопия. Полгода, — говорит, — не могу помещения отыскать.
В 1923 году Головкин все-таки словчился и нашел помещение. Или он въездные заплатил, или вообще фортуна к нему обернулась, но только нашел.
Комната маленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Это все есть. Ничего против не скажешь.
А очень любовно устроился там Головкин… Гвозди, куда надо, приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет, как падишах.
(М. Зощенко. Пушкин)Слово «жилплощадь» в рассказе отсутствует. Быть может, тогда, в 1921 году, оно еще не было в ходу — это слово. Но словечко, которым пользуются для обозначения нужд героя рассказа и автор, и сам герой, и стилистически, и — главное — семантически все-таки ближе к «жилплощади», чем традиционно употреблявшиеся в таких случаях: не «квартира», не «комната», не «угол», а — помещение.
И это, конечно, не случайно. Потому что единственная цель зощенковского героя состоит в том, чтобы поместиться, притулиться где-нибудь. А уж какое оно будет, это помещение, ему даже и не важно. Пол, потолок — это все есть. Чего еще? Вот разве только несколько гвоздей забить в стену, «чтобы уютней выглядело». Дальше этих нескольких гвоздей представления Ивана Федоровича об уюте не простираются.
И вот тут как раз из сферы быта мы и вступаем в сферу метафизики. Вопрос, который формулировался примерно так: «А что за люди располагались на этой самой жилплощади?», обретает теперь уже совершенно иной, отвлеченный, именно вот философский, метафизический оборот: «Что есть человек?» Точь-в-точь как в истории про юного Маршака, который хотел спросить: «Который час?», а спросил: «Что есть время?», мы поневоле задаемся теперь именно этим вопросом: не что за человек этот самый зощенковский Иван Федорович Головкин (с ним все ясно), а что такое человек вообще, зачем он существует и для чего, для каких, собственно, целей нужна ему эта самая «жилплощадь»?
Этот вопрос на нас не с неба свалился. И мы не сами его выдумали. Это лично он, автор, и не только он, но и некоторые его герои терзаются этим проклятым вопросом:
► Он думал о человеческом существовании, о том, что человек так же нелепо и ненужно существует, как жук или кукушка…
Это началось с малого. Аполлон Перепенчук как-то спросил тетушку Аделаиду:
— Как вы полагаете, тетушка, есть ли у человека душа?
— Есть, — сказала тетушка, — непременно есть.
— Ну, а вот обезьяна, скажем… Она ничуть не хуже человека. Есть, тетушка, у обезьяны душа, как вы полагаете?
— Я думаю, — сказала тетушка, — что у обезьяны тоже есть, раз она похожа на человека.
Аполлон Перепенчук вдруг взволновался…
— Позвольте, тетушка, — сказал он. — Ежели есть душа у обезьяны, то и у собаки, несомненно, есть. Собака ничем не хуже обезьяны. А ежели у собаки есть душа, то и у кошки есть, и у крысы, и мухи, и у червяка даже…
— Перестань, — сказала тетушка. — Не богохульствуй.
— Я не богохульствую, — сказал Аполлон Семенович. — Я тетушка, ничуть даже не богохульствую. Я только факты констатирую… Значит, у червяка тоже есть душа… А что вы теперь скажете? Возьму-ка я, тетушка, и разрежу червяка надвое, напополам… И каждая половина, представьте себе, тетушка, живет в отдельности. Так? Это что же? Это, по-вашему, тетушка, душа раздвоилась? Это что же за такая душа?
— Отстань, — сказала тетушка и испуганно посмотрела на Аполлона Семеновича.
— Позвольте, — закричал Перепенчук. — Нету, значит, никакой души. И у человека нету. Человек — это кости и мясо… Он и помирает, как последняя тварь, и рождается, как тварь… Только что живет по-выдуманному.
(М. Зощенко. Аполлон и Тамара)Ту же мысль высказал современник Михаила Михайловича Зощенко — поэт Николай Олейников:
Но наука доказала, Что души не существует, Что печенка, кости, сало — Вот что душу образует.Олейников, положим, говорит это как бы не от себя, а от лица своего героя. Да и Зощенко (в повести «Аполлон и Тамара») тоже.
Но очень похожую мысль Михаил Михайлович высказал однажды и сам, уже не устами своего героя, а своими собственными:
► Жизнь, на мой ничтожный взгляд, устроена проще, обидней и не для интеллигентов.
(М. Зощенко. Письма к писателю)Вот она — та «самая черная язва», к которой, по слову Ахматовой, прикоснулся наш век, но исцелить которую не мог. Вот оно — то ужасное знание, которое дали нам слова «жилплощадь» и «пища», заменившие привычные понятия: «комната», «обед», «ужин». Вот из-за чего, как выразился знаменитый немецкий философ, «основы жизни трещат у нас под ногами».
Однако, увлекшись философией, мы совсем забыли о бытовой стороне интересующего нас явления. Произошло это потому, что, как уже было сказано, именно в этом специфическом советском словечке («жилплощадь») быт сомкнулся с метафизикой, а метафизика с бытом.
Но, возвращаясь к быту, нам еще придется время от времени слегка вторгаться в другие, смежные с философией области знания — филологию, социологию и даже политическую экономию.
* * *
По моим личным наблюдениям (на всякий случай напоминаю все-таки, что эта моя книга — не «Записная книжка филолога», а «Записная книжка носителя языка»), слово «жилплощадь» употреблялось обычно лишь в приложении к государственному жилью. Мне трудно себе представить, чтобы владелец какого-никакого собственного домика, упоминая об этом частном своем владении, именовал его «жилплощадью».
Дом можно было построить или купить. Комнату или квартиру снять. В кооператив — вступить. В этом случае тоже говорили: он построил себе квартиру.
А вот когда речь шла о государственной — комнате ли, квартире ли, — тут уже употреблялся совершенно иной глагол. От государства комнату (или квартиру, или дачу) можно было только получить. И вот тут-то непременно и возникало это сакраментальное слово — жилплощадь.
В распоряжении государства находилось не меньше 80 процентов этой самой жилплощади. Лишь около десяти процентов принадлежало кооперативам и примерно столько же — частникам, «застройщикам», владельцам личных домов, домиков и домишек — в деревнях, селах и небольших городках («поселках городского типа», как именовались они на том же, ненавистном Чуковскому канцелярите).
Но даже вступая в кооператив, — и не только вступая, то есть получая право на рассрочку и прочие льготы, — нет, даже покупая кооперативную квартиру за свои кровные, то есть выплачивая весь пай сразу, вы должны были представить кучу документов, среди которых непременная справка, удостоверяющая, что вы имеете право на дополнительную жилплощадь. Норма была — 9 квадратных метров на человека. И превысить эту норму без такой вот справки при получении даже кооперативной квартиры было невозможно. При получении же государственного жилья действовали уже совсем другие нормы. Там, если вы заикались насчет этих самых девяти метров, вам тут же объясняли, что девять метров — это та норма, которой вам дозволяется обладать. То есть, если эти самые девять метров на человека у вас уже имеются, вас не могут ни уплотнить (было еще и такое слово), ни повысить за них квартплату. Это — то, что вам полагается. Но из этого еще вовсе не следует, что, предоставляя вам жилплощадь или даже улучшая ваши жилищные условия (этот специальный термин жив и по сию пору), государство обязано было придерживаться именно вот этой, оптимальной цифры. Тут «норма» могла колебаться от шести до пяти квадратных метров на душу и даже опускаться до трех. Я уж не говорю о том, что, встав на очередь (а сколько надо было хлопотать, чтобы вас на эту очередь поставили), вы могли ждать годами — и так и не дождаться, пока эта самая очередь до вас дойдет.
После смерти Сталина — при Хрущеве — положение улучшилось: стали строиться так называемые «хрущобы», радикально изменившие недавно еще совершенно безнадежную и бесперспективную ситуацию с государственным «жилым фондом», а кроме того, началось бурное развитие строительства жилья на кооперативных началах.
Тем не менее бесконечные очереди на получение государственной жилплощади и улучшение жилищных условий не иссякали. Не иссякают они и поныне. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что творилось в первые годы — и даже не годы, а десятилетия — советской власти. Получить тогда жилье (пусть даже самое убогое) от государства — было все равно что выиграть сто тысяч по трамвайному билету.
Как же в таком случае люди получали эту самую свою жилплощадь?
► …Некий старый холостяк, бывший фининспектор, выгодно женившись на отдельной квартире и все равно терявший площадь, согласился уступить мне свою старую нежилую комнату, оставив один на один с соседями, давно зарившимися на эту площадь, с дворником, который тоже целился на нее, с домоуправшей-взяточницей, с Моссоветом, с милицией, с паспортным столом, со всеми законами и указами и с самим Верховным Советом. И всякими правдами и неправдами, многочисленными отношениями, ходатайствами, телефонными звонками сверху вниз и снизу вверх, облепленный заявлениями, доносами, судебными постановлениями, я постепенно переделывал прописку временную на постоянную.
(Борис Ямпольский. Московская улица)Это было неслыханное везенье. Случай.
Автор процитированной книги и сам так оценивает эту свою неслыханную жизненную удачу, предваряя рассказ о ней такими словами:
► Дикий слепой случай, как и во всем в жизни, решил и жилищный вопрос.
Но, приглядевшись чуть пристальнее к своим новым соседям, узнав чуть побольше о прежней и нынешней их жизни, он начинает понимать, что этот его случай был не таким уж случайным. Выясняется, что у каждого из них был примерно такой же, свой случай, и за всеми этими случаями стояла некая общая закономерность:
► Как во всякой большой, крикливой и суматошной московской коммунальной квартире, которая, впрочем, ничем не отличалась от такой же ленинградской, или киевской, или одесской квартиры, разве только тут было еще теснее, населеннее и резче запах чада, стирки, сортира, потому что, переделанные из бывших контор, магазинов, тюрем, они были менее благоустроены и приспособлены к человеческой жизни, рождению детей, болезням, свадьбам, смертям; как и во всякой коммунальной квартире, тут жил самый разнообразный, смешанный, пестрый, никак не понимающий и не сочувствующий друг другу люд.
Не они выбирали тут местожительство, никто специально их не поселял, а поселились они хаосом, неразберихой бурного времени, революции и Гражданской войны, загнанные сюда разрухой, пожарами, экспроприациями, грабежами, мобилизациями, и, поселившись, крепко привязавшись к чужому месту, голодовали, бедовали и плодились, как кролики.
Кое-кто жил здесь давным-давно, еще с тех времен, когда и ордеров не было, а только классовое право, классовое чутье. Уже и не было того, кто вошел сюда по закону реквизиции и уплотнению, а жили и расплодились его потомки, выписали родственников из деревни и маленьких местечек. Но были и такие, которые не имели никакого отношения к тому, кто некогда вошел сюда по классовому закону и занял подобающую жилплощадь господствующего класса, а такие, что фальшиво женились и прописались, а потом даже не разводились, а просто спровадили милую невесту или дождались смерти старух, изо всех сил помогая этой смерти. Но были и такие, которым и фиктивный брак не понадобился. Они прописались, неизвестно как и почему и на каком основании, но в домовой книге появились их фамилии и были наклеены все печати, наклеены все нужные гербовые марки. Все было у них в порядке, в ажуре. Но были и такие, которые и прописаны не были, просто жили, просто втерлись и жили годами.
А вот так и сложилось оно, это наше советское чудо: коммунальная квартира, коммуналка.
* * *
Вот взгляд на эту привычную, будничную нашу реальность совсем с другой стороны. Я бы даже сказал — с другого полушария:
► …Все еще не существует хороших английских переводов моего любимого Зощенко. В Америке с ним произошла такая история. Стали его переводить лет шестьдесят назад. И начали появляться в журналах его рассказы. И действие там иногда происходило в коммуналках. И вот американский критик написал статью о Зощенко. В ней было сказано:
«Зощенко — это русский Кафка, фантаст и антиутопист. Он гениально выдумал коммунальные жилища, где проживают разом множество семей. Это устрашающий и жуткий символ будущего».
(Сергей Довлатов. Переводные картинки)Хорошо знакомая каждому советскому человеку ситуация, где в одной квартире — с одним сортиром и одной кухонной плитой — проживают множество (иногда десять-пятнадцать) семей, не зря показался американскому критику фантастикой, кафкианским бредом.
Но этот американский критик, судя по всему, разглядел в этой кафкианской ситуации далеко не все. Похоже даже, что он не увидал в ней самого главного.
Вся штука в том, что в типичной нашей коммуналке проживали не просто множество разных семей, а что семьи эти, как правило, были — разного достатка, разного социального и культурного уровня, что создавало для них дополнительные прелести их совместного существования:
► Лично я 40 лет прожил в коммунальной квартире и могу подтвердить, что лампочка, или помойное ведро, или как поставить чайник на общей плите — это действительно проблема. В продолжение рассказа Зощенко добавлю следующее, в виде живого примера. В нашей квартире я и моя семья были единственные интеллигенты. И, естественно, по вечерам я зажигал настольную лампу и долго читал или писал, иногда до глубокой ночи. И, естественно, соседи это заметили и предложили мне прекратить чтение и гасить свет и ложиться спать пораньше. Тогда я начал платить вдвойне за мою настольную лампу. Но это не помогло. Тогда я завел для своей комнаты отдельный электросчетчик. Но тогда возникла новая проблема: ведь поздно вечером я иногда выхожу в коридор, или на кухню, или прогулять собаку. Это значит, я излишне пользуюсь общим электричеством. Тогда я поставил отдельную, собственную лампочку в коридоре, которая зажигалась из моей комнаты и была подключена к моему электросчетчику. Наконец-то, мне казалось, проблема электроэнергии была улажена. Но тут же возникла новая проблема — моя собака. Правда, она никогда не лаяла и не выбегала из нашей комнаты, а сидела всегда тихо, чтобы не возбуждать нареканий со стороны соседей. Однако когда я выводил ее гулять — два раза в день, — она же шла все-таки по общему коридору и, значит, своими ногами пачкала больше, чем каждый отдельный жилец, и, следовательно, мы должны мыть пол в коридоре чаще, чем все прочие жильцы. Я на это согласился. Но тогда возразили, что собака, поскольку у нее четыре ноги, а не две, как у всех, оставляет больше следов в коридоре. И надо за нее мыть пол в коридоре в два раза чаще, чем за одного человека. Тогда я стал ее выносить на руках через общий коридор, благо собака была маленькой. Словом, целая война, в которой победить невозможно и которую нельзя унять или успокоить. Потому что чем больше я тратил денег и сил, чтобы удовлетворить соседей, тем пуще возрастала их ненависть ко мне. Ишь, барин, отдельный электрический счетчик завел, и собаку держит, и платит больше прочих за мытье полов в коридоре и в других местах общего пользования. Причем другие жильцы своими руками моют пол в коридоре, а он нанимает уборщицу. Откуда у него деньги? И почему он так долго не спит и жжет свет? И хотя у меня была неплохая зарплата и я имел некоторые советские привилегии как научный работник и член Союза писателей — это не помогало. Потому что мой быт как-то отличался от общего быта коммунальной квартиры, возбуждая зависть и подозрительность: а чем я на самом деле занимаюсь и не американский ли я шпион, если поздно вечером у меня в окошке горит свет?
(А. Синявский. Основы советской цивилизации)Американский критик, наверно, все это тоже счел бы плодом разнузданной художественной фантазии автора, — тем более что автор этой книги Андрей Донатович Синявский был не только профессором Сорбонны, где он читал эти лекции об основах советской цивилизации, но и известным писателем-фантастом.
Но я-то знаю, что никакая это не фантазия, поскольку и у нас, в нашей коммуналке, где я прожил добрую треть своей жизни, тоже был и отдельный счетчик, и своя, отдельная лампочка в коридоре, подключенная к этому нашему индивидуальному счетчику.
Собаки у нас, правда, не было, но у меня была жена, которая любила долго лежать в ванной, что вызывало большое недовольство соседей и такие их разговоры на эту тему: «Интересно, что она там так долго делает в ванной? Наверно, какие-то язвы отмачивает».
З
За Родину, за Сталина!
Даже и сегодня еще можно услышать, что с этими словами бойцы подымались в атаку. Шли на смерть и умирали с именем Сталина. А поскольку это нередко повторяют и люди старшего поколения — те, что жили тогда, в те, ныне уже легендарные времена, — многие верят, что так оно на самом деле и было.
На самом деле, однако, ничего подобного не было.
Все мои друзья и знакомые, прошедшие войну, решительно утверждают, что не только сами никогда не шли в атаку с этими словами, но и ни разу не слышали, чтобы это делал кто-нибудь из их товарищей.
В одном таком разговоре со своим другом-фронтовиком, который даже слегка горячился, доказывая мне, что ничего похожего в натуре никогда не было, я примирительно сказал:
— Я понимаю, ты не кричал, подымаясь в атаку: «За Родину, за Сталина!» Твои бойцы, а также другие командиры взводов и рот, наверно, тоже этого не делали. Но политруки-то небось кричали? Им велено было так кричать, они и кричали.
— Нет, — упрямо покачал он головой. — И политруки не кричали. Если ты хочешь знать, что в таких случаях делали и что кричали политруки, прочти стихотворение Слуцкого «Как делают стихи».
Стихотворение это я хорошо знал, но послушался, перечитал его.
Прочитайте его и вы:
Стих встает, как солдат. Нет. Он — как политрук, что обязан возглавить бросок, отрывая от двух обмороженных рук землю (всю), глину (всю), весь песок. Стих встает, а слова, как солдаты, лежат, как славяне и как елдаши. Вспоминают про избы, про жен, про лошат. Он-то встал, а кругом ни души. И тогда политрук — впрочем, что же я вам говорю, — стих — хватает наган, бьет слова рукояткою по головам, сапогом бьет слова по ногам. И слова из словесных окопов встают, выползают из-под словаря, и бегут за стихом, и при этом — поют, мироздание все матеря. И, хватаясь (зачеркнутые) за живот, умирают, смирны и тихи. Вот как роту в атаку подъемлют, и вот как слагают стихи.Вот как оно бывало на самом деле. А дошедшая до наших времен легенда, будто бойцы подымались в атаку со словами: «За Родину, за Сталина!» — всего лишь насильственно вколоченный в сознание современников государственный миф.
Но откуда он взялся, этот миф? И, главное, кто был родоначальником, так сказать, автором этого мифа?
Все, что я знаю о той эпохе, которую застал не только подростком, но и уже вполне взрослым человеком, наводит меня на мысль, что автором был не кто иной, как сам Сталин.
Хотя сам он это решительно отрицал. И даже делал вид, что лично ему вся эта шумиха вокруг его имени не только не нравится, но даже слегка его раздражает.
Лион Фейхтвангер, посетивший Москву в роковом 1937 году и написавший об этой своей поездке целую книгу, посвятил шокировавшему его безвкусному культу Сталина несколько выразительных страниц.
► Сталину, — говорилось на этих страницах, — очевидно, докучает такая степень обожания, и он иногда сам над этим смеется. Рассказывают, что на обеде в интимном дружеском кругу в первый день нового года Сталин поднял свой стакан и сказал: «Я пью за здоровье несравненного вождя народов, великого, гениального товарища Сталина. Вот, друзья мои, это последний тост, который в этом году будет предложен здесь за меня»…
На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров человека с усами — портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций. Я указывал ему на то, что даже люди, несомненно обладающие вкусом, выставляют его бюсты и портреты — да еще какие! — в местах, к которым они не имеют никакого отношения, как, например, на выставке Рембрандта. Тут он становится серьезен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. «Подхалимствующий дурак, — сердито сказал Сталин, — приносит больше вреда, чем сотня врагов». Всю эту шумиху он терпит, заявил он, только потому, что знает, какую наивную радость доставляет праздничная суматоха ее устроителям…
Не знаю, поверил ли Фейхтвангер этим сталинским объяснениям или только сделал вид, что поверил. Но книга его, изданная у нас миллионным тиражом, почему-то сразу же была изъята. Не исключаю, что не последней причиной такого крутого решения Сталина были как раз вот эти самые страницы. Может быть, когда он прочел — уже в книге — этот фейхтвангеровский пассаж «о безвкусном и не знающем меры культе его личности», Сталин подумал, что ему все-таки не удалось с достаточной мерой убедительности запудрить заезжему классику мозги. А может быть, была тут и какая-нибудь другая, более серьезная причина. Но я хорошо помню, что именно вот эта насмешка над сотнями тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами показалась мне самой сердцевиной того запретного плода, которым стала для меня каким-то чудом уцелевшая и прочитанная — тогда или несколько позже — эта изъятая из обращения, а стало быть, крамольная книжка.
Особенно укрепился я в этом своем предположении, когда узнал (из «секретного» доклада Хрущева на XX съезде партии), что, лично вписав в официальную свою биографию разные славословия «себе любимому» («Ведущей силой партии и государства был тов. Сталин…», «На разных этапах войны сталинский гений находил правильные решения…» и т. п.), «корифей науки» счел необходимым завершить (или предварить) этот перечень своих огромных заслуг такой важной оговоркой:
► Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа, имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства, самолюбования.
Но это было позже, когда он уже стал уже Богом. (В 45-м году в газетах его называли Спасителем, причем слово «Спаситель» писалось с заглавной буквы, как если бы речь шла про Иисуса Христа.)
Кроме того, обо всех этих фразах, собственноручно вписанных им в его официальную биографию, знал только узкий круг самых преданных его псов: перед ними-то чего ему было стесняться. Иное дело — прибывший из дальних стран буржуазный писатель. Тут надо было делать хорошую мину, лицемерить.
Впрочем, тогда, до войны, он не только перед иностранцами, но и перед своей собственной идеологической обслугой (из среды так называемой художественной интеллигенции) старался сохранить лицо.
Вот, например, такая история. Ее рассказал мне мой сосед, известный наш кинорежиссер Александр Григорьевич Зархи. В 1940 году он и его тогдашний соавтор И. Хейфиц сняли фильм «Член правительства», впоследствии причисленный к классике советского кинематографа. Прежде чем выпустить картину на широкий экран, ее, как это было тогда принято, смотрели члены Политбюро. И вот просмотр закончился. Все молчат: ждут, что скажет Сталин. Но Сталин, ничего не сказав и даже как будто недовольно нахмурившись, покинул зал.
Создатели фильма в сильно растрепанных чувствах вернулись домой, не зная, чего им теперь ждать. То есть ничего хорошего они, конечно, уже не ждали. Гадали только, ограничится ли дело запретом картины или обернется еще чем-нибудь похуже.
В томительном этом ожидании прошел день. А поздно ночью в квартире Александра Григорьевича раздался телефонный звонок. Звонил Поскребышев. Он сказал, что картина понравилась. Что это замечательная и даже выдающаяся победа советского киноискусства. Но есть у него (именно у него лично) одно небольшое недоумение. Как могло случиться, что в картине на столь важную общественно-политическую тему ни разу не упомянуто имя товарища Сталина?
Александр Григорьевич, разумеется, тут же заверил главного сталинского холуя, что эта грубая политическая ошибка незамедлительно будет исправлена.
Но это — легко сказать! А как сделать? Не вставишь ведь великое имя абы как, ни к селу ни к городу. Да и надо все-таки не попортить при этом тонкую художественную ткань произведения.
Несколько ночей Александр Григорьевич провел без сна. И наконец его осенило.
По ходу дела героиня фильма пишет письмо «на самый верх». Вот тут бы и дать понять зрителю, кому — лично! — адресовано это письмо, из-за которого судьба героини чудесным образом переменилась. Но — как? Дело происходит глубокой ночью. Собеседника, с которым героиня могла бы поговорить на эту тему, у нее быть не может. Можно было, конечно, показать крупным планом листок бумаги, на котором корявыми крупными буквами было бы старательно выведено: «Дорогой…» Ну, и так далее. Но это было бы, как говорят в таких случаях герои Зощенко, «маловысокохудожественно». А Александру Григорьевичу, понятное дело, хотелось, чтобы было художественно.
И он нашел выход из этого сложного положения.
Героиня, сочиняющая свое письмо при свете керосиновой коптилки, встает, подходит к кроватке, в которой спит ее маленькая дочь, осторожно будит ее и шепотом спрашивает:
— Доченька! «Виссарионыч» — одно «сы»? Или два «сы»?
Девочка, не разлепляя сонных глаз, отвечает:
— Два «сы».
Соавтору Александра Григорьевича — режиссеру Хейфицу — эта придумка очень понравилась. Нравилась она и самому Александру Григорьевичу. Возникло, однако, сомнение: понравится ли она Сталину? Не покажется ли она ему чересчур тонкой? Не захочет ли он, чтобы имя его прозвучало в фильме без всяких этих художественных тонкостей и намеков, а, как сказал поэт, — весомо, грубо, зримо…
К счастью, эти опасения оказались беспочвенными.
Тонкая художественная находка режиссера Александра Зархи вождя удовлетворила. Во всяком случае, никакого неудовольствия по этому поводу он не высказал.
* * *
А вот — другая история. Совсем в ином роде — хотя и на ту же тему.
У Виктора Некрасова в его романе «В окопах Сталинграда» Сталин упоминался. Всего два раза. О том, чтобы в книге о Сталинградской битве имя Сталина не упоминалось совсем, разумеется, не могло быть и речи. Это Виктор Платонович прекрасно понимал.
К тому же он знал, что Сталинскую премию ему распорядился дать не кто иной, как именно ОН, лично товарищ Сталин:
► Это уже потом мне рассказывал Всеволод Витальевич Вишневский, который был редактором журнала «Знамя» и опубликовал, и, нужно сказать, без всяких поправок и изменений, повесть. Но дальше — когда случилось совершенно неожиданное для меня событие, она — повесть — получила Сталинскую премию, — Всеволод Витальевич вызвал меня, закрыл все двери, по-моему, даже выключил телефон и сказал: Виктор Платонович, вы знаете, какая странная вещь произошла (а сам он был тоже членом Комитета по Сталинским премиям). Ведь вчера ночью, на последнем заседании Комитета, Фадеев вашу повесть вычеркнул, а сегодня она появилась. За одну ночь только один человек мог бы вставить повесть в список. Вот этот человек и вставил…
Это загадочная совершенно история, так как этот человек — Иосиф Виссарионович, со своими странностями, о которых мы говорить не будем, многие знают; одна из них, что он семнадцать раз ходил на «Дни Турбиных»… К этим странностям, по-моему, и относится, что вот он, по рассказам, вставил мою повесть, в которой, в общем, скажем, так уж много он не упоминался…
(Из выступления Виктора Некрасова на радио «Свобода» 23 января 1976 года. Специальная передача «Примечательные встречи»)Виктор Платонович явно гордится тем, что Сталин в его повести «так уж много не упоминался».
Упоминался он там, как уже было сказано, всего два раза. Да и то — как-то так, мимоходом. А главное — в пределах правдоподобия.
В одном случае имя Сталина в повести возникает так:
► — А все-таки воля у него какая… — говорит Ширяев, не подымая глаз. — Ей-богу…
— У кого? — не понимаю я.
— У Сталина, конечно. Два таких отступления сдержать. Ты подумай только! В сорок первом и вот теперь… Мы вот каких-нибудь пятьсот-шестьсот метров держим и то ругаемся. И тут не так, и там плохо, и пулемет заедает. А ему за весь фронт… Газету и то, вероятно, прочесть не успевает. Ты как думаешь, Керженцев, успевает или нет?
— Не знаю. Думаю, все-таки успевает.
— Успевает, думаешь? Ой, думаю, не успевает. Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь, а не понравится что, вылезешь, матюком покроешь, ну, иногда там пистолетом пригрозишь… А у него что? Карта? А на ней флажки. Иди разберись. И в памяти все удержи — где наступают, где стоят, где отступают…
Разговор ведется в нарочито бытовом, слегка даже приземленном тоне. Поначалу главный герой, от имени которого ведется повествование (то есть как бы сам автор), даже не понимает, о ком идет речь. (Хотя, услыхав первую фразу — «воля у него какая», — мог бы и даже должен был понять сразу.)
В другом случае главный герой (рассказчик) упоминает Сталина уже как бы от себя. Поминает, размышляя о своем ординарце:
► Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку…
На войне узнаешь людей по-настоящему… Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь, и спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину — за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае, за Сталина, которого он никогда не видел, но который является для него символом всего хорошего и правильного, — он будет драться до последнего патрона.
Когда роман писался и печатался (1946 год), упоминание Сталина в таком контексте («…за меня, за Игоря, за товарищей по полку, за Сталина…») было по меньшей мере необычным, в особенности если вдуматься в продолжение этой фразы — «за Сталина, которого он никогда не видел, но который является для него символом всего хорошего и правильного…» То есть — кто его знает, каков он там на самом деле, этот Сталин: драться до последнего патрона Валега будет не за этого, реального Сталина, «которого он никогда не видел», а за какого-то неведомого ему мифического Сталина, который является для него «символом всего хорошего и правильного».
По тем временам это было не просто смело, а даже отдавало, я бы сказал, некоторой наглостью.
Но лет пятнадцать спустя, когда мы втроем (я и два моих друга-соавтора — Л. Лазарев и Ст. Рассадин) решили сочинить пародию на Виктора Некрасова, мишенью для наших насмешек стал именно вот этот самый абзац:
► Милый, вислоухий мой Шмурыга!.. Да, он вот такой. Спроси у него, сколько будет дважды два, может быть, и не ответит. Но нашу родную таблицу умножения никому в обиду не даст.
В то время, когда мы сочиняли эту свою пародию, у всех на слуху была незадолго до того написанная Н. Коржавиным «Арифметическая басня»:
Чтобы быстрей добраться к светлой цели, Чтоб все мечты осуществить на деле, Чтоб сразу стало просто все, что сложно, А вовсе невозможное возможно, — Установило высшее реченье Идейную таблицу умноженья… Наука объективной быть не может — В ней классовый подход всего дороже. Лишь в угнетенном обществе сгодится Подобная бескрылая таблица. Высокий орган радостно считает, Что нам ее размаха не хватает, И, чтоб быстрее к цели продвигаться, Постановляет: «дважды два — шестнадцать!»… И вот тогда с такого положенья Повсюду началось умов броженье, И в электричках стали материться: «А все таблица… Врет она, таблица! Что дважды два? Попробуй разобраться!..» Еретики шептали, что пятнадцать. Но, обходя запреты и барьеры, «Четырнадцать», — ревели маловеры. И все успев понять, обдумать, взвесить, Объективисты заявляли: «десять». Но все они движению мешали, И их за то потом в тюрьму сажали. А всех печальней было в этом мире Тому, кто знал, что дважды два — четыре. Тот вывод люди шутками встречали И в тюрьмы за него не заключали: Ведь это было просто не опасно, И даже глупым это было ясно!..В 1946-м, когда Виктор Платонович опубликовал в журнале «Знамя» свой роман «В окопах Сталинграда», действовала та самая «идейная таблица умножения», согласно которой «дважды два — шестнадцать». А он в своем романе как бы исходил из того, что на самом деле не шестнадцать, а — четырнадцать. Может быть, даже двенадцать.
Это не могло так просто сойти ему с рук.
И вот, когда роман, уже опубликованный в журнале, должен был выйти отдельной книгой, его вдруг вызвал к себе цензор. Дело это было совершенно неслыханное. Ведь официально считалось, что никакой цензуры у нас нет. Есть — Главлит. Но «главлитчики» эти, то есть цензоры, с авторами никогда не встречались. Все свои претензии и пожелания цензор сообщал редактору, а уж тот, как бы от своего имени, обращал их к автору. А тут вдруг этот прочно установившийся политес был нарушен. Вопреки всем правилам цензор пожелал встретиться с автором романа напрямую, глаза в глаза.
Виктор Платонович очень живописно рассказывал об этой исторической встрече. Цензорша (разговор был грубый, мужской, но от имени Государства в тот раз выступала женщина) прямо, без обиняков, сказала ему, что книга о Сталинграде не может выйти в свет без эпизода, в котором был бы выведен Сталин. Не так, как у него, в разговорах и случайных упоминаниях, а в виде полнокровного художественного образа. Нужна сцена в Ставке Верховного Главнокомандующего. Сцена, в которой сталинский военный гений предстал бы перед читателем во всем своем великолепии.
Виктор Платонович придуривался. Говорил, что он, в сущности, не писатель. Выдумывать не умеет. О том, чего сам не видел, написать не может. Пишет только про то, что было с ним и с его друзьями.
В общем, выкрутился. В тот раз от него отстали. Ну, а уж потом, когда роман получил Сталинскую премию, никакой цензор уже больше не отваживался приставать к нему с этими глупостями. Сталинская премия означала, что сам вождь, лично, одобрил книгу в этой вот, авторской редакции. Стало быть, никакой редакторской правке она уже не подлежит.
Но на этом дело не кончилось.
Как писали в титрах немого кино, ШЛИ ГОДЫ. И настал год 1961-й, когда исторический (действительно исторический) XXII съезд партии принял свое историческое (действительно историческое) решение выкинуть Сталина из Мавзолея. И если раньше гроб с телом вождя медленно опускался, как в лифте, все ниже и ниже, с этажа на этаж, то теперь этот «лифт» полетел вниз стремительно, без остановок, обрушился, словно перерубили, срезали автогеном удерживающие его тросы.
И тут, как по команде, повсюду стали срочно сбрасывать с пьедесталов сталинские бюсты и статуи.
А случилось дело так: Как-то ночью странною Заявился к нам в барак «Кум» со всей охраною. Я подумал, что конец, Распрощался матерно… Малосольный огурец Кум жевал внимательно. Скажет слово и поест, Морда вся в апатии. «Был, — сказал он, — говны, съезд Славной нашей партии. Про Китай и про Лаос Говорились прения, Но особо встал вопрос Про Отца и Гения». Кум докушал огурец И закончил с мукою: «Оказался наш Отец Не отцом, а сукою…» Полный, братцы, ататуй! Панихида с танцами! И приказано статуй За ночь снять со станции… (Александр Галич. Поэма о Сталине)Тут же армия цензоров и редакторов по всей стране приступила к выполнению новой поставленной перед ними задачи: изъятию имени Сталина из партийных документов, исторических исследований, романов, повестей, очерков, публицистических статей, стихов и песен.
Как стремительно это происходило, можно судить по такой истории, которую рассказал мне мой приятель Камил Икрамов. (Сын Акмаля Икрамова — секретаря ЦК Узбекистана, расстрелянного вместе с Бухариным и Рыковым.)
В 1954 году в Ташкенте Камил присутствовал на каком-то очень торжественном концерте.
Концерт открывался, как полагалось в те времена, песней о Сталине. Ее исполнял национальный хор, в национальных костюмах, на национальном (узбекском) языке.
Хор пел:
Ста-лин кай-да-балсан, Ста-лин кай-да-балсан…Что означало загадочное слово «кайдабалсан», Камил не объяснил, но никаких объяснений тут и не требовалось.
На следующий год Камил вновь оказался в Ташкенте. И опять попал на такой же торжественный концерт.
Открывал его тот же хор, исполнявший ту же самую песню. Но теперь она звучала так:
Пар-тия кай-да-балсан, Пар-тия кай-да-балсан…Вот в это самое время, в 1954 году, Виктору Платоновичу Некрасову пришлось снова напрямую встретиться с той же цензоршой. (Может быть, и не с ней, а с какой-нибудь ее коллегой, но для стройности повествования мне захотелось написать, что именно с нею. Даже если это было и не так, большой натяжки тут нет: цензорша вполне могла оказаться та же самая.)
На этот раз она, упирая на новые политические обстоятельства, предложила Виктору Платоновичу выкинуть из романа и те немногие упоминания о Сталине, которые в нем были. Мало того, намекнула даже, что не худо было бы изменить и название романа, поскольку город Сталинград уже сменил название и называется теперь Волгоградом.
Но Виктор Платонович и тут уперся. Никаких — даже самых маленьких — изменений вносить в текст своей книги не пожелал. Как написано, твердо сказал он, так пусть и остается. Ведь так было. Я же ничего не придумал.
Был большой скандал. Были даже письма в ЦК с требованиями приструнить упрямого автора. Но так у них ничего и не вышло. Некрасов настоял на своем, и книга его — и тогда, и потом — издавалась и переиздавалась в том самом виде, в каком была написана.
Может показаться, что в этом упорном сопротивлении Виктора Платоновича «свежему ветру перемен», как это тогда называлось, есть некоторая несообразность. Вряд ли ведь так уж дороги были ему эти мимолетные — отчасти даже вынужденные — упоминания имени Сталина. Так стоило ли упрямиться?
Однако понять его можно.
Он не хотел послушно — как флюгер при перемене ветра — колебаться вместе с линией партии. И это, безусловно, делает ему честь.
Но довод его («Ведь так это было, я ничего не придумал»), по правде говоря, не кажется мне особенно убедительным.
* * *
Довольно острый разговор на эту тему был у меня — как раз вот в то самое время — с Борисом Слуцким.
Начался он, после того как Борис прочел мне (или дал прочесть), вероятно, только что написанное стихотворение про Зою. Про то, как она крикнула с эшафота: «Сталин придет!» Завершали стихотворение такие строки:
О Сталине я в жизни думал разное, Еще не скоро подобью итог…И далее следовало мутноватое рассуждение насчет того, что как бы там ни было, а это тоже было, и эту страницу тоже, мол, не вычеркнуть из истории и из нашей жизни.
— Как вы могли! — кипятился я. — Да как у вас рука поднялась! Как язык повернулся!
— А вы что же, не верите, что так было? — кажется, с искренним любопытством поинтересовался он. (Мне показалось, что он и сам не слишком в это верит.)
— Да хоть бы и было! — ответил я. — Если даже и было, ведь это же ужасно, что чистая, самоотверженная девочка умерла с именем палача и убийцы на устах!
Когда я откричался, он — довольно спокойно — разъяснил:
— У меня около сотни стихов о Сталине. Пусть среди них будет и такое. Я не хочу рисовать картину той нашей жизни извне, как бы со стороны. Я был внутри.
Был у меня и еще один (тоже скандальный) разговор со Слуцким на ту же тему. Возник он по поводу таких его строк:
Художники рисуют Ленина, Как раньше рисовали Сталина, А Сталина теперь не велено: На Сталина все беды свалены.— Ах, вот как! — иронизировал я. — Свалены, значит? А сам он, бедный, выходит, ни в чем не виноват?
В этом слове («свалены», как это мне запомнилось, или «взвалены», как это теперь напечатано) мне померещилось стремление поэта выгородить Сталина, защитить его от «несправедливых» нападок.
Но тут, как я теперь думаю, скорее прав был он. В основе чувства, вызвавшего к жизни эти стихи, лежало, наверно, более глубокое, чем мое, осознание той простой истины, что главной причиной наших бед был не Сталин, а порожденная не им (во всяком случае, не только им) система.
В терминах коржавинской «Арифметической басни» можно сказать, что я тогда мыслил и рассуждал, исходя из представления, что дважды два — десять, а в процитированных строчках Слуцкого уже содержался намек на другой ответ. Может быть, еще и не окончательный, но, во всяком случае, больше похожий на истинный, чем тогдашний мой.
* * *
Читая опубликованные недавно «Рабочие тетради» А.Т. Твардовского, я наткнулся там на такую задумку-заготовку к «Теркину на том свете»:
► Встал было фокус — встреча Теркина на том свете с Верховным.
(— Умер за меня?
— Нет, товарищ Сталин. За себя скорее.
— Но ведь кричал: «За родину, за Сталина»?
— Как сказать, кричал больше матом.)
Что Сталин тогда еще был жив — не причина уклоняться от встречи: он жил, но живым уже не был. Был в живых, но живым не был уж, пожалуй.
(«Знамя», 2000, № 7, с. 113)Так этот замысел блеснул ему впервые.
На следующей же странице «Рабочих тетрадей» он получил некоторое развитие. Родилось четверостишие:
Уж кому-кому не знать, Как не нам, солдатам, Что ходить случалось в бой Чаще — просто — с матом.Спустя еще несколько страниц на свет явился уже целый стихотворный отрывок, в который отлился этот первоначальный набросок:
— Тот, кто службе жизнь твою Придал безвозмездно, За кого ты пал в бою, Как тебе известно. Теркин вскинул бровь и вкось Поглядел вполвзгляда И устало молвил: брось, Я прошу, не надо. — Почему же? А печать? Не забыл, вояка, Что ты должен был кричать, Как ходил в атаку? — Знаешь, лучше умолчим, Лучше без огласки. На том свете нет причин Для такой подкраски. Нам ли, друг, не знать с тобой, Грамотные оба, Что в бою — на то он бой — Слов подбор особый. И вступали там в права, Вот как были кстати, Чаще прочих те слова, Что не для печати.На том свете и в самом деле уже нет причин врать, приукрашивать, подкрашивать реальность. Но, видать, остаются еще причины, чтобы кой о чем умолчать, кое-что до поры не предавать огласке.
По этой ли причине или по другой какой, но в окончательном тексте «Теркина на том свете» разговор этот выглядит гораздо бледнее, даже, я бы сказал, туманнее, чем в первоначальном своем виде:
— Тот, кто в этот комбинат Нас послал с тобою. С чьим ты именем, солдат, Пал на поле боя. Сам не помнишь? Так печать Донесет до внуков, Что ты должен был кричать, Встав с гранатой. Ну-ка? — Без печати нам с тобой Знато-перезнато, Что в бою — на то он бой — Лишних слов не надо; Что вступают там в права И бывают кстати Больше прочих те слова, Что не для печати…Даже и на том свете не решается герой Твардовского (или сам автор не разрешает ему, или его — автора — «внутренний редактор») сказать то, что ему хотелось бы, с той прямотой, с какой он говорил об этом в первом авторском замысле. Начать с того, что говорит он это не в глаза самому Сталину, власть которого распространяется и на тот свет, хотя в описываемые времена он вроде еще жив (жив, но в то же время как бы и мертв — поистине жуткий образ), а всего лишь фронтовому другу, который служит ему путеводителем по «тому свету». Да и говорит не так прямо, как это сперва было замыслено автором, а довольно-таки уклончиво.
Но даже и из этого уклончивого ответа ясно, что ТЕ слова, которые «печать донесет до внуков», он, солдат, не кричал, а только лишь должен был их кричать. В бою, где — на то он бой — «лишних слов не надо», кричал совсем другие. Стало быть, эти, предписанные ему, как раз и были там лишними.
Да, первоначальный свой замысел Твардовский слегка подпортил. Во всяком случае, ослабил. Но жизненной правде он не изменил.
* * *
А вот еще одна история на эту тему.
Ее рассказал мне Алексей Иванович Пантелеев — автор (точнее — один из авторов) знаменитой в 20-е годы «Республики Шкид».
В 1943 году он был отозван из армии в Военный отдел ЦК ВЛКСМ и получил там задание: написать для «Комсомольской правды» очерк о подвиге Александра Матросова.
Очерк писался, что называется, по горячим следам. Со дня гибели героя прошло всего несколько месяцев. Алексей Иванович поехал в часть, где служил Саша Матросов, расспросил его однополчан, друзей, бывших свидетелями его подвига. Работал он над очерком с искренним интересом: Матросов, как оказалось, был бывший беспризорный, и автору «Республики Шкид» судьба парня показалась особенно близка.
Тут надо сказать, что Алексей Иванович был писатель скрупулезно честный и очерк свой хотел написать (и написал) не то чтобы без вранья (это уж само собой), но даже и без всякой патетики, без котурн, без всякого романтического пафоса. Он хотел рассказать о том, что произошло, так, как это было на самом деле. (Как выразился один мальчик, когда его спросили о стиле другого пантелеевского рассказа: «Стиль такой, как было».)
Вот этим простым и ясным своим стилем (таким, «как было») и написал он о подвиге Саши Матросова:
► Вражеский пулемет молчал.
Не дожидаясь команды, бойцы дружно поднялась в рост; многие уже рванулись вперед и с криком «ура!», беспорядочно стреляя, пробежали десяток-другой шагов в сторону дзота.
И вдруг пулемет ожил.
Он застучал лихорадочно, торопливо, захлебываясь. И люди, которые были уже совсем близко от цели, опять повалились в снег и, пятясь, поползли в сторону леса, а многие остались лежать на снегу, чтобы никогда больше не встать.
И тут все, кто мог видеть, увидели, как Саша Матросов выбежал из своего укрытия и с криком: «А, сволочь!» кинулся к вражескому дзоту. Товарищи видели, как на бегу он повернулся, припал на левую ногу и всей силой своего тела навалился на амбразуру.
Даже из этой короткой цитаты видно, каким щепетильно правдивым старается быть автор в каждой детали, каждой подробности этого своего рассказа. Он не позволяет себе не то что фантазировать насчет того, о чем думал, что чувствовал его герой в момент совершения подвига, но даже рисуя картину происходящего извне, как бы со стороны, не осмеливается включить в это описание свое воображение, свою писательскую фантазию. Говорит только о том, что и как видели очевидцы, друзья Саши: «Товарищи видели…», «И тут все, кто мог видеть, увидели…» (Если и не понимал, то чувствовал, наверно, что сознательно закрыть своим телом амбразуру просто физически невозможно. Так увиделось это теми, кто смотрел на выбежавшего из укрытия Сашу — сзади.)
Но при всей этой своей скрупулезной точности, одно крошечное отступление от правды писатель себе все-таки позволил. У него Саша Матросов выбегает из своего укрытия с криком: «А, сволочь!» В действительности же, как рассказывал мне Алексей Иванович, он выкрикнул в этот момент совсем другие, гораздо более крепкие слова.
Тех слов ни «Комсомольская правда», ни какая-либо другая газета, конечно, не напечатала бы ни при какой погоде: недаром же они так и назывались — «непечатными».
Но и эту придуманную писателем замену «Комсомольская правда» тоже не напечатала. Раскрыв наутро газету со своим очерком, Алексей Иванович прочел:
► И тут все, кто мог видеть, увидели, как Саша Матросов выбежал из своего укрытия и с криком: «За Родину, за Сталина!» кинулся к вражескому дзоту.
Этого, конечно, следовало ожидать.
Подвиг Александра Матросова, ставший едва ли не главным государственным мифом, не мог быть совершен со словами: «А, сволочь!» Тут необходимы были совсем другие слова, и все знали — какие именно. Так что редактора (или цензора), внесшего в текст пантелеевского очерка эту поправку, можно понять.
Но поправки такого рода с неуклонностью производились и во всех других, не столь экстраординарных, вполне рядовых случаях.
Кто это делал? И почему? Было ли на этот счет соответствующее указание? Или каждый редактор (или цензор) совершал такую замену по зову души, по велению, так сказать, собственного сердца?
Свой ответ на этот вопрос дал Владимир Войнович, нарисовав в своем «Чонкине» выразительный портрет ответственного редактора районной газеты «Большевистские темпы» Ермолкина:
► С утра до позднего вечера, не замечая ни дождя, ни солнца, ни времени суток, ни смены времен года, не зная радости любви или выпивки, забыв о собственной семье, проводил он время в своем кабинете за чтением верстки…
Нацелив на верстку острый свой карандаш, Ермолкин пристально вглядывался в напечатанные слова и ястребом кидался, если попадалось в них хоть одно живое. Все обыкновенные слова казались ему недостойными нашей необыкновенной эпохи, и он тут же выправлял слово «дом» на «здание» или «строение», «красноармеец» на «красный воин». Не было у него в газете ни крестьян, ни лошадей, ни верблюдов, а были труженики полей, конское поголовье и корабли пустыни. Люди, упомянутые в газете, не говорили, а заявляли, не спрашивали, а обращали свой вопрос. Немецких летчиков Ермолкин называл фашистскими стервятниками, советских летчиков — сталинскими соколами, а небо — воздушным бассейном или пятым океаном. Особое место занимало у него в словаре слово «золото». Золотом называлось все, что возможно. Уголь и нефть — черное золото. Хлопок — белое золото. Газ — голубое золото…
Эта «испепеляющая страсть», как называет Войнович постоянно владеющее его героем стремление «любую статью или заметку выправить от начала до конца так, чтобы читать ее было совсем невозможно», можно определить как желание все известные ему слова и обороты русского языка перевести на новояз. И направлено это стремление было на очень широкий, можно даже сказать необъятный, круг вещей, понятий и явлений. Но был у этого необъятного круга свой центр, своя главная смысловая точка:
►…перед уходом он еще раз просмотрел оттиск газеты, который ему принесли для окончательной проверки.
Начал, как обычно, с передовой. В передовой его всегда интересовали не тема, не содержание, не, скажем, стиль изложения, его интересовало только, чтобы слово «Сталин» упоминалось не меньше двенадцати раз. О чем бы там разговор ни шел, хоть о моральном облике советского человека, хоть о заготовке кормов или разведении рыбы в искусственных водоемах, но слово должно было упоминаться двенадцать раз. Можно тринадцать, можно четырнадцать, но ни в коем случае не одиннадцать. Почему он взял минимальным именно это число, а не какое другое, просто ли с потолка или чутье подсказывало, сказать трудно, но было именно так. Вот же не существовало на этот счет никаких исходящих сверху инструкций, никаких особых распоряжений, а не только Ермолкин, но, пожалуй, каждый редактор, хоть в местной газете, хоть в самой центральной, днем и ночью слеп над серым, как грязная скатерть, газетным листом, выискивая остро отточенным карандашиком это самое слово и шевелил губами, подсчитывая.
Вот он — ответ на интересующий нас вопрос.
Этого своего Ермолкина Войнович, конечно, выдумал. Но каждый, кто помнит газеты — хоть местные, хоть центральные — тех незабываемых лет, не усомнится в том, что такие Ермолкины действительно существовали. И именно один из них, какой-нибудь «гвардии рядовой» из этой несметной армии Ермолкиных, и заменил в очерке Л. Пантелеева «А, сволочь!» — на «За Родину, за Сталина!».
Позже, как только появилась у него такая возможность, Алексей Иванович вернулся к первоначальному своему варианту. И во втором томе собрания его сочинений, вышедшем в 1984 году, куда писатель включил этот свой старый рассказ, мы, конечно, читаем: «А, сволочь!»
Ну, а что касается тех истинных слов, которые выкрикнул, выбежав из укрытия, Саша Матросов, то на этот счет существует такой анекдот.
Падая на пулемет, он, согласно этой анекдотической версии, произнес:
► — У-у, гололед ебаный!
Объясняя мотивы подвига Александра Матросова, эту анекдотическую версию принимать во внимание, может быть, и не стоит. А вот что касается лексики последней — предсмертной — его фразы, то анекдот дает о ней, конечно, гораздо более верное представление, чем все известные нам литературные варианты.
Закрытый распределитель
Слово «закрытый» в нашем новоязе обрело особый, только советскому человеку понятный смысл. Закрытый — это значило: существующий не для всех, а для избранных — для тех, кому положено. Закрытый распределитель, закрытый магазин, закрытый буфет, закрытая столовая…
У Владимира Войновича есть такая книга «Антисоветский Советский Союз». Это — не роман, а потому никакой воли своей фантазии писатель там не давал: просто делился разными соображениями о нашей советской жизни, подкрепляя эти соображения разными фактами и случаями из своей — и нашей общей — жизни. И привел он там, между прочим, такой — не слишком примечательный, но все же довольно красноречивый — факт уже не из нашего, советского, а из своего эмигрантского житья-бытья.
Приехал туда, к ним, в Германию, один наш довольно пожилой человек. Он приехал дочку свою навестить, которая вышла замуж за немца. И пошел как-то с ней, с дочкой, в ихний немецкий магазин. Ну, дочка, конечно, стала ему все там показывать, хвастаться, гляди, мол, как тут у нас. Он смотрел, смотрел, хмурился, а потом сказал:
— Нет, ты мне настоящий магазин покажи.
— А это какой же? — удивилась она.
— Не знаю какой. Может, какой-нибудь закрытый. Специальный. Или только для иностранцев. А ты мне обыкновенный магазин покажи, для простых людей.
И как дочка его ни убеждала — даже по другим магазинам водила, — так он и не поверил, что все эти магазины, которые она ему показывала, — самые что ни на есть обыкновенные, то есть открытые, предназначенные для обыкновенных, рядовых немцев.
В «Литературной газете», где я работал, было два буфета — один (на четвертом этаже) закрытый (только для членов редколлегии), а другой (на шестом) — открытый (для рядовых сотрудников). И никого это не удивляло. А формула «закрытый распределитель» так прочно вошла в сознание советского человека, что употреблялась порой не только в прямом, но и в расширительном, так сказать, метафорическом смысле:
► Помню, на редколлегии в «Литературке» обсуждался один очень острый материал. Член редколлегии Александр Иванович Смирнов-Черкезов, замечательный журналист и прекрасный человек, предложил, обращаясь к Чаковскому: «Если у вас есть опасения, давайте я один подпишу статью в печать, возьму на себя всю ответственность». Тот насмешливо посмотрел на него и сказал: «Ответственность выдается у нас в закрытом распределителе, а вы, Александр Иванович, там не прикреплены».
(Из интервью с Александром Бориным. В кн.: «Пресса в обществе (1959–2000)». М.: Московская школа политических исследований, 2000)Собственно, никакой метафорой эта реплика главного редактора тогдашней «Литературки» А.Б. Чаковского даже и не была, поскольку деление на «закрытые» и «открытые» учреждения не только в сфере распределения самых насущных жизненных благ, было общеизвестным, узаконенным признаком всей советской системы.
Что же касается самого определения, то оно употреблялось не только в этом, специфически советском, но и в старом, исконном своем значении. Поэтому нередко можно было услышать такую — загадочную для не знающих советского новояза — реплику:
— У нас открыли закрытую столовую.
Или даже прочесть на дверях учрежденческого буфета такое — совсем уже непереводимое ни на какие иностранные языки — объявление:
ОТКРЫТЫЙ БУФЕТ ЗАКРЫТ.
С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ТУТ БУДЕТ ОТКРЫТ ЗАКРЫТЫЙ БУФЕТ.
Запутавшись в связях
Это словосочетание я помню с детства. Так было сказано в газетном сообщении о самоубийстве Яна Гамарника: по официальной версии, он покончил с собой, «запутавшись в связях с врагами народа».
Формулировку эту многие воспринимали юмористически, придавая ей другое, слегка фривольное значение.
Двусмысленность этой общепринятой формулы (потом ее применяли уже не только к Гамарнику) замечательно обыграла, как рассказывают, Ольга Берггольц. (Может быть, эта история выдумана — не знаю: за что купил — за то и продаю.)
Выступая на партийном собрании, на котором клеймили только что разоблаченного (то есть арестованного) бывшего руководителя РАППа Леопольда Авербаха, Ольга Федоровна будто бы сказала:
— Даю слово коммуниста, что ни в какой связи с врагом народа Авербахом, кроме половой, я не состояла.
Знатные люди нашей родины
Определение «знатный» в советском новоязе никогда не использовалось в исконном, традиционном его значении. Ни партийные и государственные лидеры («вожди»), ни другие представители партийного и государственного истеблишмента «знатными людьми» не назывались. Эпитет «знатный» прилагался исключительно к людям физического труда: «знатный токарь», «знатный шахтер», «знатная ткачиха», «знатная свинарка», «знатная доярка»…
Тут словно бы сбылась давняя поэтическая мечта Роберта Бернса:
При всем при том, При всем при том Судите не по платью. Кто честным кормится трудом, — Таких зову я знатью.На самом деле, однако, этот семантический сдвиг в традиционном значении слова «знатный» («принадлежащий к знати») был чистейшей воды лицемерием, что нашло свое выражение в такой (уже в нынешнее время родившейся) юмореске:
► Дворянское собрание. Приходит нищенка:
— Восстановите в дворянах и меня.
— А кто у вас в роду дворянин?
— Бабка у меня из знати.
— Кто такая?
— Перегудова. Знатная ткачиха.
(Вячеслав Верховский. Архипелаг гуляк)Клише «знатные люди нашей родины» было своего рода антонимом по отношению к другому — такому же лицемерному — официальному термину, обозначавшему лиц, принадлежащих к истинной знати советского общества — партийно-государственной элите, — «слуги народа».
Лицемерие этого последнего словоупотребления нашло отражение в таком анекдоте.
► Приехавший Москву иностранец спрашивает:
— Скажите, пожалуйста, кто эти люди — бедно одетые, с измученными лицами, которые ранним утром бегут по улицам, торопливо вскакивают в трамваи, в автобусы, чуть ли не засыпая на ходу от усталости?
— Это хозяева жизни, — отвечают ему.
— А вот эти — упитанные, холеные, в добротных габардиновых макинтошах и фетровых шляпах, которые не торопясь, важно усаживаются в сверкающие лаком черные лимузины? Кто они такие?
— А это слуги народа, — следует ответ.
Но формула «знатные люди нашей родины» была лицемерна вдвойне, потому что все эти «знатные шахтеры», «знатные ткачихи», «знатные свинарки» и «знатные доярки» не просто камуфлировали глубокое социальное неравенство, определявшее самую суть структуры советского общества. Они играли еще и другую социальную роль, выполняли особую, гораздо более важную социальную функцию.
Освещению этой особой их роли несколько страниц посвятил Владимир Войнович в знаменитом своем романе «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Я имею в виду «знатную доярку» Люшку Мякишеву, которая мелькнула на миг и, быть может, даже затерялась среди множества других, более ярких и выразительных персонажей этого замечательного романа. Но здесь самое время нам о ней вспомнить:
► Люшка родилась и выросла в бедной крестьянской семье. Летом батрачила, зиму проводила безвылазно на печи, не имея ни валенок, ни штанов. До коллективизации она не могла стать знаменитой дояркой, поскольку полудохлая коровенка, бывшая в хозяйстве, рекордных надоев не давала. Когда же коровенка в результате скудного питания стала и вовсе дохлой, от нее прекратилась всякая польза. К тому же печальному результату могла подойти и Люшкина жизнь, но тут подоспели благостные перемены. В колхоз Люшка записалась одной из первых. Потом ей дали бывших крестьянских коров. Правда, тех надоев, что раньше, коровы уже не давали, но по инерции продолжали доиться обильно. Постепенно Люшка становилась на ноги. Приобулась, приоделась, вышла замуж, вступила в партию. Вскоре повсюду стали выдвигать передовиков и ударников, и Люшка по всем данным вполне подошла под эту категорию. В местной и центральной печати появились первые заметки о Люшкиных достижениях. Но настоящий взлет ее начался, когда какой-то корреспондент с ее слов (а может, и сам выдумал) тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска одновременно — по два в каждую руку. Тут-то все и началось. Выступая в Кремле на съезде колхозников, Люшка заверила собравшихся и лично товарища Сталина, что с отсталой прежней технологией покончено отныне и навсегда. А на реплику товарища Сталина «Кадры! Кадры!» обязалась обучить своему методу всех доярок своего колхоза. «А получится ли у всех?» — лукаво спросил товарищ Сталин. «Да ведь у каждой доярки, товарищ Сталин, по две руки», — бойко сказала Люшка и выставила вперед собственные ладони. «Правильно», — улыбнулся товарищ Сталин и кивнул головой. С тех пор уже и вовсе не видели Люшку в родном колхозе. То она заседает в Верховном Совете, то присутствует на совещании, то принимает английских докеров, то беседует с писателем Лионом Фейхтвангером, то получает орден в Кремле. Пришла к Люшке большая слава. Газеты пишут про Люшку. Радио говорит про Люшку. Кинохроникеры снимают фильмы про Люшку. Журнал «Огонек» на обложке печатает Люшкин портрет. Красноармейцы пишут, хотят жениться.
Совсем замоталась Люшка. Прискачет на день-другой в родную деревню, подергает корову за соски перед фотоаппаратом и дальше. Сессия в сельхозакадемии, встреча с писателями, выступление перед ветеранами революции…
Возникло и ширилось так называемое мякишевское движение. Мякишевки (появилось такое название) брали обязательства, заполонили верховные органы, делились опытом через газеты и красовались на киноэкранах. Коров доить совсем стало некому.
Ключевым моментом в этой истории была реплика товарища Сталина: «Кадры! Кадры!» и его лукавый вопрос: «А получится ли у всех?» Ведь знаменитый предшественник Люшки Мякишевой — «знатный шахтер» Алексей Стаханов совершил свой немыслимый подвиг (выдал на-гора 102 тонны угля за смену вместо полагавшихся семи, а через 19 дней — 227 тонн, перекрыв норму уже не в 14, а в 32 раза) как раз в ответ на речь Сталина 4 мая 1935 года, в которой вождь назвал кадры «самым ценным и решающим капиталом в производственном процессе».
«Почин» Стаханова (как и последовавшие за ним такие же новаторские «почины» Кривоноса на железнодорожном транспорте, Бусыгина в автомобильной промышленности, Сметанина в обувной, сестер Виноградовых в текстильной, Демченко в сельском хозяйстве) был, конечно, грандиозной мистификацией. На одного рекордсмена работала вся шахта, весь завод, вся фабрика, весь колхоз. А конечная цель каждой такой аферы состояла в том, чтобы заменить устаревшие нормы на новые, снизив, разумеется, при этом расценки оплаты труда — за каждую добытую тонну угля, за каждое ведро надоенного молока.
В 1935 году, выступая на Всесоюзном совещании стахановцев, Сталин сказал:
► Стаханов поднял техническую норму добычи угля впятеро или вшестеро, если не больше.
Но дальше, в той же самой речи, появились уже другие цифры:
► Стаханов перекрыл существующую норму, кажется, раз в десять или даже больше.
И — вывод:
► Объявить эти достижения новой технической нормой для всех работающих на отбойном молотке было бы неразумно. Очевидно, что придется дать норму, проходящую где-либо посередине между существующей нормой и нормой, осуществленной тов. Стахановым.
Даже из этого официального высказывания вождя ясно видно, что все эти липовые, сфальсифицированные рекорды «стахановцев», «кривоносовцев», «гагановцев» и «загладовцев» были не чем иным, как мощным средством эксплуатации обычных, рядовых токарей, шахтеров, ткачих, свинарок и доярок.
Именно в этом и состояла основная социальная функция всех этих «знатных людей» в системе советского общественного устройства. Что нашло соответствующее отражение в замечательной (одной из лучших) песне Владимира Высоцкого:
Сидели пили вразнобой «Мадеру», «Старку», «Зверобой» — И вдруг нас всех зовут в забой, до одного: У нас — стахановец, гагановец, Загладовец, — и надо ведь, Чтоб завалило именно его. Он — в прошлом младший офицер, Его нам ставили в пример, Он был как юный пионер — всегда готов, — И вот он прямо с корабля Пришел стране давать угля, — А вот сегодня — наломал, как видно, дров. Спустились в штрек, и бывший зэк — Большого риска человек — Сказал: «Беда для нас для всех, для всех одна: Вот раскопаем — он опять Начнет три нормы выполнять, Начнет стране угля давать — и нам хана. Так что вы, братцы, — не стараться, А поработаем с прохладцей — Один за всех и все за одного». …Служил он в Таллине, при Сталине — Теперь лежит заваленный, — Нам жаль по-человечески его…Зовет на подвиги советские народы коммунистическая партия страны
«Подвиг» — слово старое. В словаре Даля оно объясняется так: «Доблестный поступок, важное, славное деяние».
Но, как и многие другие старые русские слова, в советском новоязе слово это обрело не только новое звучание, но и новый, несвойственный ему прежде смысл.
Вся жизнь советского человека была, как известно, борьбой. Еще Ильф и Петров заметили, что советский газетчик, желая сказать, что надо хорошо подметать улицы, непременно выразит это в форме призыва «включиться в борьбу за подметание улиц». Ну, а где борьба, — там, конечно, и подвиги. Вот и долбили советскому человеку со всех сторон, что в жизни всегда найдется место подвигу. И, действительно, находилось, поскольку всякая вовремя выполненная работа именовалась не иначе как трудовым подвигом. И подвиги эти совершали не только отдельно взятые граждане, но целые народы, целые республики.
Прочитав, например, в какой-нибудь очередной исторической речи товарища Брежнева, что вся страна гордится трудовым подвигом народа Советской Литвы, мы, разумеется, и думать не думали, что народ Советской Литвы совершил нечто исключительное, из ряда вон выходящее. Ну, собрали урожай. Так ведь и американские фермеры небось тоже собрали урожай. И тоже, наверно, без потерь. Но там, у них, никому и в голову не придет назвать это трудовым подвигом.
И еще один новый оттенок, который приобрело в советские времена это старое слово.
По самой сути своей «подвиг» — это нечто неповторимое. В советском же новоязе то и дело можно было услышать или прочесть, что солдат такой-то воинской части повторил подвиг Александра Матросова, а летчик такой-то эскадрильи повторил подвиг Николая Гастелло.
Это, правда, было во время войны, когда исключительные, героические, самоотверженные поступки и впрямь стали явлением массовым.
Но мысль, что подвиг (или любой поступок, который Государству выгодно было объявить подвигом) можно тиражировать, возникла и утвердилась в советском обществе гораздо раньше.
Впервые столкнулся я с этим — не скрою — поразившим меня явлением при таких обстоятельствах.
Дело было в 1955 году. Я работал тогда в детском журнале «Пионер» — заведующим отделом художественной литературы.
И вот однажды позвонил мне на работу сравнительно недавно вернувшийся из мест отдаленных мой добрый приятель Лев Эммануилович Разгон и сказал:
— Не сердитесь, пожалуйста! Я послал к вам одну женщину. Она пишет рассказы… Рассказы, между нами говоря, довольно слабые. Но я вас прошу, будьте с нею поласковее. Если не сможете ничего отобрать, так хоть откажите ей как-нибудь помягче: она, бедняга, только-только вернулась. Отсидела двадцать лет…
Двадцать лет! Это произвело на меня впечатление.
Оттуда возвращались тогда многие. Но максимальный — и чаще всего мелькавший в разговорах на эту тему срок отсидки определялся цифрой семнадцать. Сам Лев Эммануилович, кстати, тоже, кажется, отсидел ровно семнадцать лет. А тут — двадцать!
Естественно, я ожидал, что по этой рекомендации Разгона ко мне явится изможденная, быть может, даже дряхлая старуха.
Явилась, однако, весьма привлекательная молодая женщина. Молодая даже по тогдашним моим понятиям.
— Сколько же вам было, когда вас… Когда вы… И как вы ухитрились загреметь на целых двадцать лет? — не удержался я от вопроса.
И она рассказала такую историю.
Дело было в 1934 году (а не в тридцать седьмом, как у всех: отсюда и двадцать лет вместо семнадцати). Ей было девятнадцать лет, она была, как говорили тогда, на пионерской работе. Попросту говоря, была пионервожатой. Пописывала разные очерки и статейки, печаталась иногда в «Пионерской правде», то есть была уже как бы на виду. И вот в награду за все эти ее комсомольско-пионерские заслуги послали ее на лето пионервожатой в знаменитый пионерский лагерь «Артек».
Работа ее ей нравилась, детей она любила, легко и хорошо с ними ладила, поскольку и сама была не намного старше своих питомцев.
Но однажды произошел такой случай.
Созвал всех вожатых к себе в кабинет начальник лагеря и сделал им такое сообщение.
— Завтра, — сказал он, — к нам прибывает партия детей, повторивших подвиг Павлика Морозова. И мы должны устроить им торжественную встречу.
Все приняли это как должное. А если кто и удивился, то виду не подал, понимая, что возражать тут не приходится. Не смолчала только она, моя рассказчица.
— Понимаю! — прервал я ее рассказ. — Вы не удержались, наговорили им сорок бочек арестантов, сказали, как это чудовищно, когда сын доносит на родного отца, а общество не только поощряет доносительство, но даже объявляет это подвигом…
— Нет, — покачала она головой. — Ничего подобного я им тогда не сказала. Да, по правде говоря, я тогда так и не думала. Я сказала всего лишь, что дети эти, конечно, герои: они действительно совершили подвиг, поступили как подобает настоящим пионерам, верным ленинцам. Но все-таки, сказала я, донести на родного отца или на родную мать — непросто. Для нормального ребенка это огромная душевная травма. Поэтому, сказала я, мне кажется, что не следует устраивать этим детям торжественную встречу. Да и вообще не стоит им напоминать об этом их подвиге. Надо просто принять их в наш коллектив и сказать всем нашим ребятам, чтобы они были к ним повнимательнее, чтобы ни в коем случае не заводили никаких разговоров на эту деликатную тему, ни о чем таком их не расспрашивали…
Ей, конечно, дали суровый отпор. Начальник лагеря сказал, что выступление ее по существу является антипартийным, что его даже следовало бы рассматривать как вылазку классового врага. Но, зная ее как хорошего работника, настоящую комсомолку, преданную делу партии Ленина — Сталина, он считает возможным на первый раз ограничиться замечанием.
Тем бы, наверно, дело и кончилось. Но упрямая девчонка на этом не успокоилась.
Под впечатлением услышанного, она сочинила рассказ о мальчике, который донес на своего отца, а когда отца арестовали, промучившись несколько дней угрызениями совести, не выдержал, кинулся в озеро — и утонул.
Мало того. Сочинив этот рассказ, она прочла его своим питомцам на пионерском костре.
Ну и тут, конечно, уже ничто не могло ее спасти.
Самое поразительное в этой драматической истории — то, что ее героиня, как уже было сказано, всю чудовищность разоблачаемой ею ситуации осознавала лишь отчасти. Само слово подвиг в приложении к поступку, который по-настоящему надо было бы именовать предательством, ее не шокировало. Она была ушиблена не лицемерием системы, а ее бездушием.
А между тем для многих ее сограждан (я думаю уже и в те времена) самым отвратительным во всей этой пропагандистской кампании было именно ее чудовищное лицемерие.
Ну, а уж позже, когда трагедия Павлика Морозова и всех этих несчастных детей, повторивших его «подвиг», перестала быть живой кровоточащей раной и стала историей, кое-кто углядел в этой кровавой драме даже и повод для некоего черного юмора:
На полу лежит отец, Весь от крови розовый. Это сын его играл В Павлика Морозова.И
Инженеры человеческих душ
Язык, сама структура, сам строй речи, тот способ, к которому прибегает человек для выражения своих мыслей, начиная с выбора слов и кончая конструкцией фразы, выдают его с головой. В результате оказывается, что говорящий, сам того не желая, сказал гораздо больше, чем хотел. И даже сообщил (о себе) то, о чем вовсе не собирался сообщать городу и миру.
Называя советских писателей инженерами человеческих душ, Сталин, надо полагать, вовсе не хотел этим определением их унизить. Скорее наоборот: он хотел им польстить, подчеркнуть важность, значительность дела, которым они занимаются (должны заниматься). И совсем уж, я думаю, не входило при этом в его планы обнажать свои плоские, примитивные, школярские представления о природе художественного творчества и о том, что на самом деле являет собой человеческая душа.
А получилось именно это.
Следуя точному смыслу этой его языковой формулы, мы получаем примитивную схему, согласно которой таинственная, загадочная, непредсказуемая человеческая душа — всего лишь механизм, который можно регулировать, чинить, если он испорчен, а также совершенствовать, добиваясь более продуктивной и целенаправленной его деятельности. При этом, правда, нам придется признать, что механизм этот не так прост, как, скажем, паровозный котел, что для присмотра за ним, а тем более для его совершенствования нужен не машинист, даже не техник, а именно инженер. Пожалуй, даже инженер особой, повышенной, так сказать, квалификации. И все-таки — не более чем инженер.
Именно в таком вот духе излагал и интерпретировал эту сталинскую мысль верный ученик и соратник вождя А.А. Жданов.
► Товарищ Сталин, — говорил он в своей основополагающей речи на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, — назвал наших писателей инженерами человеческих душ. Что это значит? Какие обязанности накладывает на вас это звание?..
Нельзя быть инженером человеческих душ, не зная техники литературного дела, причем необходимо заметить, что техника писательского дела имеет ряд специфических особенностей.
Родов оружия у вас много. Советская литература имеет все возможности применить эти роды оружия (жанры, стили, формы и приемы литературного творчества) в их разнообразии и полноте… С этой точки зрения овладение техникой дела… представляет собой задачу, без решения которой вы не станете инженерами человеческих душ…
Быть инженерами человеческих душ — это значит активно бороться за культуру языка, за качество произведений…
Нам нужно высокое мастерство художественных произведений…
Совершенно такую же речь тот же Жданов (или Маленков, или Каганович — любой из тогдашних сталинских соратников) мог бы произнести на каком-нибудь другом съезде — скажем, на съезде угольщиков, или сталелитейщиков, или станкостроителей. Разумеется, с заменой некоторых (в сущности, очень немногих) слов: ведь каждое производство имеет свою специфику, но от каждого партия вправе требовать овладения техникой своего дела и высоких показателей в борьбе за качество получаемой продукции.
Но может быть, виноват тут не Сталин, а недотепа Жданов, который тонкую сталинскую метафору перевел на унифицированный партийный жаргон, бесконечно тем самым обеднив и даже исказив образную речь вождя?
Нет, Жданов выразил мысль Сталина как нельзя более точно. Можно даже сказать — адекватно.
В том же 1934 году Сталин позвонил Пастернаку и между ними произошел весьма примечательный разговор. Речь шла о судьбе арестованного Мандельштама, о котором Пастернак хлопотал.
Разговор этот часто цитируется. Упор при этом почти всегда делается на том, что Сталин спросил у Пастернака, был ли Мандельштам его другом, а Борис Леонидович с ответом слегка замешкался. Все рассуждения комментаторов, как правило, сводятся к тому, насколько мужественно и достойно (или недостойно, недостаточно мужественно) вел себя в этом случае Пастернак.
На самом же деле самым интересным в этом разговоре было совсем другое.
► Сталин: Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь.
Пастернак: Писательские организации не занимаются этим с 1927 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали. (Именно вот тут он и прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер своих отношений с Мандельштамом.)
Сталин: Но ведь он же мастер? Мастер?
Пастернак: Да дело не в этом!
Сталин: А в чем же?
Пастернак ответил, что хотел бы встретиться и поговорить.
Сталин: О чем?
Пастернак: О жизни и смерти.
На этом Сталин бросил трубку.
Более всего поражает в этом разговоре не лицемерие Сталина и даже не явное его стремление унизить собеседника («Если бы я бы поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез…»). Все эти подробности мало что добавляют к уже хорошо нам знакомому портрету вождя. И не замешательство Пастернака, начавшего вдруг — не очень кстати — объяснять, что они с Мандельштамом вовсе не были такими уж близкими друзьями. Это тоже не разрушает знакомый нам образ «небожителя» (сталинское выражение) Пастернака.
Более всего поражает тут то, что в самой своей основе это был, как принято теперь говорить, разговор обезьяны с телевизором. Все реплики собеседников, все их вопросы и ответы лежат в разных плоскостях. И поэтому на протяжении всего этого диалога (в сущности, это лишь видимость диалога) между ними — пропасть полного, абсолютного, тотального непонимания.
Пик этого непонимания — настойчивый, дважды повторенный вопрос Сталина:
— Но ведь он же мастер? Мастер?
И усталый ответ Пастернака:
— Да дело не в этом.
► — Но он мастер, мастер? — допытывался Сталин у Пастернака, дабы тот неукоснительно подтвердил, что собрат-поэт (Мандельштам) знает свое дело.
Только почему «мастер»? Откуда такая терминология?
А из «Тарифного справочника для работников печати», где к высшей категории (по оплате) причислялись, цитирую: «авторы стихотворений — поэты — мастера[1] высокохудожественной поэтической формы и стиля».
Разрядка, извините, моя.
(Эдуард Шульман. Коротышки. «Вопросы литературы», 2001, № 1)Предположение автора этой «Коротышки» не лишено смысла. Не вполне ясно, правда, что тут первично, а что — вторично: Сталин отталкивался от «Тарифного справочника»? Или «Тарифный справочник» ориентировался на терминологию Сталина?
Но это, в конце концов, не так уж важно.
Куда больший интерес для нас представляет ответ Пастернака на этот настойчивый сталинский вопрос.
В безнадежной интонации этого ответа — ясное сознание, что никакой разговор на эту тему с этим человеком — невозможен.
Попробовать объяснить ему, почему «дело не в этом», он мог бы только одним-единственным доступным ему способом. Скажем, вот так:
Так начинают, года в два От мамки рвутся в тьму мелодий, Щебечут, свищут, — а слова Являются о третьем годе… Так открываются, паря Поверх плетней, где быть домам бы, Внезапные, как вздох, моря. Так будут начинаться ямбы. Так ночи летние, ничком Упав в овсы с мольбой: исполнься, Грозят заре своим зрачком. Так затевают ссоры с солнцем. Так начинают жить стихом.Вряд ли Сталин что-нибудь понял бы из такого объяснения.
Вот Мандельштам, который не был Пастернаку другом, это бы понял. Собственно, ему и понимать это было нечего, потому что он знал это не хуже, чем Пастернак. Вопреки предположению Сталина он ведь не был мастером. (Когда пытался сочинить «Оду», прославляющую «кремлевского горца», и ничего не получалось, в отчаянии бегал по комнате и кричал: «Вот Асеев — мастер! Он бы не задумался и сразу написал!..»)
Да, они не были друзьями. Но они хорошо понимали друг друга, потому что ГОВОРИЛИ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ.
Вот как говорит об этом Мандельштам:
► …размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственно трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире…
А вот как вторит ему Пастернак:
► Токование — забота природы о сохранении пернатых, ее вешний звон в ушах. Книга — как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся. Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян.
И Мандельштам в упоении подхватывает:
► …Поэзия Пастернака прямое токованье (глухарь на току, соловей по весне), прямое следствие особого физиологического устройства горла, такая же родовая примета, как оперенье, как птичий хохолок.
Для Сталина этот язык был все равно что речь инопланетян. Но дело не только в языке. Ему бесконечно чуждо, в сущности недоступно, было само представление об искусстве как о «творчестве и чудотворстве».
Случись ему прочесть, допустим, знаменитую «пушкинскую речь» Блока:
► Первое дело, которого требует от поэта его служение, — бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтожных мира».
Бежит он, дикий и суровый, И звуков и смятенья полн…Дикий, суровый, полный смятенья, потому что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения…
Не так уж трудно представить себе, как отнесся бы к рассуждениям такого рода не только «верный ученик Ленина», но и сам его Великий Учитель. «Пустая идеалистическая болтовня», — поморщился бы он. И добавил бы, что отсюда — «прямая дорога к поповщине».
А между тем о художественном творчестве как о чуде говорили не только Блок, Пастернак и Мандельштам, и даже не только Пушкин, Лев Толстой и Достоевский.
Сталин, наверно, очень бы удивился, узнав, что точно так же понимал природу этого загадочного явления и его верный холуй — «рабоче-крестьянский граф» А.Н. Толстой.
► — Послушайте, — сказал Толстой, — когда я подхожу к столу, на котором лист бумаги, у меня такое ощущение, как будто я никогда ничего не писал; мне страшно — такое ощущение, как будто придется сесть писать впервые. А ведь я уже выпустил несколько книг, кое-какая техника у меня уже выработана… Нет, белый лист меня все же пугает! Как я буду писать, думаю я. Ведь я же не умею!
(Юрий Олеша. Встречи с Алексеем Толстым)Старый циник не кокетничал. Он знал, что говорил. Знал, что истинное творчество — чудо. А ведь чудо может и не повториться. Оно и не повторилось, когда, выполняя сталинский «социальный заказ», он написал свою печально знаменитую повесть «Хлеб». Книга эта принесла ему все мыслимые почести и жизненные блага, но чтобы написать ее, не надо было быть А.Н. Толстым — автором «Петра Первого», «Ибикуса» и «Детства Никиты». Такую книгу вполне мог бы написать Павленко, и Вирта, или Ванда Василевская — кто угодно! И никакая «выработанная техника» ему не помогла.
Заказчик (Сталин), может быть, этой разницы не ощутил. Может быть, не очень-то и умел отличать Божий дар от яичницы. Но скорее всего ему и не нужно было, чтобы в заказанной им книге ощущалось присутствие этого самого Божьего дара. Ему нужно было, чтобы на обложке восславляющей его книги стояло имя А.Н. Толстого — достаточно громкое и само по себе, да к тому же еще и напоминающее о его великом однофамильце и предшественнике.
* * *
Но формула Сталина об инженерах человеческих душ возникла не только из его неспособности понять природу искусства. Помимо всего прочего, Сталину просто удобнее было думать о писателе, поэте как об инженере, производственнике. При таком взгляде на существо литературного дела введение института цензуры, например, уже не требовало никаких идеологических обоснований и оправданий — мера эта диктовалась чисто технической, производственной необходимостью:
► Если Сталин назвал советских писателей «инженерами человеческих душ», то Главлит следовало бы назвать заводским ОТК (Отделом технического контроля), которому поручена проверка выпускаемого «изделия» на предмет полнейшего соответствия принятым требованиям и стандартам.
(А. В. Блюм. Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929–1953)Да и во всех иных отношениях такой взгляд на существо дела был для Сталина предпочтительнее.
Если все дело в мастерстве, задача решается просто: повысить уровень мастерства, овладеть техникой литературного дела — и все тут. Конечно, техника литературного дела имеет ряд специфических особенностей. Но разве техника выплавки чугуна и стали или создания столь нужной стране химической промышленности не имеет тоже какой-то своей специфики?
Любой спецификой можно овладеть. Вот он сам овладел же!
Вряд ли, конечно, Сталин всерьез полагал, что смог бы написать роман «Молодая гвардия» не хуже, чем это сделал Фадеев. Но он считал себя достаточно компетентным, чтобы давать Фадееву вполне профессиональные руководящие замечания, касающиеся не только содержания его романа, но и той самой «техники», которая как раз и составляет самую основу специфики «литературного дела».
Высказывая Фадееву свои критические замечания по поводу его романа, Сталин сказал:
— У вас, товарищ Фадеев, слишком длинные фразы. Народ вас не поймет. Вы учитесь писать, как мы пишем указы. Мы десять раз думаем над тем, как составить короткую фразу. А у вас по десять придаточных предложений в одной фразе.
Обескураженный Фадеев пытался возражать и сослался при этом на Толстого, у которого тоже были фразы с придаточными предложениями.
— Мы, — ответил на это Сталин, — для вас пантеон еще не построили, товарищ Фадеев. Подождите, пока народ построит вам пантеон, тогда и собирайте туда все ваши придаточные предложения.
В своем праве учить писателя Фадеева, какими фразами — короткими или длинными — ему надлежит писать, Сталин не сомневался, конечно, не только потому, что занимал высокий партийно-государственный пост и уже поэтому был высшим арбитром во всех сферах жизни, науки, искусства. Писатели ведь сами признали его право учить их не только уму-разуму, но и вот этой самой «технике литературного дела».
Даже такой признанный мастер этого дела, как И. Бабель, прямо призывал с трибуны Первого писательского съезда «учиться у товарища Сталина работе над словом»:
► На чем можно учиться? Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается: посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованы его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры…
Взошедший на съездовскую трибуну сразу после Бабеля старый писатель Аросев, до революции учившийся в Льеже на факультете философии, пошел еще дальше:
► Нехватка современных типов в нашей литературе почувствована вождем нашей партии т. Сталиным. Вы знаете, на XVII съезде т. Сталин дал нам фигуры двух типов: зазнавшегося вельможи и честного болтуна. Сама форма, в которой т. Сталин изложил это, высокохудожественна, в особенности там, где идет речь о болтуне. Там дан высокой ценности художественный диалог.
И если предыдущий оратор, т. Бабель, говорил о том, что мы должны учиться, как обращаться со словом, у т. Сталина, то я поправил бы его: учиться так художественно подмечать новые типы, как это сделал т. Сталин.
Конечно, то, что было позволено гению всех времен и народов, не могло стать руководством к действию для любого партийного функционера. Но, как известно, и Жданов, и другие сталинские соратники тоже не стеснялись указывать «инженерам человеческих душ», как именно им надлежит выполнять их профессиональные обязанности. А почему бы нет, если в основе их общего дела — никакой тайны и никакого чуда, а одна только техника, которой может овладеть каждый?
Только при таком взгляде на вещи мог быть осуществлен, применен на практике другой, может быть самый важный, тогдашний сталинский лозунг: «У нас незаменимых людей нет!»
Если незаменимых людей нет, значит, любого, кто мнит себя незаменимым, можно убрать, посадить, расстрелять, а на его место назначить другого. И вчерашний полковник становится маршалом, а партийный функционер, балующийся литературой, объявляется не просто выдающимся писателем, а чуть ли даже не живым классиком.
Впрочем, нет. Тут я слегка поторопился и, кажется, даже возвел на Сталина напраслину. Сталин все-таки был достаточно умен, чтобы понимать, что в таком тонком и сложном деле, как литература, незаменимые люди есть. Во всяком случае — должны быть. Когда Д.А. Поликарпов (партийный функционер, назначенный руководить писателями) пожаловался ему на разные безобразия, творящиеся во вверенном ему ведомстве, Сталин ответил:
— В настоящий момент, товарищ Поликарпов, мы не можем предоставить вам других писателей. Хотите работать — работайте с этими.
Он все-таки понимал, что в таком сложном и тонком деле, как литература, незаменимые люди должны быть.
Но — процесс пошел. И тридцать лет спустя уже спокойно можно было назначить главным писателем страны любого партийного функционера. Что и было сделано.
Помню, прогуливались мы как-то вечерком с известным нашим юмористом-сатириком, давним моим другом Владленом Бахновым по нашей Аэропортовской улице. И подошел к нам кто-то из собратьев по цеху и рассказал о том, что произошло в тот день на очередном съезде советских писателей.
Первый секретарь Союза писателей Георгий Мокеевич Марков во время доклада вдруг почувствовал себя худо. У него слегка закружилась голова, и он чуть было не потерял сознание. Но тут из президиума быстренько подскочил к трибуне Герой Советского Союза В. Карпов и, деликатно отведя Георгия Мокеевича в сторонку, заступил на его место и дочитал доклад до конца.
Сообщив нам все это, очевидец вышеизложенного события высказал уверенность, что наверняка именно Карпов будет теперь назначен первым писателем страны. (Так оно впоследствии и оказалось.)
Выслушав этот рассказ, Владик отреагировал на него в свойственной ему (и жанру, который он представлял) манере. Он сказал:
— Отряд не заметил потери бойца и яблочко-песню допел до конца.
* * *
Создатели бессмертного Козьмы Пруткова — А.К. Толстой и братья Жемчужниковы, войдя в образ придуманного ими персонажа, сочинили от его имени «Проект о введении единомыслия в России»:
► …принимая во внимание: с одной стороны, необходимость, особенно в нашем пространном отечестве, установления единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства; с другой же стороны — невозможность достижения сей цели без дарования подданным надежного руководства к составлению мнений — не скрою, что целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет…
Этот правительственный орган, будучи поддержан достаточным полицейским и административным содействием властей, был бы для общественного мнения необходимою и надежною звездою, маяком, вехою… Установилось бы одно господствующее мнение по всем событиям.
К «проекту» прилагались соответствующие конкретные предложения. Например, такие:
► Сделать подписку на сие издание обязательной для всех присутственных мест…
Велеть всем издателям и редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, дозволяя себе только повторение и развитие их…
Ну, и так далее — в том же духе.
Можно представить себе, как веселились авторы, сочиняя этот свой замечательный проект. Каким безумием, какой нелепой фантазией представлялись им все эти идиотические его пункты и подпункты. Могло ли им взбрести на ум, что этот дикий бред, рожденный в больном мозгу благонамеренного тупицы, станет реальностью! Мало того — что реальность даже превзойдет самые нелепые, самые фантастические из этих придуманных ими в бреду пародийного вдохновения предложений и рекомендаций.
Но самым замечательным было даже не это. Самым замечательным тут было то, что успех этого фантастического предприятия (я имею в виду не сам «Проект», а реализацию, осуществление этого «Проекта») превзошел все ожидания. В кратчайшие исторические сроки цель — в общем и целом — была достигнута.
В послесталинские, уже более или менее либеральные — хрущевские — времена, когда установившееся при Сталине единомыслие дало уже легкую трещину, я работал в «Литературной газете». А в том же здании, и даже на том же этаже, располагалась редакция другой газеты — «Литература и жизнь». И вот в один прекрасный день мне на стол легло письмо читателя, который до глубины души был возмущен тем, что в двух этих газетах появились две совершенно разные рецензии на одну и ту же книгу. В одной — хвалебная, в другой — ругательная. Возмущение автора письма было вызвано тем, что газеты полностью его дезориентировали: он не знал, какого мнения по поводу этой — не помню, еще не прочитанной или уже прочитанной им, — книги ему теперь надлежит держаться.
Были, конечно, в нашей стране и другие, не столь доверчивые читатели. Но факт этот все-таки подтверждает, что конечная цель реализованного Сталиным «Проекта о введении единомыслия в России» в принципе была достигнута.
Нечто подобное произошло и с другим «Проектом», сочиненным (тоже в жанре пародии) уже не в девятнадцатом, а в нашем веке. Точнее — в 1934 году, в те самые дни, когда с большой помпой заседал в Колонном зале Дома союзов Первый съезд советских писателей.
Там у них была стенгазета, где ежедневно появлялись написанные на самую последнюю злобу дня шутки, эпиграммы, фельетоны, пародии, с ходу взятые на карандаш шаржи и карикатуры. Потом все эти юмористические и сатирические отклики, собранные вместе (может быть, не все, а только лучшие из них), составили книгу, и книга эта, очень элегантно изданная, под названием «Парад бессмертных» вышла в свет в специальной сатирической библиотеке «Крокодила». И был там среди многих других фельетонов один, написанный в форме письма одного самого что ни на есть рядового участника съезда какому-то своему другу-провинциалу, тоже, наверно, писателю, но не удостоившемуся даже гостевого билета.
Автор этого «письма» делился со своим корреспондентом разными своими впечатлениями, а напоследок изложил ему свой проект о введении для писателей не только строгой табели о рангах, но даже и униформы — с соответствующими этой «табели» знаками отличия в петлицах.
Погон в нашей армии тогда еще не было, и знаки отличия, предложенные автором этого проекта, воспроизводили аналогичные армейские:
► Гость с разовым билетом — один кубик. (По-армейски — младший лейтенант.)
Гость с постоянным билетом — три или четыре кубика. (Старший лейтенант или капитан.)
Делегат с совещательным голосом — одна шпала. (Майор.)
Делегат с решающим голосом — две шпалы. (Подполковник.)
Член мандатной комиссии — три шпалы. (Полковник.)
Член редакционной комиссии — ромб, член секретариата — два ромба, член президиума съезда — три ромба и член президиума (уже постоянного, выбранного съездом) — четыре ромба.
(Парад бессмертных. М, 1934)Ромбы по-тогдашнему обозначали комбригов, комдивов и командармов, то есть по сегодняшнему нашему раскладу это были уже генеральские звания.
Яркостью сатирического дара и богатством фантазии автор этого фельетона, конечно, уступает создателям неповторимого Козьмы Пруткова. Но в одном можно не сомневаться: предлагаемый им проект, когда он его сочинял, наверняка представлялся ему никак не меньшей нелепостью, чем А.К. Толстому и братьям Жемчужниковым придуманный ими «Проект о введении единомыслия в России». Однако и этот проект тоже — со временем, конечно, — был осуществлен.
До петличек и знаков различия дело, правда, не дошло. Но жесткая субординация — вот эта самая табель о рангах, и не то чтобы негласная, а вполне официальная, существовала. Помню, как на моих глазах один чахоточный поэт вымаливал обещанный ему полулюкс (на полный люкс он не претендовал) в Доме творчества в Пицунде. Но неумолимая распределительница писательских благ сурово отвечала, что ни про какой его туберкулез и ни про какие данные ему обещания она ничего не знает, а знает только, что полулюксы у них полагаются только членам правления.
* * *
Желающих более детально ознакомиться с тем, как действовала эта писательская табель о рангах на практике, отсылаю к повести Владимира Войновича «Шапка», в которой подробно объясняется, кому из членов Союза писателей полагалась шапка из ондатры, кому из лисы, кому из кролика, а кому доставался всего лишь «кот домашний средней пушистости».
Но дело даже не в табели о рангах, не в строгой этой субординации, а в том уже вполне официальном социальном статусе, который обрели в нашей стране в последующие — уже послесталинские — годы инженеры человеческих душ.
Писательский авторитет Георгия Маркова или Владимира Карпова не шел ни в какое сравнение с писательским авторитетом не то что Горького или Алексея Толстого, но и Фадеева, и даже Алексея Суркова. Но социальный статус рядового члена СП не только не упал, а, пожалуй, даже повысился. Членство в писательском Союзе теперь весило никак не меньше, чем звание полковника. Может быть, даже тянуло и на генерала.
Приедешь, бывало, в какой-нибудь провинциальный город, заглянешь в гостиницу. На стойке администратора вечная табличка: «СВОБОДНЫХ НОМЕРОВ НЕТ». Кинешь небрежно свое писательское удостоверение с тисненным золотом орденом Ленина на красной коже — и свободный номер (даже люкс) сразу находится.
По этому своему социальному статусу писатели были никак не ниже академиков. Что, кстати говоря, очень обижало последних.
Академики и членкоры, надо сказать, очень любили писательские дома творчества. С одним моим приятелем-физиком (тоже, кстати говоря, академиком) я вел долгий, многолетний спор о том, кого советская власть больше подкупает: писателей или ученых?
Физик, естественно, утверждал, что писателей.
— Конечно, вас! — доказывал он. — В системе Академии наук таких Домов, как ваша Малеевка, нету и в помине. Одно только несчастное Узкое. Но там у меня была бы крохотная комнатеночка, а тут мне дают две комнаты: спальню и кабинет. Не говоря уже о персональном санузле. Недаром же я каждый год запасаюсь кучей официальных просьб на разных красивых бланках и иду с ними в Литфонд, заискиваю, чтобы мне, в порядке обмена на какой-нибудь там вшивый Кисловодск, продали путевку в Малеевку. Или в Коктебель…
Этот наш спор, как я уже говорил, длился годами. И, наверное, никогда бы не кончился, если бы в один прекрасный день я не выдвинул формулу, которой, как говорится, закрыл тему.
— Вам, — сказал я, — платят за то, чтобы вы делали свое дело. А нам — за то, чтобы мы не делали своего дела. Ведь дело писателя состоит в том, чтобы говорить обществу правду.
И вот однажды эта нехитрая моя мысль нашла неожиданное подтверждение.
Стояла как-то в Коктебеле перед писательской столовой, у балюстрады, группа писателей. Притом — весьма почтенных. Был там даже и сам Твардовский. И оказался среди них один старичок-академик — то ли физик, то ли математик. За свои академические заслуги он — по обмену — тоже проник в этот писательский дом.
И вдруг какой-то молодой парень, проносившийся на водных лыжах мимо этой балюстрады, радостно выкрикнул:
— Писатели! Бездельники!
Старичок-академик прямо-таки зашелся от негодования.
— Какое свинство! — возмутился он. — Ну как так можно! Ведь здесь же не только писатели. Вот и я тут стою. Что ж, значит, я тоже бездельник?
Факт, однако, оставался фактом. Заслуженно или незаслуженно, но инженеры человеческих душ были причислены к самым привилегированным слоям советского общества Легко с этим своим привилегированным положением освоились, быстро к нему привыкли, очень им дорожили и ни с кем не собирались им делиться.
Об этом — следующий мой правдивый рассказ, действие которого тоже происходило в Коктебеле.
* * *
На закрытом для простых смертных писательском пляже людей в тот день было совсем мало: человек пять-шесть, не больше. Была поздняя осень, купальный сезон уже кончился: в холодное море отваживались лезть лишь немногие смельчаки. Но солнце пригревало довольно сильно. И какая-то немолодая женщина с маленьким мальчиком — очевидно, внуком — шумно выражала свой восторг по поводу того, что нашлось все-таки в этом проклятом необустроенном Коктебеле местечко, где от палящих солнечных лучей можно укрыться под тентом.
— Моему Андрюшке, — говорила она, — солнце категорически противопоказано. И для нас это такое счастье!
Загорающая на солнце писательская жена — красивая холеная женщина — вполголоса сказала мужу:
— Володя, по-моему, эти люди не из нашего Дома…
— Ну и что же, Наденька? — робко возразил он.
— Во-ло-дя, — стальным голосом сказала она.
Володя нехотя встал и поплелся к возведенной недавно у входа на пляж помпезной деревянной арке, возле которой сидела дежурная в белом халате.
Он что-то пошептал ей, кивая в сторону прячущихся под тентом, и вернулся к жене.
А следом за ним на пляже появилась и дежурная.
Подойдя к счастливой бабушке внука, которому врачи строго-настрого запретили лежать на солнце, она вежливо спросила, есть ли у них пропуск. Пропуска, естественно, не оказалось. Тогда она так же вежливо объяснила, что этот пляж — не для всех, а только для тех, кто имеет право.
И пошли они, солнцем палимы…
* * *
А в заключение — еще одна, последняя моя история про инженеров человеческих душ. Совсем коротенькая.
Ночью того дня, когда сняли Хрущева, во внутреннем дворе нашего писательского дома раздался зычный мужской голос:
— Писатели!.. Слышите меня?!
Проснувшиеся писатели приникли к окнам. Некоторые даже высунулись из форточек.
Голос внятно, раздельно произнес:
— Гов-ню-ки!
Возражений не последовало.
Писатели отпрянули от окон и легли спать.
Искусство принадлежит народу
В такой чеканной форме мысль эту выразил Ленин. И именно с его легкой руки она и вошла в советский новояз. Предполагалось при этом, что искусство хоть и должно принадлежать народу, но раньше, до победы пролетарской революции, об этом можно было только мечтать. И лишь теперь, при советской власти, эта вековая мечта каждого истинного художника наконец-то стала явью.
На первых порах художники (во всяком случае, некоторые из них) в это поверили, о чем свидетельствует такой рассказ, слышанный мною от моей приятельницы Наташи Роскиной.
С героем этого своего рассказа художником Гущиным она познакомилась после войны, в Саратове, где он оказался после так называемой репатриации. А до того — был эмигрантом. На родину хотел вернуться давно, но возможность такая представилась только в сорок пятом. И он немедленно этой возможностью воспользовался.
Во время революции молодой художник Николай Гущин оказался на Урале. Был он в ту пору горячим сторонником большевиков, распространял какие-то большевистские листовки. Но сила тогда была на стороне Колчака, и, спасаясь от колчаковской контрразведки, он — после разных передряг — оказался на Дальнем Востоке. А оттуда, морем, попал в Европу. И в конце концов обосновался в Париже.
Тут бы ему и укорениться: ведь для художника Париж — это земля обетованная.
Но Гущин мечтал о возвращении домой, на родину. И стал хлопотать о въездной визе.
Однако большевики — те самые, из-за приверженности к которым он, в сущности, тут и оказался, — в визе ему решительно отказали.
Он обивал пороги советского посольства и консульства, добивался, хлопотал, возмущался, просил, умолял, доказывал — ничего не помогало.
Так прошло несколько лет.
И вот однажды он встретил в кафе Маяковского — старого своего приятеля, еще по дореволюционной художественной Москве.
Гущин кинулся к нему, как к родному. Рассказал о своих мытарствах и, зная, что Маяковский в Советской России человек влиятельный, попросил помочь.
Но Маяковский на эту просьбу отреагировал неожиданно. Он сказал:
— А зачем, собственно, тебе туда ехать?
— То есть как — зачем? — изумился Гущин.
Ему казалось, что кому другому, но уж Маяковскому объяснять это ему, во всяком случае, не придется. И этот странный вопрос поэта был для него — как ушат холодной воды.
— Как это — зачем? — растерянно пролепетал он. — Работать! Для народа!
Маяковский мягко положил руку ему на плечо и сказал:
— Брось, Коля! Гиблое дело.
Исторический съезд
Историю, которую я хочу рассказать в связи с этой расхожей формулой советского новояза, можно было бы озаглавить так:
Генерал Иволгин и драматург Шатров
Генерал Иволгин, второстепенный (пожалуй, даже третьестепенный) персонаж романа Достоевского «Идиот», — старый, опустившийся болтун и враль. А Михаил Шатров, известный в советское время драматург, специализировавшийся на так называемой ленинской теме, — человек весьма напористый, пробивной, неизменно преуспевающий. (В новые наши времена, когда ленинская тема уже перестала быть источником материальных и социальных благ, Миша не растерялся, не «пошел на дно», а, наоборот, преуспел еще больше, уже в качестве крупного дельца, или, как у нас теперь говорят, бизнесмена.)
Казалось бы, что общего может быть между столь разными фигурами?
Общее, однако, оказалось.
У генерала Иволгина было такое постоянное присловье: «Я вас на руках носил». Этой репликой он неизменно начинал разговор с каждым, кто был лет на двадцать — или хоть на пятнадцать — моложе его. Все, кто знал доблестного генерала, давно привыкли пропускать мимо ушей эту его коронную фразу. Но однажды у него с ней вышла некоторая неувязка:
► — Вы, кажется, смотрите на меня с удивлением? Генерал Иволгин, имею честь рекомендоваться. Я вас на руках носил, Аглая Ивановна…
Лизавета Прокофьевна вспыхнула… Она терпеть не могла генерала Иволгина, с которым когда-то была знакома…
— Лжешь, батюшка, по своему обыкновению! Никогда ты ее на руках не носил! — отрезала она ему в негодовании.
— Вы забыли, maman, ей-богу носил, в Твери, — вдруг подтвердила Аглая. — Мы жили тогда в Твери. Мне тогда лет шесть было, я помню. Он мне стрелку и лук сделал и стрелять научил…
Генерал, объявивший Аглае, что он ее на руках носил, сказал это ТАК, чтобы только начать разговор, и единственно потому, что он почти всегда так начинал разговор со всеми молодыми людьми… Но на этот раз случилось, как нарочно, что он сказал правду…
Это — как бы эпиграф к припомнившейся мне истории про Мишу Шатрова.
А натолкнула меня на это воспоминание уже упоминавшаяся мною книга Виктора Клемперера «Язык Третьего рейха». Точнее — одно, особенно меня поразившее наблюдение автора этой «Записной книжки филолога».
Привожу его дословно в качестве еще одного эпиграфа к истории, которую собираюсь рассказать.
Речь идет об определении «исторический», которое в Третьем рейхе получило новое, раньше совсем ему несвойственное употребление. В связи с чем полностью утратило свой прежний смысл:
► Всякая речь фюрера, пусть даже он в сотый раз повторяет одно и то же, — это историческая речь, любая встреча фюрера с дуче, пусть даже она ничего не меняет в текущей ситуации, — это историческая встреча… Любой праздник урожая — исторический, как и любой партийный съезд, любой праздник любого сорта; а поскольку в Третьей империи существуют только праздники — можно сказать, что она страдала, смертельно страдала от дефицита будней, подобно тому как организм может быть смертельно поражен солевым дефицитом, — то Третья империя все свои дела считала историческими.
Каждому читателю книги Клемперера — из тех, кто (как я) прожил большую часть своей жизни в Стране Советов, — сразу бросается в глаза прямо-таки поразительное сходство языка Третьей империи с нашим советским новоязом. Почти любому словечку из политического лексикона Третьего рейха, составленного Клемперером, можно найти соответствующий советский аналог. Но в данном случае простым сходством дело уже не ограничивается: тут надо говорить не о сходстве, а о прямом тождестве. Эпитет «исторический» у нас употреблялся точь-в-точь так же, как в гитлеровской Германии. Просто — один к одному.
И тут я уже (наконец-то!) вплотную подхожу к главному своему сюжету.
Перед очередным партийным съездом Мишу Шатрова — тогда еще не очень знаменитого, но уже достаточно известного драматурга, оседлавшего ленинскую тему, — озарила светлая мысль. Он уговорил двух своих коллег обратиться «наверх» с просьбой разрешить им присутствовать (в качестве гостей, разумеется) хотя бы на одном из заседаний готовящегося исторического съезда КПСС. Именно так это и было сформулировано в сочиненном им и подписанном всеми тремя прошении «на высочайшее имя».
Мы с Мишей были тогда соседями и как бы даже приятелями, и он, показав мне текст этого — то ли уже отправленного, то ли только предназначавшегося к отправлению письма, спросил, что я по этому поводу думаю.
Я сказал:
— Ребята! По-моему, вы уже потеряли последние остатки разума. Называть историческим событие, которое еще не произошло, а только должно вскорости произойти, — это… Это уже ни в какие ворота… Как сказано у Чехова, всякому безобразию должно быть свое приличие…
Мишка это мое соображение не то что не принял во внимание — он его просто не понял. Для него слово «исторический» в применении к партийному съезду ничего не значило: это был постоянный эпитет, слитное словосочетание, как в русских сказках — красно солнышко, красна девица.
Партсъезд — значит, исторический.
— Пойми! — пытался я втолковать ему свою нехитрую мысль. — Когда съезд закончится, они, конечно, сразу станут называть его историческим. На этот счет у меня тоже нет ни малейших сомнений. Но сейчас, пока он еще не открылся, даже у них, при всем их бесстыдстве, хватает ума до поры до времени не употреблять этого определения, приберечь его на будущее…
Мишу и его дружков, подписавших сочиненную им бумагу, эти мои доводы, разумеется, не убедили. И я в сердцах даже назвал их недоумками.
Но недоумком оказался я.
Нет, на съезд их, конечно, не пустили: негласная табель о рангах там, «наверху», соблюдалась свято. И хорошо еще, что им не впаяли за это их нахальное письмо, как за нарушение пресловутой «партийной этики».
Но съезд, на который они так стремились попасть, и в самом деле оказался историческим. Не в советском, а в самом точном, буквальном, исконном смысле этого слова: это был знаменитый XX съезд, тот самый, на котором Хрущев прочел свой — поначалу секретный, но почти сразу же переставший быть секретным и переломивший всю нашу жизнь доклад «О культе личности и его последствиях».
Назвав в своем письме предстоящий партийный съезд историческим, Миша Шатров — точь-в-точь как генерал Иволгин — «сказал это ТАК», даже не задумываясь о том, что слово это должно иметь какой-то смысл. И точь-в-точь как в описанном Достоевским случае с генералом Иволгиным, «на этот раз случилось, как нарочно, что он сказал правду».
Что же касается всех последующих партийных съездов, то хотя они тоже именовались историческими, истинную цену им хорошо знали даже сами их устроители. О чем может свидетельствовать такой, например, факт. Перед каким-то из этих пустопорожних съездов (перед двадцать четвертым или двадцать пятым, сейчас уж точно не помню) начальство распорядилось снять театральную афишу: «Много шума из ничего». Чтобы у прохожих не возникало разных нежелательных, как это тогда называлось, аллюзий, название старой шекспировской комедии пришлось поменять. Она стала называться — «Любовью за любовь».
К
Клим Ворошилов и братишка Буденный
Это были постоянные клишированные словосочетания, за которыми стояли две знаковые, культовые фигуры советской эпохи.
Культ Ворошилова, конечно, не шел ни в какое сравнение с культом верховного вождя, но все-таки это был самый настоящий культ. Поэты слагали стихи («Климу Ворошилову письмо я написал…»), народ пел песни («С нами Ворошилов — первый красный офицер…»). В день рождения «первого маршала» хоры мальчиков и девочек торжественного возглашали:
Первому и старшему Боевому маршалу Мно-огая ле-ета!..О городах, названных именем Ворошилова, не стоит даже и говорить, поскольку «свои» города были и у Молотова, и у Куйбышева, и даже у гораздо более мелких вождей.
Было почетное звание и значок — «Ворошиловский стрелок».
Это последнее обстоятельство дало повод замечательному нашему писателю Фазилю Искандеру в одну из лучших глав своего романа «Сандро из Чегема» — «Пиры Валтасара» — вставить такой эпизод:
► …Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял на ногах, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб.
— Мой Вилгелм Телл, — сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову: — А ты кто такой?
— Я — Ворошилов, — сказал Ворошилов довольно твердо.
— Я спрашиваю, кто из вас ворошиловский стрелок? — спросил Сталин, и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, подумал он, растравлять Ворошилова против нашего Лакобы.
— Конечно, он лучше стреляет, — сказал Ворошилов примирительно.
— Тогда почему ты выпячиваешься как ворошиловский стрелок? — спросил Сталин и сел, предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства…
— Ну, хватит, Иосиф, — сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами.
— Хватит, Иосиф, — сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова, — говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь?..
Сцена скорее всего вымышленная. (Хотя, может быть, кто-то из стариков, помнивших эти «пиры Валтасара», рассказал Искандеру что-то подобное.) Но такие утонченные, иезуитские издевательства над соратниками были любимой игрой Сталина. На сей счет сохранилось множество историй — и не только апокрифических. Вот одна из них, связанная, кстати, с тем же Ворошиловым.
Шло заседание Политбюро, на котором решался вопрос, выделить управление военно-морским флотом в отдельный наркомат или сохранить его в ведении единого Наркомата обороны. Высказывались разные суждения. Сталин молча слушал, не вмешивался. Ходил в своих мягких сапожках вдоль стола, курил свою знаменитую трубку. И только после выступления Ворошилова, который, конечно, отстаивал необходимость сохранения единого наркомата, остановился и медленно, раздумчиво сказал:
— У меня вопрос к товарищу Ворошилову… Почему товарищ Ворошилов систематически выступает против любого решения, направленного на усиление обороноспособности нашей родины?
После этой реплики вопрос, разумеется, был мгновенно решен в нужном Сталину духе. И, как это часто бывало, Сталин предложил соратникам посмотреть кино.
Смотрели любимый фильм Сталина — чаплинские «Огни большого города». Убитый горем Ворошилов сидел — одинокий — где-то сзади. Никто не осмелился сесть рядом с ним — все отшатывались от него, как от прокаженного. Но вот фильм кончился. И растроганный сентиментальной историей Сталин, проходя мимо одинокого, печального Клима, положил руку ему на плечо и молвил:
— Ничего… Мы еще поработаем с товарищем Ворошиловым…
Историй таких было множество. Но смешно было бы сделать из них (равно как и из той, которую рассказал в своем романе Фазиль Искандер) вывод, будто Сталин ревновал Ворошилова к его славе «Ворошиловского стрелка», да и вообще относился к культу «первого маршала» с некоторой ревностью.
Сталин был Богом. И, как подобает Богу, предпочитал держаться «за сценой». (Говорят, что еще на заре своей политической карьеры, занимая пост наркома по делам национальностей, он старался не показываться на глаза сотрудникам, сказав однажды по этому поводу: «Чем меньше будут видеть, тем больше будут бояться».)
А Ворошилов был постоянно на сцене. Что ни год, появлялся на Красной площади верхом на лошади, принимая парад, и это было своеобразным знаком прочности, стабильности всего нашего советского бытия. Другие «вожди» менялись, но Ворошилов оставался неизменным, незаменимым, незаменяемым.
Была даже такая поговорка: «Все нормально, все в порядке — Ворошилов на лошадке».
Культ Буденного был не таким громким, как культ Ворошилова, но и ему тоже самые известные поэты страны посвящали свои стихи:
С неба полуденного жара не подступи, Конная Буденного раскинулась в степи… Никто пути пройденного назад не отберет, Конная Буденного армия — вперед!Была и знаменитая на всю страну песня:
Братишка наш Буденный — с нами весь народ. Приказ голов не вешать и смотреть вперед. С нами Ворошилов — первый красный офицер. Готовы мы кровь пролить за ЭсЭсЭсЭр.В ранний, романтический период советской власти это панибратство с вождями казалось естественным: никому и в голову не приходило, что есть некоторая несообразность в том, что все мы вот так вот запросто называем Ворошилова Климом, а Буденного — братишкой.
Но со временем, по мере того как социальная структура первого в мире рабоче-крестьянского государства окостеневала, командармы и комдивы становились генералами, а наркомы министрами, исчезли, ушли из употребления и все эти фамильярности. И примерно к середине 30-х «Клим» уже окончательно превратился в «Климентия Ефремовича», а «братишка» — в «Семена Михайловича».
Но в начале 50-х эти старые клишированные формулы вдруг (ненадолго, в сущности, на один короткий миг) ожили в народной памяти и — возродились. Правда, уже не в прежнем своем, а в новом, откровенно ироническом звучании.
Случилось это в 1953-м, сразу после смерти Сталина.
Перепуганные новые властители, желая продемонстрировать народу, что жестокая сталинская диктатура кончилась и наступили новые, либеральные времена, объявили неслыханную по своим масштабам амнистию. На свободу вышли не меньше миллиона зэков. До пересмотра дел осужденных по политическим статьям было еще далеко: по амнистии отпускали только тех, кто сидел за разные мелкие хозяйственные преступления. Ну и, конечно, — воров, которые, выйдя на свободу, с удвоенной энергией вернулись к своим профессиональным занятиям, что, естественно, вызвало недовольство и даже ропот законопослушных граждан.
Инициатором этой акции был Лаврентий Берия, и инициатива эта позже (в июле того же года), как и многие другие его инициативы, тоже была поставлена ему в вину. Но указ об амнистии подписал К.Е. Ворошилов, бывший тогда Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Поэтому все «лавры» на тот момент достались ему.
Вот так и родилась эта ерническая, глумливая песня, поющаяся как бы от лица амнистированных воров в законе. А может быть — кто его знает? — и в самом деле сочиненная кем-нибудь из них:
Рано утром проснешься И раскроешь газетку — На передней странице Золотые слова: Это Клим Ворошилов Даровал нам свободу, И опять на свободе Будем мы воровать. Рано утром проснешься — На поверку построят. Вызывают по ФИО[2], И выходишь вперед. Это Клим Ворошилов И братишка Буденный Нам даруют свободу, И их любит народ.Когда страна быть прикажет героем
Слово «герой» — одно из тех старых, исконно русских слов, которые в советском новоязе обрели новое звучание, новый оттенок, а в иных случаях и вовсе совершенно новый смысл, новое значение.
Начать с того, что слово это стало официальным званием: «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда». Введение такого звания уже самой процедурой его присвоения предполагало, что героем человека можно назначить. И далеко не всегда заслуженно.
А это уже предопределило неизбежную инфляцию высокого звания.
Инфляция достигла последнего предела, когда Л.И. Брежнев получил пятого «Героя», пятую «Золотую Звезду». Событие это нашло отражение в таком — совершенно уже макабрическом — анекдоте.
► В спальню Брежнева ночью влетают два вампира. Один, прокусив генсеку горло, делает первый глоток.
Второй, шокированный его дурными манерами, говорит:
— Фу! Из горла?
— Подумаешь! — отмахивается первый.
— Не скажи, — возражает второй. — Все-таки пять звездочек!
Но первые признаки инфляции высокого звания героя появились задолго до рождения этого анекдота. Ироническое отношение к званию «Герой Социалистического Труда» (в противоположность званию «Герой Советского Союза», которое все-таки уважалось) проявилось в словечке «Гертруда», которым вскоре стали именовать этих сомнительных героев. Так и говорили:
— Он уже Гертруда?
— Еще нет. В этом году, наверно, получит.
«Гертруду» давали (не каждому, конечно, а тем, кому это полагалось по чину), как правило, к шестидесятилетию.
Александру Трифоновичу Твардовскому это звание, конечно, было бы присвоено. Но он его так и не получил.
— Оценки нам ставят не за успехи, а за поведение, — говорил о распределении официальных советских наград Виктор Борисович Шкловский.
У Твардовского поведение было неважное, а к концу жизни он и вовсе отбился от рук. Но «Гертруду» все-таки должен был получить. И наверняка получил бы.
Помешал этому такой случай.
Биолог Жорес Медведев, известный правозащитник, автор ходившей тогда в самиздате книги о лысенковщине, за все эти свои подвиги был посажен в психушку. Событие это вызвало волну общественного негодования. За опального правозащитника вступились известные ученые, писатели. Присоединил свой голос к этому общественному возмущению и Твардовский. И тут позвонил ему тогдашний оргсекретарь Союза писателей СССР Константин Воронков. Они с Твардовским давно и хорошо знали друг друга, были на «ты». Их даже связывало что-то вроде соавторства: главным, а может быть, и единственным литературным созданием Воронкова, ставшим формальным поводом для приема его в Союз писателей, была выполненная им в давние времена по заказу какого-то театра инсценировка «Василия Теркина».
Сейчас, когда опубликованы дневники и записные книжки Твардовского (так называемые его «Рабочие тетради»), мы получили возможность, так сказать, из первых рук узнать, как относился Александр Трифонович к этому навязанному ему «соавторству»:
► Вчера сдал Воронкову еще раз пройденный мною от строки до строки беловой вариант. Убедился, между прочим, что, понимай он хоть что-нибудь в стихах, он ни за что не решился бы «композировать» эту вещь. Жаль, что я не занес себе в тетрадку хотя бы одну из 76 страниц предпоследнего варианта, — я продемонстрировал ее до и после «наложения швов» Маше и Оле — они ахнули… Там была жуткая россыпь разорванного стихотворного текста, где что-то изредка рифмовалось, ритмически все время спотыкалось — не передать что.
Была не особенно приятна готовность Воронкова соглашаться на все, что я ни сделаю… И под конец робкое и, однако, обеспокоенно-настоятельное: «Начертайте своей рукой», то есть мое одобрение, без которого он, конечно, не мог жить. А как там что — ему, пожалуй, плевать. Он рассчитал, что эта вещь в любом решении должна иметь успех, по крайней мере официальный, но и не только. Выполнил все с чувством облегчения, но запоздалой досады — ведь это я мог сделать (да ведь я и сделал!) без всякой его помощи. Полторы страницы его «текста» — это как раз то, без чего и сейчас хорошо бы обойтись, но тогда что же будет от автора («композиции»), В сущности, он меня вынудил в течение двух лет, во-первых, примириться с этой аховой (с его данными) затеей, одобрить ее, подлатать перед самой почти постановкой какие-то наиболее очевидные прорывы в тексте, то есть портить самого себя, а потом уж и вовсе «приложить руку» сквозным по всей рукописи «наложением швов» (да и не только «швов»). Видит бог, мне не жаль и не нужно денег. Я много раз искренне готов был заплатить ему от себя, чтобы только не было этой затеи.
(«Знамя», 2000, № 6, с. 151)Вот этот самый когдатошний его «соавтор», услыхав, что Александр Трифонович готов принять участие в кампании по защите проштрафившегося биолога, позвонил ему и сказал:
— Саша! Мой тебе дружеский совет. Не ввязывайся в это дело!
И довольно прямо дал понять, что, если Александр Трифонович этим его советом пренебрежет, у него могут быть кое-какие неприятности. Желая показать, что это не пустые слова, что кое-что на этот счет ему уже известно, он пояснил:
— У тебя ведь в этом году шестидесятилетие… Смотри: не дадут «героя».
— Вон что! — сказал Твардовский. — Значит, «героя» у нас дают за трусость?
Коммунист
В 60-е годы одна моя приятельница, преподававшая в старших классах средней школы, обратила внимание на то, что ее ученики то и дело задают друг другу вопрос, который ей показался в высшей степени странным. Отчасти даже загадочным:
— Ты большевик или коммунист?
Она поинтересовалась у ребят, что это значит. Ей объяснили, что «большевики» — те, кто еще верит в коммунистические идеалы. А «коммунисты» — те, кто вступает в комсомол, а потом вступит и в партию — из чисто циничных, карьерных соображений.
Итак, для этого поколения слово «коммунист» уже окончательно утратило свой высокий смысл, стало чуть ли не ругательным.
Но для поколения их отцов слово это и тогда в какой-то степени еще сохраняло свое прежнее значение. Скорее, правда, это был некий автоматизм языка.
Что я имею в виду, вы поймете, прочитав эту коротенькую историю. Ее рассказал мне Войнович. И хотя она вполне в войновичевском духе, я не сомневаюсь, что она — подлинная. Выдумать, как любили говорить в таких случаях Ильф и Петров, Войнович мог бы и посмешнее. На то он и Войнович.
А история такая.
Один человек должен был получить квартиру. Все у него уже было на мази. И документы все были в порядке, и решение всеми мыслимыми и немыслимыми инстанциями давно уже было принято. А ордер ему все не выдавали. И тянулось это бесконечно долго. И он не понимал, что происходит. Так бы, наверно, и не понял, если бы какой-то сведущий человек ему не объяснил, что надо дать взятку. И не только объяснил, но и свел его с тем, кому надо было дать.
И вот они сидят в ресторане «Арагви» — потенциальный, так сказать, «взяткодатель» и потенциальный «взятковзятель». На столе — сациви, лобиа-мобиа, цыплята табака, хванчкара или там киндзмараули, а может, коньяк, — в общем, все, что полагается в таких случаях. А потенциальный «взяткодатель» томится, мнется, не знает, как приступить к делу.
Наконец, не придумав ничего лучшего, он сказал:
— Вы знаете, я взяток никогда не давал, не знаю, как это делается, поэтому не будем валять дурака. Вы мне прямо скажите: сколько? Кому? Где? Когда?
Тот ответил:
— Две тысячи. Мне. Здесь. Сейчас.
У «взяткодателя» прямо камень с души свалился.
Быстро совершив операцию, они радостно стали выпивать и закусывать. И тут вдруг «взяткодатель» хватился.
— Послушай, — озабоченно сказал он. — А это дело верное? Не выйдет так, что деньги я тебе отдал, а все — как было, так и останется на мертвой точке?
— Ты что? — обиделся тот. — Я ж коммунист!
Конфликт хорошего с отличным
Эта формула — не остроумная выдумка сатирика (вроде «Проекта о введении единомыслия в России» Козьмы Пруткова). Был — на самом деле — такой термин. И даже один из основополагающих в многодумной теории соцреализма.
Означал он примерно следующее.
Изображается, например, в пьесе дружный трудовой коллектив, готовящийся пустить к очередной годовщине Октябрьской революции новый заводской цех. Или задуть новую домну. Все работают не покладая рук. Изо всех сил стараются поспеть к назначенному сроку. И вдруг возникает молодой энтузиаст — инженер или рабочий, который утверждает, что, поднатужившись, можно завершить дело на полгода раньше — к Первомаю. Некоторые инженеры (они тоже хотят как лучше!) утверждают, что это технически невозможно. Возникает конфликт. Тот самый конфликт хорошего с отличным. Или — лучшего с хорошим, как иногда еще его называли.
По мысли теоретиков социалистического реализма, этот конфликт должен был стать главным, а может быть, даже и единственным в советской драматургии. Поскольку никаких других конфликтов в жизни советского народа при полном торжестве социализма уже не останется.
Замечательная теория эта вызвала в свое время множество разного рода комических откликов — шуток, анекдотов, острот и даже пародий.
«Даже», потому что не так-то легко спародировать фразу, реплику, формулировку, которая уже и сама по себе пародийна.
Так что множественное число я тут употребил, может быть, и без достаточных оснований. Но одна пародия на эту тему точно была.
Автору ее, правда, помог Его Величество Случай.
Подрались два самых злостных антисемита Союза писателей (а может быть, даже и всего СССР) — Михаил Бубеннов и Анатолий Суров. Бубеннов прославился своим военным романом «Белая береза». Один писатель, ушедший на войну семнадцатилетним добровольцем и закончивший ее лейтенантом, рассказал мне, что Бубеннов — в подпитии, конечно, — кинул ему однажды такую реплику. «Вам легко было писать ваши военные романы. А вот мне-то каково: я ведь на фронте ни одного дня не был». А — ныне прочно и справедливо забытый — драматург был знаменит тем, что даже те до изумления бездарные пьесы, под которыми стояло его имя, писал не он сам, а специально нанимаемые им для этой цели литературные изгои — из бывших «космополитов».
И вот два этих баловня судьбы подрались. Не в каком-нибудь переносном, аллегорическом смысле, а буквально. Врукопашную.
Уж не знаю, чего они там не поделили. Может быть, это был даже какой-нибудь принципиальный, идейный спор. Один, может быть, доказывал, что всех евреев надо отправить в газовые камеры, а другой предлагал более мягкий вариант: выслать их на Колыму. Или — еще того либеральнее — в Израиль.
Как бы то ни было, они подрались. И драка была серьезная. В ход была пущена даже мебель — стулья, табуретки…
Случилось это в старом писательском доме на Лаврушинском — том самом, который громила булгаковская Маргарита. Увлеченные борьбой супостаты выкатились из этого облицованного мрамором дома прямо на улицу, на потеху большой толпе народа, образовавшей традиционную очередь в Третьяковку. Оружием одного из сражающихся, как рассказывали очевидцы, стала вилка, которую он вонзил своему оппоненту в зад.
Сражение это вдохновило Эммануила Казакевича. Вдохновило настолько, что он описал его не прозой, как это можно было бы ожидать, а стихами. И даже облек эту свою поэтическую зарисовку в чеканную форму сонета:
Суровый Суров не любил евреев, Он к ним враждой старинною пылал, За что его не жаловал Фадеев И А. Сурков не очень одобрял. Когда же Суров, мрак души развеяв, На них кидаться чуть поменьше стал, М. Бубеннов, насилие содеяв, Его старинной мебелью долбал. Певец березы в жопу драматурга С ужасной злобой, словно в Эренбурга, Столовое вонзает серебро. Но, следуя традициям привычным, Лишь как конфликт хорошего с отличным Решает это дело партбюро.Опять вспоминаю классическую фразу Ильфа и Петрова: «Придумать можно и посмешнее». Но на этот раз не для того, чтобы согласиться с классиками, а чтобы возразить им.
Нет, братцы мои! Наша советская жизнь даст сто очков вперед любой выдумке. Партбюро, которое трактует драку двух самых выдающихся черносотенцев страны как конфликт лучшего с хорошим… Смешнее даже вы не придумали бы!
Коммунисты, вперед!
Эта языковая формула была словесным закреплением мифа, согласно которому там, где главный, самый трудный и даже смертельно опасный участок борьбы (а вся-то наша жизнь, как известно, есть борьба), вперед бросаются коммунисты. А уж за ними подтягиваются все иные прочие.
Формула, быть может, существовала и до знаменитого стихотворения Александра Межирова, но, после того как стихотворение это явилось на свет, ее неизменно ассоциировали именно с ним.
В стихотворении рассматривались главные драматические коллизии бытия советского человека, можно даже сказать, главные этапы его исторического бытия:
Есть в военном приказе Такие слова, На которые только в тяжелом бою (Да и то не всегда) Получает права Командир, подымающий роту свою… Год двадцатый. Коней одичавших галоп. Перекоп. Эшелоны. Тифозная мгла. Интервентская пуля, летящая в лоб, — И не встать под огнем у шестого кола. Полк Шинели На проволоку побросал, Но стучит над шинельным сукном пулемет. И тогда еле слышно сказал комиссар: — Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!.. Сосчитали штандарты побитых держав, Тыщи тысяч плотин Возвели на реках. Целину подымали, Штурвалы зажав В заскорузлых, Тяжелых, Рабочих Руках. И пробило однажды плотину одну На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре. И пошли головные бригады Ко дну, Под волну, На морозной заре, В декабре. И когда не хватало «Предложенных мер» И шкафы с чертежами грузили на плот, Еле слышно сказал молодой инженер: — Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!Были там, в этом стихотворении, высвечены еще и другие «этапы большого пути»: Брест, Сталинград… И всюду возникала та же коллизия, и всюду звучал тот же постоянный рефрен. А завершалось стихотворение таким апофеозом:
Мы сорвали штандарты Фашистских держав, Целовали гвардейских дивизий шелка И, древко Узловатыми пальцами сжав, Возле Ленина В Мае Прошли у древка… Под февральскими тучами Ветер и снег, Но железом нестынущим пахнет земля. Приближается день. Продолжается век. Индевеют штыки в караулах Кремля… И повсюду, Где скрещены трассы свинца, Или там, где кипенье великих работ, Сквозь века, на века, навсегда, до конца: — Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!Стихотворение было не только лихо построено (Межиров — мастер версификации), но и по-настоящему темпераментно. А уж истинный ли это был темперамент, подлинная, живая страсть или талантливый наигрыш, бенгальский огонь, — тут и знатоки не всегда поймут, так где уж простому смертному в этом разобраться.
Стихотворение было популярным, его читали со всех эстрад, по радио, по телевидению. Ну и, разумеется, оно стало знаковым, приблизившись по уровню этой самой знаковости к «Стихам о советском паспорте» Маяковского.
А сам Межиров, когда случалось ему появляться на экране телевизора, декламируя свои стихи разных лет, под конец читал такое — совсем коротенькое — стихотвореньице:
На протяженье многих лет и зим Менялся интерес к стихам моим. То возникал, то вовсе истощался — Читатель уходил и возвращался. Был многократно похоронен я, Высвобождался из небытия, Мотоциклист на цирковой арене, У публики случайной на виду. Когда же окончательно уйду, Останется одно стихотворенье.И вот, отчитав эти последние строки и сделав многозначительную паузу, уже совсем, так сказать, под занавес, он читал «Коммунисты, вперед!», давая понять, что после его смерти от всего им написанного останется именно оно.
Но когда началась перестройка, а уж тем более потом, когда советские устои зашатались и само слово «коммунисты» стало уже как бы даже одиозным, он стал читать под занавес другое свое стихотворение — «Артиллерия бьет по своим…»:
Надо все-таки бить по чужим, А она по своим, по родимым!Это воспринималось как намек на сталинские репрессии, и в новых исторических обстоятельствах предпочтительнее стало придерживаться мнения, что, когда он «окончательно уйдет», от него останется не «Коммунисты, вперед!», а вот это стихотворение, в котором выразился совсем иной общественный и душевный настрой.
Иногда, впрочем, когда обстановка менялась (а может быть, когда менялось его настроение — психология поэта дело тонкое!), он снова возвращался к первоначальному варианту, давая понять, что в будущем, когда все утрясется и окончательно станет историей, на первое место снова выйдет его апофеоз коммунистам — не этим, конечно, нынешним, а тем, прежним, которые первыми бросались на вражеские штыки и колючую проволоку, под пулеметный огонь или туда, где «кипенье великих работ».
Это его стихотворение не давало ему покоя. Он то гордился им, то слегка его стыдился. Не то чтобы стыдился, но не хотел, чтобы думали, будто только холодный расчет на официальный, государственный успех толкнул его к созданию этого его шедевра, — что были тут какие-то совсем другие, высокие стимулы, отчасти загадочные, не совсем понятные даже ему самому.
Однажды мы встретились где-то возле Театральной площади. Постояли, разговорились, оказалось, что нам по пути. Не торопясь, продолжая начатый разговор, пошли вместе. Вышли на Красную площадь. Когда проходили мимо Спасских ворот, он вдруг сказал:
— Человек — странное существо… Однажды вот здесь, на этом самом месте, мне вдруг пришло в голову, что история нашей страны еще повернется самым неожиданным образом. И из этих ворот под колокольный звон выйдет патриарх в парадном своем облачении, а за ним — крестный ход…
Тут надо сказать, что этот наш разговор происходил в пору самого глухого брежневского застоя, когда неподвижное стоячее болото советской жизни, казалось, утвердилось навсегда, на вечные времена, и чтобы вообразить такой крутой поворот истории, надо было обладать немалой фантазией.
— И восторженная толпа будет стоять в немом оцепенении, и люди будут креститься, и колокола будут звонить… — продолжал Саша, распахнув свои выпуклые глаза и устремив их взгляд куда-то вдаль, словно и сейчас, вот в этот самый момент, когда он рассказывал мне об этом своем видении, оно вновь с необыкновенной четкостью явилось его взору.
— Это представилось мне так ясно, — продолжал он, — что я уже не сомневался, что безусловно так и будет, что все это непременно, обязательно произойдет. Именно вот так, как мне это сейчас привиделось…
Он сделал эффектную паузу и закончил:
— В тот день я написал «Коммунисты, вперед!».
Да, конечно, человек — странное существо. А поэт странен еще и своими, особыми странностями, не ведомыми простым смертным. И тем не менее, выслушав этот межировский рассказ, я не поверил ни единому его слову. Отчасти, может быть, потому что у рассказчика была репутация фантастического враля.
Я хорошо помнил давний, еще наших студенческих времен, рассказ Гриши Поженяна.
Он так рисовал образ Саши Межирова (которого я тогда еще почти не знал):
— Вот он сидит в компании каких-то полузнакомых девиц и рассказывает им свою жизнь. Рассказывает, что он круглый сирота, родителей своих не знает: младенцем его украли цыгане, а когда он чуть подрос, продали в цирк… Он рассказывает все это так, что не только девицы, но и все, кто его слушает, плачут. И он сам плачет. А за тонкой фанерной стеной, в соседней комнате, сидит его отец, его родной папа, — и тоже плачет…
Да, враль он был изумительный.
Но в сплетенную им историю о том, как родилось его стихотворение «Коммунисты, вперед!», я не поверил не только из-за этой его репутации враля и фантазера. Сам характер этого стихотворения, вся его, так сказать, фактура мешала мне поверить, что оно родилось как такое вот мистическое наитие, неведомым каким-то образом вылезло из его подкорки, из самых тайных глубин его поэтического существа.
Слишком уж было оно мастеровитое, ловко сделанное, сконструированное.
Борис Слуцкий, взрастивший свою музу в лучших традициях ЛЕФа, почитавший себя верным (может быть, последним) учеником Маяковского и лучше, чем кто другой, усвоивший уроки учителя насчет того, как делать стихи, крепкую сделанность этого межировского стихотворения оценил высоко. Но об авторе высказался так:
— Но он — не коммунист. Коммунист — я.
В контексте разговора реплика эта могла значить только одно: тема эта для Межирова не была такой личной, кровной, своей, какой она была для него, Слуцкого.
При всем при том, однако, сочинить такое стихотворение на «голом ремесле», даже самом виртуозном, вряд ли было возможно. Тут надо было не то чтобы вдохновиться, но, во всяком случае, как-то себя накрутить, накачать. А для этого надо было отыскать в этом сюжете хоть малую толику, пусть даже самую крошечную крупицу правды. И такая крупица — нельзя этого не признать — там была. Но относилась она к тем коммунистам, которые жили когда-то — в те далекие времена, когда коммунистические фанатики, подобно первым христианам, готовы были на самую ужасную, самую мученическую смерть ради торжества своих идей, главного дела своей жизни:
Пятиконечные звезды выжигали на наших спинах панские воеводы. Живьем, по голову в землю, закапывали нас банды Мамонтова В паровозных топках сжигали нас японцы, рот заливали свинцом и оловом, отрекитесь! — ревели, но из горящих глоток лишь три слова: — Да здравствует коммунизм! (Маяковский)Что бы там ни говорил и ни писал Маяковский о том, как делать стихи, «материя песни, ее вещество» соткана не из слов, какими бы звонкими они ни были. В состав этой «материи» входят душевные склонности поэта, следы его сиюминутного душевного состояния, его иллюзии и его заблуждения. Но даже и заблуждения эти должны быть искренними.
В картину, нарисованную в только что процитированных мною строчках Маяковского, можно и не верить. Важно, что ОН в нее верил.
А верил ли Межиров в картины, которые нарисовал в том программном своем стихотворении?
В коллизии, изображенные в первых его строфах (штурм Перекопа, например), может, и верил. Но в то время, когда он сочинял и публиковал это свое стихотворение (а было это в 1948 году), всем, кто занимался каким-нибудь реальным делом, было уже более или менее ясно, что в любых трудных, критических, рисковых ситуациях менее всего можно полагаться именно на коммунистов.
Впрочем, какие-то рудименты старого партийного мифа, согласно которому коммунист должен всегда и всюду быть впереди, еще сохранялись не только в речах и официальных партийных установках, но и в отдельно взятых головах отдельных партийных начальников.
Однажды я и сам столкнулся с этим, скажем так, анахронизмом.
* * *
Было это в начале 60-х.
Я работал тогда в «Литературной газете», и случилось так, что в течение некоторого — довольно, впрочем, короткого — времени мне пришлось исполнять обязанность редактора отдела. Должность, надо сказать, довольно суматошная. Во всяком случае, я с непривычки к руководящей роли был на первых порах в постоянном замоте.
И вот явился ко мне однажды секретарь парткома и объявил, что ему необходимо со мной поговорить.
Поскольку я был, как сказано в одном рассказе Зощенко, «беспартийный, черт знает с какого года», никакой нужды беседовать со мной у секретаря парткома прежде не возникало. А теперь вот такая необходимость появилась, чем я был, по правде говоря, немало удивлен.
— У тебя трудное положение, — начал он.
Я согласился, что да, нелегкое, думая, что он имеет в виду мою неопытность. Но, как выяснилось, он имел в виду совсем другое.
— На хромой лошади ты далеко не уедешь, — развил он свою мысль.
Я согласился с верностью этого замечания, хотя и не понял, что (или кого) он обозначил этой изящной метафорой.
Но он тут же мне это разъяснил:
— На весь отдел у тебя только один коммунист, и тот…
Он назвал фамилию и в самом деле не самого расторопного и умелого сотрудника моего отдела.
Такая нелицеприятная оценка деловых качеств единственного имеющегося в моем распоряжении коммуниста не шибко меня удивила. Удивило меня другое: то, что всю работу возглавляемого мною отдела он, — судя по всему, совершенно искренно, — ставил в прямую зависимость от количества находящихся под моим руководством членов партии. Такой взгляд на положение дел в нашем отделе не только изумил, но и порядком развеселил и меня, и весь наш маленький коллектив, когда я рассказал всем своим сотрудникам об этом глубокомысленном партийном инструктаже. Никому из нас, как выяснилось, раньше не приходило в голову рассматривать друг друга и наши профессиональные возможности с такой точки зрения. Все мы знали, конечно, что принадлежность к партийным рядам, вернее, эта анкетная галочка, играет известную — и не просто известную, а весьма важную, нередко даже решающую — роль при поступлении на работу. Но когда все эти анкетные дела были уже закончены, «галочка» эта сразу забывалась, и тут уж входили в силу совсем другие качества: умный он человек или глупый, энергичный или вялый, живой или туповатый, лентяй или трудоголик… А уж член он партии или нет — это имело значение только для отдела кадров. Ну и, как выяснилось, для секретаря парткома, который — не по партийной, а по основной своей должности — был заведующим нашей литгазетской библиотекой и решать, кто из нас был хорошим работником, а кто плохим, вряд ли мог. Да он на это и не претендовал. Просто, согласно привычным партийным стереотипам, исходил из того, что чем больше было бы в нашем отделе коммунистов, тем отдел был бы сильнее — профессиональнее, ну и, конечно, идейно подкованнее.
Я думаю, что в те времена уже не только в нашем — полубогемном — коллективе, но и во многих других, а может быть, даже и во всех трудовых коллективах страны преобладало убеждение, что количество коммунистов никак на работе коллектива не сказывается, что в случае какого-нибудь аврала полагаться придется на самых энергичных, толковых, умелых, ни в малой мере не считаясь с их партийной принадлежностью.
Больше того! Кое-где возникло даже подозрение, что коммунисты — не только в экстремальных ситуациях, но даже и в повседневной трудовой жизни коллектива — могут оказаться балластом, помехой. Что для дела, пожалуй, было бы даже лучше, если бы в коллективе их оказалось как можно меньше. А еще лучше, чтобы их и вовсе там не было.
Конечно, трудно поверить, чтобы в те времена нашелся безумец, который отважился бы высказать эту крамольную мысль вслух. Тем более — публично. Тем не менее одного такого безумца я знал.
* * *
Это был мой старый друг Гриша Поженян.
Написав, кажется, второй в своей жизни сценарий, он объявил, что никакой режиссер ему не нужен: снимать фильм по этому своему сценарию он будет сам.
Узнав об этом его намерении, я, честно говоря, подивился такому его нахальству.
— Но ведь ты же не режиссер? — неуверенно сказал я. Неуверенно, потому что подумал: а черт его знает, может, за то время, что мы не виделись, он успел закончить какие-то режиссерские курсы?
Но выяснилось, что никаких курсов он не кончал, а на мой робкий вопрос ответил так:
— Я не хуже, чем любой из них, смогу трахать актрис и кричать: «Мотор!»
«Ну-ну, — иронически подумал я. — Если профессия кинорежиссера сводится только к этим двум действиям, тогда — что ж…»
Я почти не сомневался, что из этой его наглой затеи ничего не выйдет.
Но я недооценил Гришу.
Фильм он все-таки снял. И в роли режиссера, как рассказывали очевидцы, чувствовал себя вполне уверенно.
А начал свою деятельность в этом новом для него качестве он так.
Приехав в Ялту, где должны были проходить съемки на натуре, велел собрать всю съемочную группу. Оглядев собравшихся, спросил:
— Здесь есть коммунисты?
— Да, да… Есть… — раздались голоса.
Члены правящей партии, естественно, решили, что им сейчас скажут, что они должны быть всегда впереди, что командир производства возлагает на них особые надежды и особую ответственность, — в общем, всю ту муру, которую они привыкли слышать в подобных случаях.
Но услышали они совсем другое.
— Так вот, — сказал Поженян. — Запомните: чтобы на все время съемок ваша партия ушла в подполье!
Корифей науки
Один из главных титулов Сталина. Иногда — великий корифей науки, а иногда даже так: корифей всех наук.
Перечень всех официальных и полуофициальных званий Отца Народов был не короче полного титула российских императоров. Вот лишь некоторые из них:
► Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Председатель Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик, Генералиссимус, Гениальный Полководец, Величайший Гений Всех Времен и Народов, Великий Продолжатель Дела Ленина, Лучший Друг Писателей, Лучший Друг Шахтеров, Лучший Друг Физкультурников… И прочая, и прочая, и прочая…
Легко заметить, что словосочетание «корифей науки» было в этом перечне отнюдь не самым велеречивым и пышным. Но, как уже было сказано, — одним из главных.
В России со времен Петра существовало нечто вроде государственной монополии на духовную жизнь общества. Наполеон это оценил. Он сказал Александру Павловичу: «Вы одновременно император и папа. Это очень удобно».
Это было действительно неплохо придумано.
По этой давней традиции, унаследованной от русских императоров, Сталин тоже объединил в одном (своем) лице светскую и духовную власть. Но он пошел гораздо дальше русских царей. Он являлся в то же время как бы незримым духовником и цензором каждого мыслящего члена общества.
Каждое свое душевное движение, каждый поступок поверять мысленным обращением к Сталину (или к его портрету), затаив дыхание, гадать, одобрит Сталин или нет, нахмурится или улыбнется, поощрит или упрекнет, — все это стало нормой мироощущения советского человека:
Усов нависнувшею тенью Лицо внизу притемнено. Какое слово на мгновенье Под ней от нас утаено? Совет? Наказ? Упрек тяжелый? Неодобренья строгий тон? Иль с шуткой мудрой и веселой Сейчас глаза поднимет он? (Твардовский. К портрету Сталина)Вот потому-то и был так важен титул «Корифей науки» в перечне всех официальных и полуофициальных сталинских титулов и званий. Это был его мандат на право вмешиваться в ученые споры физиков и генетиков, языковедов и музыковедов. Оставлять за собой право решающего голоса, высшей инстанции, ставящей последнюю точку в любой дискуссии, независимо от того, шла ли там речь о теории относительности Эйнштейна или о музыке Шостаковича, о проблемах языкознания или о борьбе академика Лысенко с менделизмом-морганизмом.
Горький в своих воспоминаниях о Савве Морозове рассказывает, что однажды — в каком-то почтенном собрании (дело было, если не ошибаюсь, на Нижегородской ярмарке) — Дмитрий Иванович Менделеев выдвинул какую-то научную идею, которую никто из присутствующих не поддержал, а некоторые из них отозвались о ней даже весьма скептически. Возражая им, Дмитрий Иванович, самолюбие которого было сильно задето, не преминул заметить, что об этой его идее весьма благосклонно высказался государь император. И тут Савва Иванович Морозов произнес такие слова:
— Мнение ученого, подкрепляемое авторитетом царя, — сказал он, — не только теряет в весе, но и компрометирует науку.
У нас ни о чем подобном никто не смел даже и помыслить.
У нас, когда на сессии ВАСХНИЛ Трофим Денисович Лысенко, прежде чем начать громить менделистов-морганистов, скромно отметил, что его доклад получил одобрение ЦК и лично товарища Сталина, весь зал встал и встретил это сообщение бурными аплодисментами, переходящими в овацию. И исход научной дискуссии был таким образом предрешен.
А вот история, пожалуй, даже еще более наглядно показывающая, как это все происходило у нас.
* * *
Писатель Николай Вирта написал пьесу «Заговор обреченных» и, как тогда полагалось, представил ее в Комитет по делам искусств.
Спустя некоторое время он пришел к заместителю председателя Комитета — за ответом.
— Прочел вашу пьесу, — сказал тот. — В целом впечатление благоприятное. Финал, конечно, никуда не годится. Тут надо будет вам еще что-то поискать, додумать… Второй акт тоже придется переписать. Да, еще в третьем акте, в последней сцене… Ну, это, впрочем, уже мелочи… Это мы уже решим, так сказать, в рабочем порядке…
Вирта терпеливо слушал его, слушал. А потом вдруг возьми да и скажи:
— Жопа.
— Что? — не понял зампред.
— Я говорю, жопа, — повторил Вирта.
Зампред, как ошпаренный, выскочил из своего кабинета и кинулся к непосредственному своему начальнику — председателю Комитета, Михаилу Борисовичу Храпченко.
— Нет! Это невозможно! — задыхаясь от гнева и возмущения, заговорил он. — Что хотите со мной делайте, но с этими хулиганствующими писателями я больше объясняться не буду!
— А что случилось? — поинтересовался Храпченко.
— Да вот, пришел сейчас ко мне Вирта. Я стал высказывать ему свое мнение о его пьесе, а он… Вы даже представить себе не можете, что он мне сказал!
— А что он вам сказал?
— Он сказал… Нет, я даже повторить этого не могу!..
— Нет-нет, вы уж, пожалуйста, повторите.
Запинаясь, краснея и бледнея, зампред повторил злополучное слово, которым Вирта отреагировал на его редакторские замечания. При этом он, естественно, ожидал, что председатель Комитета разделит его гнев и возмущение. Но председатель на его сообщение отреагировал странно. Вместо того чтобы возмутиться, он как-то потемнел лицом и после паузы задумчиво сказал:
— Он что-то знает…
Интуиция (а точнее — долгий опыт государственной работы) не подвела Михаила Борисовича. Он угадал: разговаривая с его заместителем, Вирта действительно знал, что его пьесу уже прочел и одобрил Сталин.
И еще одна, совсем уже гротескная, прямо-таки макабрическая история на ту же тему — ее рассказал мне один мой приятель, работавший в отделе науки «Литературной газеты».
На протяжении долгих лет шла жестокая, непрекращающаяся борьба двух направлений в отечественной астрономии. Одна группа ученых утверждала, что какое-то (уж не помню, какое именно, но какое-то очень важное) событие в жизни Вселенной произошло пять миллионов лет назад. Противники же их придерживались мнения, что событие это действительно имело место, но не пять, а десять миллионов лет назад.
Борьба между этими двумя научными направлениями приняла такие яростные формы, что противники стали писать друг на друга доносы. В Академию наук, еще куда-то. Ну и, разумеется, в КГБ. Этот, казалось бы, бесконечно далекий от политики, да и вообще, по правде говоря, не такой уж животрепещущий вопрос, выходит, тоже находился в компетенции наших славных, как их тогда называли (оказывается, не зря!), компетентных органов.
Вряд ли надо объяснять, почему именно туда обращались ученые-астрономы как в высшую, самую авторитетную научную инстанцию: потому что верховным ее шефом был ОН, Корифей Всех Наук. Так кому же еще было решать, пять или десять миллионов лет тому назад произошло то, что стало предметом той научной дискуссии.
Ну, а если уж сам Отец Народов произносил какие-то слова, они тотчас же объявлялись непреложной научной истиной, а то и новым научным откровением. И тут уже совершенно неважно было, с каким-то обдуманным, дальним прицелом решился он вмешаться в тот или иной научный вопрос или просто взбрело ему на ум что-то такое брякнуть — в случайном разговоре или хотя бы даже в застолье.
* * *
Вот, например, такая история — ее рассказал мне Семен Израилевич Липкин. Как известный знаток и переводчик таджикской поэзии он был приглашен в Кремль на большой прием, устроенный по случаю проходившей в Москве декады таджикской литературы и искусства.
Банкет был уже в самом разгаре, когда за столом, где восседали члены Политбюро, с бокалом вина в руке поднялся Сталин.
Все смолкло.
Медленно, неторопливо, не повышая голоса, как человек хорошо знающий, что каждое его слово будет услышано, как бы тихо и даже неразборчиво он его ни произнес, он начал:
— Великий таджикский поэт Фирдоуси…
И тут произошло неожиданное. За одним из дальних столов (между прочим, тем самым, за которым сидел и рассказывавший мне об этом С.И. Липкин) вскочил маленький щупленький старичок и, прервав вождя, громко выкрикнул:
— Бираф, бираф!..
Рядом со старичком тут же оказались два дюжих молодца в одинаковых темно-синих костюмах. Они подхватили его с обеих сторон и молча, не произнеся ни единого слова, усадили обратно на стул.
Переждав эту маленькую суматоху, так же медленно, раздумчиво вождь повторил:
— Великий таджикский поэт Фирдоуси…
Двое молодцов крепко держали непредсказуемого старичка за руки. Но сила его волнения была, видать, так велика, что он вырвался из их мощных дланей, вскочил на ноги и снова выкрикнул свой странный лозунг, слегка даже его расширив:
— Бираф! Бираф! Литературоведения умерла!
Из всех присутствующих, кажется, один только Липкин понимал, что все это значит.
Непонятные слова «бираф, бираф» расшифровывались просто. Это значило: «Браво, браво!» Со второй же частью лозунга дело обстояло несколько сложнее.
Не удержавшегося в рамках приличий старичка звали Садриддин Айни. Это был живой классик, считалось даже, что основоположник таджикской литературы. На протяжении многих лет он вел упорную борьбу с традиционным литературоведением, утверждавшим, что Фирдоуси был великим персидским поэтом. Он же, Айни, доказывал, что тот был не персидским, во всяком случае, не только персидским, а главным образом и прежде всего таджикским поэтом. Над этим его утверждением смеялись, ни один литературовед не принимал его аргументов всерьез. Но он не сдавался, упорно продолжал отстаивать то, что считал истиной. И вот, наконец, свершилось. Многолетний спор был закончен — «Литературоведения умерла».
Старик Айни ничуть не преувеличил в своем эмоциональном порыве значение сталинской реплики. После слов, произнесенных вождем, «литературоведения» действительно «умерла». И тут уже не имело решительно никакого значения, были эти сталинские слова результатом обдуманного, взвешенного политического решения или просто случайной обмолвкой. Хотя, как правило, таких случайных обмолвок у Сталина не бывало. (Был, правда, один досадный промах — это когда он сказал, что Римская империя пала в результате революции рабов.)
* * *
Все это я к тому, что титул Корифея науки (или даже Всех Наук) был присвоен Сталину не ради красного словца. Во всяком случае, возник он не только потому, что кто-то из «служителей культа» в своем подхалимском рвении решил добавить к набору словесных формул, возвеличивавших вождя, еще одну — по принципу «каши маслом не испортишь».
Необходимость в таком титуле вызывалась еще и тем, что он как бы подтверждал право Сталина на роль единственного законного наследника Ленина. На первых порах это свое право он доказывал, ссылаясь на то, что он в отличие от всех других наследников — никогда ни на шаг — не отклонялся от священных ленинских заветов. Да, он не оратор, как Троцкий, не теоретик, как Бухарин, — он только верный ученик Ленина. Но зато — самый верный, самый преданный, самый последовательный его ученик.
Когда на одном из партийных съездов, где Сталин, выступая (кажется, впервые) с отчетным докладом, сказал, что собирается затронуть некоторые вопросы теории, из зала прозвучала насмешливая реплика Давида Борисовича Рязанова:
— Коба! Вы — и теория? Не смешите нас!
И Сталин это съел. Но, конечно, запомнил, о чем свидетельствует подпись под портретом Рязанова в Энциклопедическом словаре «Деятели СССР и революционного движения России»:
► Рязанов Д. Б. (1870–1938). До 1931 директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Академик АН СССР (1929). В 1931 исключен из партии. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно.
До времен, когда основанный им Институт К. Маркса и Ф. Энгельса стал называться Институтом Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, Давид Борисович, стало быть, не дожил. Но включение темного в вопросах теории Кобы в число корифеев и даже основоположников великого учения ему пришлось пережить.
Я думаю, что не сильно погрешу против истины, если выскажу предположение, что не только Рязанов, кинувший эту злополучную реплику, но и все, кто тогда ее слышал, тоже были «реабилитированы посмертно». Хотя — нет, наверно, все-таки не все: а иначе как бы эта реплика дошла до нас с вами? А она не только дошла, но и какую-то свою роль сыграла в создании иронической ауры вокруг присвоенного Сталину звания Корифея науки.
Тем, кто из «сталинской эпохи» вынес только воспоминания о тотальном, леденящем душу страхе, трудно это себе представить, но в многократном повторении разнообразных — мудрых, как тогда говорили, — изречений вождя почти всегда ощущался неуловимый — а иногда и очень даже уловимый — привкус этой самой иронии. «Плеханов ушел в кусты», — иронически повторяли мы знаменитую сталинскую фразу из «Краткого курса». И жало этой нашей иронии было направлено отнюдь не в Плеханова. Или вот такая — тоже знаменитая в те времена — сталинская фраза: «А между тем Советский Союз стоит, как утес, идя от победы к победе». Медленно, со значением, увеличивая весомость каждого слова паузами и легким грузинским акцентом, мы делали особый упор на этом нелепом, противоестественном сочетании глагола и отглагольного деепричастия: «стоит — идя». Стоит, значит, и в то же время — идет…
Постоянным поводом для иронии становилась именно вот эта важная многозначительность, с какой вождь преподносил нам свой набор банальностей. На этот счет были даже и анекдоты. Например, такой:
► Напутствуя Чкалова, Белякова и Байдукова перед их знаменитым беспосадочным перелетом через океан в Америку, вождь якобы дал им такой ценный совет:
— Не забудьте позаботиться о бензине.
Вершиной, пиком этой серии насмешек над всеохватывающей сталинской мудростью стала знаменитая песня Юза Алешковского:
Товарищ Сталин, вы большой ученый. В языкознанье знаете вы толк. А я — простой советский заключенный, И мне товарищ серый брянский волк.При жизни вождя свои сомнения в интеллектуальных возможностях Корифея ВСЕХ наук (включая даже такую специальную, как языкознание) так прямо мы, конечно, не выражали. Но сами сомнения, безусловно, имели место.
Вот одно из самых ранних, детских моих воспоминаний.
Мне лет восемь. Мы с отцом выходим из вагона дачного поезда (паровичка, электричек тогда еще не было) на перрон московского вокзала. Рядом идет какой-то дядька, на которого я обратил внимание еще раньше, в вагоне. У него высокий лоб, большие роговые очки, за стеклами которых блестят умные, насмешливые глаза. Обратил я на него внимание, потому что он был очень похож на Ботвинника. Я сперва даже подумал: уж не сам ли это Ботвинник? Он тянул за руку мальчишку примерно моего возраста. Нет, наверно, все-таки мальчишка этот был чуть младше, чем я. Во всяком случае, вел он себя как дошкольник: поминутно озирался, считал ворон и плелся за отцом еле-еле, так что тому приходилось чуть ли не насильно тащить его за собой.
— А ну, поживее! — подбодрил сына «Ботвинник». — Не отставай! Знаешь, что сказал один умный человек? Отсталых бьют!
Реплика эта меня поразила.
Я, как и все мои сверстники, в свои восемь лет был, как это тогда называлось, политически развит и прекрасно знал, что сказал это — не кто иной, как Сталин. Изумило же меня то, что этот лобастый дядька в очках назвал Сталина умным человеком.
Всем классом мы дружно смеялись над глупенькой нашей одноклассницей, которая на вопрос учителя, знает ли она, кто такой Сталин, простодушно ответила: «У буржуев — царь. А у нас — Сталин». В отличие от этой глупой девчонки все мы прекрасно знали, кто такой Сталин. Вождь мирового пролетариата, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б). При желании я мог бы припомнить еще много таких определений, и ни одно из них не показалось бы мне незаслуженным, неправомерным. Но определение «умный человек» в приложении к Сталину я воспринял как совершенно неуместное, неправильное, никак к нему не относящееся.
Умным человеком можно было назвать вот этого, похожего на Ботвинника, высоколобого дядьку в очках. Конечно, и самого Ботвинника. (Не будь он умным, разве сумел бы он стать чемпионом СССР по шахматам?) Умным человеком, наверно, был и мой папа, и некоторые (не все, конечно) его друзья, приходившие иногда к нам в гости. Но Сталин? Нет, к нему это определение решительно не подходило.
Вероятно, определение «умный человек» в тогдашнем моем понимании этого слова могло быть отнесено к ученому, профессору, врачу, шахматисту. То есть к интеллигенту. Сталин же в его сапогах и полувоенном кителе, о котором мой отец пренебрежительно говорил, что в нем пристало ходить в уборную, а не встречаться с иностранными дипломатами, к сословию интеллигентов явно не принадлежал.
Не последнюю роль для меня тут играло и еще одно обстоятельство. А именно — лоб. Низкий (особенно в сравнении с просторными лбами Маркса и Энгельса и «сократовским» лбом Ленина) сталинский лоб.
Соображение это было, конечно, совсем уж детское. Однако, как я потом узнал, оно пришло в голову не только мне, но и вполне взрослым и даже весьма ответственным людям.
Один старый газетчик, много лет проработавший в «Известиях» (начал — еще при Бухарине), рассказал мне, что в начале 30-х годов им (надо думать, не только известинцам, но и ответственным сотрудникам всех других газет) «сверху» было спущено специальное указание: публикуя ретушированные сталинские портреты, увеличивать (поднимать) лоб вождя не менее чем на два сантиметра.
Сами, значит, сомневались. А может, даже и не сомневались, а точно знали, чего он стоит, этот самый их корифей всех наук.
КПСС
В 1952 году на XIX партсъезде компартия получила новое название. Старая аббревиатура — ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков — была заменена новой: КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза).
Народ на эту перемену тотчас же откликнулся анекдотом:
► — Рабинович, ваш сосед, от которого вам нет житья, уже вступил в КПСС?
— Не вступил, так вступит. В СС он уже был…
Был на эту тему еще и такой анекдот:
► — Что такое КПСС?
— Глухие согласные.
А в 70-е годы аббревиатуру КПСС стали расшифровывать так: «Кампания Против Солженицына и Сахарова».
Сахаров и Солженицын: два эти имени стояли в нашем сознании рядом. Но при этом все-таки сохранялась между этими двумя фигурами и некоторая дистанция. Она ощущалась даже в тех официальных газетных откликах, которые заказывались, а может быть, даже и сочинялись на Лубянке. (Традиционный газетный подвал этого специфического назначения мы так прямо и называли: «Лубянский пассаж».) Так вот, один из самых заметных таких «лубянских пассажей», посвященных «антинародной» деятельности Солженицына и Сахарова, назывался: «Продавшийся и простак». «Продавшийся» — это был Солженицын, а «простак» — Сахаров.
Само собой, авторы этого сочинения таким его заглавием хотели подчеркнуть не столько разницу психологических характеристик Александра Исаевича и Андрея Дмитриевича, сколько свое (не свое, конечно, а «государственное») отношение к их фигурам. Называя Андрея Дмитриевича простаком, они давали понять, что считают его все же своим (как-никак — трижды Герой Соцтруда!), и как бы давали ему возможность прозреть, поумнеть, одуматься. Эпитет, прикрепленный к фамилии Солженицына, никаких таких надежд уже не оставлял.
В народном сознании, однако, Сахаров являл собою более высокий нравственный авторитет.
► В Москве шофер такси сказал мне, что он не верит тому, что в газетах пишут о Солженицыне.
— Почему же? — спросил я.
— Так ведь за него Сахаров заступается, — ответил шофер.
(Андрей Амальрик. Записки диссидента)Но и не только в нравственном авторитете тут было дело.
Фигура Сахарова как-то очень быстро стала легендарной. Про него сочиняли разные фантастические истории и даже анекдоты.
Был, например, такой анекдот:
► — Вася, слыхал? Опять повышение цен на водку будет.
— Ну да?
— Ага! И здоровое. Представляешь, говорят, не меньше десятки поллитровка будет стоить.
— Ну, нет. До этого не дойдет.
— Это почему же?
— Сахаров не допустит.
Анекдот — это, конечно, всего лишь анекдот. В нем отразилась не столько вера во всемогущество опального академика, сколько насмешка над наивной верой простого работяги в это его могущество. Но вера в то, что «Сахаров не допустит», что с мнением Сахарова даже ненавидящее его начальство почему-то вынуждено считаться, жила не только в анекдотах:
► Десятки раз я слышал:
«Вот напишу академику Сахарову! Поеду в Москву к академику Сахарову!»
И адреса-то человек не знает. Да, может, и знал бы — не поехал. Русский человек и в жалобную-то книгу не пишет. Душу отведет, востребует книгу, а писать не станет…
Тут важно другое. Появилось ощущение новой инстанции…
Тут мне хочется вспомнить один случай. Был я в командировке. Рано утром оказался на псковском автовокзале. В прибежище местных алкашей. Разговорился с одним. Лицо сизое, опухшее, руки трясутся. Сунул я ему два рубля. Алкаш выпил портвейна, немного отошел. Каким-то чудом распознал во мне интеллигента. Видимо, хотел мне угодить. И рассказал такую историю:
«Был я, понимаешь, на кабельных работах. Натурально, каждый вечер поддача. Белое, красное, одеколон… Рано утром встаю — колотун меня бьет. И похмелиться нечем. Еле иду. Мотор на ходу вырубается. Вдруг навстречу — мужик. С тебя ростом, но шире в плечах. Останавливает меня и говорит:
— Худо тебе?
— Худо, — отвечаю.
— На, — говорит, — червонец. Похмелися. И запомни — я академик Сахаров…»
…Я понимаю, что это — наивная выдумка опустившегося человека. И все-таки… Если оставить в стороне убогую фантазию этого забулдыги… Ведь именно так создается фольклор! В наши дни. Вокруг конкретного живого человека…
(Сергей Довлатов. Марш одиноких)Не исключаю, что в этот на наших глазах создававшийся фольклор Довлатов влил и малую толику своей фантазии и своего творческого — художественного — дара.
Но вот — совсем уж не выдуманная история.
Мой друг Борис Балтер лежал с инфарктом в Первой градской. В просторной светлой палате их было трое. Один из его сопалатников был, судя по всему, какой-то мелкий партийный функционер, другой — простой работяга.
КПСС (не компартия, а Кампания Против Сахарова и Солженицына) с каждым оборотом набирала в те дни все большую силу.
Главной мишенью в такого рода кампаниях обычно бывал Солженицын. Но в описываемый момент акцент почему-то с Солженицына переместился на Сахарова: наверно, академик позволил себе тогда какую-то особенно нахальную выходку, переполнившую терпение высокого начальства.
Все разговоры в палате, естественно, вертелись вокруг этого сюжета.
Функционер, само собой, поливал академика, называя его отщепенцем и предателем. Упоминал про вычитанный из какой-то газетной статьи «синдром инженера Гарина».
Борис вяло отругивался, понимая, что спорить бесполезно.
Работяга, отвернувшись к стене, молчал.
Исчерпав все аргументы и проклятия, почерпнутые из газет, функционер вдруг внес в этот поток клишированных обвинений некую личную ноту.
— Ну скажи, чего ему не хватало? — вдруг совсем по-человечески спросил он. — Дача… Машина… Квартира… Зарплата у них, у академиков, тоже, я думаю, будь здоров… Трижды Герой Социалистического Труда. Значит, кремлевка. А ты знаешь, что такое кремлевка? Питание почти бесплатное. И какое питание! Не то что у нас с тобой… Нет, ты скажи: ну чего? Чего ему не хватало?!
И тут работяга, упорно молчавший на протяжении всего этого многодневного спора, вдруг отвернулся от стены, поднял голову, поглядел насмешливо на разгорячившегося функционера и сказал:
— Вот ты об этом и подумай.
Культ личности
Это был главный эвфемизм советского новояза. Вершина советского новоязовского лицемерия.
Ведь на самом деле словосочетание это подразумевало отнюдь не обожествление вождя, не истерические овации во славу гения всех времен и народов, не миллионы портретов, бюстов, монументов и прижизненных памятников, не бесконечный «поток приветствий» в связи с семидесятилетием, который, не прерываясь, печатался в газетах на протяжении трех лет и был прерван только смертью великого юбиляра.
Словами «культ личности» полагалось обозначать всю смрадную, кровавую сталинскую эпоху, со всеми ее концлагерями, расстрелами, пыточными застенками, со всеми, как это тогда называлось, массовыми репрессиями (еще один эвфемизм), то есть с превращением в лагерную пыль миллионов ни в чем не повинных людей.
После хрущевских разоблачений имя Сталина тянуло за собой всю эту жуткую цепь мгновенно возникающих ассоциаций. А унылое, безликое «культ личности» переводило все это в совсем иной, абстрактный, как бы даже научный план, снимая боль и ужас живого человеческого сопереживания — примерно так же, как латинское слово «пенис» снимает все «неприличные» ассоциации, связанные с обозначаемым этим словом предметом.
Однажды (дело было в начале 60-х), слегка коснувшись в какой-то своей статье некоторых мрачных черт минувшей эпохи (не в полный голос, конечно, а, что называется, в рамках дозволенного) я написал: «В сталинские времена» или: «При Сталине».
Редактор, которому я принес эту свою статью (это был мой добрый приятель, мы с ним уже лет двадцать как были на «ты»), быстро усек эту мою вольность и, вздохнув, сказал:
— Старик! Ведь ты же прекрасно понимаешь, что, если даже я сделаю вид, что не заметил, Главлит тебе этого ни за что не пропустит.
— А почему? Что, собственно, тут такого? — попробовал я «валять Ваньку».
— Брось, — устало сказал он. — Ты ведь опытный человек. Не хуже меня знаешь, что писать так не полагается. Никаких «при Сталине» или — как там у тебя? — «в сталинские времена», а: «В период культа личности». Только так. И никак иначе.
Что было делать? Оставалось полагаться на опытность читателя, приученного к советским эвфемизмам и умеющего не только читать слова, но и угадывать то, что за словами.
Ведь знали же советские люди (как я уже говорил, даже самые несознательные), о ком идет речь, когда поминают сионистов или безродных космополитов…
Но с выражением «культ личности» так не вышло.
Даже те, кто понимал (по самому роду своей деятельности должны были понимать), о чем идет речь, почему-то предпочитали воспринимать это словосочетание не в переносном, а в буквальном его значении.
Вот, например, такой понаторевший в политике человек, как Илья Григорьевич Эренбург, написал однажды, что культ личности его оскорблял эстетически. Совершенно очевидно, что разумел он при этом не что иное, как именно безвкусный и пошлый культ Сталина. Не расстрелы же и не пытки оскорбляли его эстетически: выговорить такое даже у этого старого циника не повернулся бы язык.
В другой раз он выразился так:
► Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки; я связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение двадцати лет именовалось «мудростью гениального вождя».
Примерно так же воспринял и ввел в свою речь это расхожее выражение такой чуткий к слову человек, как Борис Леонидович Пастернак:
Культ личности забрызган грязью, Но на сороковом году Культ зла и культ однообразья Еще по-прежнему в ходу. И каждый день приносит тупо, Так что и вправду невтерпеж, Фотографические группы Одних свиноподобных рож. И культ злоречья и мещанства Еще по-прежнему в чести, Так что стреляются из пьянства, Не в силах этого снести.Странное стихотворение это было написано в 1956 году — по горячим следам только что отгремевшего XX съезда.
Я называю его странным, потому что первая его строка невольно наводит на мысль, что автор не слишком доволен тем, что «культ личности забрызган грязью». Пожалуй, готов согласиться с теми, кто полагает, что лучше было бы не забрызгивать. И вроде как даже склоняется к тому, что «культ злоречья и мещанства» и «фотографические группы свиноподобных рож» гораздо тошнотворнее и отвратительнее, чем величественные портреты генералиссимуса, ежедневно глядевшие на нас со страниц газет времен «культа личности». Как говорили недовольные хрущевскими разоблачениями сталинисты: «Да, верно, был культ, но была и личность!»
Но Борис-то Леонидович Пастернак ведь сталинистом не был! И не мог же он не знать, что, задолго до того как «культ личности» был «забрызган грязью», он был забрызган кровью. И даже не забрызган, а весь — с ног до головы! — был в крови. Не может же быть, чтобы и ему, — как осмелившемуся сказать об этом вслух Мандельштаму, — тоже не хотелось «не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе».
Вот в этом-то как раз и странность.
Хотя…
* * *
В 1932 году внезапно умерла жена Сталина Надежда Сергеевна Аллилуева. Ходили слухи о самоубийстве, говорили даже, что жена вождя не покончила с собой, а была застрелена мужем во время семейной, а может быть, и политической ссоры.
В те дни в «Литературной газете» появилось письмо:
► Дорогой т. Сталин!
Трудно найти такие слова соболезнования, которые могли бы выразить чувство собственной нашей утраты.
Примите нашу скорбь о смерти Н.С. Аллилуевой, отдавшей все свои силы делу освобождения миллионов угнетенного человечества, тому делу, которое вы возглавляете и за которое мы готовы отдать свои жизни, как утверждение несокрушимой жизненной силы этого дела.
Л. Леонов, Вера Инбер, А. Никулин, Г. Никифоров, В. Шкловский, Ю. Олеша, А. Малышкин, Вс. Иванов, В. Лидин, И. Сельвинский, А. Архангельский, И. Ильф, Е. Петров, Раиса Азарх, Б. Пильняк, М. Светлов, Э. Багрицкий, С. Кирсанов, В. Киршон, К. Зелинский, М. Шагинян, А. Фадеев, П. Павленко, В. Катаев, С. Буданцев, М. Кольцов, С. Аинамов, Е. Усиевич, А. Селивановский, М. Серебрякова, А. Авербах, М. Субоцкий, И. Анисимов
Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром прочел известье. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел.
Борис ПастернакТрудно сказать, сам ли Пастернак отказался подписать общее письмо или была какая-то другая причина, из-за которой его фамилия не попала в общий список писателей, допущенных к выражению соболезнований. Так или иначе, письмо Пастернака резко отличается от письма его коллег индивидуальностью выраженного в нем чувства.
Не исключено, что этим письмом Пастернак спас себе жизнь.
Во всяком случае, Сталину явно импонировало, что такой человек, как Пастернак, «глубоко и упорно» думал о нем. Сурков, который бы «глубоко и упорно думал о Сталине», был ему не так интересен.
С этого момента начался длившийся на протяжении двух десятилетий роман Пастернака со Сталиным.
Был слух, что в 1937-м, отказываясь дать санкцию на арест Пастернака, Сталин сказал: «Не трогайте этого небожителя!»
Дарованное Пастернаку позволение «присоединиться к письму товарищей» и выразить свои чувства наособицу, не в общем потоке и не в установленном порядке, проистекало из того же источника, что и эта реплика: от Пастернака ждали стихов, прославляющих вождя.
► Говорили мне, — записал в своем дневнике друг Бориса Леонидовича Л.В. Горнунг, — что поэмы «Хорошо» и «Владимир Ленин» очень понравились наверху и что было предположение, что Владимир Владимирович будет писать такие же похвалы и главному хозяину. Этот прием был принят на Востоке, особенно при дворе персидских шахов, когда придворные поэты должны были воспевать их достоинства в преувеличенно хвалебных словах, — но после этих поэм Маяковского не стало. Борис Леонидович сказал мне, что намеками ему было предложено взять на себя эту роль…
В свете этого сообщения мы можем с уверенностью сказать, что фраза Пастернака — «Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые» — была не просто красивым риторическим оборотом. Этой репликой Пастернак прямо давал понять, что известный «социальный заказ» им принят. Не надо только его торопить. Поэзия — дело тонкое. Вот он уже всю ночь упорно думал о Сталине. И не просто думал, а — «как художник». То есть — присматриваясь, прицеливаясь к своей будущей модели. Стало быть, уже песня зреет.
Давая это свое обещание, Пастернак не обманывал. Он и в самом деле собирался его исполнить.
И исполнил.
* * *
1 января 1936 года в «Известиях» появилось стихотворение Пастернака «Мне по душе строптивый норов…».
Имя Сталина в нем названо не было. Но портрет вождя там был дан (при всей индивидуальной неповторимости пастернаковского голоса) в лучших традициях придворной поэзии Востока:
А в эти дни на расстояньи, За древней каменной стеной, Живет не человек, — деянье, Поступок ростом с шар земной. Судьба дала ему уделом Предшествующего пробел: Он — то, что снилось самым смелым, Но до него никто не смел. За этим баснословным делом Уклад вещей остался цел. Он не взвился небесным телом, Не исказился, не истлел. В собранье сказок и реликвий, Кремлем плывущих над Москвой, Столетья так к нему привыкли, Как к бою башни часовой.Этим строчкам о человеке, живущем «за древней каменной стеной», предшествуют другие, в которых поэт говорит о себе:
И этим гением поступка Так поглощен другой, поэт, Что тяжелеет, словно губка, Любою из его примет. Как в этой двухголосной фуге Он сам ни бесконечно мал, Он верит в знанье друг о друге Предельно крайних двух начал.Хотя поэт и ощущает свою малость в сравнении с человеком, каждый поступок которого «ростом с шар земной», но в то же время он утверждает и некое их равенство. Равенство, основанное на какой-то таинственной связи, существующей между этими двумя «полюсами мироздания».
На первый взгляд не совсем понятно, можем ли мы с уверенностью утверждать, что поэт («артист»), о котором идет тут речь, — не кто иной, как сам автор: если он говорит о себе, то почему в третьем лице? Однако никаких сомнений в том, что Пастернак разумел тут именно себя, ни у кого никогда не возникало. Да он и сам не делал из этого тайны: прямо написал однажды, что в этом стихотворении «разумел Сталина и себя». И пояснил, что это была «искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон». (Борис Пастернак. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 2, с. 620.)
Строки о поэте, который «тяжелеет, словно губка, любою из его примет», как и приписка Пастернака к «письму товарищей» по поводу смерти Аллилуевой, содержат в себе некое — уже новое! — обещание. Они довольно прямо намекают на то, что поэт уже «забеременел» («тяжелеет») заданной ему темой, что цитируемое стихотворение — лишь первый подступ к ней: полное воплощение и разрешение этой грандиозной темы — впереди.
Тут Пастернак, быть может, и слегка лукавил. Но вера его «в знанье друг о друге предельно крайних двух начал» была искренней.
Примерно в это же время (в марте 1936) он обратился к Сталину с письмом, в котором благодарил его за освобождение мужа и сына Анны Ахматовой, которое приписал (не без оснований) своему заступничеству, а также за произнесенные Сталиным незадолго до этого знаменитые его слова о Маяковском как о «лучшем, талантливейшем» поэте эпохи.
Начиналось это письмо так:
► Дорогой Иосиф Виссарионович!
Меня мучит, что я не последовал тогда своему первому желанию и не поблагодарил Вас за чудесное освобождение родных Ахматовой; но я постеснялся побеспокоить Вас вторично и решил затаить про себя это чувство горячей признательности Вам, уверенный в том, что все равно, неведомым образом, оно как-нибудь до Вас дойдет.
И заканчивалось таким же намеком на таинственную, мистическую связь, существующую между ними, благодаря которой токи благодарности, или любви и преданности, или каких-либо иных чувств, обуревающих поэта, каким-то неведомым образом достигнут августейшего адресата даже и без посредства почты и телеграфа:
► В заключение горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам… Косвенно Ваши строки о нем отозвались на мне спасительно. Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел): во мне стали подозревать серьезную художественную силу. Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято, и я с легким сердцем могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине, с неожиданностями и таинственностями, без которых я бы не любил жизни.
Именем этой таинственности горячо любящий и преданный Вам Б. ПАСТЕРНАКОльга Ивинская в книге своих воспоминаний говорит, что однажды Борис Леонидович назвал Сталина «гигантом дохристианской эры человечества». Это был отголосок, угасающий след его «романа» с вождем. В начале 40-х недавние его «сталинистские» иллюзии были уже развеяны.
В феврале 1941 года он обронил в письме к своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг:
► Атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью неподходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое, — Грозный, опричнина, жестокость.
Спустя год, в марте 42-го, Пастернак узнал, что на этот — новый — социальный заказ уже успел откликнуться А.Н. Толстой. И тут же — с присущей ему прямотой и откровенностью — высказался на эту тему в письме к Тамаре Владимировне и Всеволоду Вячеславовичу Ивановым:
► Итак, ампир всех царствований терпел человечность в разработке истории, и должна была прийти революция со своим стилем вампир, и своим Толстым, и своим возвеличеньем бесчеловечности.
«Стиль вампир» это, конечно, камень в огород не А.Н. Толстого, проворно выполнившего заказ, а прямо и непосредственно в заказчика — в Сталина.
Казалось бы — все ясно: иллюзии кончились, все точки над i расставлены. Роль Сталина в жизни страны определена с беспощадной, убийственной точностью и прямотой.
Но совсем недавно было опубликовано письмо Пастернака Фадееву, написанное 14 марта 1953 года, то есть через пять дней после похорон Сталина.
И вот как, — после всего этого, после того как взгляд его на «Благодетеля», казалось бы, давно уже обрел полную ясность, — откликается он на его смерть:
► Дорогой Саша!..
Мне захотелось написать тебе. Мне подумалось, что облегчение от чувств, теснящихся во мне всю последнюю неделю, я мог бы найти в письме к тебе.
Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, существом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа.
Каждый плакал теми безотчетными и неосознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело за тебя, проволоклось по тебе и ублажило тебе лицо и пропитало собою твою душу…
Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже раньше любили за ее порыв и тягу к такому будущему, стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слез и смытых обид…
Помню, меня, когда я увидел мертвого Сталина (конечно, не в те похоронные дни, а позже, уже не в гробу, а в стеклянном ящике, в мавзолее), тоже больше всего поразили его руки. Но думал я при этом не о том, что они «исполнены мысли», и не о том, что они «впервые отдыхают». До корней волос пронзило меня, что эти небольшие, короткопалые, покрытые редкими рыжеватыми волосками руки еще недавно держали в своих чуть припухлых ладонях судьбу целого мира. И, само собой, мою судьбу тоже. И тут же явившаяся мысль, что эти страшные руки уже наконец мертвы, что они, как выразился поэт, «впервые отдыхают», а значит, ничего больше не могут со мной сделать, — эта утешительная мысль сразу убрала холодок, леденивший мою спину.
А теперь представьте себе, какие чувства испытали бы, довелись им прочесть это письмо Бориса Леонидовича, миллионы зэков, не умевших, да и не желавших в те дни скрыть свое ликование по поводу того, что наконец-то «ус откинул хвост». (Эту замечательную формулу я знаю со слов Евгении Семеновны Гинзбург.)
Надо, конечно, сделать скидку на то, что мрачно-торжественная обстановка тех похоронных и послепохоронных дней, обозначивших конец целой эпохи, не могла не поразить впечатлительную душу поэта. Вероятно, отразилось и в настрое, и в стилистике этого письма и некоторое приспособление его автора к чувствам, наверняка испытываемым в те дни тем, к кому письмо было обращено.
И все же, все же, все же…
Никто ведь не заставлял его в те дни писать именно Фадееву. У него самого возник этот душевный порыв. Значит, была в этом его порыве какая-то доля искренности. И, судя по всему, немалая.
Кстати, финал стихотворения, начинавшегося словами «Культ личности забрызган грязью», тоже заставляет вспомнить про Фадеева:
И культ злоречья и мещанства Еще по-прежнему в чести, Так что стреляются из пьянства, Не в силах этого снести.Эти последние две строки скорее всего о нем, о Фадееве: ведь Александр Александрович застрелился в том самом 1956 году, когда было написано это стихотворение, и по официальной версии — как раз «из пьянства». На самом деле, как потом выяснилось, отнюдь не «из пьянства»: последние месяцы перед смертью капли в рот не брал. Застрелился он, я думаю, потому что как раз в это время стали возвращаться с того света люди, санкцию на арест которых ему — по должности — приходилось давать.
Когда это случилось, была сочинена (Н. Коржавиным) такая эпиграмма:
► Проснулась совесть, и раздался выстрел. Естественный конец соцреалиста.
Сказано зло, но, наверно, справедливо. Однако, что там ни говори, а из всех известных нам «соцреалистов» совесть проснулась только у него одного.
Ну, а что касается величия, об утрате которого так сокрушался Борис Леонидович Пастернак, то я тут могу только повторить забытую ныне языковую формулу, рожденную в те годы и как раз вот по этому самому поводу:
► — Умер, ну и культ с ним!
Л
Лишенцы
Слово это просуществовало сравнительно недолго.
В 1936 году была принята новая («сталинская») Конституция, в которой было торжественно зафиксировано, что в стране уже не осталось никаких «классово чуждых элементов», лишенных гражданских прав. И слова «лишенец», «лишенка», «лишенцы» умерли, выпали из живого языка. Встретиться с ними теперь можно было только в какой-нибудь книге, рисующей картины канувшего в прошлое нэповского быта. И там они выглядели смешными и вполне безобидными.
Вот, например, в «Записных книжках» И. Ильфа:
► Умалишенец…
На почтамте оживление. «Дорогая тетя, с сегодняшнего дня я уже лишенец…»
За что меня лишать всего! Ведь я в детстве хотел быть вагоновожатым! Ах, зачем я пошел по линии частного капитала!
Или у Зощенко:
► Все они какие-то такие — или уже женатые, или уже имеют 2–3 семьи, или вообще лишенцы, что, конечно, тоже не сахар в семейной жизни.
Или в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова:
► Решительно вздохнув, Бендер втиснулся в толпу.
— Пардон, — говорил он, — еще пардон! Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит. Пропустите экспертов, вы, мужчины! Пусти, тебе говорят, лишенец!
В устах Остапа слово «лишенец» звучит не как политическое обвинение, а скорее как обидная бытовая кличка — вроде «поганец» или «паршивец».
Впервые столкнувшись с этим словом именно вот в таком, «аполитичном» контексте, я ошибочно умозаключил, что употреблялось оно только на бытовом уровне. И был очень удивлен, узнав, что это был не только бытовой, расхожий, но и вполне официальный политический термин:
► При составлении списков лишенцев избиркомы неправильно лишают прав трудящихся…
Проделки лишенцев…
Беднота помогает избиркомам выявлять лишенцев…
(Примеры эти, взятые из газеты «Известия» за 1927 год, приведены в книге А. Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1926». М., 1928, стр. 172)Однако и в этом — официальном — контексте слова «лишенец», «лишенцы» тоже звучат довольно-таки безобидно. Ну, не подпустит тебя бдительный избирком к урнам для голосования — велика беда!
На самом деле, однако, такое благодушное отношение к положению лиц, лишенных гражданских прав, совсем не соответствовало реальному положению этих «классово чуждых элементов». А было их в СССР в 1929 году — по вполне официальным данным — около трех миллионов.
Официально в категорию граждан, «лишенных прав, которые используются ими в ущерб социалистической революции» (в соответствии с принятой 10 июля 1918 года «Декларацией прав трудящегося и эскплуатируемого народа РСФСР»), зачислялись нэпманы, торговцы, служители культа, бывшие служащие и агенты царской полиции, бывшие помещики, «иные классово чуждые и эксплуататорские элементы». Но критерий отбора, как явствует из последней формулировки, был весьма приблизительным, так что «лишенцем» практически мог оказаться кто угодно.
► Мой отец был инженером с дореволюционным образованием, то есть принадлежал к части русской интеллигенции, в высшей степени подозрительной и неблагонадежной с советской точки зрения.
Первым результатом всего этого было то, что летом 1929 г. нас всех лишили избирательных прав. Мы стали «лишенцами». Категория «лишенцев» среди советских граждан — это категория неполноценных граждан низшего разряда. Их положение в советском обществе во многом напоминало положение евреев в гитлеровской Германии. Государственная служба и профессия интеллигентного труда были для них закрыты. О высшем образовании не приходилось и мечтать. Лишенцы были первыми кандидатами в концлагеря и в тюрьмы. Кроме того, во многих деталях повседневной жизни они постоянно чувствовали униженность своего общественного положения. Я помню, какое тяжелое впечатление на меня произвело то, что вскоре после лишения нас избирательных прав к нам на квартиру пришел монтер с телефонной станции и унес наш телефон. «Лишенцам телефон иметь не полагается», — сказал он…
(Ю. Елагин. Укрощение искусств)Это, конечно, был чистейшей воды произвол. Но — узаконенный.
Насчет телефона, может быть, еще можно было и поспорить. Но на вполне законном основании лишенцы не могли быть членами профсоюзов, состоять на советской службе, работать на фабриках и заводах; их дети не могли учиться в университетах и служить в Красной армии. Им было отказано в продовольственных карточках и государственном медицинском обслуживании. В постановлении СНК об исправительно-трудовых лагерях (1930) о лишенцах было сказано, что «наряду с контрреволюционерами» они «не могут занимать административно-хозяйственных должностей».
Пожалуй, только в свете всех этих разъяснений можно по-настоящему понять и оценить весь драматизм коллизии, изображенной хотя бы вот в таком небольшом юмористическом рассказе:
► Семья из пяти человек уже третий час сидела за заполнением анкеты… Вопросы анкеты были обычные: сколько лет, какого происхождения, чем занимался до Октябрьской революции и т. д.
— Вот чертова работка-то, прямо сил никаких нет, — сказал отец семейства, утерев толстую потную шею. — Пять каких-то паршивых строчек, а потеешь над ними, будто воз везешь.
— На чем остановились? — спросила жена.
— На чем… все на том же, на происхождении. Забыл, что в прошлый раз писал, да и только…
— Кажется, ты писал из духовного, — сказал старший сын.
— Нет, нет, адвокатского, я помню, — сказал младший.
— Такого не бывает. Не лезь, если ничего не понимаешь. Куда ты животом на стол забрался?..
— Что вы, батюшка, над чем трудитесь? — спросил, входя в комнату, сосед.
— Да вот, все то же…
— Вы уж очень церемонитесь. Тут смелей надо.
— Что значит — смелей? Дело не в смелости, а в том, что я забыл, какого я происхождения по прошлой анкете был. Комбинирую наугад, прямо как в темноте. Напишешь такого-то происхождения — с профессией как-то не сходится. Три листа испортил. Все хожу, новые листы прошу. Даже неловко.
— На происхождение больше всего обращайте внимание.
— Вот уж скоро три часа на него обращаем внимание… В одном листе написал было духовного, — боюсь. Потом почетным гражданином себя выставил, — тоже этот почет по нынешним временам ни к чему… О господи, когда же это дадут вздохнуть свободно!.. Видите ли, дед мой — благочинный, отец — землевладелец (очень мелкий), сам я — почетный дворянин…
— Потомственный…
— То бишь потомственный. Стало быть, по правде-то, какого же я происхождения?
— Это все ни к черту не годится, — сказал сосед, наклонившись над столом и нахмурившись. — А тут вот у вас как будто на одном листе написано: сын дворничихи и штукатура.
— Нет, это я так… начерно комбинировал…
— Несколько странная комбинация получилась, — сказал сосед, — почему именно дворничихи и штукатура? Напрашиваются не совсем красивые соображения.
— Да, это верно.
— Ну, пропусти это, а то только хуже голову забивать, — сказала жена.
— Ладно, делать нечего, пропустим. А вот тут того, еще лучше: следующий пункт спрашивает, чем я, видите ли, занимался до Октябрьской революции и чем содействовал ей. Извольте-ка придумать.
— Участвовал в процессиях, — сказал младший сын.
— Э, ерунда, в процессиях всякий осел может участвовать.
— Писал брошюры, — сказал старший.
— А где они?… Черт ее знает, сначала, знаете ли, смешно было, а теперь не до смеха: завтра последний день подавать, а тут еще ничего нет. Придется и этот пункт пока пропустить…
— Вот что, вы запомните раз навсегда правило: нужно как можно меньше отвечать на вопросы и больше прочеркивать. Держитесь пассивно, но не активно.
— Прекрасно. Но ведь вам предлагают отвечать на вопросы. Вот не угодно ли: какого я происхождения? Это что, активно или пассивно?.. А, Миша пришел, официальное лицо. Помоги, брат, замучили вы нас своими анкетами…
— Что у вас тут? — спросил, входя, полный человек в блузе, подпоясанный узеньким ремешком.
— Да вот очередное удовольствие, ребусы решаем.
Пришедший облокотился тоже на стол, подвинул к себе листы и наморщил лоб. Все смотрели на него с надеждой и ожиданием.
— Что же это у тебя все разное тут? — спросил он, с недоумением взглянув на хозяина.
Тот, покраснев и растерянно улыбнувшись, сказал:
— Да это мы тут так… комбинировали, чтобы посмотреть: что получится?
— Хороша комбинация: на одном листе — почетный гражданин, на другом — из духовных… Да ты на самом деле-то кто?
— Как — кто?
— Ну, происхождения какого?
— Гм… дед мой благочинный, отец землевладелец (очень мелкий), сам я…
— Ну, и пиши, что из духовных…
— А вдруг?
— Что «а вдруг»?..
— Ну, хорошо, я только сначала начерно…
Когда полный человек ушел, хозяин утер вспотевший лоб и молча посмотрел на соседа.
— Как он на меня посмотрел, я и забыл, что он мне шурин. О, господи, всех боишься. Спасибо, я догадался сказать, что начерно…
И он, оглянувшись на дверь, разорвал лист и отнес клочки в печку. Потом, потянувшись, сказал:
— Нет, больше не могу, лучше завтра утром на свежую голову.
Выходившая куда-то жена подошла к столу и заглянула в анкету. Перед ней лежал чистый лист.
— Ничего не удалось написать?
— Только возраст.
(Пантелеймон Романов. Итальянская бухгалтерия)Автор смеется над незадачливым своим героем. И мы тоже смеемся с ним вместе.
Со стороны — оно, конечно, смешно. Но тем, кому эти анкеты приходилось заполнять, было не до юмора.
Пожалуй, только в одном художественном тексте того времени просвечивает истинный смысл этих анкетных вопросов:
Сукин сын Дантес! Великосветский шкода. Мы б его спросили: — А ваши кто родители? Чем вы занимались до 17-го года? — Только этого Дантеса бы и видели. (Владимир Маяковский. Юбилейное)Однако зловещий, угрожающий подтекст этого будничного и, казалось бы, такого невинного пункта советской анкеты здесь несколько затемнен тем, что, будучи обращен к убийце Пушкина, предстает перед нами как воплощение полного и абсолютного торжества справедливости.
Конечно, присутствует здесь и оттенок некоторой иронии по отношению к идее социальной справедливости, устанавливаемой такими способами. Но сама идея сомнению не подвергается. И не только по отношению к Дантесу.
С годами вопрос «Чем вы занимались до семнадцатого года?» постепенно утратил свою актуальность: людей, которые до семнадцатого года были взрослыми, а следовательно, могли заниматься чем-то нехорошим, по естественному ходу вещей в стране становилось все меньше и меньше. Но свято место пусто не бывает. На смену этому пункту анкеты пришли другие: «Находились ли вы во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории?» и т. п.
Что же касается второго вопроса, который Маяковский предлагал задать Дантесу («Кто ваши родители?»), то он своей грозной силы не утратил и в более поздние времена.
В начале 50-х моя жена, устраиваясь на работу, в графе анкеты, где полагалось сообщить все, что надо, про ее отца, беспечно написала: «С 1937 года в семье не живет».
Прочитав это, кадровичка побелела.
— Репрессирован? — испуганным шепотом спросила она.
— Да нет, — сказала жена. — Просто ушел от нас. Разошелся с мамой и завел другую семью. Я даже не знаю, жив ли он.
Облегченно вздохнув, кадровичка порвала использованный бланк анкеты, выдала жене другой, чистый, и сказала:
— Деточка! Немедленно узнайте про вашего отца все, что полагается. Адрес, место работы. А если он умер, надо написать, где, когда и на каком кладбище похоронен.
Ну, а в еще более поздние времена вопрос «Кто ваши родители?», сохранив прежнее свое значение, обрел еще и новый, дополнительный смысл. Это случилось, когда шестой пункт анкеты (социальное происхождение) уже отошел на второй план, а на первый, постепенно заслонив все последующие и предыдущие, вышел пятый.
Лица еврейской национальности
Одна из ключевых примет советского новояза — эвфемизм.
Эвфемизм, как объясняет нам это академический Словарь русского языка, — это «слово или выражение, употребляемое взамен другого, которое по каким-либо причинам неудобно или нежелательно произнести (по причине его грубости, оскорбительности, невежливости и т. д.), например: „ждет ребенка“, „в интересном положении“ вместо „беременна“ и т. д.».
Словарь иностранных слов то же объяснение формулирует слегка иначе, объясняя, что эвфемизм — это «более мягкое слово или выражение вместо грубого или непристойного». И предлагает свой пример: «не сочиняйте» вместо «не врите».
Получается, что главный стимул, побуждающий говорящего — или пишущего — пользоваться эвфемизмами, — хорошее воспитание, деликатность, вежливость.
В советском новоязе (не только официальном, но и бытовом) стимулы, провоцирующие употребление эвфемизов, были другие.
Один из этих стимулов очень удачно — в свойственном ему и избранному им жанру стиле — объяснил Владимир Войнович:
► Слово «еврей» цензурно, но употребляется как бы в научном смысле, как латинское «пенис». Сказать это слово бывает нужно, но при произнесении возникает заминка, говорящий пытается пробросить его незаметным пасом и тут же двинуться дальше. Человек называет себя русским, украинцем, татарином так же просто, как слесарем, пекарем, инженером, но каждый, кто говорит «я еврей», так или иначе напрягается и — или выдавливает из себя как признание, или произносит с вызовом: да, я еврей, ну и что? Если русского еврея, как бы спокойно он ни относился к своей национальности, подвергнуть испытанию детектором лжи, он будет быстро, четко отвечать на любые вопросы, но при вопросе «кто вы по национальности» непременно замнется, что будет прибором четко отмечено.
Точность этого наблюдения можно подтвердить многими примерами, но я приведу только один, особенно замечательный тем, что речь пойдет о человеке ярко незаурядном, который, казалось бы, мог и не поддаться этому мороку.
Я имею в виду Бориса Леонидовича Пастернака:
► Помню, когда уже я вела все его литературные дела во всех издательствах, а он работал, он звонил мне из Переделкина на Потаповский и предупреждал:
— Тебе, Лялюша, придется, может, анкету там заполнять (шел разговор о договоре на перевод Кальдерона), — так запиши мои паспортные данные.
Он продиктовал мне, что нужно, но когда зашла речь о графе «национальность», он несколько замешкался и затем пробормотал:
— Национальность смешанная, так и запиши…
(Ольга Ивинская. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком)Господи! Какая там смешанная, если даже заступничество московского городского головы В.М. Голицына не могло спасти его от еврейской процентной нормы и целый год он занимался с домашними учителями, дожидаясь, пока в гимназии освободится для него место.
Вот что писал по этому поводу князю Голицыну директор гимназии, который и рад был бы помочь, но, увы, ничего не мог тут поделать. Письмо это приводится в биографии Бориса Леонидовича, написанной его сыном Евгением Борисовичем:
► Ваше сиятельство, Милостивый государь
Владимир Михайлович.
К сожалению, ни я, ни педагогический совет не может ничего сделать для г. Пастернака: на 345 учеников у нас уже есть 10 евреев, что составляет 3 %, сверх которых мы не можем принять ни одного еврея, согласно Министерскому распоряжению. Я посоветовал бы г-ну Пастернаку подождать еще год и в мае месяце представить к нам своего сына на экзамен во 2 класс. К будущему августу у нас освободится одна вакансия для евреев, и я от имени педагогического совета могу обещать предоставить ее г-ну Пастернаку…
Отец будущего поэта был вынужден последовать этому доброму совету, и на следующий год мальчик стал гимназистом, не нарушив при этом полагающуюся по закону процентную норму. Всего этого, разумеется, никак не могло бы быть, если бы национальность у Бориса Леонидовича и в самом деле была «смешанная».
Вернемся, однако, к метким житейским наблюдениям писателя Войновича:
► …И многие другие люди (я не имею в виду антисемитов) при произнесении слова «еврей» испытывают разнообразные сложные чувства. Произнося по необходимости, дают понять, что ничего плохого о евреях не думают (варианты: «евреи тоже хорошие люди», «евреи тоже бывают всякие», а то и самокритично: «евреи плохие, но и мы тоже не лучше») или о данном конкретном еврее плохо не думают («он хотя и еврей, но хороший человек»), а многие смягчают неудобное слово… вводя бюрократический оборот: «лицо еврейской национальности» (я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал «лицо русской национальности»). А то и вовсе пытаются обойтись эвфемизмом, как, например, в Одессе, где евреев, боясь оскорбить, называют маланцами.
Деревенская старушка рассуждала на эту же тему: «Евреи хорошие люди, только название у них очень противное…»
В шестьдесят каком-то году мы с женой зашли в ресторан «Якорь» на улице Горького. Это был ресторан еврейской кухни. Все знали, что ресторан еврейской кухни, но эта его особенность не афишировалась и сохранялась как бы подпольно и непонятно чего ради. Тем более что директор, повара и официанты были, я слышал, русские. Так или иначе, ресторан этот существовал и был хорошо посещаем…
Так вот, мы с женой зашли в ресторан, официантка дала мне меню, а сама застыла над нами с блокнотиком, ожидая заказа. Собственно, меню было обыкновенное, как во всех других ресторанах. Котлеты, шницели, шашлыки, но среди них кушанье под загадочным названием: блюдо национальное. Я ткнул пальцем в название и спросил официантку:
— А что значит блюдо национальное? Какой национальности?
— Сами знаете, — сказала официантка и покраснела.
(Владимир Войнович. Замысел)К перечисленным выше стимулам, провоцирующим употребление эвфемизма (вежливость, деликатность и т. п.), здесь добавлен еще один: стыдливость. А применительно к одному из упомянутых писателем эвфемизмов, заменяющих сакраментальное слово («лицо еврейской национальности»), можно сказать даже и резче, определеннее: лицемерие.
В официальном советском новоязе лицемерие, лежащее в основе замены неудобопроизносимого слова эвфемизмом, было главной, в сущности, даже единственной причиной такого уклончивого словоупотребления.
Официальный советский новояз исключил из своего лексикона слово «евреи», заменив его разного рода эвфемизмами (сперва — «космополиты», позже — «сионисты»), по той простой причине, что все эти эвфемизмы носили ясно выраженный осуждающий, разоблачительный характер. Все они были политическими ярлыками (такими же, как в более ранние времена — «троцкист», «враг народа», «левый уклонист», «правый уклонист» и т. п.). Наклеивать же ярлык врагов народа на всех евреев до поры до времени было невозможно: это никак не укладывалось в рамки пролетарского интернационализма, верность которому — хотя бы на словах — необходимо было сохранять. Эвфемизмы, помимо всего прочего, как бы предполагали, что, помимо «космополитов» и «сионистов», есть еще и какие-то другие евреи, не погрязшие — или не совсем погрязшие — в пучине космополитизма и сионизма. Эти последние, впрочем, тоже находились под подозрением и время от времени должны были публично — с экранов телевизоров — заявлять о своей лояльности, проклиная космополитов, сионистов, еврейских буржуазных националистов и прочих выродков, с которыми они не желают иметь ничего общего. Для этих лояльных, законопослушных евреев как раз и был придуман отмеченный Войновичем свой, особый, не осуждающий и не разоблачающий, а безличный, нейтральный эвфемизм: «Лица еврейской национальности». Но народ-языкотворец довольно метко окрестил их «дрессированными евреями».
Несмотря на все эти государственные хитрости, сознательные — а тем более несознательные — советские граждане, конечно, понимали, что под космополитами и сионистами подразумеваются не отдельные какие-нибудь паршивые овцы, которые портят все стадо, а именно евреи. Все. Без исключения.
Говорить об этом вслух, конечно, не полагалось, но случалось, что кто-нибудь нет-нет да и проговаривался. Вот, например, такой эпизод, коему я сам был свидетелем. Дело было в Литературном институте, где я учился.
Шла знаменитая кампания по борьбе с космополитизмом.
Вокруг бушевал самый что ни на есть доподлинный суд Линча. А на председательском месте за столом президиума, доброжелательно и даже, я бы сказал, поощрительно наблюдая за ходом этого суда, важно восседал заведующий кафедрой марксизма-ленинизма нашего института профессор Леонтьев.
— В президиум поступила записка, — вдруг возгласил он, — в которой утверждается, будто под видом борьбы с космополитизмом наша партия ведет борьбу с евреями.
Зал притих. В том, что дело обстоит именно так, никто не сомневался. Отрицать это было трудно. Однако и признать справедливым такое клеветническое утверждение было невозможно. Все с интересом ждали, как профессор вывернется из этой им же самим созданной тупиковой ситуации. (Если даже такая записка и в самом деле была послана в президиум собрания, отвечать на нее было совсем не обязательно: никто не тянул профессора за язык, не заставлял зачитывать ее вслух.)
Убедившись, что аудитория готова внимать его объяснениям, профессор начал той самой классической фразой, к которой прибегал обычно в таких случаях во время своих лекций:
— Товарищ Сталин нас учит…
И, раскрыв специально принесенный из дому сталинский том, он торжественно прочел заранее заготовленную цитату:
— «Советский народ ненавидит немецко-фашистских захватчиков не за то, что они немцы, а за то, что они принесли на нашу землю неисчислимые бедствия и страдания».
И, назидательно подняв вверх указательный палец, заключил:
— Вот так же, товарищи, обстоит дело и с евреями.
Болвану Леонтьеву за такую откровенность могли и влепить — не строгача, конечно, что-нибудь полегче. Как говорил в таких случаях Эренбург, — «баю, баю, баюшки, будут нагоняюшки». Но скорее всего и нагоняюшек никаких не последовало: никакой государственной тайны Леонтьев ведь не выдал, это был секрет Полишинеля.
В более поздние — уже брежневские — времена был создан так называемый Антисионистский комитет, во главе которого был поставлен дважды Герой Советского Союза, герой Отечественной войны генерал-полковник Драгунский. Так вот, однажды, представляя этого геройского генерал-полковника, начальник политуправления пограничных войск сказал;
— Председатель антисемитского комитета…
Такая вот фрейдистская оговорка. А может, и не фрейдистская, и даже не оговорка вовсе. Может быть, высокий начальник именно так и понимал существо дела. И правильно понимал.
Лицемерие, как было сказано однажды, — это та дань, которую порок платит добродетели. Однако до поры до времени эту дань им все-таки приходилось платить.
Помню, прочел я как-то в одном старом издании стихотворений Михаила Светлова (в новых, более поздних изданиях этих строк уже не было):
За изнасилованных дочерей, За разбитые ящики Вашего комода Я очень извиняюсь, Товарищ еврей, Бывшая «Жидовская морда».И вдруг меня осенило, что «лицо еврейской национальности» — это ведь не что иное, как бывшая жидовская морда! Просто калька. (Так в лингвистике называется слово или выражение, построенное по образцу соответствующих слов и выражений чужого языка путем точного перевода их составных частей соответствующими словами или морфемами родного языка. В данном случае — это калька не с чужого языка на свой, а с «неприличного» на «приличный».)
Недавно, когда в связи с чеченской войной место евреев в иерархии советских нацменьшинств заняли кавказцы, эта старая моя догадка подтвердилась анекдотом:
► Объявление в газете: «Меняю лицо кавказской национальности на жидовскую морду».
М
Мавзолей
В академическом Словаре русского языка слово «мавзолей» объясняется так:
► Большое надгробное архитектурное сооружение. (От названия знаменитой гробницы карийского царя Мавзола, славившейся своим великолепием.)
И дается ссылка на лермонтовские строки:
Ни свежий дерн, ни пышный мавзолей Не тяготит сырых его костей.Но в советском новоязе это слово употребляется только в одном значении: «Мавзолей Ленина».
Впрочем, было время, когда в ленинском Мавзолее появился — правда, ненадолго — еще один покойник.
Именно к этому времени относится письмо И.А. Бунина, на которое я наткнулся, читая его переписку с Алдановым:
► Позовет ли меня опять в Москву Телешов, не знаю, но хоть бы сто раз меня туда позвали и была бы в Москве во всех отношениях полнейшая свобода, а я бы мог двигаться, все равно никогда не поехал бы я в город, где на Красной площади лежат в студне два гнусных трупа.
Ярость Бунина в значительной степени определялась его бешеной ненавистью к обоим покойникам. Но совершенно те же чувства этот странный способ захоронения вызывал и у людей, относившихся по крайней мере к одному из них без всякой ненависти, даже с известной долей доброжелательства:
► Что случилось с русскими? — с каким-то недоумением и горечью время от времени вопрошали чегемцы, сколько я их помню.
Я думаю, вопрос этот впервые прозвучал, когда чегемцы узнали, что Ленин не похоронен, а выставлен в гробу в особом помещении под названием «Амавзолей».
Предание покойника земле для чегемцев настолько важный и неукоснительный акт, что нравственное чувство чегемцев никогда не могло примириться с тем, что мертвый Ленин годами лежит в помещении над землей, вместо того чтобы лежать в земле и слиться с землей…
И вот тело Ленина выставили в домике под названием «Амавзолей», проходят годы и годы, кости его просятся в землю, но их не предают земле. Такое жестокое упорство властей не могло не найти в головах чегемцев понятного объяснения. И они его нашли. Они решили, что Большеусый, гордясь, что он победил величайшего абрека, каждую ночь приходит туда, где он лежит, чтобы насладиться его мертвым видом.
И все-таки чегемцы не уставали надеяться, что даже Большеусый наконец смилостивится и разрешит предать земле несчастные кости Ленина. С великим упорством, иногда переходящим в отчаяние, чегемцы годами и десятилетиями ожидали, когда это случится…
Однажды, стоя в кустах лещины, я увидел одинокого чегемца, в глубокой задумчивости проходившего по тропе. Поравнявшись со мной и, разумеется, не видя меня, он вдруг пожал плечами и вслух произнес:
— Придумали какой-то Амавзолей…
И скрылся за поворотом тропы, как видение…
Или, скажем, заболел какой-нибудь чегемец, залежался в постели на полгода или больше. Приходят навещать его односельчане, родственники из других деревень, приносят гостинцы, рассаживаются, спрашивают о здоровье.
— Ох! Ох! Ох! — стонет больной в ответ на вопросы о здоровье. — Что обо мне спрашивать… Я давно мертвый, да вроде бедняги Ленина похоронить меня некому…
(Фазиль Искандер. Сандро из Чегема)Русский человек, который, как выразился однажды неистовый Виссарион, о Боге вспоминает, почесывая задницу, глядел на это дело проще. Но, похоже, он тоже считал, что Ленин слишком уж залежался в своем Мавзолее.
Об этом свидетельствует такой анекдот.
Появился он в начале 70-х, вскоре после столетнего юбилея вождя мирового пролетариата, который пришелся, как известно, на 1970 год. Именно к этой дате был выпущен так называемый юбилейный рубль — с вычеканенным на нем профилем Ленина.
► И вот стоит у винного магазина работяга-алкаш, подбрасывает на ладони этот самый рубль с портретом Ильича вместо «орла» (или «решки»?) и говорит:
— У меня не мавзолей, у меня не залежишься!
Этот анекдот, я думаю, выражает отношение нашего народа к ленинскому Мавзолею гораздо точнее, чем легендарная реплика патриарха Тихона. Когда где-то там близ Мавзолея прорвало канализационные трубы и на гробницу Ильича хлынули потоки фекалий, патриарх якобы выразился так:
— По мощам — и елей!
Забальзамированный и выставленный на всеобщее обозрение труп для него был лжемощами лжесвятого. Но все-таки ассоциировался он у него именно с мощами, хоть и фальшивыми.
Но чуждый мистике русский человек ленинский Мавзолей так не воспринимал. Он шел к стеклянному ленинскому саркофагу вовсе не для того, чтобы поклониться мощам новоявленного святого.
* * *
Однажды, отдыхая в Крыму, в Коктебеле, мы с женой решили съездить — уж не помню, то ли в Чуфут-Кале, то ли в Бахчисарай. Собрались, поймали такси. Было дивное, хоть и не жаркое, но теплое осеннее утро. Садясь в машину, я сказал, что жаль в такой день уезжать от моря: днем станет жарко, захочется искупаться.
— А я вот за все лето так ни разу и не выкупался, — сказал таксист.
— Жить у моря, — изумилась моя жена, — и не купаться!
— А вы откуда приехали? — спросил он.
— Из Москвы, — сказала она, не догадываясь, куда он клонит.
— А вы там у себя, в Москве, в Мавзолей Ленина каждый день ходите?
Сравнение плещущегося рядом Черного моря, в которое можно в жаркий летний день с наслаждением окунуться, с Мавзолеем Ленина, который «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать», — поначалу показалось мне вполне дурацким. Но потом я понял, что был в этом сравнении весьма даже глубокий смысл.
Ленинский Мавзолей был для нашего таксиста ГЛАВНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ МОСКВЫ. Такой же, как для Крыма — Черное море.
Именно так и воспринимал этот Мавзолей, я думаю, если не весь советский народ, так, во всяком случае, подавляющее его большинство. Побывать в Москве и не посетить ленинский Мавзолей — это было так же глупо, как, скажем, побывав в Париже, не увидать Эйфелевой башни. Приедешь из столицы в свою глубинку, тебя первым делом, конечно, спросят: «А в Мавзолее Ленина был?» И если окажется, что не был, выйдешь полным дураком: как же так! Приехать в Москву — и не побывать в Мавзолее.
Именно это, я думаю, а вовсе не истовое стремление поклониться праху любимого вождя, было постоянной подпиткой гигантской очереди, этого неиссякающего людского потока, ежедневно влекущегося к ленинскому Мавзолею.
Самого-то Ленина все эти люди давно уже, как говорится, видали в гробу. (Был даже такой анекдот: весь советский народ делится на малую его часть — тех, кто видел Ленина живым, — и большую — тех, кто видал его в гробу.)
А никогда не иссякающий людской поток к ленинскому Мавзолею породил шуточную идиому: Мавзолеем стали называть любое заведение (чаще — винный магазин), на входе в которое собиралась особенно большая очередь.
Тема эта нашла свое отражение и в ходившем тогда таком анекдоте:
► Какому-то провинциалу посчастливилось выхлопотать командировку в Москву. Он лелеет мечту привезти оттуда сливочного масла, не только вкус, но даже и запах которого давно уже забыл. Перед отъездом спрашивает у земляков, побывавших в столице, не знают ли они, где там, в Москве, можно разжиться сливочным маслом.
— Как увидишь, — говорят ему, — самую длинную очередь, так в хвост ей и становись: наверняка это как раз и будет очередь за маслом.
Возвращается он домой, рассказывает о поездке. Его спрашивают:
— Ну, а масло-то — достал?
— Да нет, — говорит. — Не повезло. Отыскал, как вы наставляли, самую длинную очередь, стал в хвост. Выстоял, сколько положено. Ну, а как мой черед пришел, гляжу: продавец умер, лежит в гробу. Какое уж тут масло!
Были и другие анекдоты. По мере того как уважение к святыне все больше сменялось ироническим и даже глумливым к ней отношением, они становились все грубее, все циничнее:
► — Рабинович, с кем бы вы хотели, чтобы вас положили: с Лениным или со Сталиным?
— Положите меня с Фурцевой.
— Она же живая!
— Так ведь и я еще не умер.
Или — вот такой. Совсем уже макабрический:
► У грузина, побывавшего в Москве, спрашивают, видел ли он Ленина. Он отвечает, что да, конечно, видел.
— Неужели всю очередь выстоял?
— Зачем в очереди стоять? Деньги дал…
— И тебя пропустили без очереди?
— Зачем без очереди? Он мне его вынес: на, говорит, дорогой, смотри на здоровье!
Но это всё анекдоты более или менее добродушные. А были и более суровые, я бы даже сказал, — злобные.
Вот, например, такой:
► В Мавзолей Ленина пришла телеграмма: «Вставай, проклятьем заклейменный!»
И — подпись: «Весь мир голодных и рабов».
* * *
Такое, мягко говоря, неуважительное отношение народа к усыпальнице вождя отчасти, быть может, было связано еще и с тем, что соратники и наследники дорогого покойника и сами не проявляли должного уважения к покоящемуся в Мавзолее священному праху, постоянно попирая его ногами.
Я родился после смерти Ленина, и мне, как и всем моим сверстникам, вовсе не казалось диким, что в центре Москвы, на главной площади страны, лежит покойник, а по праздникам его могила превращается в трибуну, с которой «вожди» приветствуют проходящие мимо ликующие толпы демонстрантов.
Я так привык к этому, в сущности, кощунственному ритуалу, что, став взрослым и даже довольно критически настроенным человеком, не ощущал всей его макабрической нелепости.
По-настоящему я осознал это, когда услышал такую, как вскоре выяснилось, расхожую шутку.
— Ты помнишь песенку Билли Бонса из романа Стивенсона «Остров сокровищ»? — как-то спросил меня один мой приятель.
Смешной вопрос!
Роман Стивенсона «Остров сокровищ» был любимой книгой моего детства. Одной из самых любимых. А песенку Билли Бонса мы с друзьями-сверстниками с большим чувством ревели в четыре глотки, играя в пиратов:
Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!Еще бы мне было ее не помнить!
— А что это значит «пятнадцать человек на сундук мертвеца» — знаешь? — с какой-то хитроватой ухмылкой спросил он.
Я хорошо помнил, что загадка этого таинственного сундука очень волновала главного героя «Острова сокровищ» — Джима Гокинса:
► Первое время я думал, что «сундук мертвеца» — это тот самый сундук, который стоит наверху, в комнате капитана.
В моих страшных снах этот сундук нередко возникал передо мною вместе с одноногим моряком.
Сам я в отличие от Джима над смыслом этой пиратской песни никогда особенно не задумывался. В непонятности этих ее загадочных слов, быть может, как раз и заключалось тогда для меня главное ее очарование. Но сейчас, подозревая, что мой приятель решил устроить мне что-то вроде экзамена, я, чтобы не ударить лицом в грязь, напряг все свои умственные способности и попытался дать на его вопрос более или менее вразумительный ответ.
Я сказал, что «сундук мертвеца» — это, по-видимому, сундук с сокровищами капитана Флинта, на обладание которыми претендуют пятнадцать пиратов, считающих себя его законными наследниками. Выражено все это, конечно, добавил я, довольно неуклюже. Но в этом, наверно, виноват дурной перевод.
— Нет, — покачал головой мой приятель, выслушав эти мои сбивчивые объяснения. — Выражено это как раз очень хорошо. Прямо-таки замечательно. Лучше не скажешь. — И пояснил: — «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» — это когда Первого мая и Седьмого ноября наши вожди взбираются на Мавзолей Ленина.
Морально все, что служит делу пролетариата (теория)
В советские времена, особенно в годы войны у нас часто цитировалась знаменитая реплика Гитлера: «Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью!»
Никому из нас тогда не могло прийти в голову, что сходную мысль высказал и наш любимый «дедушка Ленин». И не просто так, для красного словца: у него эта мысль была краеугольным камнем всей его философии: «Морально все, что служит делу пролетариата».
Утверждение это, в сущности, ничем не отличалось от гитлеровского. Фюрер ведь имел в виду, что, освобождая своих последователей от химеры, именуемой совестью, он всю ответственность за любые их бессовестные поступки берет на себя. Именно это подразумевал и наш вождь: ведь что служит, а что не служит делу пролетариата, будем решать не мы с вами, — это будет решать он, Ленин.
В былые времена мне представлялось, что эта ленинская идея была не просто оригинальна, но в своем роде даже уникальна. Во всяком случае, я был убежден, что тут Ленин был первым. Что именно он нашел такое простое решение этого старого как мир, проклятого, мучительного вопроса.
Но оказалось, что у Владимира Ильича и тут был предшественник.
12 декабря 1825 года, за два дня до событий на Сенатской площади, к Кондратию Федоровичу Рылееву явился молодой литератор Яков Иванович Ростовцев и сказал, что долг повелевает ему довести до сведения императора (лучше сказать, будущего императора) Николая Павловича о готовящемся заговоре.
Получив в ответ на это заявление пощечину, он сказал: пожалуйста, можете сделать со мной все, что хотите, я отдаюсь на вашу волю. Но никто его не остановил. Он получил аудиенцию у Николая Павловича, сообщил ему о заговоре, не называя, впрочем, никаких имен, и заранее отказался от любых наград и благодарностей.
Впоследствии (уже при Александре Николаевиче) он занимал разные высокие посты, был министром, и даже не просто министром, а генерал-инспектором (до него этот пост занимал великий князь Михаил Павлович), сыграл огромную, в какой-то момент даже решающую роль в деле освобождения крестьян от крепостной зависимости.
Уже из всего этого видно, что Яков Иванович был человек непростой. И уж во всяком случае — незаурядный.
Но, пожалуй, ярче всего эта его незаурядность проявилась в принадлежащей ему краткой словесной формуле, которая не только повторялась изустно, но даже была однажды приведена Герценом (разумеется, с ссылкой на автора).
Формула была такая:
► Совесть дается человеку для личного пользования, а в общих делах совесть заменяют указания начальства.
Мысль, заключенная в этой короткой фразе, не то чтобы поражала своей новизной. Но уж больно хорошо, а главное, откровенно она была выражена. (Тем, наверное, и заинтересовала Герцена.)
Впрочем, дело не только в удачном способе выражения. Сама эта идея выражала некоторые глубинные свойства русского национального (народного?) сознания.
Вот Лев Николаевич Толстой в последней главе «Анны Карениной» подробно пересказывает спор любимого своего героя — Константина Левина — с братом, Сергеем Ивановичем Кознышевым. Спор идет о российских добровольцах, бросившихся на волне якобы народного энтузиазма защищать своих кровных братьев и единоверцев сербов в их войне с турками.
Левин говорит, что частные люди (то есть добровольцы) не могут принимать участия в войне без разрешения правительства.
Он так поясняет свою мысль:
► — Война есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. В государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли.
Спор постепенно принимает все более крутой оборот, и в какой-то момент в него вмешивается (вернее, оказывается втянут) еще один, новый собеседник:
► — Сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему, — утвердительно сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика-пчельника.
Красивый старик с черной с проседью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с медом, ласково и спокойно с высоты своего роста глядя на господ, очевидно ничего не понимая и не желая понимать.
— Это точно, — значительно покачивая головой, сказал он на слова Сергея Ивановича.
— Да вот спросите у него, Он ничего не знает и не думает, — сказал Левин. — Ты слышал, Михайлыч, об войне? — обратился он к нему. — Вот что в церкви читали? Ты что же думаешь? Надо нам воевать за христиан?
— Что ж нам думать? Александр Николаевич Император нас обдумал, он нас и обдумает во всех делах. Ему видней.
Несмотря на ироническую ремарку насчет того, что старик-пчельник, призванный в арбитры этого важного спора, слушал спорщиков «очевидно ничего не понимая и не желая понимать», сам Толстой в этом споре явно на стороне Левина, который неожиданно открывает для себя в кажущейся бессмысленной реплике человека из народа не только некую важную истину, но и единственно верный ответ на все эти роковые вопросы:
► Он не мог согласиться с тем, что десятки людей, в числе которых и брат его, имели право на основании того, что им рассказали сотни приходивших в столицы краснобаев-добровольцев, говорить, что они с газетами выражают волю и мысль народа, и такую мысль, которая выражается в мщении и убийстве… Он говорил вместе с Михайлычем и народом, выразившим свою мысль в предании о призвании варягов: «Княжите и владейте нами. Мы радостно обещаем общую покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя; но не мы судим и решаем». А теперь народ, по словам Сергей Иванычей, отрекался от этого, купленного такой дорогой ценой права…
Это «купленное такой дорогой ценой» право, стало быть, состоит в том, чтобы снять с себя ответственность за принятие неких решений, не укладывающихся в его личные представления о том, что морально, а что аморально. Он, Левин, например, твердо знает, что мщение и убийство аморальны. Но при этом не говорит, что никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не заставит его мстить и убивать. Он настаивает только на одном: чтобы сохранялся, оставался незыблемым тот, еще со времен призвания варягов принятый на Руси порядок, при котором «не мы судим и решаем».
Ну, а если эти самые варяги, которых призвали (или какие-нибудь другие, которых еще призовут) «нами володеть и княжить», если они — те, кому он «вместе с Михайлычем и народом» вверил (или вверит) право судить и решать, если тот же Михайлыч скажет: «Что ж нам думать? Кто там у нас нынче в Кремле сидит? Он нас и обдумает во всех делах. Ему видней», а тот, «кому видней», рассудит и решит, что надо мстить и убивать, — что он тогда запоет, наш умница Левин?
Русские цари и российские императоры не сомневались в своем праве судить и решать, потому что они были помазанники Божии. Владимир Ильич Ленин не сомневался в этом своем праве по другой — но не менее важной — причине: у него было сознание своей правоты, своей великой исторической миссии.
Ленин и те, кто шел за ним, победили в Гражданской войне по многим причинам. Но далеко не последней из них была та, что жестокостью и безоглядностью террора они далеко превзошли своих противников. Они легко перешагивали те моральные преграды, которые для их врагов были непреодолимы. Старая мораль не мешала им, она не стала препятствием на их кровавом пути. Ведь цель их была так безгранично велика, что для достижения ее — по слову Достоевского — все было дозволено.
Современники тех кровавых событий, не сумевшие отрешиться от старой морали, к основополагающему ленинскому тезису отнеслись с негодованием и ужасом. Но в хоре этих негодующих голосов уже тогда прозвучала и другая, насмешливо-ироническая нота.
* * *
Я имею в виду написанный в 1921 году роман Ильи Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников», а точнее — ту главу этого знаменитого в ту пору романа (она называется «Великий инквизитор вне легенды»), в которой главный его герой в сопровождении своего любимого ученика Ильи Эренбурга посещает Кремль и беседует с самим Лениным.
Вот небольшой фрагмент, заключающий эту их беседу:
► — Сегодня в «Известиях» опубликован список расстрелянных…
Коммунист прервал Учителя возгласом:
— Это ужасно! Но что делать — приходится!
Я не видал его лица, но по голосу понял, что он действительно удручен казнями, что слова его не дипломатическая отговорка, а искренняя жалость человека, вероятно, очень добродушного, никогда никого не обижавшего.
Он продолжал:
— Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, которым это невыгодно, всячески мешают нам. Прячась за кусты, они стреляют в нас, взрывают дороги, отодвигают желанный привал. Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи. Другие упираются, не понимая, что их же счастье впереди, боятся тяжкого перехода, цепляются за жалкую тень вчерашнего шалаша. Мы гоним их вперед, гоним в рай железными бичами. Дезертира-красноармейца надо расстрелять для того, чтобы дети его, расстрелянного, познали бы всю сладость грядущей коммуны!..
Он вскочил, забегал по кабинету, заговорил уже без усмешки, быстро, отчаянно выкашливая слова:
— Зачем вы мне об этом говорите? Я сам знаю! Думаете — легко? Вам легко — глядеть! Им легко — повиноваться! Здесь — тяжесть, здесь — мука! Конечно, исторический процесс, неизбежность и прочее. Но кто-нибудь должен был позвать, начать, встать во главе… Я под образами валяться не буду, замаливать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю — тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя!..
Высунувшись, я увидел, как Учитель подбежал к нему и поцеловал его высокий, крутой лоб. Очумев от неожиданности и ужаса, я бросился бежать. Опомнился я только у кремлевских ворот, где часовой остановил меня и Хуренито, требуя пропуска.
— Учитель, зачем вы его поцеловали? От благоговения или из жалости?
— Нет. Я всегда уважаю традиции страны. Коммунисты тоже, как я заметил, весьма традиционны в своих обычаях. Выслушав его, я вспомнил однородные прецеденты в сочинениях вашего Достоевского и, соблюдая этикет, отдал за многих и многих этот обрядный поцелуй.
Сейчас, когда обнародованы бесчисленные ленинские письма и записки с однотипными требованиями: «Расстрелять как можно больше!», эта сцена многим, наверно, покажется слишком благостной, а образ Ильича, нарисованный ироническим пером Эренбурга, чуть ли даже не конфетным.
Сегодня более близким к реальности представляется иной образ Ленина: бездушного человека-автомата, холодно штампующего свои изуверские приказы.
Реальный Ленин, быть может, и в самом деле не был тем интеллигентом-истериком, каким его изобразил Эренбург. Но есть свидетельства, отчасти подтверждающие эту эренбурговскую версию.
Н.И. Бухарин рассказал однажды, что в ночь после разгона Учредительного собрания (они сидели в тесной компании) Ленин попросил кого-то из участников события подробно рассказать о том, как все это происходило. Слушал, слушал и вдруг стал смеяться. Смеялся он долго, повторял про себя какие-то слова рассказчика и все смеялся, смеялся. Весело, заразительно, до слез. Хохотал.
«Мы не сразу поняли, — закончил Бухарин свой рассказ, — что это истерика. — И добавил: — В ту ночь мы боялись, что мы его потеряем».
На самом деле, однако, не так уж важно, похож или непохож был реальный Ленин на выдуманного Эренбургом «главного коммуниста», жалующегося на непосильность взваленной им на себя исторической ноши.
Как он там бегал по своему кремлевскому кабинету и мучительно выкашливал все эти свои жалкие слова, Эренбург, может быть, и не угадал. Но он угадал главное.
Он правильно понял, что, создавая эту свою железную формулу («Морально все, что служит делу пролетариата») и выстраивая в соответствии с ней всю линию своего поведения, Владимир Ильич опирался на давнюю и прочную национальную традицию.
Морально все, что служит делу пролетариата (практика)
В отличие от знаменитой гитлеровской фразы, с которой она так прочно рифмуется, в ленинской формуле слово «совесть» не упоминалось. Но свое отношение к этому «внеклассовому» понятию Ленин однажды высказал. И вполне недвусмысленно.
В 1910 году, когда умер Л.Н. Толстой, он откликнулся на это событие специальной статьей. И вот что там у него об этом говорилось:
► Либералы выдвигают на первый план, что Толстой — «великая совесть». Разве это не пустая фраза?..
Слово «совесть» Ильича явно раздражало. В его концепцию «классовой морали» оно не укладывалось.
И это не только в теории. В жизни — во всяком случае, в партийной и государственной своей деятельности — он тоже освободил себя и своих соратников от этой химеры.
Вот небольшая история — как раз на эту тему. Я вычитал ее в книге русского писателя-эмигранта Романа Гуля «Я унес Россию». А автор этой книги записал ее со слов старого большевика Александра Дмитриевича Нагловского.
Было это во время одного из обычных, ничем не примечательных заседаний Совнаркома.
Обстановку и характер этих заседаний Нагловский описывает так:
— У стены стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин, рядом — его секретарша Фотиева, женщина ничем, кроме преданности вождю, не примечательная. На скамейках, стоящих перед столом Ленина, как ученики за партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы.
Такие же скамейки стояли у стен перпендикулярно по направлению к столу Ленина. На них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы… В общем, это был класс с учителем, довольно-таки нетерпеливым, осаживающим «учеников» иногда довольно грубыми окриками, несмотря на то что «ученики» перед «учителем» трепетали и вели себя на удивление примерно.
Несколько свободнее других «учеников» вел себя Дзержинский. Он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания.
Вот и в этот раз, при обсуждении вопроса о снабжении продовольствием железнодорожников, в «класс» с послушными «учениками» вошел Дзержинский. Вошел и сел неподалеку от Ленина.
На заседаниях у Ленина была привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла Дзержинскому:
«Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?»
В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка:
«Около полутора тысяч».
Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.
Дзержинский встал и, как обычно, ни на кого не глядя, вышел. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шепотов, пожиманий плечами.
Оказывается, Дзержинский всех этих «около полутора тысяч злостных контрреволюционеров» в ту же ночь расстрелял, ибо «крест» Ленина им был понят как указание.
Разумеется, никаких шепотов, разговоров и качаний головами этот крест вождя и не вызвал бы, если бы он действительно означал распоряжение о расстреле. Но, как призналась рассказчику Фотиева, произошло недоразумение.
— Владимир Ильич, — объяснила она, — вовсе не хотел расстрела. Товарищ Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записках крест как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению.
Рассказчик поинтересовался: а как Ленин реагировал на случившееся, когда «недоразумение» разъяснилось?
Оказалось, что никак не реагировал.
Вот если бы ему сказали, замечает рассказчик, что какой-то поезд с продовольствием не дошел вовремя до места назначения, — вот тогда он бы реагировал. И еще как! Повинные в разгильдяйстве подверглись бы самому жестокому разносу. А тут…
Даже не поморщился.
Марксизм не догма, а руководство к действию
Первоисточник — слегка перефразированная реплика Ф. Энгельса из его письма к Ф.А. Зорге от 29 ноября 1886 г.:
► Они (немцы) в большинстве случаев не понимают этой теории и рассматривают ее доктринерски и догматически, как нечто такое, что надо выучить наизусть, и тогда уж этого достаточно на все случаи жизни. Для них это догма, а не руководство к действию.
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 36. С. 488)Формула эта вошла и в официальный советский новояз, и в разговорный. В официальном — стала одной из важнейших партийных идеологем, с помощью которой можно было оправдать любое отклонение от великого учения. (Например, объявить о возможности построения социализма — а потом даже и коммунизма — в одной, отдельно взятой стране.)
В разговорной речи нередко употреблялось в том же смысле. Скажем, в реплике режиссера, позволившего себе некоторые вольности в постановке классической пьесы:
► …Как говорят, пьеса не догма, а руководство к действию.
(«Литературная газета», 1984, 7 марта)И даже на совсем уже бытовом уровне, скажем, по ходу игры в преферанс или в шахматы, в ответ на реплику партнера или болельщика, что по теории так ходить не принято, могла последовать та же классическая реплика.
В таком контексте уже слегка различим был легкий оттенок иронии по отношению к священному тексту. Во всяком случае, это было уже некоторое снижение его официального пафоса.
Но и произнесенная вполне всерьез, не в каком-нибудь там переносном, а в самом прямом смысле, эта формула тоже могла принять юмористическую окраску, поскольку рядовой советский человек интерпретировал ее весьма своеобразно и применял к ситуациям самым неожиданным.
В 1942 году я и девочка, в которую я был влюблен, вступали в комсомол.
Мой отец — беспартийный бог знает с какого года, как выразился об одном из своих героев Михаил Михайлович Зощенко, — вряд ли мог быть в восторге от этого моего поступка. Но своего отношения к нему никак не выразил. А мать девочки, в которую я был влюблен, которая в отличие от моего отца была не только коммунистом с солидным партийным стажем, но даже партработником (заведовала парткабинетом в горкоме партии), отнеслась к решению дочери резко отрицательно. И выразила это со всей большевистской откровенностью.
— Ты что, с ума сошла? — сказала она ей. — Не понимаешь, какое сейчас время? Ведь по комсомольскому набору тебя могут мобилизовать в ремесленное училище!
Этими словами моей будущей тещи (тещей моей, правда, она стала не скоро: девять лет спустя) я был возмущен до глубины души. И это свое возмущение тогда же ей и высказал.
Я сказал ей, что никак не ожидал услышать от члена партии такие обывательские, мещанские речи. Идет великая война с фашизмом, и мы все как один должны быть готовы по первому зову пойти не то что в ремесленное училище, но если понадобится, то и на фронт. И кому-кому, как не ей, партийному работнику, должно быть известно, что общественное должно быть выше личного. Это азбука марксизма!
И тут моя будущая теща высказалась.
— Марксизм не догма, — назидательно произнесла она, — а руководство к действию.
Под действием она в данном случае, вероятно, подразумевала как раз свой родительский запрет на решение своей неразумной дочери в столь неподобающий момент вступить в ряды ВЛКСМ.
Мне было тогда пятнадцать лет, и мои представления о марксизме, как вы, наверно, уже поняли, были более чем приблизительны. Но их хватило на то, чтобы оценить это высказывание моей будущей тещи как проявление вопиющей — и не только политической — безграмотности.
Я отнесся к этой ее реплике примерно так же, как к словам нашего соседа по коммунальной квартире, старого большевика Ивана Ивановича Рощина, который в ответ на мое замечание, что среди нынешних коммунистов совсем уже не осталось идеалистов, то есть людей, для которых превыше всего была бы идея, важно ответил: «А мы никогда и не скрывали, что мы — материалисты», — смешав материализм как философскую категорию с умением ценить материю (мануфактуру) и разные другие житейские блага.
Итак, с высоты своих пятнадцати лет я посмеялся над безграмотностью моей будущей тещи. Но много лет спустя мне вдруг открылось, что теща-то была права! Во всяком случае, я убедился, что безграмотная моя теща была тогда куда ближе, чем я, к истинному пониманию — если не марксизма, то — Маркса.
Убедился я в этом, когда прочел весьма примечательное письмо Карла Маркса Полю Лафаргу, выразившему намерение жениться на дочери Маркса Лауре:
► Прежде чем окончательно определить Ваши отношения с Лаурой, мне необходимо иметь полную ясность о Вашем материальном положении… Я не ставил этого вопроса, так как, по моему мнению, проявить инициативу в этом отношении следовало Вам… Те сведения, которых я не искал, но которые получил помимо своего желания, вовсе не успокоительны… Наблюдение убедило меня в том, что Вы по природе не труженик, несмотря на приступы лихорадочной активности и добрую волю. В этих условиях Вы будете нуждаться в поддержке со стороны, чтобы начать жизнь с моей дочерью. Что касается Вашей семьи, о ней я ничего не знаю. Предположим, что она обладает известным достатком, это не свидетельствует еще о готовности с ее стороны нести жертвы ради Вас. Я не знаю даже, какими глазами она смотрит на проектируемый Вами брак. Мне необходимы, повторяю, положительные разъяснения по всем этим пунктам…
Чтобы предупредить всякое ложное истолкование этого письма, заявляю Вам, что если бы Вы захотели вступить в брак сегодня же, — этого не случилось бы. Моя дочь отказала бы Вам. Я лично протестовал бы…
Я хотел бы, чтобы это письмо осталось тайной между нами двумя…
Ваш Карл Маркс.
(Письмо Полю Лафаргу. Лондон, 13 августа 1866 г.)В теории Маркс, как мы знаем, был коммунистом, следовательно, искренним и последовательным сторонником женской эмансипации, может быть, даже — защитником свободной любви. Во всяком случае, он был сторонником полной независимости любящих друг друга мужчины и женщины от золотых цепей низменных материальных интересов, от всех этих мерзостей пошлого буржуазного брака (условий о приданом, о материальной обеспеченности будущих молодых супругов и проч.). На практике же, когда дело шло о предполагаемом замужестве его любимой дочери, он, как видим, вел себя совершенно иначе. Не погнушался даже потребовать от жениха «разъяснений по всем пунктам», в том числе и насчет того, обладает ли его семья «известным достатком» и готова ли она нести ради него какие-либо материальные жертвы. Он даже счел нужным предупредить влюбленного юношу (в самом начале того же письма), что, если тот окажется «не в силах проявлять свою любовь в форме, соответствующей лондонскому меридиану», ему придется «покориться необходимости любить на расстоянии».
Вот что, оказывается, означала в устах Маркса (и, разумеется, Энгельса) эта классическая фраза: «Марксизм не догма».
Русские ученики Маркса (и в первую очередь Ленин), подхватившие эту реплику и превратившие ее в краеугольный камень своей теории и практики, на самом деле превратили марксизм (разумеется, свой марксизм) не то что в догму, а в священное писание.
Маркс был европейцем. А одним из непременных свойств европейской ментальности является ее толерантность:
► …Французская литература в целом отнюдь не следует какой-то определенной линии. Вспоминается забавная реплика мадам Севинье: «Я вовсе не придерживаюсь своего мнения…» Вам дают понять, что автор всегда оставляет за собой право безжалостной критики по отношению к самому себе…
(Андре Жид. Осенние листья)Русский интеллигент не просто «придерживается своего мнения». Все, что лежит за пределами этого самого «своего мнения», для него просто-напросто не существует. И люди, проповедующие или хотя бы даже просто исповедующие иные мнения, ему глубоко отвратительны. Он не желает иметь с этими ненавистными ему людьми ничего общего!
— Я жид и с филистимлянином за стол не сяду! — отрезал однажды Ленин в ответ на миролюбивую фразу знакомого махиста (Н. Валентинова).
Принято думать, что источником этой яростной нетерпимости был марксизм. Между тем вождь русских большевиков в данном случае просто процитировал Белинского.
«Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу», — сказал однажды великий критик.
И, действительно, не ел.
► Раз приходит он обедать к одному литератору на Страстной неделе, подают постные блюда.
— Давно ли, — спрашивает он, — вы сделались так богомольны?
— Мы едим, — отвечает литератор, — постное просто-напросто для людей.
— Для людей?.. — спросил Белинский и побледнел. — Для людей? — повторил он и бросил свое место. — Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты, всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами! Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет людей!
(А. Герцен. Былое и думы)Русский интеллигент, уж если он не то что проповедует, а всего лишь исповедует какую-то идею, почитает своим непререкаемым долгом следовать ей во всех жизненных ситуациях. Суровое правило это не терпит исключений. Даже малейший разрыв между образом мысли и образом жизни воспринимается им как величайшая подлость.
Русский интеллигент Белинский убежден в своей моральной правоте, и русский интеллигент Герцен всей душой разделяет эту его убежденность. Мысль, что бедный хозяин дома провинился не так уж сильно, не может прийти им в голову, потому что сознание их не терпит ни малейшего несоответствия между теорией и практикой.
Из всего этого ясно видно, что вождь русских марксистов и — как принято у нас полагать — самый верный ученик и последователь Маркса и Энгельса на самом деле был в гораздо более тесном родстве с «неистовым Виссарионом», нежели с основоположниками продолжаемого и развиваемого им великого учения.
И совсем неудивительно, что Герберт Уэллс, которому так понравился (при личной встрече) Ленин, Маркса просто на дух не переносил:
► Я буду говорить о Марксе без лицемерного почтения. Я всегда считал его скучнейшей личностью. Его обширный незаконченный труд «Капитал», это нагромождение утомительных фолиантов, в которых он, трактуя о таких нереальных понятиях, как «буржуазия» и «пролетариат», постоянно уходит от основной темы и пускается в нудные побочные рассуждения, кажется мне апофеозом претенциозного педантизма. Но до моей последней поездки в Россию я не испытывал активной враждебности к Марксу. Я просто избегал читать его труды… В гостях у Горького я внимательно прислушивался к тому, как Бакаев обсуждал с Шаляпиным каверзный вопрос — существует ли вообще в России пролетариат, отличный от крестьянства. Бакаев — глава петроградской Чрезвычайной Комиссии диктатуры пролетариата, поэтому я не без интереса следил за некоторыми тонкостями этого спора. «Пролетарий», по марксистской терминологии, — это то же, что «производитель» на языке некоторых специалистов по политической экономии, то есть нечто совершенно отличное от «потребителя»… Но возьмите следующий случай. Какой-нибудь заводской мастер садится в поезд, который ведет машинист, и едет посмотреть, как подвигается строительство дома, который возводит для него строительная контора. К какой из этих строго разграниченных категорий принадлежит этот мастер — к нанимателям или нанимаемым? Все это — сплошная чепуха.
Должен признаться, что в России мое пассивное неприятие Маркса перешло в весьма активную враждебность. Куда бы мы ни приходили, повсюду нам бросались в глаза портреты, бюсты и статуи Маркса. Около двух третей лица Маркса покрывает борода, широкая, торжественная, густая, скучная борода, которая, вероятно, причиняла своему хозяину много неудобств в повседневной жизни. Такая борода не вырастает сама собой, ее холят, лелют и патриархально возносят над миром. Своим бессмысленным изобилием она чрезвычайно похожа на «Капитал»; и то человеческое, что остается от лица, смотрит поверх нее совиным взглядом, словно желая знать, какое впечатление эта растительность производит на мир. Вездесущее изображение этой бороды раздражало меня все больше и больше. Мне неудержимо захотелось обрить Карла Маркса. Когда-нибудь, в свободное время, я вооружусь против «Капитала» бритвой и ножницами и напишу «Обритие бороды Карла Маркса».
(Герберт Уэллс. Россия во мгле. М., 1959. С. 39–41.)Не могу сказать, что, прочитав это, я был шокирован. Скорее, наоборот, я испытал радостное чувство освобождения. Примерно такое же, как в ранней юности, когда прочел статьи Писарева о Пушкине. Помню, как восхитила меня тогда фраза Писарева насчет того, что к слову «женат» Пушкин знает только две рифмы: «рогат» и «халат». Да и сам тон писаревских статей — свободный, живой, насмешливый… Читая их, я наслаждался. И в то же время не могу сказать, чтобы Писареву удалось хоть в малой степени поколебать мое восхищение Пушкиным, чарующим пушкинским стихом, бесподобной онегинской строфой, восхищавшими меня пушкинскими лирическими отступлениями, любимой моей «Капитанской дочкой».
Примерно так же обстояло дело и с моим отношением к Уэллсу и Марксу.
Я с восторгом повторял фразу Уэллса: «Такая борода сама не растет…» И намерение знаменитого фантаста, вооружившись бритвой и ножницами, обрить Карла Маркса представлялось мне хотя и дерзкой, но весьма соблазнительной и даже полезной затеей… Тем более что в учебных заведениях, где нам всем довелось учиться, марксизм давно уже занял то место, какое в старых русских гимназиях занимал Закон Божий.
На эту тему было множество анекдотов. Приведу один из них:
► В медицинском институте идут госэкзамены. Экзамен по анатомии. На столе — два скелета. Председатель комиссии спрашивает студентов:
— Что вы можете сказать по этому поводу?
Гробовое молчание.
— Ну? Чему вас учили все эти 6 лет?
С задних рядов — чей-то неуверенный голос:
— Неужели Маркс и Энгельс?
Этот анекдот, как и многие другие такие же, я слышал уже в мои студенческие годы. И весело над ними смеялся. Но все это никак не поколебало (во всяком случае — тогда) самого искреннего моего почтения к основоположнику великого учения. (Про свое отношение к Марксову «Капиталу» я мог бы с чистым сердцем сказать словами Есенина: ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. Но кое-что другое — «Коммунистический манифест», например, — читал с восхищением.)
Уэллс свое намерение «обрить» Марксу его роскошную бороду, то есть слегка сбить с него спесь, насколько мне известно, так и не осуществил. Руки не дошли: видно, других забот хватало.
Но «обритие» Марксовой бороды все-таки было произведено.
Вот лишь несколько примеров:
► КАРЛА-МАРЛА (БОРОДА) — Карл Маркс. Не путать с клеверным долгоносиком!..
(Томас Макловски, Мэри Кляйн, Александр Щуплов. Жаргон — энциклопедия московской тусовки. М., 1997. С. 107)На заре советской власти, в пору расцвета ленинской монументальной пропаганды, в Москве был поставлен памятник Марксу и Энгельсу. Поскольку памятник был выполнен то ли в условной, то ли в античной манере, то есть основоположники марксизма были изображены с обнаженными торсами, а установлен он был близ Москвы-реки, в народе эту скульптурную группу стали называть — «БОРОДАТЫЕ КУПАЛЬЩИКИ».
Из анекдотов на эту тему:
► — Ой, яки мысочки! Яки на них кысочки!
— То не мысочки. То — вазочки.
— Ой, яки вазочки! Яки на них кысочки!
— То не кысочки. То — Карлы Марксы.
Ну, и в заключение — частушка, в которой отчасти выразилось отношение нашего народа к марксизму, который не догма, а руководство к действию:
Я в Москве остановлюсь И на Фурцевой женюсь. Буду щупать сиськи я Самые марксиськие.Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
Ставшая одним из популярных клише советского новояза строка песни композитора Ю. Хайта «Все выше» («Авиа-марш»), Автор текста — Павел Герман.
Песня возникла в начале 20-х, но оставалась одной из самых популярных советских песен и на протяжении последующих десятилетий.
Уже в 30-е и 40-е некоторые ее строки («Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор») воспринимались иронически. Сплошь и рядом можно было услышать насмешливое: «У тебя вместо сердца пламенный мотор». А первая строка породила множество «антисоветских» (по тогдашней терминологии) анекдотов, самым распространенным из которых был такой, относящийся к временам «ежовщины»:
► — Как жизнь?
— Как в сказке. С каждой страницей все страшнее.
Но самый знаменитый иронический перифраз этой языковой формулы родился позже — в конце 60-х, начале 70-х:
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.По одной версии, автором этой жутковатой остроты был Вагрик Акопович Бахчанян, по другой — Зиновий Самойлович Паперный.
Мы будем и впредь
В марте 1966-го открылся XXIII съезд КПСС. Это был первый партийный съезд после снятия Хрущева, и некоторые наивные люди, на что-то еще надеявшиеся, с интересом ждали новых важных государственных решений. (Поговаривали о каких-то экономических реформах, предлагаемых тогдашним премьером Косыгиным.)
И вот в это самое время пришел к нам в гости старый наш друг — поэт Борис Заходер. Пришел чуть ли не прямо с поезда: только что приехал из Ялты.
— Ну, что слыхать? — спросил он, после того как мы обменялись первыми приветствиями. — Что там у них на съезде?.. Я, правда, на вокзале — по радио — услышал одну фразу. Даже полфразы. И все понял. Так что ничего нового вы мне, наверно, уже не сообщите.
— И какая же, Боря, это была фраза? — с интересом спросил я, не представляя себе, как по одной случайно услышанной даже не фразе, а полуфразе ему удалось сразу понять, чего нам всем надо ждать от этого их съезда.
— А фраза была такая, — сказал Борис. И с видимым удовольствием процитировал: — «Мы будем и впредь».
Надо сказать, что в полной мере всю глубину этого его высказывания я оценил не сразу. Принял — как остроту. Умную, меткую, точную, но — не более того: чего, мол, от них ждать, будут и впредь делать то, что делали раньше, что делали всегда.
Но в этом отсечении второй половины фразы, в полном отсутствии интереса у услышавшего ее Бориса к тому, что последует за первой ее половиной, — интереса к тому, что именно будут они делать и впредь, на самом деле заключался смысл гораздо более глубокий, чем даже уже тогда очевидное для меня предвидение, что ни из косыгинских, ни из каких других намечавшихся ими реформ ничего путного у них не выйдет.
Полностью эта ритуальная фраза, наверно, звучала как-нибудь так: «Мы будем и впредь крепить нерушимую дружбу народов нашей страны». Или: «Мы будем и впредь отстаивать дело мира во всем мире».
Оборвав ее на половине и — мало того! — поставив точку там, где должно было бы стоять многоточие, Борис превратил эту полуфразу в законченную формулу, которая обрела совершенно новый смысл — не только иронический, но даже жутковатый.
Формула «Мы будем и впредь» — с точкой на конце — означала не только то, что они будут и впредь продолжать гонку вооружений, раздувать пламя холодной войны, поддерживать все бандитские режимы, какие только есть на нашей планете, пестовать и обучать террористов, разрушать экономику страны и издеваться над собственным народом. Ритуальная фраза эта — именно вот в таком, усеченном виде — адекватно выразила самую суть уникальной нашей советской системы. Уникальность, состоящую не столько даже в том, что это была система без обратной связи, сколько в том, что единственным исключением из этого правила, единственным доступным ей проявлением этой самой обратной связи было как бы изначально встроенное в нее устройство, автоматически отбрасывающее любое начинание, несущее в себе угрозу какого бы то ни было — пусть даже не очень значительного — изменения, исправления, улучшения этой самой системы.
* * *
Как мы теперь уже знаем, одна из самых нетривиальных — и глубоких — попыток выяснения природы сталинского социализма содержится в знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».
Оруэлл понял и раскрыл многое в механизме тоталитарного режима. Причем сделал он это в ту пору, когда природа этого механизма была для всех еще за семью печатями. И все же есть в его концепции некая брешь. Можно даже сказать, что он ошибся в главном.
Режим, изображенный в романе Оруэлла, — это олигархия умных, образованных, сильных, одаренных людей. Режим создан ими и продуман во всех деталях как максимальная гарантия прочности и незыблемости их власти. Он представляет собой с этой точки зрения абсолютное совершенство.
При всем внешнем сходстве, в существе своем действительность сталинского режима имела мало общего с этой изощренной фантасмагорией.
Действительность превзошла самые мрачные предположения фантаста.
Как уже было сказано, реальность режима, созданного Сталиным, представляла собой классический случай системы без обратной связи, системы, начисто лишенной способности к самоконтролю, саморегулированию. Коль скоро такая система, лишенная всех жизненно важных инстинктов, оказалась жизнеспособной, естественно предположить, что ею управляет некий могучий мозг, сверхпроницательность которого компенсирует отсутствие обратной связи.
Так оно первоначально и предполагалось. Предполагалось, что во главе системы будет стоять ареопаг мудрейших (ленинский ЦК), умело направляющий движение всей системы по заранее намеченному пути, рассчитанному в соответствии с последними достижениями великого учения.
Оруэлл экстраполировал эту схему, и эта экстраполяция легла в основу его романа. В действительности же все произошло иначе. Система, лишенная всех жизненных инстинктов, обнаружила чудовищную способность к саморазвитию. Отсутствие обратной связи в сфере экономической и социальной привело к тому, что основным законом развития этой системы стал закон отрицательной селекции: закон, вследствие которого на так называемую руководящую работу может выдвинуться только индивидуум, обладающий отрицательными интеллектуальными, моральными и деловыми качествами.
В результате возникла ситуация, которая не могла присниться никакому Оруэллу, — супердержава, обладающая ядерным оружием, спутниками и глобальными ракетами, возглавляемая людьми, которые по складам, отчаянно спотыкаясь на каждом иностранном слове («марксизьм-ленинизьм»), без которых им пока не обойтись, читают по бумажке заранее приготовленные для них речи и тщетно пытаются придать своим лицам мало-мальски человекообразное выражение.
Вот что стояло за той коротенькой полуфразой, которую услышал в день открытия XXIII съезда КПСС мой друг Борис Заходер. Вот что на самом деле означали эти четыре коротких слова: «Мы будем и впредь».
Н
Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять
Фраза Сталина, которая, как и многие другие сталинские фразы, стала сперва партийным лозунгом, а потом расхожим клише советского новояза.
В 1937 году, когда разгул сталинского террора достиг высшей точки, сомкнувшись со старой английской поговоркой («Мой дом — моя крепость»), она обрела новое звучание, новый смысл. Возникла такая — ироническая и одновременно зловещая — речевая контаминация:
► Мой дом — моя крепость, но нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять.
Таких крепостей и в самом деле не было. У нас ведь не Англия: чекисты в любой час дня и ночи могли ворваться в любой дом и — с ордером, а то и без ордера — увести с собой хозяина.
Это был непререкаемый закон тогдашней нашей жизни. Общее правило. Но, как известно, не бывает правил без исключений.
Об одном таком исключении мне рассказал Алексей Яковлевич Каплер.
Был у него приятель — человек редкой храбрости и огромной физической силы. В Гражданскую войну он был конником в Армии Буденного. А потом окончил Промакадемию, стал крупным советским хозяйственником, ездил по каким-то своим хозяйственным делам в командировку в Америку, откуда привез шесть пижам и — невиданную тогда в наших краях редкость — холодильник.
И вот грянул 37-й год. И дом, в котором жил этот бывший буденновский конник, стал пустеть. Соседей брали по ночам — одного за другим. И он понял, что чаша сия не минет и его.
А он был довольно хорошо знаком с тогдашним Генеральным прокурором СССР Андреем Януарьевичем Вышинским. И решил пойти к нему, спросить: нельзя ли, мол, чего-нибудь сделать, как-нибудь обезопасить себя от неизбежного ночного вторжения чекистов.
Вышинский сказал, что сделать ничего нельзя, поскольку у нас не Англия и «нет таких крепостей…». Но дал бывшему коннику хороший совет.
— Когда за вами придут, — сказал он, — потребуйте, чтобы вам показали ордер. И если там будет какая-нибудь — хоть самая пустяковая — ошибка, скажите, что никуда с ними не поедете, пока не приедут с новым ордером.
И вот раздался ночью звонок в его квартиру, и ОНИ вошли.
Хозяин квартиры стоял за холодильником в одной из шести своих американских пижам. В правой его руке был револьвер, а в левой — половая щетка на длинной палке. Взяв дорогих гостей «на мушку», он протянул к ним щетку и велел, не приближаясь ни на шаг, положить на нее ордер.
Чекисты, усмехаясь, выполнили этот приказ.
Но скоро им стало не до смеха.
Внимательно изучив ордер, бывший буденновец нашел-таки в нем какую-то мелкую погрешность и потребовал, чтобы привезли новый.
Чекисты стали объяснять ему, что ордер — это, в сущности, пустая формальность, что, приехав на место, ошибку они тотчас же исправят или выпишут новый ордер. Но он тупо стоял на своем.
Что им было делать? Не открывать же стрельбу! И, скрипя зубами и отчаянно матерясь, они поехали за новым ордером. И НЕ ВЕРНУЛИСЬ.
Время было горячее, надо было выполнять план. Взяли, наверно, вместо этого бывшего конника какого-то другого.
Так что совет Вышинского оказался хорош. Андрей Януарьевич знал, что советовал.
А другое исключение из общего правила вышло с самим Буденным.
Рассказывали, что, когда чекисты явились к нему на дачу — то ли за самим Семеном Михайловичем, то ли за его женой, — он встретил их не с револьвером в руке, а с пулеметами. Было у него там припасено на этот случай пять пулеметов. Ну, и пулеметчики (из личной охраны) тоже были. Вот и заняли они круговую оборону.
А хозяин дачи тем временем позвонил САМОМУ и сказал: так, мол, и так, пришли. Если не уберутся подобру-поздорову, всех порешу. А там — будь что будет.
Сталин сказал бывшему фронтовому товарищу, чтобы стрельбы он не открывал, что все это, безусловно, ошибка и дело, конечно, разъяснится, чекисты уйдут.
— А пулеметы, — добавил он напоследок, — ты все-таки сдай.
Это распоряжение вождя Буденный выполнил: пулеметы сдал. Но, как рассказывали, только три из пяти. А два на всякий случай оставил.
Нам песня строить и жить помогает
Эта строчка (начало припева) из «Марша веселых ребят» И. Дунаевского на слова В. Лебедева-Кумача стала одной из самых расхожих языковых формул советского новояза. Частое употребление ее связано с явлением, занимавшим особое место в тогдашней нашей жизни. Явление это — советская массовая песня.
Совсем было уже собрался написать, что явление это было сугубо советским, в своем роде уникальным, не имеющим никаких аналогов. Но тут же припомнилась прямая аналогия из уже не раз упоминавшейся на этих страницах книги Виктора Клемперера «Язык Третьего рейха». От других, уже приводившихся мною примеров этот отличается тем, что в нем проявилось не столько сходство речевых оборотов, сколько поражающая однотипность мышления.
Вот Клемперер — с нескрываемой брезгливостью — пишет об услышанной им популярной нацистской песне:
► Все в ней было так грубо, бедно, далеко от искусства и от народного духа: «Камерады, которых расстреляли Рот-фронт и реакция, маршируют вместе с нами в наших рядах» — это поэзия песни о Хорсте Весселе, язык сломаешь, да и смысл — сплошная загадка…
О языке по переводу судить трудно. А вот что касается смысла, то для меня, как, думаю, и для всех людей моего поколения, он не таит в себе никаких загадок. Нам этот смысл прозрачен, как стекло, поскольку и у нас тоже была точно такая же песня:
Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, Мы с вами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах…Не знаю, как та, нацистская песня, о которой говорит Клемперер, но эта, наша, свое действие оказывала.
► Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.
«А много нашего советского народа вырастает», — прислушиваясь к песне, подумала Натка.
(Аркадий Гайдар. Военная тайна)Песня эта, которую растроганно слушает гайдаровская комсомолка Натка, была из числа самых наших любимых. А строчки о товарищах, которые томятся в холодных застенках, вызывали даже легкий озноб, мороз по коже, даже какой-то комок подступал к горлу, когда мы пели: «Мы с вами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах».
И вообще надо сказать, что так называемая советская массовая песня вышла далеко за пределы официальной советской пропаганды и действительно стала, выражаясь высокопарно, одной из составляющих тогдашнего народного сознания.
Это отметил даже известный русский философ Георгий Федотов, отнюдь не склонный обольщаться насчет того, что происходило в те времена в Советском Союзе:
► Перебираешь одну за другой черты, которые мы привыкли связывать с русской душевностью, и не находишь их в новом человеке. Мы привыкли думать, что русский человек добр. Во всяком случае, что он умеет жалеть…
Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русского сердца… Чужие страдания не отравляют веселья, и новые советские песни, вероятно, не звучат совершенно фальшиво в СССР:
И нигде на свете не умеют, Как у нас, смеяться и любить…Последнее наблюдение полностью соответствует действительности. И можно только подивиться, что это сумел почувствовать из своего эмигрантского далека человек, уже давно (с 1922 года) живущий в Париже и бесконечно далекий, как это видно даже из приведенного текста, от идеализации советского образа жизни.
Да, в стране повального страха, чудовищного, тотального террора все эти ликующие, до краев наполненные радостью и счастьем слова и мелодии («Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…», «Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух…» и т. п.) не звучали тогда фальшиво. Ведь помимо смысла, помимо «текста слов», было в этих любимых наших песнях еще и что-то другое, заставлявшее вздрагивать наши сердца. Мелодия? Да, конечно, и мелодия тоже. Но и не только мелодия. Что-то еще, неуловимое, трудноопределимое. Быть может, воздух того времени, когда Страна, в которой мы жили, еще не успела стать планетой без атмосферы.
В чем же тут дело? Почему такие похожие песни (в приведенном примере — просто один к одному) у Виктора Клемперера вызывали судорогу отвращения, а у Аркадия Гайдара (не говоря уже обо мне и моих сверстниках) прилив любви и восторга?
Объясняется это, в общем-то, довольно просто.
Гитлеровский режим просуществовал всего двенадцать лет. И на жителей Германии эта чума налетела внезапно, захватив их врасплох. Нацистские песни и уродующие немецкий язык речи фюрера вызывали отвращение не только у сверстников Клемперера, который в 1933 году был уже вполне взрослым, сложившимся человеком, но даже у гимназистов.
Семнадцатилетний Бертольд Оппенгейм (герой знаменитого романа Фейхтвангера, написанного по горячим следам событий) кончает жизнь самоубийством только из-за того, что в его любимую гимназию пришел новый учитель — нацист, насильно навязывающий ему новое, отныне официозное, узаконенное представление о немецкой истории, немецкой литературе и немецком языке.
У нас это было иначе.
Мы это «новое представление» всосали с молоком матери.
Вот как говорит об этом поэт, обращающийся к своим сверстникам, «родившимся в двадцатых»:
Что мы услышали от мам? Все то, что прочие? Едва ли… Другие песни спели нам. Другие сказки рассказали. (Н. Коржавин)И — в том же стихотворении:
Мы были новою страной, Еще не признанной, но сущей. Гражданской сказочной войной Она прорвалась в мир грядущий.Гражданская война помянута тут не зря. И не зря она названа сказочной.
Именно о ней были эти «другие» песни и сказки, на которых мы вырастали:
Летели тачанки, и кони храпели, И гордые песни казнимые пели, Хоть было обидно стоять, умирая, У самого входа, в преддверии рая. Еще бы немного напора такого — И снято проклятие с рода людского. Последняя буря, последняя свалка — И в ней ни врага и ни друга не жалко.Эти строки — из поэмы того же Коржавина «По ком стоит колокол», написанной в конце 50-х, когда многие иллюзии автора были уже развеяны. Но ностальгическая нежность к той «новой стране», в которой он родился и жил, и к «сказочной» Гражданской войне, которой эта мифическая страна «прорвалась в мир грядущий», — сохранялась.
Сохранялась она и у других моих сверстников:
Но если все ж когда-нибудь Мне уберечься не удастся, Какое б новое сраженье Ни покачнуло шар земной, Я все равно паду на той, На той единственной Гражданской, И комиссары в пыльных шлемах Склонятся молча надо мной. (Булат Окуджава)В иллюзорном, фантастическом мире, в котором мы жили, эта «сказочная» Гражданская война напрочь вытеснила из нашего сознания все прошлое человечества, всю его тысячелетнюю историю:
А Аполлон, что над фронтоном Квадригу вздыбил над Москвой, Бойцом казался пропыленным В лихой тачанке боевой. (Евгений Винокуров)Таким было наше детство. А ведь все мы, как сказал однажды Сент-Экзюпери, родом из страны своего детства.
Но человек вырастает и навсегда покидает страну своего детства.
Почему же мы так долго не могли расстаться с этой нашей сказочной страной? Почему не хотели (или не могли) ее покинуть?
Ответить на этот вопрос мне поможет коротенькое стихотворение Григория Левина, явившееся на свет в «Дне поэзии» 1956 года. От других стихов, цитировавшихся тут мною, оно отличается не художественными (поэтическими) достоинствами, а резкой определенностью. То, что в стихах Коржавина, Окуджавы и Винокурова таилось где-то в подтексте, здесь выплеснулось наружу:
Без коммунизма нам не жить. Что реки молока и меда? Но нам вовеки не забыть Костров семнадцатого года. Мы можем мерзнуть до костей, Травой кормиться, дымом греться, Забыть и кровлю, и постель, Как делали красногвардейцы. Мы можем все перенести — И оскорбленья, и обиды, И все оставить на пути, Но одного — вовек не выдать. И мы укроем от погонь, И пронесем сквозь непогоду, И сохраним его — огонь, Огонь семнадцатого года.Странное стихотворение это многое объясняет.
А странность его в том, что и коммунизм, без которого автору «не жить», и «огонь семнадцатого года», который он клянется укрыть от погонь и пронести сквозь непогоду, — ведь все это было основой основ официальной советской пропаганды. Разве кто-нибудь покушался на эти наши официальные, как теперь говорят, базовые ценности?
От кого же в таком случае надо было укрывать этот огонь? От каких погонь? От какой непогоды? Не на американских же империалистов намекает тут автор?
Нет, конечно. Американские империалисты тут ни при чем.
Чтобы пролить свет на эту загадку, сошлюсь на воспоминания еще одного моего сверстника:
► Как и подобает мыслящему человеку, я вел дневник, в котором начертал, когда мне было 16 лет, мысль, казавшуюся мне необыкновенно оригинальной, о том, что «у нас здесь, в СССР, — фашизм!». Я рассуждал о том, что если бы Ленин был жив, то был бы наверняка объявлен врагом народа и расстрелян, вроде того как у Достоевского Великий инквизитор собирается сжечь Христа, действуя от его же имени.
(Борис Хазанов)16 лет автору этих строк стукнуло в 1944 году.
В это же самое время человек совсем иного опыта, сознания и возраста (в отличие от Бориса Хазанова ему тогда стукнуло не 16, а 26) писал с фронта жене, чтобы она постаралась собрать как можно более полную библиотечку трудов Маркса, Энгельса, Ленина. Сделать это, писал он, надо именно сейчас, потому что в недалеком будущем эти книги скорее всего станут запретными.
Автором этого письма был Александр Исаевич Солженицын.
Все это, я думаю, проливает некоторый дополнительный свет на так долго не хотевшую умирать, загадочную нашу любовь к песням нашего детства.
* * *
В 1995 году случилось мне побывать в Самаре. Там проходила какая-то научная конференция по проблемам эмигрантской литературы. Мы приехали туда вчетвером: Василий Аксенов, Владимир Войнович, известный немецкий славист Вольфганг Казак и я. Для местных властей конференция эта, как видно, была весьма важным событием, и принимали нас по высшему разряду. Организовали даже прогулку по Волге на маленьком теплоходике, щедро нагруженном яствами и напитками, — традиция, сохранившаяся, видать, еще со старых, обкомовских времен. Впрочем, целью этой поездки был не только пикник. Профессор Казак где-то тут, неподалеку, под Самарой, в 1945 году провел несколько месяцев в лагере для военнопленных. Ему хотелось полвека спустя вновь посетить эти места.
И вот плывем мы на этом теплоходике, наслаждаемся прекрасной речной прогулкой, и вдруг — уж не помню, как это началось, — кто-то из нас (не могу поручиться, что Вася, но скорее всего именно он) затянул:
По военной дороге, Шел в борьбе и тревоге Боевой восемнадцатый год…Все дружно подхватили:
Среди зноя и пыли Мы с Буденным ходили На рысях на большие дела, По курганам горбатым, По речным перекатам Наша громкая слава прошла.Сперва пели вроде как не всерьез. Даже как бы с некоторой насмешечкой. (Ведь это был уже не какой-нибудь там 60-й, а — повторю! — 95-й год.) Но постепенно вошли во вкус, об иронии забыли и закончили весело, браво, я бы даже сказал — с полной душевной отдачей:
На Дону и в Замостье Тлеют белые кости, Над костями шумят ветерки. Помнят псы-атаманы, Помнят польские паны Конармейские наши клинки.Потом спели «По долинам и по взгорьям»:
По долинам и по взгорьям Шла дивизия вперед, Чтобы с боем взять Приморье — Белой армии оплот.Потом — «Каховку». Потом — «Орленка». Потом — совсем грустную, но тоже любимую:
И упал он у ног вороного коня, И закрыл свои карие очи. Ты, конек вороной, Передай, дорогой, Что я честно погиб за рабочих.И надо было видеть, какой кайф (невольно перешел на аксеновскую лексику) получал от всего этого Вася. Он просто млел от наслаждения.
Это так меня удивило, что я, помнится, даже не удержался и, воспользовавшись короткой паузой, спросил: неужели он и в самом деле сохранил в душе любовь к этим старым песня?
Закрыв глаза и покачивая головой («нет-нет», как Ван Клиберн за роялем), он ответил одним словом:
— Обожаю!
Вопрос, конечно, можно было и не задавать: все было видно, как говорится, невооруженным глазом.
Эта ностальгическая привязанность к песням нашего детства неожиданным образом отразилась в романе Василия Аксенова «Остров Крым». Отец главного героя романа Арсений Лучников-старший, «один из немногих оставшихся участников Ледяного похода», а ныне — один из самых влиятельных людей на «острове», миллионер-коннозаводчик, которому сулят даже должность Председателя Временной Думы, то есть практически крымского президента, «лет десять назад, когда бурно разрослись в Восточном Крыму его конные заводы», выстроил себе прямо под скальными стенами Пилы-Горы роскошную виллу. Не виллу даже, а гигантскую резиденцию. И назвал ее — «Каховка». Эту странную причуду старика автор объясняет так:
► Резиденция Лучникова-старшего называлась «Каховкой» неспроста. Как раз десять лет назад Андрей привез из очередной поездки в Москву несколько грампластинок. Отец снисходительно слушал советские песни, как вдруг всиочил, пораженный одной из них.
Каховка, Каховка — родная винтовка. Горячая пуля, лети! Гремела атака, и пули звенели, И ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели, Горящей Каховкой идет. Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались, Как нас обнимала гроза? Тогда нам обоим сквозь дым улыбались Ее голубые глаза.Отец прослушал песню несколько раз, потом некоторое время сидел молча и только тогда уже высказался:
— Стихи, сказать по чести, не вполне грамотные, но, как ни странно, эта комсомольская романтика напоминает мне собственную юность и наш юнкерский батальон. Ведь я дрался в этой самой Каховке. И девушка наша Верочка, княжна Волконская, шла в шинели по горящей Каховке.
Прелюбопытным образом советская «Каховка» стала любимой песней старого врэвакуанта. Лучников-младший, конечно же, с удовольствием подарил отцу пластинку… Арсений Николаевич сделал магнитную запись и послал в Париж, тамошним батальонцам: «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались…» Из Парижа тоже пришли восторженные отзывы. Тогда и назвал старый Лучников свой новый дом на Сюрю-Кая «Каховкой»…
Таким вот чудесным образом светловские комсомольцы стали юнкерами, их девушка «в походной шинели» обрела черты княжны Верочки Волконской, а сама знаменитая советская песня предстала перед нами неким подобием шлягера, обретшего популярность как раз вот в эти самые времена аксеновского «Острова Крыма»: «Раздайте патроны, поручик Голицын! Корнет Оболенский, налейте вина!»
Аксенов был едва ли не первым, кто стал оттуда, из новой, эмигрантской своей жизни — по «Голосу Америки» или по «Свободе», — приучать нас к новому, давно забытому, отчасти даже комическому в тогдашних наших жизненных обстоятельствах обращению — «Господа». По всем тогдашним его высказываниям, да и по тому же «Острову Крыму» яснее ясного было видно, что он полностью расплевался со всем своим советским прошлым. Без тени сожаления он перечеркнул, напрочь вычеркнул из своей жизни все, что связывало его с прежним, советским его бытием.
Все — кроме «Каховки».
С «Каховкой» он расстаться не пожелал.
Или — не смог.
Эта ностальгическая привязанность к песням нашего детства, я думаю, знакома каждому, кто родом из той — ныне уже исчезнувшей — страны, из этой нашей затонувшей Атлантиды.
Шел я как-то в метро длинным подземным переходом, и вдруг, раньше чем я догадался о причине, где-то в области сердца возникло странное, щемящее, тоскливое чувство. Причина быстро обнаружилась. Это был старик-инвалид, игравший на гармонике нечто вроде этакого самодельного попурри из старых советских песен. Песни были те самые, что мы пели тогда в Самаре: «По военной дороге», «Орленок», «…Конек вороной…», «Каховка».
* * *
…Ну, а как же юмор? Куда подевалось это могущественное противоядие, во всех других случаях так надежно спасавшее нас от заразы казенного советского оптимизма? Неужели тут даже это безотказно действующее лекарство оказалось бессильным?
Нет-нет! Все в порядке, дорогой читатель! Юмор и тут не обманет ваших ожиданий и сыграет свою всегдашнюю оздоровляющую роль. Как выразился — как раз по этому поводу — известный наш юморист Зиновий Паперный, песня помогает нам строить и жить, а юмор помогает нам выжить.
Читая воспоминания Юлия Кима о Давиде Самойлове, я наткнулся там на сцену, до изумления похожую на нашу «спевку» в Самаре:
► Военное время Давид любил вспоминать… А уж воевавший фронтовик всегда был для него собеседник желанный. В Пярну и был такой, настоящий генерал, он каждое лето отдыхал там с дочерьми и очень дружил с Давидом. Кроме того, он дружил еще и с местным военным начальством. Все это как-то привело к тому, что большой компанией оказались мы в закрытой военной зоне, в сосновом бору, на берегу лесной полноводной речки. Там стояла дача с сауной, просторной гостиной, камином и прочими роскошествами — лесная вилла для комсостава…
Военное ли расположение сауны, наличие ли настоящего генерала, а вернее, все это вместе превратило вполне заурядное, было, застолье в стихийный неожиданный концерт песен военного времени. Часа, наверное, два соловьем разливалось основное трио: Давид, генерал и я — все остальные подпевали кто как мог. Никогда — ни до, ни после — не вспоминал я столько песен за один раз.
Ну, репертуар известно какой: золотой фонд, и это я без иронии. «Соловьи, соловьи…», «Эх, дороги…», «Темная ночь», «Землянка», «Ночь коротка», «Прощай, любимый город». Эти — все полностью, до словечка. А иные — по куплету, по два, дальше уже забылось… Либо хором, но все же вспоминали до конца. «На солнечной поляночке», «Цыганка-молдаванка», «Есть на севере хороший городок»… «Потому, потому что мы пилоты», «Пора в путь-дорогу» — и опять «Соловьи». Эх, хорошо нам пелось в тот вечер! Ведь и песни-то какие роскошные, почти все. Потому что их и сочиняли в оные времена, и пели — от души. Желая и находя в безумной жизни человеческое содержание.
Как видите, не только ситуация, но и настроение, переданное автором этих воспоминаний, и даже его объяснение, почему так хорошо им пелось в тот вечер, — все, буквально все, до деталей совпадает с тем нашим пикником на волжском теплоходике. Но есть в этом рассказе Кима одна подробность, одна — до времени опущенная мною — деталь, отличающая эту их «спевку» от той, нашей.
Среди песен, которые они пели в тот вечер, была и такая:
Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна нас! Из тысяч грозных батарей За слезы наших матерей, За нашу Родину — огонь! Огонь!Так вот, эту песню, как сообщает Ким, пропев сперва в основном, хорошо всем знакомом варианте, они — с большим подъемом — исполнили потом еще и в таком, весьма далеком от канонического:
Ученики! Директор дал приказ: Поймать училку И выбить правый глаз — За наши двойки и колы, За наши парты и столы, За наши булочки и пирожки!Вариант, как легко догадаться, — из школьного фольклора. А поскольку Юлий Ким, до того как стал литератором-профессионалом, довольно долго работал школьным учителем, мы, я думаю, не ошибемся, предположив, что этот ернический вариант был исполнен по его инициативе, наверняка даже с его подачи.
В устах Кима — известного ерника, диссидента и даже антисоветчика — этот «кощунственный» вариант был как нельзя более уместен. А вот то, что его без колебаний подхватили и фронтовик Самойлов, и «настоящий генерал», и даже участвовавшие в том застолье представители местного военного начальства, — даже если сделать скидку на то, что все они были в некотором подпитии, — как ни крути, а это все-таки свидетельствует о торжестве юмора над официальным государственным пафосом.
* * *
Юмор, однако, восторжествовал не сам по себе. Немалую роль тут играло еще и то обстоятельство, что сам государственный пафос к тому времени уже сильно обветшал. И не только обветшал, но и — даже на официальном уровне — несколько сдал свои позиции.
Советская массовая песня захватывала ритмом сплоченной, вдохновленной одной идеей и бодро марширующей в четко заданном направлении толпы — массы, коллектива. Недаром главными словами в тех, старых советских песнях были местоимения множественного числа — «мы», «нам»: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…», «Нам нет преград ни в море, ни на суше…»
Личное местоимение единственного числа в старых советских песнях, конечно, тоже нет-нет да и попадалось. Но в тех песнях даже оно произносилось как бы от имени всего советского народа: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек…» И тут же, поспешно, словно автор вовремя спохватился, что его могут неправильно понять, оно заменялось гораздо более уместным местоимением множественного числа: «Но сурово брови мы насупим…» и т. д.
Но в какой-то момент вдруг возобладали личные местоимения единственного числа: «я», «ты». («Я ждала и верила сердцу вопреки…», «Ты сегодня мне принес не букет из пышных роз…») И даже традиционное советское «мы» чаще стало прилагаться не к массе, не к толпе, не к коллективу, а — к двоим: к нему и к ней. («Мы с тобой два берега у одной реки…»)
Старая советская песня всем строем своим, всем своим пафосом (в былые времена искренним, позже — заказным, казенным) утверждала безусловный приоритет общих, государственных интересов над интересами одной, отдельно взятой человеческой личности:
Забота у нас большая, Забота у нас такая: Жила бы страна родная — И нету других забот…И вот советский человек получил право на личную жизнь, на свои, отдельные от государственных, личные заботы. И пафос — отступил. Его место занял — интим.
А со временем советский человек и вовсе поостыл к массовой песне. И обе эти ее ипостаси (и пафос, и интим), как говорится, видал в гробу, о чем может свидетельствовать такая правдивая история.
Владимир Войнович, автор знаменитого в 60-е годы «Гимна космонавтов» («Я верю, друзья, караваны ракет…»), встретившись однажды с каким-то космонавтом, спросил, правда ли, что эта его песня у них, у космонавтов, считается одной из самых любимых.
— Да нет, — отмахнулся представитель этой героической профессии. — Любимая наша песня — «Ландыши».
И — пропел:
Заберемся в камыши, Наебемся от души. На хуя нам эти ландыши!* * *
А в заключение — еще одна коротенькая история, которая снова вернет нас к столь любимой моим другом Василием Аксеновым (да и мною тоже) «Каховке».
► Дело было в мае. За длинным столом ресторана, расположенного в самом центре города, сидели человек пятнадцать-двадцать стариков-ветеранов: отмечали День Победы. Оркестр тем временем наяривал мелодии разных шлягеров.
Улучив момент, к руководителю оркестра (он же — солист-певец) подошел старик и попросил его исполнить песню о Каховке.
— О чем речь, батя! — сказал музыкант. И тут же объявил: — Дорогие друзья! По просьбе присутствующих в зале ветеранов войны и труда исполняется «Песня о Каховке»!
И после несколько неожиданно прозвучавших первых аккордов запел:
Зачем вам, граждане, чужая Аргентина? Вот вам история каховского раввина, Который жил в роскошной обстановке, В большом столичном городе Каховке…Эту историю я прочел в одесском юмористическом журнале «Фонтан». Автор (Семен Галин), к сожалению, не сообщил, подлинная она или придуманная.
Но это, в общем-то, не так уж и важно.
Смысл рассказанной истории — независимо от того, выдумана она или взята из жизни, — остается неизменным: именно вот так, смеясь, расстаемся мы со своим прошлым.
Нарпит
Нарпит — это, как легко догадаться, — народное питание.
Словцо это — к тому времени уже слегка устаревшее — упоминается в одной из лучших песен Галича:
Он спит. А над ним планеты — Немеркнущий звездный тир. Он спит. А его полпреды Варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, По миру, что сном объят, Развозят Его газеты, Где славу Ему трубят. И грозную славу эту Признали со всех сторон! Он всех призовет к ответу, Как только проспится Он. Куется Ему награда. Готовит харчи Нарпит. Не трожьте его! Не надо! Пускай человек поспит!..Харчи, которые готовил народу этот самый нарпит, тоже имели свои, особые названия. Было, например, такое: «Комплексный обед». Комплексный — это значит не на заказ, а что дадут, без выбора: три стандартных дежурных блюда.
По поводу этого комплексного обеда была сложена такая частушка:
В ресторане как-то дед Скушал комплексный обед, И теперь не платит дед Ни за газ и ни за свет.Не платит, надо полагать, потому, что из-за того комплексного обеда отбыл туда, где ни газа, ни света ему уже более не понадобится.
Для тех, кто уже позабыл — или по молодости лет не имел счастья вкусить все прелести этого нарпитовского комплексного обеда, — даю цитату из романа Джорджа Оруэлла «1984»:
► …Очередь за обедом продвигалась толчками… От жаркого за прилавком валил пар с кислым металлическим запахом… Оба взяли по сальному металлическому подносу из стопки… Обоим выкинули стандартный обед: жестяную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыру, кружку черного кофе «победа»… Они пробрались через людный зал и разгрузили подносы на металлический столик; на углу его кто-то разлил соус: грязная жижа напоминала рвоту… Он стал заглатывать жаркое полными ложками; в похлебке попадались розовые рыхлые кубики — возможно, мясной продукт…
Кстати говоря, именно эта картина внушила мне когда-то уверенность, что автор знаменитой антиутопии наверняка побывал в Советском Союзе. И никто никогда не мог меня в этом разубедить.
Одно из блюд этого нарпитовского комплексного обеда явилось поводом для создания маленького поэтического шедевра, ставшего истинной жемчужиной тогдашнего нашего интеллигентского фольклора.
Но тут необходима небольшая, как сказано у классика, — «верояция в сторону».
Была в советские времена такая песня:
Пройдут года, настанут дни такие, Когда советский трудовой народ Вот эти руки, руки молодые Руками золотыми назовет.Песенка — что говорить! — плохонькая, насквозь фальшивая. Фальшь эта особенно била в нос, когда ее хором пели учащиеся ремесленных училищ (которым она, собственно, и была адресована) на каком-нибудь празднике трудовых резервов. Бледные лица заморенных подростков в унылой казенной форме особенно резко оттеняли бодрую ложь старательно выпеваемых ими заказных оптимистических куплетов.
Но не будь этой убогой и лживой песни, не явилась бы на свет та самая поэтическая жемчужина.
Было это в Малеевке, одном из самых старых и самых любимых московскими писателями литфондовских Домов творчества.
Дом, как и все такие же писательские дома, был привилегированным. Попасть туда — даже члену Союза писателей — было не так-то просто. Борьба за путевки шла отчаянная. Существовала, кроме того, сперва неписаная, а потом уже и узаконенная табель о рангах, согласно которой одним писателям (секретарям, членам парткома) путевки выдавались в лучшие месяцы года (летом или в лыжный сезон), другим же — когда дом пустовал и там вместе с писателями второго и третьего сорта по льготным профсоюзным путевкам отдыхали шахтеры.
Как бы то ни было, Дом был действительно привилегированный.
Но когда вы, урвав наконец с бою свою путевку, приезжали в этот привилегированный. Дом, вас ожидало там множество всяких — чисто советских — гадостей. Душевой шланг в вашей ванной был переломан пополам, так что душ принять было невозможно. Принять ванну без душа тоже было затруднительно, поскольку в ванне не было затычки: дыру, в которую утекала вода, приходилось затыкать свернутой в тугой комок собственной майкой или трусами. Впрочем, ванну без совсем уже крайней нужды принимать и так не хотелось, поскольку вода из обоих кранов обычно текла холодная, а если и появлялась горячая, то была она цвета конской мочи. В комнатах тоже все было далеко от идеала. В пятирожковой люстре в лучшем случае горели только две лампочки: люди опытные, любящие, чтобы у них в комнате по вечерам было светло, запасливо привозили с собою из Москвы несколько лампочек. Внутри графина, предназначенного для кипяченой воды, был такой прочный, несмываемый слой какого-то грязно-желтого налета, что пить воду из него было все равно что из унитаза. Белье меняли по большим праздникам, ссылаясь на какие-то вечные затруднения с прачечной…
Но самой большой гадостью, ожидавшей вас в этом привилегированном Доме, была еда.
Ни очередей, ни сальных подносов, ни металлических столиков в привилегированном писательском Доме творчества, конечно, не было. На столах были скатерти, были даже и официантки. Но еда была — та самая, оруэлловская, нарпитовская.
Особенно отвратительным было одно — постоянно, изо дня в день — повторявшееся блюдо, обозначаемое в меню как «кнели паровые».
— Опять эти чертовы кнели, будь они прокляты! — ворчали привилегированные гурманы.
И вот в ответ на эту воркотню и родилась однажды та поэтическая жемчужина:
Пройдут года, настанут дни такие, Когда советский трудовой народ Вот эти кнели, кнели паровые — Свиными отбивными назовет.Это веселое (оно же мрачное) пророчество совершенно покорило меня — не столько даже иронией, сколько своим трезвым реализмом. Долго я пытался выяснить, кто его автор. Но установить это с полной достоверностью мне так и не удалось: на авторство претендовали многие. Запишем поэтому так, как принято обычно писать в подобных случаях: «Слова народные».
Наше слово гордое «товарищ»…
…нам дороже всех красивых слов. Это — из песни Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная». Это двустишие, как и многие другие строки той, самой знаменитой в 30-е годы, советской песни, тогда вроде не казалось фальшивым. А поначалу слово «товарищ», «товарищи» для обывателя звучало отчужденно, нередко даже враждебно.
«Продразверсткой обидели товарищи: забрали все зерно под гребло», — читаем мы в «Поднятой целине». Слово «товарищи» здесь равнозначно понятию: «большевики».
Но уже к середине 30-х слово это, пришедшее из партийного лексикона, стало общеупотребительным, полностью вытеснив дореволюционное «господа» и почти полностью — утвердившееся в первые годы советской власти «граждане».
Интеллигентами гордое слово «гражданин» на фоне голода и разрухи воспринималось сардонически:
Сумрак тает. Рассветает. Пар встает от желтых льдин, Желтый свет в окне мелькает. Гражданина окликает Гражданин: — Что сегодня, гражданин, на обед? Прикреплялись, гражданин, или нет? — Я сегодня, гражданин, плохо спал. Душу я на керосин променял. (Вильгельм Зоргенфрей. Над Невой. 1920 г.)Но основной массой населения оба эти слова — и «гражданин», и «товарищ» — поначалу воспринимались нейтрально, как равнозначащие и стилистически равноправные:
► Такие слова, как товарищ, гражданин, гражданка, восприняты как слова-ОБРАЩЕНИЯ. «Товарищ — это по-нынешнему зовут так»… «Гражданин — это по-новому так зовут».
(А. Селищев. «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1926». С. 214)Эта запись А. Селищева датирована 1925 годом. Однако десятилетие спустя слово «гражданин» почти окончательно перекочевало в места заключения: обращаясь к лагерному начальству самого мелкого разбора зэку полагалось говорить: «Гражданин начальник!» И стоило ему по старой, вольной привычке, обмолвившись, сказать «товарищ начальник», как он тотчас же получал в ответ классическое:
— Тамбовский волк тебе товарищ!
А на воле слово «гражданин» возникало лишь в исключительных случаях. И чаще всего тоже в устах зэка (бывшего или потенциального):
Стою я как-то раз на стреме, Держуся за карман, Как вдруг ко мне подходит Незнакомый мне граждан…И недаром этот «незнакомый граждан» оказывается иностранным шпионом.
А обращение «товарищ», «товарищи» тем временем уже совсем утратило свою былую «партийную» окраску и даже в сознание людей старшего поколения окончательно вошло как синоним дореволюционного — «господа». Теперь разве только эмигрант, осевший где-нибудь в Париже или Лондоне, мог расслышать в таком обращении привкус чего-то чужеродного и даже враждебного.
Любопытный казус, связанный с различным восприятием этого все еще сакраментального для них (эмигрантов) слова, вспоминает в своих мемуарах Аркадий Райкин:
► Наш театр был в Лондоне, когда мы узнали, что на днях в Оксфордском университете состоится церемония награждения Анны Андреевны Ахматовой… Так получилось, что из советских людей лишь Рома да я оказались свидетелями, да и то случайными, этого триумфа Ахматовой, триумфа русской поэзии…
Мы застали у нее художника Юрия Анненкова, специально приехавшего из Парижа… Кроме Анненкова, из Парижа на двух автобусах приехало множество поклонников и друзей молодости Ахматовой. Через несколько минут после нашего прихода они тоже явились в гостиницу. Я никогда не видел в таком количестве старых русских аристократов. Все они были крайне воодушевлены в тот момент, но смотреть на них было грустно. Некоторые плакали…
Когда же Анна Андреевна по привычке обратилась к присутствующим:
— До свиданья, товарищи! — возникла напряженная пауза.
Прощаясь с нами, Анна Андреевна сказала:
— Они забыли, что товарищ значит друг. Но мы-то это помним, не так ли?
Совершенно очевидно, что этой последней своей репликой Анна Андреевна хотела сгладить возникшую неловкость. Сделала, что называется, bon mine au mauvais jeu (хорошую мину при плохой игре). Не может быть никаких сомнений в том, что, кинув эту прощальную реплику «До свиданья, товарищи», она имела в виду отнюдь не старое русское, а именно советское, новоязовское значение сакраментального для эмигрантов, но вполне привычного, естественно вошедшего в ее словесный обиход слова.
Было это в середине 60-х.
Интересно тут, что примерно в это самое время слово «товарищи» на слух молодого, подрастающего поколения уже опять стало звучать как чужеродное, отчасти даже враждебное.
* * *
В начале 70-х мой сын, которому было тогда лет пятнадцать, играл перед нашим подъездом с подружкой в бадминтон. Волан то и дело пролетал над головой сидящей на лавочке старушки, которая всякий раз при этом испуганно втягивала голову в плечи. Из подъезда вышла наша соседка, не старая еще, но уже и не молодая женщина, с которой мы когда-то состояли в одной комсомольской организации.
— Товарищи! — возмущенно обратилась она к подросткам. — Неужели вы не могли найти для своих спортивных упражнений какое-нибудь другое место?
Ребята на это увещевание никак не прореагировали, и тогда она пригрозила им, что пожалуется на них — уж не знаю, куда — в школу, в милицию, в комсомольскую организацию…
— Идите, идите стучать в свой райком, — ответил на эту угрозу мой отпрыск.
Вечером вся эта история в повышенных тонах была изложена мне бывшей моей товаркой по комсомольской организации по телефону. Я отвечал, что согласен с ней на сто процентов, что сын мой хам, вел себя безобразно и я, конечно, проведу с ним соответствующую воспитательную работу.
— При чем тут твой сын? — удивилась она. — Я возмущена не им, а вами! Не далее как третьего дня Володя (так звали ее мужа) стал членом бюро райкома, и вот уже в вашей семье это обсуждается! И воображаю, в каких тонах!
— Дорогая, — слегка ошеломленный таким поворотом сюжета, сказал я. — Я очень рад за твоего Володю, прими мои поздравления, но, клянусь, я и понятия не имел об этом важном событии в вашей жизни!
— Да? — искренне удивилась она. — А почему же тогда твой сын сказал мне: «Идите и стучите в свой райком»?
— А тебе не пришло в голову, — сказал я, — что для них — пятнадцатилетних, шестнадцатилетних — само это слово «товарищи», с которым ты к ним обратилась, ассоциируется только и исключительно с райкомом?
После довольно долгого и утомительного (хотя уже и не такого нервного) разговора она вынуждена была принять эту мою версию как единственное логически безупречное объяснение вышеизложенного инцидента.
Номенклатура
В современном, одном из последних по времени (1999 года издания) «Словаре иностранных слов» слово «номенклатура» объясняется так:
► 1. Совокупность или перечень названий, терминов, употребляющихся в какой-либо отрасли науки, искусства, техники и т. д.
2. Номенклатура продукции — классифицированный перечень продукции, производимой промышленностью и другими отраслями хозяйства.
3. Круг должностных лиц, назначение или утверждение которых относится к компетенции какого-либо вышестоящего органа.
В официальный советский новояз слово это вошло в третьем значении. Но поскольку все знали, что на самом деле за словом этим стоит совершенно иная реальность, с ним произошла весьма комическая история: на какое-то время оно просто исчезло из словарей — не только лингвистических, толковых, но даже и энциклопедических.
В первых двух значениях оно иногда еще упоминалось. Но в третьем, как правило, стыдливо замалчивалось. А в иных случаях вообще не упоминалось, словно бы относилось оно к той самой «ненормативной лексике», место для которой в российских словарях нашлось лишь однажды — в бывшем до недавнего времени библиографической редкостью четвертом издании «Толкового словаря» В. Даля под редакцией И.А. Бодуэна де Куртенэ.
Вот что пишет по этому поводу автор книги «Номенклатура» Михаил Восленский в «Введении» к этому своему фундаментальному труду:
► Обратимся к энциклопедическим справочникам историко-политического характера. «Советская Историческая энциклопедия»: есть слова «ном», «номарх» и «номоканон», а «номенклатуры» — нет. «Политический словарь»: есть «Новотный» и «Носака», а «номенклатуры» тоже нет.
Следы не связанного с естествознанием понятия «номенклатура» обнаруживается в «Кратком политическом словаре» (издания 1964, 1968 и 1971 гг.). Номенклатура определена здесь как перечень должностей, назначение на которые утверждается вышестоящими органами. Определение невразумительное: ведь любое назначение производится по решению выше-, а не нижестоящих органов. Однако, видимо, даже такое определение показалось чрезмерно откровенным, так что в последних изданиях словаря термин «номенклатура» вообще исчез.
(Михаил Восленский. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Overseas Publications Interchange Ltd./London. 1990. C. 16)Единственным советским изданием, в котором автор упомянутого труда нашел более или менее удовлетворившее его («членораздельное», как он его называет) определение слова «номенклатура», оказался не словарь и не справочник, а — учебное пособие для партийных школ: «Партийное строительство».
Там это определение выглядело так:
► Номенклатура — это перечень наиболее важных должностей, кандидатуры на которые предварительно рассматриваются, рекомендуются и утверждаются данным партийным комитетом (райкомом, горкомом, обкомом партии и т. д.). Освобождаются от работы лица, входящие в номенклатуру партийного комитета, также лишь с его согласия.
Примерно так же объясняется смысл этого термина и автором одной из самых обстоятельных зарубежных книг о политическом языке советской эпохи:
► Закрытость советского общества, негласность происходящих в нем социальных процессов привели к тому, что это явление порождает бессмысленные домыслы: «нервная система советского режима», «секретная сеть тех, кто удерживает наиболее влиятельные позиции и определяет стиль советской жизни» — определения такого рода дают лишь эмоционально-описательную характеристику явления, выхватывая отдельные его черты, не вскрывая ни сути номенклатуры, ни ее механизмов.
Между тем в номенклатуре нет ничего таинственного. В сущности, это всего лишь сеть должностей и постов, назначение на которые производится исключительно по решению партийных организаций.
(Илья Земцов. Советский политический язык. Overseas Publications Interchange Ltd/ London, 1985. C. 246–247)Это определение — в основе своей более или менее правильное — не отражает самой сути дела. Суть же эта заключается в том, что человек, однажды попавший в номенклатуру, за редчайшими исключениями, никогда уже из нее не выпадал. В сталинские времена выход из номенклатуры был только один — на тот свет или в лагерь. Но сталинский период существования советской системы (как и ленинский) был периодом экстремальным, это был период ее становления. Окончательно же система сформировалась и окостенела уже после Сталина. И номенклатура в собственном смысле слова возникла именно тогда.
В собственном смысле слова — то есть в том его значении, в каком оно и вошло в разговорный советский новояз, слово это обозначало уже не «сеть должностей и постов», а всех, кто занимал (и продолжает занимать) эти посты.
В новоязовском употреблении выражение «он в номенклатуре» не требовало вопроса: «В какой?» или «В чьей?». Важно было, что человек, о котором идет речь, уже состоит в некоем особом списке, из которого не выпадают.
► Хотя соответствующие социологические исследования в стране либо не производятся, либо засекречены, но можно утверждать, что уже в 20—30-е годы и окончательно в последующие годы в нашей стране сформировалась и выделилась особая партийно-бюрократическая прослойка — «номенклатура», как они сами себя называют, «новый класс», как их назвал Джилас.
(А. Д. Сахаров. О стране и мире. N.Y., 1975. С. 19)Именно в этом значении употребляет это слово и посвятивший исследованию стоящего за ним явления свой фундаментальный труд Михаил Восленский.
Из всех слов советского новояза «номенклатура» едва ли не единственное, не ставшее реликтовым. Все прочие слова и обороты советского политического жаргона если и сохранились в сегодняшнем нашем живом языке, то, как правило, в измененном, чаще всего — ироническом словоупотреблении. Слово «номенклатура» до сего дня употребляется в прежнем, прямом, зловещем своем значении. Вот только что, сегодня, как нарочно, в тот самый день, когда я решился вплотную приступить к этой нелегкой теме, пришел очередной номер еженедельника «Московский новости», и в нем — статья: «НОМЕНКЛАТУРА БЕССМЕРТНА?»
Приведу сперва начальные ее строки:
► Новый президент России определился — он взялся за консолидацию ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. В современных российских условиях это означает — за консолидацию НОМЕНКЛАТУРЫ. Но консолидированную номенклатуру мы уже подробно проходили с коммунистами.
(Сергей Хайтун, кандидат физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник ИИЕТ РАН. Номенклатура бессмертна? «Московские новости», 2000,6—12 июня, № 22)А теперь — последние, заключающие:
► Сегодняшние мероприятия номенклатуры по консолидации власти — ее последняя попытка выжить. Эта попытка закончится провалом, у российского государства уже нет сил жить под железной пятой «консолидированной номенклатуры». Номенклатурная телка, высосав Россию досуха, продолжает свое черное дело, хотя это грозит гибелью обеим.
Сказано хорошо и точно — за вычетом разве одного только слова: «телка». (Уместнее в этом контексте было бы упомянуть совсем другого представителя животного царства. Но об этом — ниже.)
Оставим, однако (хотя бы на время), все эти ученые дефиниции и попробуем определить, как отразилось обозначаемое этим словом явление в народном сознании.
* * *
Прежде всего тут приходит на память ироническая песня, исполняемая как бы хором вот этих самых «номенклатурщиков»:
Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем.Ирония этого замечательного двустишия заключается в том, что профессия номенклатурщика целиком сводится именно вот к тому, что он «гордится общественным строем». Это — не характеристика его социального мироощущения, как следовало бы из прямого смысла данного высказывания, а главная его профессиональная обязанность. И даже не главная, а — единственная. К этому, собственно, и сводятся все его профессиональные обязанности. Его социальная функция, его место в общественном (государственном) устройстве состоит именно в том, чтобы «гордиться общественным строем».
При этом следует признать, что ему есть чем гордиться.
Один мой приятель рассказывал мне о свадьбе своего сокурсника, отец которого был заведующим каким-то отделом ЦК КПСС. На свадьбу был приглашен весь курс. Гигантский стол ломился от яств и напитков. И вот, когда все приглашенные наконец расселись за этим свадебным столом и пришла пора произнести первый тост, поднялся отец жениха и, обратившись к молодежи, сказал:
— Об одном прошу вас, дорогие мои: никогда не забывайте, что партия дала вам все!
«И ты понимаешь, — заключил свой рассказ мой приятель, — им она действительно дала все!»
Можно, конечно, сказать, что это не народное сознание, а обывательское. Пусть так. Но этот обывательский голос был воистину гласом народа. Едва только заходила речь о тех, кто попал в номенклатуру, как тут же раздавались голоса: «Ну, они-то уже живут при коммунизме… Для себя они его уже построили».
— Вы что, думаете, коммунизма не будет? — говорил мне один таксист. — Не-ет! Он обязательно будет. Потому что он государству очень выгодный. Сейчас вот вы сами решаете, чего вам надо. А при коммунизме этого не будет. При коммунизме государство будет решать, чего и сколько кому положено. Так что — не сомневайтесь! Они обязательно его введут. Потому что им он будет очень выгодный…
Именно вот этот народный взгляд на коммунизм, а заодно и на номенклатуру, которая этот самый коммунизм строила (и построила!) исключительно для себя, отразил Владимир Войнович в своем романе «Москва 2042»:
► …Один вопрос для меня был существенным: каким образом соблюдается в Москорепе основной принцип коммунизма: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается.
— Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что хочет?
— Да, — сказал Смерчев, — каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть прекомпиты, иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых… Кроме того, мы имеем широкую сеть пукомрасов — пунктов коммунистического распределения по месту служения коммунян. Там каждый коммунянин получает все, в чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения.
— Понятно, — сказал я. — А кто определяет его потребности? Он сам?
— Чистейшей воды метафизика, гегельянство и кантианство! — радостно воскликнула Пропаганда Парамоновна.
Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным.
— Ну зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он, может быть, недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями. Может, он луну с неба хочет взять. Нет, так нельзя…
И вот тут-то и выясняется, что в описанном Войновичем Москорепе (коммунистическом обществе, построенном в одном, отдельно взятом городе — Москве) все блага жизни, в точном соответствии с предсказаниями классиков марксизма, удовлетворяются по потребностям, но с одной только — не слишком существенной — поправкой: каковы они, эти самые их потребности, за них решает начальство:
► Относительно потребностей я узнал, что их руководство Москорепа делит на несколько категорий. Общие потребности состоят из дыхательных, питательных, жидкостных, покровных (одежда) и жилищных. Удовлетворяются ими все без исключения коммуняне, и право на них указано в первом параграфе Конституции Москорепа: «Каждый человек имеет право дышать воздухом, поглощать пищу, удовлетворять жажду, покрывать свое тело соответствующей сезону одеждой и жить в закрытых помещениях».
О том, как удовлетворяются в Москорепе общие потребности, мы отчасти уже знаем из предыдущих глав романа: свежие щи «Лебедушка» из лебеды и «свинина вегетарианская» из прессованной брюквы, от которой у героя, отведавшего это коммунистическое блюдо, мгновенно возник непреодолимый рвотный рефлекс.
Но в общий «прекомит», как потом выяснилось, герой заглянул случайно, еще не слишком освоившись с местными порядками:
► Потребности, удовлетворение которых не является обязательным, устанавливаются в соответствии с заслугами. Это потребности повышенные, высшие и внекатегорные. Люди, относящиеся к этим разрядам, жалуются, что их потребности не всегда удовлетворяются. Иногда наблюдаются перебои (как у нас в гостинице) с подачей горячей воды, электричества, непорядки в работе лифтов и так далее.
Лично я не жалуюсь. Обслуживание в гостинице вполне хорошее, почти как при капитализме. Каждое утро красномордый официант по имени Пролетарий Ильич (Искрина зовет его Проша) вкатывает в нашу комнату тележку с завтраком, в который входит яичница с ветчиной, сливочное масло, красная икра, свежие булочки, яблочный джем, но вот кофе у них почему-то настоящего нет, так же как настоящего мыла. Проша меня каждый раз спрашивает: «Вы какой кофе предпочитаете, кукурузный или ячменный?» Я говорю, что предпочитаю кофейный кофе. Он широко открывает рот и ненатурально хохочет. Видимо, ему объяснили, что я юморист и говорю шутками, а он, как настоящий коммунянин, обязан обладать чувством юмора. Я ему говорю, что я вовсе не шучу, что в мои социалистическо-капиталистические времена кофе делался из кофейных зерен. Он думает, что и это шутка, и хохочет опять.
Тут экстраполяцией можно считать разве только вот этот пассаж насчет кофе. Для лиц, относящихся к высшей и даже повышенной категории (не говоря уже о внекатегорных), у нас и при социализме хватало кофейных зерен. Ну, а все остальное в этой картинке коммунистического быта — уже никакая не экстраполяция, а самая что ни на есть реальнейшая реальность социализма, перенесенная автором в коммунизм.
Один мой приятель был вхож в семью, относящуюся, точно не скажу, то ли к высшей, то ли к повышенной категории. И вот однажды, когда он был у них в гостях, выяснилось, что у их девочки-школьницы — расстройство желудка.
— Признайся! — тревожно воскликнула мать. — Ты съела что-то городское?!
В простоте душевной мой приятель решил, что городским на их языке называется какая-нибудь уж совсем особенная гадость из «общепита» — что-нибудь вроде вот этой самой «свинины вегетарианской» из прессованной брюквы. Но оказалось, что слово это в их лексиконе означает совсем другое. Так называлось у них вообще все, что едим, надеваем, обуваем, чем пользуемся в своей повседневной жизни все мы, простые смертные.
Оказалось, что для них и хлеб пекут в каких-то особых хлебозаводах, из муки, смолотой из особой пшеницы, выращенной на особых полях. И овощи для них выращивают на каких-то особых огородах, почва которых удобряется естественными, органическими удобрениями, без всяких этих нитратов и гербицидов, которыми травят нашего брата.
Услышав это, я вспомнил знаменитую историю Гиляровского про булочника Филиппова. Московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу подали однажды к завтраку, как обычно, филипповскую булочку, в которой был обнаружен запеченный в ней таракан. Великий князь ужасно разгневался и потребовал, чтобы немедля доставили пред его светлые очи самого Филиппова.
— Это что такое?! — вопросил он, сунув булочнику под нос злополучную булочку с запеченным в ней тараканом.
— Изюм, ваше высочество! — не растерялся Филиппов. И тут же, схватив таракана, положил его в рот, разжевал и проглотил.
Отсюда, сообщает Гиляровский, и пошли знаменитые филипповские сайки с изюмом.
История в своем роде, конечно, замечательная. И смысл ее — в том, каким находчивым человеком был знаменитый московский булочник Филиппов. Но я из этой истории сделал (для себя) свой вывод. Вон оно, значит, как! Стало быть, великий князь, родной сын императора Александра Второго, ел те же филипповские булочки, что и все прочие москвичи! А Филиппов ведь, кроме всего прочего, был еще и «Поставщик двора его императорского величества». И ему, стало быть, даже в голову не пришло, что царскому семейству надо бы поставлять какие-то особые булочки, выпеченные из какой-нибудь там особой муки. Выходит, и сам государь император, и государыня императрица, и великие княжны, и наследник цесаревич потребляли те же самые булочки, какие каждый житель Москвы или Петербурга мог за свои кровные купить в его, Филипповской, булочной!
А наши «слуги народа» простыми булочками, значит, брезгуют. И не только булочками, но и вообще всеми нашими, «городскими» продуктами.
Да разве только продуктами?
► …Начиная с определенного уровня, номенклатурные чины живут как бы не в СССР, а в некоей спецстране.
Рядовые советские граждане отгорожены от этой спецстраны так же тщательно, как и от любой другой заграницы, и в стране этой, которую можно условно назвать Номенклатурия, все свое, специальное: специальные жилые дома, возводимые специальными строительно-монтажными управлениями; специальные дачи и пансионаты; специальные санатории, больницы и поликлиники; спецпродукты, продаваемые в спецмагазинах; спецстоловые, спецбуфеты и спецпарикмахерские; спецавтобазы, бензоколонки и номера на автомашинах; разветвленная система специнформации; специальная телефонная сеть; специальные детские учреждения, спецшколы и интернаты; специальные высшие учебные заведения и аспирантура; специальные клубы, где показывают особые кинофильмы; специальные залы ожидания на вокзалах и в аэропортах и даже специальное кладбище.
Номенклатурное семейство в СССР может пройти весь жизненный путь от родильного дома до могилы — работать, жить, отдыхать, питаться, покупать, путешествовать, развлекаться, учиться и лечиться, — не соприкасаясь с советским народом, на службе у которого якобы находится номенклатура.
(Михаил Восленский. Номенклатура. С. 339)* * *
В августе — сентябре 1917 года, перебравшись из своего шалаша в Финляндию, где он тоже был на полулегальном положении, будущий создатель первого в мире государства рабочих и крестьян сочинял свою знаменитую книгу «Государство и революция», ставшую, как нас учили, выдающимся вкладом в марксистскую теорию. Но автору эта его книга представлялась не абстрактной теорией, а прямым руководством к действию. Еще когда он жил в Разливе, в знаменитом своем шалаше, посетил его там Серго Орджоникидзе. С изумлением и восторгом Серго вспоминал потом, что во время этого краткого визита Ильич уверенно сказал ему, что через несколько месяцев в России будет новое правительство, во главе которого будет стоять он, Владимир Ильич Ульянов. Был, правда, и другой вариант: в записке, адресованной более близким своим соратникам, Ленин писал, что если его, как он там выразился, «укокошат», им во что бы то ни стало надлежит сохранить эти его заметки «О государстве» и при первой возможности опубликовать их.
Исходя из всего этого, мы можем с полной уверенностью утверждать, что ленинская книга «Государство и революция» писалась не ради каких-либо пропагандистских или тактических целей. В ней отразились истинные представления Ленина о том, каким будет (во всяком случае, должно быть) государство, которое он собирался создавать. И наиважнейшим, может быть, даже самым важным в этой системе его представлений был пункт, согласно которому заработная плата самого высокого государственного чиновника не должна превышать среднюю заработную плату рядового рабочего или служащего.
Это убеждение сложилось у Ленина давно. Наборщик Владимиров, оставивший воспоминания о жизни Ленина в эмиграции, свидетельствует:
► Тов. Ленин всегда говорил, что наборщики должны получать жалованье больше редактора, и я лично получал на три франка больше, чем тов. Ленин.
(И. М. Владимиров. Ленир в Женеве и Париже. Государственное издательство Украины, 1924. С. 75)Другой мемуарист — Алин, заведовавший в 1911 году типографией и экспедицией партийного органа, слегка расходясь с Владимировым в цифрах, подтверждает неукоснительное соблюдение этого принципа:
► Члены Центрального Комитета получали жалованье 50 франков в неделю, а работники типографии 57 франков.
(И. Валентинов. Недорисованный портрет. М., 1993. С. 313)Тот же принцип, как представлялось Ленину, должен был неукоснительно соблюдаться и после того, как партия большевиков станет правящей, а члены ее Центрального Комитета займут высшие правительственные посты в государстве. Так оно — на первых порах — и было. И даже не только на первых порах: принцип «партмаксимума» (максимального месячного оклада для членов Коммунистической партии, занимавших руководящие посты) сохранялся до 1934 года. И «максимум» этот был невысок, о чем свидетельствует хотя бы вот такой пример, взятый мною из Большого академического словаря русского языка:
► Что можно сделать на партмаксимум? Только прожить.
(Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. М, 1950–1965. Т. 9. С. 239)
Но ни партмаксимум, на который можно было «только прожить», ни всякие другие попытки соблюдать тот основополагающий ленинский принцип, как мы знаем, не помогли.
Жизнь показала, что Ленин, при всем своем незаурядном уме, оказался глупее булгаковского Шарикова. Потому что проблема заключалась не в том, какую зарплату будет получать высший, или средний, или даже самый маленький государственный чиновник, а в том, будет ли он жить со своей секретаршей.
Булгаковский Шариков (которого я тут вспомнил не для красного словца, а, как говорится, по делу), едва только сделали его «заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе М.К.Х.», тотчас же привел в роскошную квартиру Филиппа Филипповича «худенькую, с подрисованными глазами барышню в кремовых чулочках» и объявил:
— Эта наша машинистка, жить со мной будет.
На этом своем посту «заведующего подотделом» Шариков зарплату получал, наверно, никак не больше партмаксимума. И может быть, даже не больше, чем эта вот самая машинисточка. Возникает вопрос: почему же в таком случае эта худенькая барышня с подрисованными глазами так быстро и легко уступила домогательствам Полиграфа Полиграфовича?
Как выразился по несколько иному поводу другой персонаж того же Булгакова, — подумаешь, бином Ньютона!
Да потому, что Полиграф Полиграфович был ее начальник. А начальник — это начальник. И совершенно неважно, какой у него «оклад жалованья» и носит ли он мундир коллежского регистратора или толстовку «заведующего подотделом очистки». Во все времена, при всех режимах секретарша всегда жила и будет жить со своим начальником, и никакой партмаксимум ее от этого не защитит.
Владимир Ильич был, конечно, человек гениальный. А вот до такой простой вещи не додумался. Шариков же смекнул это мгновенно, из чего следует, что в самих основах жизни он разбирался гораздо лучше Ленина.
Справедливости ради тут надо отметить, что Ленин, конечно, возможность такого поворота событий тоже не исключал. На их языке это называлось опасностью перерождения. (Для того чтобы этой опасности избежать, как раз и вводился партмаксимум.) Но суть дела заключается в том, что никакое это не перерождение, а неизбежное проявление извечных свойств человеческой натуры: сколько ни старайся установить всеобщее равенство, как его ни провозглашай, какими законами ни защищай, все равно среди равных обнаружатся желающие стать (по слову Оруэлла) более равными. И непременно станут.
* * *
Среди рукописей Мертвого моря был найден папирус (или пергамент, точно не помню), на котором был записан устав одной из первых общин древних христан — ессеев. Устав этот гласил: «Общее имущество, общая трапеза и нет рабов». Но там же был найден и другой устав той же общины, записанный 50 лет спустя. Он гласил: «Общее имущество, общая трапеза, но есть рабы».
Так было, так будет.
Исходя из этого простого и, к сожалению, всем опытом человечества подтвержденного соображения, все писавшие о советской номенклатуре рассматривали ее как еще одну модификацию хорошо известных историкам социальных явлений. Восленский, например (ссылаясь и на других авторов), называет советский режим, породивший номенклатуру, «азиатским способом производства», внося в этот термин Маркса лишь некоторые коррективы:
► Реальный социализм оказался лишь одним из случаев возникновения «азиатского способа производства», т. е. применения метода тотального огосударствления на основе существующей формации.
Упоминает он при этом и рабовладельческий, и феодальный строй, и всякие другие «формации» — древние и новые. И заключает:
► Пока не доказано противное, есть все основания считать, что общая линия развития человеческого общества едина для всех народов, независимо от места их поселения на нашей планете.
(М. Восленский. Номенклатура. С. 653)При таком подходе сам термин «номенклатура» теряет смысл, может рассматриваться как произвольный, легко заменяемый каким-нибудь другим.
Именно так он рассматривался.
Вот что говорит по этому поводу Милован Джилас в своем предисловии к книге Восленского:
► Предшествовавшие М.С. Восленскому авторы называли этот слой «партократией», «кастой», «новым классом», «политической (или партийной) бюрократией», хотя и писали об одном и том же объекте.
Сам он (предложивший в свое время термин «новый класс») готов, впрочем, принять и термин «номенклатура», считая, что он «совершенно оправдан, когда речь идет об установившемся иерархическом режиме советской партбюрократии».
На самом деле, однако, термин «номенклатура» не случайно вытеснил все предшествовавшие ему определения. Он оказался наилучшим, потому что в отличие от всех предшествовавших указывает на то, что определяемое этим термином явление уникально. Конечно, есть в этом явлении и такие черты, которые роднят его и с рабовладельческим устройством общества, и с феодальным, и с азиатскими сатрапиями. Но главное его свойство не имеет никаких аналогов в истории человечества.
Из всех известных мне определений этого главного свойства номенклатуры наилучшим, — во всяком случае, наиболее удачным, выражающим самую его суть, — я нахожу слово, изобретенное моим покойным другом и соседом Ильей Давыдовичем Константиновским.
Слово это — глистократия.
Но это было не только слово. Это была целая теория, объясняющая, вскрывающая самую суть определяемого этим словом явления, всю его вот эту самую уникальность.
— Слово удачное, меткое, — согласился я при первом нашем с ним разговоре на эту тему. — Но в чем же тут уникальность? Да, глисты, гельминты — это паразиты. И наши номенклатурущики, безусловно, таковыми являются. Но ведь до них были и другие паразитические классы…
— Термин «глистократия», — объяснил мне автор теории, — тут наиболее точен, потому что только у глисты отсутствует инстинкт самосохранения. Глиста (он почему-то предпочитал для этого слова женский род) не хочет считаться с тем, что, если организм, на котором она паразитирует, погибнет, вместе с ним погибнет и она. Объяснить это ей невозможно. Она знает только одно: сосать, сосать и сосать!
— Но ведь и рабовладелец, и феодал, и какой-нибудь там азиатский сатрап, — возражал я, находясь в плену описанных выше представлений, — они ведь тоже…
— Ах, вы ничего не понимаете! — начинал горячиться мой собеседник. — Ну, хорошо! Возьмем рабовладельческий строй — самый отвратительный, самый бесчеловечный. На рынке рабов может возникнуть ситуация, при которой рабы будут так дешевы, что рабовладельцу выгоднее будет купить новых, чем более или менее сносно кормить тех, которые работают, положим, на его виноградниках. Черт с ними, думает он, пусть дохнут. Куплю других. Казалось бы, что может быть ужаснее?
— Почему «казалось бы»? Это действительно ужасно, — говорил я.
— Да, ужасно… Но можете ли вы представить себе ситуацию, при которой тому же рабовладельцу было бы при этом совершенно все равно, соберет ли он к осени свой урожай или не соберет?
— Нет, — подумав, сказал я. — Такого я себе представить не могу.
— А чтобы помещику было наплевать, взойдет ли то, что его мужики посеяли, или померзнет к чертовой матери? Такое вы можете себе представить?
— Нет, — сказал я. — Тоже не могу.
— Вот! А нашему председателю колхоза позвонят из райкома и прикажут сеять, даже если точно будет известно, что сеять рано, что весь будущий урожай померзнет на корню. Прикажут, потому что им сверху такой план спустили. Или прикажут сажать кукурузу, которая в его широтах никогда не росла и расти не будет. И он, как миленький, будет ее сажать. Потому что его благополучие не зависит от того, соберет или не соберет он урожай. Оно целиком и полностью зависит только от того, что в райкоме поставят галочку: план по посевной выполнен. Вот это и есть глистократия, — заключил он свою маленькую лекцию.
Переведя этот темпераментный монолог автора «теории глистократии» на язык точных политико-экономических дефиниций, мы получим примерно такую формулу:
Глистократия — это такое общественное устройство, которое характеризуется тотальной незаинтересованностью всех членов общества в конечных результатах своего труда.
Именно всех — сверху донизу.
Советскому человеку, находившемуся на самой низшей ступени социальной лестницы, было свойственно то же иждивенческое сознание, что и высшим представителям номенклатуры. Сознание это, в точном соответствии с великим учением, определялось бытием. Ведь каждый здесь (как в лагере) получал свою миску баланды из государственной кормушки. И самым страшным для него было — оказаться отлученным от этой кормушки. (Для входивших в номенклатуру — от «кремлевки».)
Прикрепленность рядового советского человека к его кормушке тоже не зависела от реальных результатов его труда. Но в применении к номенклатуре этот закон действовал в наиболее откровенной форме. На первом этапе ее существования все решал партстаж. Потом главную роль стала играть степень активности в разоблачении уклонистов и прочих врагов, умение колебаться вместе с линией партии.
Чем выше поднимался человек по социальной лестнице, тем больше он дорожил этой своей прикрепленностью к кормушке. (К «корыту», как они сами цинично это называли.) Это можно понять: быть отлученным от «кремлевки» гораздо обиднее, чем лишиться рядового «комплексного обеда».
* * *
Но как она возникла, эта самая «кремлевка»? И когда? Сразу? Или на более позднем этапе развития этого уникального общественного устройства?
На этот вопрос исчерпывающе ответил мне однажды все тот же автор «теории глистократии». Вышло так, что ему случилось присутствовать при самом ее зарождении.
Он был родом из Румынии. Точнее — из Бессарабии. В 1940 году, когда Бессарабия вошла в состав Советского Союза, ему было немногим более двадцати. Но он в это время был уже довольно опытным большевиком-подпольщиком. Услыхав, что его родина вот-вот станет советской, он рванул из Бухареста в Кишинев, чтобы стать гражданином Международного Отечества Трудящихся, которое издали боготворил. Но, окунувшись в советскую жизнь, испытал горькое разочарование. (В этом, конечно, ему помогли наши славные органы.) А вскоре стала складываться у него вот эта самая теория глистократии.
Не знаю, сколько понадобилось ему времени, чтобы теория эта приняла окончательную, отточенную форму, но в сорок пятом году, когда вместе с Красной армией он снова оказался в городе своей юности — Бухаресте, основы этой теории были ему уже более или менее ясны.
Тем не менее он решил встретиться с друзьями, бывшими своими товарищами по партии. Разыскал дом, где разместился Центральный Комитет Румынской компартии. До времен, когда партия эта стала правящей, было еще далеко, и помещение ЦК оказалось весьма непрезентабельным. Какие-то обшарпанные столы, старенький «Ундервуд» — вот и вся роскошь.
Но бывших своих товарищей он там нашел. Некоторые из них потом стали крупными партийными вельможами, некоторые погибли в лагерях. Может быть, среди них был там даже и молодой Николае Чаушеску, будущий генсек Румынской компартии и президент Социалистической Румынии.
Но тогда это были еще более чем скромно одетые молодые люди с голодным блеском в глазах, одержимые страстной верой в конечное торжество мирового коммунизма.
Забыв и думать про свою замечательную теорию, автор «глистократии» с умилением глядел на этих бывших своих друзей, обнимал их, хлопал по плечам А друзья тем временем обживали только что полученное помещение. Звонил телефон, кто-то что-то печатал на старом, разболтанном «Ундервуде». И вдруг в комнату вошла девушка с раскрытым блокнотом в руках. Он хорошо ее помнил по довоенному подполью.
— Товарищи! — громко сказала она. — Нам выделили некоторое количество кофе. Я составляю список. Желающие — записывайтесь, пожалуйста!
Все, конечно, захотели получить по причитающейся им пайке кофе. И вот они — по очереди — стали подходить к ней, и она вносила каждого в свой список.
А наш автор «глистократии», наблюдавший эту сцену с высот своего советского опыта, оцепенел.
— Мне — рассказывал он, — хотелось крикнуть им: «Остановитесь! Вы сами не знаете, что вы сейчас делаете!»
Но он не крикнул.
И они не остановились.
О
Обстановка трудового и политического подъема
Вот еще одно знаковое словечко нашего новояза, совпадающее с аналогичным термином из языка Третьего рейха, — «помощь». В нацистской Германии, объясняет Клемперер, это слово лицемерно заменяло слово «налог».
У нас оно тоже было в ходу: принудительная отправка студентов (а то и преподавателей, даже профессоров) в колхозы — на посевную или уборочную — официально именовалась: «Помощь селу».
Но главным аналогом нацистской «помощи» у нас было другое, каждому советскому человеку хорошо знакомое слово: «заем».
Наглая ложь этой лицемерной замены одного слова другим заключалась не только в том, что деньги, берущиеся у нас как бы взаймы, родное наше государство не предполагало нам возвращать никогда и ни при какой погоде. Это прекрасно знали как берущие, так и дающие. Но — мало того! При этом делался вид, что деньги эти мы отдаем государству не просто добровольно, а — с радостью, испытывая при этом восторг и бурное ликование.
На этот случай (как, впрочем, и для некоторых других похожих ситуаций) у властей было припасено специальное пропагандистское клише: «В обстановке трудового и политического подъема».
На стыке этих двух сходно звучащих словечек («подъем» и «заем») и родилась у «народа-языкотворца» своя языковая формула, гораздо точнее выражающая истинное положение дел.
В какой-нибудь тесной компании кто-то вдруг возвещал гнусавым, нарочито насморочным голосом:
— Вчера в обстановке большого трудового и политического подъема сотрудники нашего учреждения подписались на заем.
В этом насморочном исполнении в словах «подъем» и «заем» — «м» звучало, как «б». И получалась, как пишут в таких случаях переводчики с разных иностранных языков, непереводимая игра слов.
Отдельные недостатки
Вопреки здравому смыслу главное, ключевое слово в этом словосочетании — не существительное, а прилагательное.
Простое русское слово «отдельные» в советском новоязе приобрело совершенно особый смысл.
Существительное, определяемое этим прилагательным, могло меняться: «отдельные факты», «отдельные негативные явления», «отдельные лица». Но прилагательное оставалось неизменным. И это было не случайно.
За этим словом стояло все мировоззрение советского человека, вся его картина вселенной.
Картина была примерно такая.
У нас — ясное солнечное утро. (Не только утро нашей родины — утро человечества.) У них — беспросветная, черная ночь. Мы уверенной поступью шагаем к светлому будущему. Они — загнивают, разлагаются, устало бредут к собственной гибели. У нас — что ни день — совершаются новые великие дела: зажигаются огни мартенов, задуваются новые домны, передовые рабочие, готовые к трудовым подвигам, становятся на стахановские (или сталинские) вахты. У них — банды ку-клукс-клана линчуют негров, язвы коррупции разъедают основы государственного механизма, голодающие безработные дрожат от холода под мостами, и даже сами хозяева жизни, богачи-капиталисты, в смертельном ужасе перед неизбежно приближающимся кризисом кончают жизнь самоубийством, выбрасываясь из окон своих небоскребов.
Однако и у нас ведь случается (порой, подчас, временами) что-то нехорошее, не вполне укладывающееся в общую картину светлого и радостного нашего бытия.
И вот тут-то и приходило нам на помощь спасительное прилагательное: «отдельные».
Вот, скажем, такое социальное явление, как взяточничество. У нас, конечно, его быть не могло. Но отдельные взяточники могли попадаться. Не было — не могло быть! — в первом в мире социалистическом государстве и проституции. Но отдельные проститутки, к сожалению, еще встречались.
В редких случаях это прилагательное применялось и для освещения каких-нибудь событий, происходивших в капиталистическом мире. Но тут оно было призвано характеризовать разные исключительные факты и обстоятельства, совершенно нетипичные для их растленной действительности.
Вот, например, какой-то западный политик неожиданно сказал про нас что-то хорошее. На советском новоязе это выражалось так: «И в самой Америке раздаются порой отдельные трезвые голоса», «Отдельные дальновидные политики Германии…»
В целом политика ФРГ дальновидной, конечно, быть не могла. Это была прерогатива советской политической системы. Но отдельные дальновидные политики могли (в виде исключения, конечно) попадаться даже и там, у них, в Германии.
Слово «отдельные» («отдельный», «отдельное», «отдельная») употреблялось, конечно, не только в этом — специфическом советском, — но и в старом, обычном своем значении. Был, например, такой сорт колбасы — «Отдельная». Но, как и многие другие колбасные изделия, он постепенно стал исчезать, появляясь на прилавках колбасных магазинов все реже и реже. И это стало превращаться уже в явление.
И вот тогда-то и возникло это комическое двустишие, метившее в причуды социалистической экономики, но одновременно поразившее и другую мишень — примелькавшееся словцо советского новояза:
А в отдельных магазинах Нет Отдельной колбасы.П
Партиец
Слово это сравнительно новое. Даже синоним его — прилагательное от существительного «партия» («партийный») — появился лишь в самом конце прошлого века:
► Слово партийный образовано не раньше 80—90-х гг. XIX в. В статье И.М. Николича «Неправильности в выражениях, допускаемых в современной печати» (Филол. Зап., 1878, вып. 1, с. 26) читаем: «От существительных „армия, гвардия, кавалерия, Сицилия, лилия, линия“ образуются прилагательные „армейский, гвардейский, кавалерийский, сицилийский, лилейный, линейный“, но от существительных, заимствованных из латинского языка, как то: партия, акция, фракция, конструкция и т. п., прилагательные имена не производятся. Только в исключительном значении от слова партия вместо чисто-русского „отряд“ можно образовать прилагательное „партионный“, т. е. ведущий партию (офицер)».
В течение XIX в. слово партия в разных его значениях укрепляется в русском языке, но не обрастает производными словами. В качестве относительного прилагательного, с ним связанного, употреблялись парцилярный (с 40-х годов, есть у В.Г. Белинского) или — позднее — партионный.
(В. В. Виноградов. История слов. М, 1994.С.788–789)В начале XX века слова «партийный» «партиец» уже существовали. Но до революции и даже в первые годы советской власти они определяли принадлежность к какой-нибудь политической партии — все равно к какой. В равной мере относились они и к эсдекам, и к эсерам, и к «бекам» (большевикам), и к «мекам» (меньшевикам).
Но скоро с этим было покончено.
Впрочем, не так скоро. Даже в середине 20-х, когда в стране практически существовала уже только одна — единственная! — политическая партия, это еще приходилось доказывать, объяснять, обосновывать:
► С открытой арены политической жизни в нашей стране исчезли меньшевики, эсеры, анархисты и т. п. группы… Для успешного проведения диктатуры пролетариата победивший рабочий класс, возглавляемый нашей партией, не мог не лишить легальности эсеров, меньшевиков, анархистов (антисоветского направления) и других группировок, являвшихся враждебными самой идее диктатуры пролетариата. На легальной арене действует только РКП.
(«Известия», 1924, № 274)Со временем, однако, все постепенно привыкли, что слово «партия» и все производные от этого слова («партийный», «партиец», «партийка») стали синонимами понятий «коммунистическая партия», «коммунист», «коммунистка».
Впрочем, как я уже отмечал, некоторые оттенки сохранялись еще долго.
Борис Слуцкий, например, однажды в разговоре, когда речь зашла об Александре Межирове (в связи с его знаменитым стихотворением «Коммунисты, вперед!»), счел нужным отметить:
— Но он — не коммунист. Коммунист — я. А он — член партии.
Для тех, кому смысл это загадочной реплики ясен не вполне, привожу стихотворение того же Слуцкого «Как меня принимали в партию»:
Я засветло ушел в политотдел И за полночь добрался до развалин, Где он располагался. Посидел, Газеты поглядел. Потом — позвали. О нашей жизни и о смерти мыслящая, Все знающая о добре и зле, Бригадная партийная комиссия Сидела прямо на сырой земле. Свеча горела. При ее огне Товарищи мои сидели старшие, Мою судьбу партийную решавшие, И дельно говорили обо мне. Один спросил: — Не сдрейфишь? Не сбрешешь? — Не струсит, не солжет, — другой сказал. А лунный свет, валивший через бреши, Светить свече усердно помогал. И немцы пять снарядов перегнали, И кто-то крякнул про житье-бытье, И вся война лежала перед нами, И надо было выиграть ее. И понял я, Что клятвы не нарушу, А захочу нарушить — не смогу, Что я вовеки Не сбрешу, Не струшу, Не сдрейфлю, не совру и не солгу. Руку крепко жали мне друзья И говорили обо мне с симпатией. Так в этот вечер я был принят в партию, Где лгать — нельзя И трусом быть — нельзя.Стихотворение это я знал с тех самых пор, как оно было написано (то есть года примерно с 1957-го). И в разное время читал — и понимал — его по-разному. В искренности автора не сомневался никогда, но поначалу воспринял его как проявление некоторой партийной туполобости, потом — позже — как некий вызов партии трусов и лжецов, в которую она (по мысли автора — не вдруг, не сразу) превратилась. А совсем недавно наткнулся на такое замечание:
► Когда в 1958 вышла «Память» Слуцкого, я сказал: как-то отнесется критика? Г. Ратгауз ответил: пригонит к стандарту, процитирует «Как меня принимали в партию» и поставит в ряд. Так и случилось, кроме одного: за 20 лет критики именно «Как меня принимали в партию» («…Где лгать нельзя и трусом быть нельзя») не цитировалось почти ни разу и не включалось в переиздания вовсе ни разу. (Был один случай, сказал мне Болдырев, но точно не вспомнил.) Для меня это была самая меткая пощечина, которую партия дала самой себе.
(М. Гаспаров. Записи и выписки. М., 2000. С. 248)«Пощечина», которую «партия дала самой себе», по мысли автора этой «Записи», заключалась в том, что стихотворение, однажды опубликованное, никогда больше не перепечатывалось: поняли, значит, что к чему.
В общем, это верно. С той небольшой, но существенной поправкой, что поставить Слуцкого «в ряд» ОНИ все-таки не смогли. Вернее — не захотели. На протяжении всей своей жизни в литературе он оставался для НИХ чужим. Несмотря на то что был (сознавал, чувствовал себя) коммунистом. То есть как раз не «несмотря», а именно вот поэтому. Коммунисты им в то время были уже не нужны. Нужны были — члены партии, партийцы.
А драма Слуцкого состояла в том, что, сознавая себя коммунистом — то есть принадлежащим к той партии, «где лгать нельзя и трусом быть нельзя», — на самом деле состоял он совсем в другой партии, той, в которой можно было оставаться, лишь совершая обратное: постоянно, чуть ли не ежедневно лгать и трусить, трусить и лгать.
Это противоречие не могло не разрешиться взрывом. И взрыв произошел.
Вот как он сам сказал об этом взрыве, разрушившем самую основу его жизни и в конце концов — взрывной волной — уничтожившем его самого:
Где-то струсил. Когда — не помню. Этот случай во мне живет. А в Японии, на Ниппоне, в этом случае бьют в живот. Бьют в себя мечами короткими, проявляя покорность судьбе, не прощают, что были робкими, никому. Даже себе. Где-то струсил. И этот случай, как его там ни назови, солью самою злой, колючей оседает в моей крови. Солит мысли мои, поступки, вместе, рядом ест и пьет, и подрагивает, и постукивает, и покоя мне не дает.Это — не поза, не поэтическая метафора. Тут все — правда. Все — кроме, разве, одной строчки. Даже не строчки — полустрочия: «Когда — не помню».
Он прекрасно помнил, где и когда имел место «этот случай», перевернувший всю его жизнь. И дело было совсем не в том, что он просто струсил, проявил робость, «дал слабину». Это бы еще ладно — с кем не бывает. Такое еще можно было бы себе простить.
Не мог он себе простить, как уже было сказано, что в этот критический момент повел себя как член той партии, негласный, неписаный устав которой приказал ему струсить и солгать.
Вот как это было.
* * *
Когда готовился шабаш, на котором братья-писатели должны были дружно проклясть и изгнать из своих рядов Пастернака, устроители этого важного партийно-государственного мероприятия были очень озабочены тем, чтобы свора проклинающих состояла не только из их цепных псов, чтобы был среди них хоть один истинный поэт, имя которого хоть что-нибудь значило бы и для читателя, и, может быть, даже для культурной элиты Запада.
Перетасовав свою жидкую колоду, они решили привлечь к этому делу Леонида Мартынова. Кто-то, видимо, вспомнил, что даже у настоящих поэтов «есть такой обычай — в круг сойдясь оплевывать друг друга». Вон даже и у Блока сказано, что и в его время, когда поэты собирались вместе, «каждый встречал другого надменной улыбкой…». Может быть, кто-нибудь из коллег даже намекнул, что Леонид Николаевич относится к Борису Леонидовичу, как нынче принято говорить, неоднозначно, полагая (в душе) себя, а не его первым поэтом России. Хорошо бы, решили они, воспользоваться этими его настроениями…
Но как?
Поговорить с этим отшельником напрямую? Что называется, без обиняков? Чего доброго, еще пошлет парламентеров куда подальше, и вся затея тут же и лопнет.
И тут они вспомнили про Слуцкого. Всем было известно, что Слуцкий с Мартыновым в добрых отношениях и даже, говорят, имеет на него некоторое влияние. А Слуцкий — как-никак член партии. И если ему поручить это тонкое дело…
Сказано — сделано.
Позвали они Бориса Абрамовича на свою тайную вечерю (как сказано у Галича, «тут его цап-царап — и на партком»), и, подчиняясь партийной дисциплине, он согласился взять на себя эту тонкую дипломатическую миссию. И действительно уговорил Леонида Николаевича принять участие в той постыдной карательной акции.
Но Леонид Николаевич — натура нервная (поэт все-таки) — в последний момент взбрыкнул. Что же это, говорит: меня вы на это дело подбиваете, а сами — в сторону?
И тут уж Борису не оставалось ничего другого, как воздействовать на беспартийного собрата личным примером («коммунисты, вперед!»).
О его выступлении тогда ходило много слухов. Говорили, что из всех речей ораторов, участвовавших в травле, его речь была самой туманной и, как оценило это высокое партийное начальство, даже неоправданно мягкой.
Теперь все это перестало быть тайной, стенограмма того шабаша давно опубликована, и о том, что там происходило, мы можем судить уже не по слухам и рассказам очевидцев, а по точным документальным данным. Приведу из этой стенограммы лишь один небольшой отрывок.
Собрание подходит к концу. Зачитывается (разумеется, под аплодисменты) проект резолюции. Казалось бы, дело за малым: принять эту резолюцию, как водится, единогласно, и все тут.
Но вот тут-то как раз и началось самое чудовищное:
► ГОЛОС С МЕСТА. Мне кажется, что в резолюции слово «космополит» надо заменить словом «предатель»…
ГОЛОСА. Правильно…
Р. АЗАРХ. В резолюции нужно сказать: «Творческое собрание писателей просит Советское правительство лишить Пастернака советского гражданства».
С.С. СМИРНОВ. Я думаю, здесь ясно выражено наше отношение, и дело Советского правительства принять окончательное решение…
ГОЛОС С МЕСТА. Почему Советское правительство должно решать само, без нас? Мы должны просить Советское правительство. И надо так и записать: «Просить Советское правительство…»
С.С. СМИРНОВ. Голосую: кто за то, чтобы вставить в резолюцию эту фразу?.. Кто против? Поправка принимается. Есть ли еще поправки?
ГОЛОС С МЕСТА. В резолюции есть такое место, что Пастернак давно оторвался от нашей действительности и народа. Фраза эта неправильна, так как он не был никогда связан с народом и действительностью.
B. ИНВЕР. Эстет и декадент — это чисто литературные определения. Это не заключает в себе будущего предателя. Это слабо сказано.
C. С. СМИРНОВ. По-моему, это сказано очень определенно…
Как видно из этой стенограммы, председательствующему С.С. Смирнову, старающемуся не выходить за рамки партийного задания, пришлось даже слегка отбиваться от напора энтузиастов, жаждущих еще большей крови.
Но речь Слуцкого отличалась не только от истерических визгов всех этих особенно злобных шакалов.
Он не присоединился, как это сделал председательствующий С.С. Смирнов, к председателю КГБ Семичастному, который сказал о Пастернаке: «Свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел». В отличие от В. Перцова он не утверждал, что Пастернак «не только вымышленная, преувеличенная в художественном отношении фигура, но это и подлая фигура». В отличие от К. Зелинского не уверял, что имя Пастернака — синоним войны. И не кричал истерически: «Иди, получай там свои тридцать сребреников! Ты нам здесь сегодня не нужен!»
Факт, однако, остается фактом: он был одним из них, принял участие в карательной акции, в этой постыдной травле. И до конца дней не мог себе этого простить. Думаю даже, что не слишком погрешу против истины, если скажу, что «этот случай» сильно способствовал тяжкой душевной болезни Бориса и сильно приблизил его смерть.
А все потому, что, считая себя коммунистом, то есть человеком идеи, на самом деле был — партийцем, то есть членом банды.
Слово «партиец», правда, в то время было уже до некоторой степени архаичным и почти не употреблялось. И не зря: оно (в отличие от сменившего его и вошедшего в язык словосочетания «член партии») еще сохраняло слабый отблеск тех романтических представлений, с которыми вступал в ту, свою, мифическую, на самом деле никогда не существовавшую партию правдолюбов и храбрецов Борис Слуцкий. И поэтому в описываемое время устаревшее это словечко можно было встретить только в стихах:
И поэту в ночах не спится… Его сердце трубит трубой. Не патрицием, а партийцем — в бой, в бой! (Андрей Вознесенский)Незатейливая игра слов разоблачает ложный пафос этого высокопарного четверостишия и поневоле заставляет усомниться в искренности его автора.
Есть, однако, пример и другого, гораздо более осмысленного сближения этих двух, сходно звучащих слов. Я имею в виду ходивший — именно вот тогда, в то самое время — анекдот.
► — Василий Иванович, — спрашивает Петька Чапаева. — Объясни ты мне, пожалуйста, что это значит. Я вот тут в книжке прочел: «Патриции устраивали оргии с гетерами». Оргия — это что? — Оргия, Петька, это пьянка, — объясняет Василий Иванович. — А гетеры? — Гетеры — это проститутки. — А-а, — говорит Петька, — понятно. Ну, а патриции? — А это, Петька, опечатка. Надо читать не «патриции», а «партийцы».Партийная дисциплина
Эта тема слегка была затронута в объяснении слова «партиец». И даже не только слегка, а — как бы по касательной.
А вот — две небольшие истории прямо и непосредственно на эту тему.
Осенью 1947 года Николай Дмитриевич Телешов, невзирая на все социальные катаклизмы нашего века, не перестававший переписываться со своим старым другом Иваном Алексеевичем Буниным, получил от того из Парижа открытку, в которой Иван Алексеевич, между прочим, писал:
► Я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василия Теркина») и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передай ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно пошлого, слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за «Теркина».
Телешов, естественно, тут же написал об этом Твардовскому. И тот, конечно, был очень этим отзывом польщен и даже взволнован. Бунин, как известно, никогда не был щедр на похвалу. И даже преклонные годы не смягчили желчность его натуры. («Я стар, сед, сух, но все еще ядовит», — писал он примерно в то же время тому же Телешову.)
Много лет спустя (в 1966-м) Александр Кузьмич Бабореко, влюбленный в Бунина и всю жизнь положивший на исследование самых разных обстоятельств жизни и творчества своего любимого писателя, спросил у Твардовского, ответил ли он тогда на письмо Бунина. Твардовский признался, что нет, к сожалению, не ответил.
— Надо было, конечно, написать, сказать какие-то добрые слова и послать книжку, — сказал он. — Но, по дисциплине того времени, я спросил кого следует, можно ли. Сказали — нельзя.
— Но Телешов ведь Бунину писал! — не удержался Бабореко.
— Телешов не был членом партии, — ответил Твардовский.
Вторая история — еще выразительней.
В Баку на какое-то местное литературное мероприятие приехала делегация писателей из Москвы. Был банкет. И во время этого банкета Мир-Джафар Багиров (тогдашний азербайджанский сатрап, человек страшный, говорили даже, что он страшнее, чем его выкормыш Лаврентий Берия) вдруг — ни с того ни с сего — обратил свой неблагосклонный взор на Самеда Вургуна.
Он погрозил ему пальцем и прорычал:
— Смотри, Самед!..
И долго еще нес в адрес растерявшегося Самеда что-то угрожающее.
За этим его рычанием слышалась такая лютая злоба и такая неприкрытая угроза, что все присутствующие, особенно москвичи, почувствовали себя неловко. А Павел Григорьевич Антокольский даже не выдержал и вмешался.
— Товарищ Багиров, — сказал он. — Почему вы так разговариваете с Самедом? Мы все высоко ценим этого замечательного поэта, и мы…
Багиров обратил на Антокольского свой мутный взор и, склонившись к кому-то из своих топтунов-шаркунов, спросил, кто это такой. Ему объяснили. Тогда, повернувшись к Павлу Григорьевичу, он негромко скомандовал:
— Антокольский. Встать.
Антокольский встал.
Багиров сказал:
— Сесть.
Антокольский сел.
Вопрос был исчерпан. Банкет продолжался.
Позже, когда шок, испытанный всеми свидетелями этого инцидента, уже прошел, кто-то из них спросил у Антокольского:
— Павел Григорьевич, а почему вы его послушались? Вы — уважаемый человек, да и немолодой. К тому же Багиров вам — не начальник. Почему вы позволили ему так с собой обращаться?
— Как я мог поступить иначе? Я ведь член партии, — ответил старый поэт.
Партийная совесть
О неприязненном отношении Ленина к слову «совесть» я уже говорил. Но совсем отказаться от этого слова (как и от некоторых других, обозначающих определенные моральные оценки и категории), просто вычеркнуть его из языка — ни он, ни его ученики все-таки не решились. Все эти слова сохранились в советском новоязе. Но каждое из них предварялось соответствующим — уточняющим — эпитетом, коренным образом меняющим (нередко с точностью до наоборот) изначальный, исконный его смысл. Вот так и родились все эти, ставшие привычными для нашего слуха словесные монстры: «Пролетарский гуманизм», «Большевистская принципиальность», «Партийная совесть», «Партийная этика».
Многие, конечно, ощущали комическую уродливость этих искусственных словосочетаний. Но помалкивали.
Однако — не всегда.
Помню, на одном писательском собрании какой-то присяжный оратор по какому-то поводу с привычным пафосом провозгласил:
— Мы не имеем права не реагировать на эти факты, товарищи! Нам это не позволит наша партийная совесть!
И тут вдруг из зала, из последних рядов отчетливо прозвучало:
— Партийная совесть? Да ведь это оксюморон!
По рядам порхнул смешок, но, к счастью для произнесшего эту ироническую реплику, среди сидящих в зале стукачей, как видно, не нашлось эрудита, знающего, что оксюморон — это стилистическая фигура, представляющая сочетание несовместимых и даже противоположных понятий. Скажем — «честный вор». Или — «веселая грусть». Или еще что-нибудь в этом же роде.
Партийная этика
Фрол Козлов, второй секретарь ЦК, то есть второй человек в государстве после Хрущева, наткнулся однажды в цековском коридоре на давнего своего однокашника — Попова. Когда-то, в юности, они то ли в школе вместе учились, то ли в техникуме, то ли в каком-то училище. Попов тоже преуспел в жизни, хоть и не так, как Фрол: он стал министром культуры РСФСР. Вот и оказался в ЦК по каким-то своим министерским делам.
— А ты как тут? — удивился Козлов.
— Я, Фрол Романыч, министр культуры РСФСР, — не без гордости объяснил Попов.
— Да ну?.. Молодец!..
Поговорили. Вспомнили молодость. Расчувствовавшийся Фрол сказал:
— А у меня завтра день рождения. Юбилей. Приезжай, приглашаю!
Попов был на седьмом небе. Назавтра они с женой весь день провели в поисках подарка для знатного именинника. Купили какой-то неимоверно дорогой сервиз и вечером отправились в гости к юбиляру.
На дальних подступах к козловской даче их задержал специальный пост. Попов объяснил, что едут они, хоть и по устному, но личному приглашению самого Фрола Романовича. Их пропустили.
Каким-то образом удалось прорваться и сквозь второй пост. Но у самой дачи их все-таки задержали и дальше — ни в какую. Без специального пропуска, говорят, пропустить не можем. Не имеем права.
— Как же так! — горячился министр. — Меня сам Фрол Романыч… Лично…
Он был так настойчив и так убедителен, что ему пошли навстречу: согласились выяснить этот вопрос у самого Фрола Романовича. И Фрол Романович — лично — к нему вышел.
— А-а, — сказал он, узнав Попова. — Это ты?.. Пригласил, говоришь?.. Да ты что, брат, спятил? Ты кто? Член ЦК? Кандидат? Даже и не кандидат? Член Ревизионной комиссии? Как же я могу тебя приглашать… Это что у тебя, подарок? Подарок сдай охране и езжай с Богом… Ишь ты! Пригласил!.. Да я, если хочешь знать, даже Петра Нилыча Демичева не имею права пригласить. Потому как я член Президиума (так называлось тогда Политбюро), а он — только кандидат. Ничего не поделаешь, — он вздохнул. — Партийная этика.
Партия — наш рулевой
Первоначально это было название песни В. Мурадели на слова С. Михалкова. Но постепенно это словосочетание стало такой же официальной формулой советского политического жаргона, как «блок коммунистов и беспартийных», «партия — ум, честь и совесть нашей эпохи», «партия сказала — надо, комсомол ответил — есть» и т. п.
Самое интересное тут то, что слово «партия» во всех этих речевых оборотах обрело, в сущности, совершенно новый смысл. Употребляясь ранее в исконном своем значении (от латинского partis, что значит — часть, группа), существительное это требовало непременного определения, уточняющего, о какой именно партии идет речь. Поначалу такие определения сохранялись, даже когда в стране уже установилась однопартийная система. Говорили: «большевистская партия», «Коммунистическая партия», «партия Ленина — Сталина», «партия нового типа». Но надобность в этих уточнениях вскоре отпала: слово, прежде обозначавшее часть, стало обозначением хорошо всем известного целого. И место уточняющих, объясняющих, конкретизирующих эпитетов заняли эпитеты возвышающие, боготворящие — «мудрая», «родная», «любимая», «железная», «закаленная в боях», наделенная «животворной силой» и т. п. Но прежде всего — ведущая. Куда ведущая — тоже было определено четко и ясно: от победы к победе.
Вот все это и собралось, сконцентрировалось в формуле: «Партия — наш рулевой».
И не случайно первое же посягательство на эту ее ведущую роль (когда пошли разговоры об отмене 6-й статьи брежневской Конституции, узаконившей исключительную роль партии в структуре советского государства) обернулось перифразом именно этой языковой формулы, превратившейся в озорной лозунг: «Партия, дай порулить!»
Но в те времена, когда партия была «руководящей и направляющей силой советского общества», относиться к этому крылатому выражению без должной почтительности было весьма и весьма опасно. О чем наглядно свидетельствует такой случай.
В типовом договоре, который автор заключает с издательством, есть такой стандартный бюрократический термин: «Название условное». Он обозначает, что заглавие будущей своей книги, указанное им в договоре, — не окончательное, что автор имеет право его заменить.
И вот в одном договоре, который какой-то автор заключил с Издательством политической литературы (Политиздатом), в соответствующей его графе, было обозначено заглавие книги, которую автор должен был написать: «Партия — наш рулевой». А далее — в скобках — как водится: «Название условное». Из договора эта формулировка перекочевала и в редакционный план.
Времена были уже сравнительно либеральные, поэтому никого не расстреляли, не посадили, не превратили в лагерную пыль. Даже не отправили на восемь суток на гауптвахту, как делалось это в подобных случаях в благословенные времена императора Николая Первого.
Дело кончилось тем, что всего только сняли со своего поста то ли директора издательства, то ли главного редактора.
Партия нас учит
Эта формула прилагалась к любым жизненным ситуациям. (Партия нас учила ВСЕМУ.) И немудрено, что в конце концов она стала предметом всеобщего глумления.
Случай, как мы не раз уже могли убедиться, вполне тривиальный: мишенью для шуток, иногда совсем не безобидных, становились многие официальные партийные и советские лозунги.
Нетривиальным тут было только то, что глумление над этой расхожей формулой советского новояза стало ОТКРЫТЫМ, ПУБЛИЧНЫМ.
Выразилось оно в реплике, которую произносил с эстрады один из сатирических персонажей Аркадия Райкина:
► — Партия нас учит, что газы при нагревании расширяются.
Партия и правительство
До войны эта языковая формула была неизменной. И никто не спрашивал, и никому не надо было объяснять, почему «партия» тут стоит на первом месте, а «правительство» — на втором.
Но 7 мая 1941 года в газетах появилось такое сообщение:
► Ввиду неоднократного заявления тов. Молотова В.М. о том, что ему трудно исполнять обязанности Председателя Совнаркома СССР наряду с обязанностями Народного комиссара иностранных дел, удовлетворена его просьба об освобождении от обязанностей Председателя Совнаркома. На эту должность назначен тов. Сталин И.В.
И формула перевернулась. Стали писать (и говорить) — «Правительство и партия». И опять никому ничего не надо было объяснять — все было понятно без всяких объяснений.
Советский человек и вообще-то был очень понятлив, а в таких делах — особенно. Если, например, в подписях под каким-нибудь некрологом фамилии отдельных членов Политбюро вдруг менялись местами, все сразу смекали, в чем тут дело. Понимали, что такая перемена ни в коем случае не могла быть случайной, потому что это вам не арифметика, тут от перемены мест слагаемых очень даже многое меняется.
О том, как происходила каждая такая перемена, где и как все это там у них решалось, мы, понятное дело, не знали. Хотя кое о чем, конечно, догадывались. Но теперь гадать уже не приходится. Теперь это уже давно перестало быть тайной.
Вот рассказ одного тогдашнего партийного вельможи, которому случилось однажды присутствовать при том, как принималось очередное такое решение:
► Приехал в Москву польский ансамбль «Мазовше».
Назначен был концерт в Большом театре.
Стало известно, что на концерте будет присутствовать сам товарищ Сталин.
Как сказал Беспалов, у всех были поручения в связи с этим делом. А ему, Беспалову, было поручено приготовить извещение о концерте для газеты.
Но писать было некогда, целый день на ногах, суета, то да се, встречи, разговоры.
Наконец все утрясли.
Вечером состоялся концерт ансамбля «Мазовше».
В ложе Сталин, Берия, Молотов, Маленков. Никто не оглядывается, все смотрят на сцену.
Концерт идет и проходит под аплодисменты.
В конце была овация.
— Прямо от сердца отлегло, — говорил Беспалов.
И прямо тут, в служебной театральной ложе, на обороте афиши он стал набрасывать сообщение для газеты.
Всего-то нужно было написать несколько строчек. Так, мол, и так, такого-то числа состоялся концерт ансамбля «Мазовше» в Большом театре. На концерте присутствовали…
Дальше писать не пришлось.
Концерт окончился, в зале погас свет.
Беспалов уже собрался выходить со всеми, но тут перед ним появился молодой человек в штатском, который сказал:
— Оставайтесь на месте, за вами придут.
Беспалов старался понять, что значат эти слова: «За вами придут». Он повторял их много раз про себя тем самым тоном, каким они были произнесены.
Концерт прошел удачно, закончился овацией. Поводов для беспокойства как будто нет.
Однако…
Однако очень хотелось есть. Ведь целый день на ногах, разговоры, встречи — только теперь вспомнил, что и поесть-то как следует не успел.
Прошло довольно много времени.
Наконец появляется молодой человек в штатском и говорит:
— Пойдемте… Вас ждут.
И ведет его по длинным коридорам и театральным кулисам, освещая дорогу фонариком.
Они оказались за сценой.
И перед ними открылась дверь в ярко освещенный зал.
А там — накрыт стол и за столом все вожди вместе: и Сталин, и Берия, и Маленков, и Молотов.
Сталин, увидев Беспалова, сам налил полный хрустальный бокал коньяка и сказал:
— На, выпей.
— Спасибо, товарищ Сталин, — сказал Беспалов и выпил бокал до дна.
— Молодец, — восхитился Сталин, — все до дна выпил.
И тут же наполнил тот же хрустальный кубок до краев.
— Написал? — спросил он у Беспалова.
— Точно так, товарищ Сталин, — ответил Беспалов.
— Ну, читай!
Николай Николаевич развернул афишу и прочел:
«Сегодня, такого-то числа, на сцене Большого театра состоялся концерт ансамбля „Мазовше“. Присутствовали: т. Сталин…» — тут Беспалов сделал паузу.
Остановился с карандашом в руках, ожидая, что скажет Сталин.
Сталин оценил его дипломатический ход, усмехнулся и сказал:
— Пиши: Сталин, Берия, Маленков, Молотов — по алфавиту..
— Понял? — сказал Беспалов. — Ты бы, например, так и написал бы по алфавиту — и мог бы ошибиться. Но если алфавит сверху приказан, так тому и быть. Вот она, высшая воля! Я и подумать не мог, что можно так вот расположить фамилии по алфавиту. Ждал, признаюсь, предпочтения, которое не моего ума дело. Ждал. И Сталин это понял, усмехнулся… Вот в каких условиях приходилось работать…
— На, — сказал товарищ Сталин и протянул новый бокал коньяку.
Отказываться — грех.
И Беспалов выпил вторую рюмку коньяку, который с голоду бросился ему в ноги.
Сталин это заметил и, подцепив вилкой кружок колбасы и ободочек лука, протянул закуску Беспалову.
— На, — сказал товарищ Сталин, — закуси.
— Ты понимаешь, — рассказывал Беспалов, — тут я стал в тупик. Не знал, как поступить: то ли взять из его рук вилку с колбасой и лучком, то ли прямо с вилки снять закуску зубами… И от закуски отказался.
Товарищ Сталин не обиделся. Только сказал:
— Ну хорошо, иди…
— Не помню, как я вышел, — рассказывал Беспалов. — Перед глазами были круги какие-то, а в тех кругах по алфавиту Берия, Маленков, Молотов…
(Эдуард Бабаев. Воспоминания)Вернемся, однако, к нашим мутонам: я имею в виду правительство и партию.
Когда Сталин умер, Председателем Совета министров стал Маленков, а Хрущеву было рекомендовано «сосредоточиться на работе в ЦК КПСС». На первых порах казалось, что пост Предсовмина гораздо важнее, чем должность секретаря ЦК (к тому же даже и не генерального) и что именно Маленков унаследует место умершего Хозяина. Но жизнь показала, что это не так. Сосредоточившись «на работе в ЦК КПСС», Хрущев быстро показал нам всем, кто хозяин в доме. И сразу стала ясна правильность первоначального расположения слагаемых. Даже иностранцы понимали, что назначенный Председателем Совета министров Булганин, сменивший быстро слетевшего Маленкова, — фигура чисто декоративная. И значит, все-таки — «партия и правительство», а не «правительство и партия».
Но все, как видно, было уже не так просто, как в сталинские времена. Не зря ведь Хрущев в конце концов попер декоративного Булганина и сделал себя (с сохранением главного партийного поста, конечно) Председателем Совмина.
На какое-то время расположение слагаемых в той старой формуле опять утратило былое свое значение.
Но вот Хрущева сняли, предъявив ему в числе других грехов и этот. И торжественно записали, что совмещение в одном лице двух этих постов недопустимо.
Первым секретарем ЦК стал Брежнев, и его фамилия, естественно, возглавила официальный список «вождей».
Но была тут одна закавыка. Дело в том, что фамилия нового Первого и по алфавиту шла первой. И вот — опять эта проклятая неизвестность!
Вскоре, однако, стало ясно, что Предсовмина Косыгин — фигура хоть и не декоративная (как Булганин при Хрущеве), но и отнюдь не главная. Сперва это просто «носилось в воздухе», но через два года после снятия Хрущева было закреплено официальными партийными решениями.
Вот как это было сделано.
В 1952 году, на XIX съезде партии, Сталин упразднил пост Генерального секретаря (стал называться просто секретарем ЦК) и тогда же Политбюро переименовал в Президиум. В 1966-м Брежнев восстановил оба наименования, став, таким образом, не просто секретарем и даже не Первым, а, как некогда Сталин, — Генеральным секретарем ЦК.
Смысл этого решения был очевиден: он повышал статус Первого. Но в переименовании «Президиума» в «Политбюро», казалось бы, особого смысла не было: не все ли в конце концов равно, как он там называется — этот высший партийный орган? Все ведь и так знают, что он высший.
Смысл, однако, в этом был, и немалый. Возвращение старых названий давало иллюзию возвращения к былым устоям, расшатанным «волюнтаристом» Хрущевым. Не имея возможности открыто реабилитировать Сталина и сталинщину (многое этому мешало), новые руководители КПСС хоть так вот, намеком, давали понять народу, куда клонятся их сердца.
В 30-е годы известный советский перебежчик Вальтер Кривицкий долго и безуспешно убеждал американских правителей, что именно не занимающий никаких государственных постов Сталин, а не «Президент» Калинин и «Премьер-министр» Молотов, является реальным главой советского государства.
Во избежание этих недоразумений во время официальных своих визитов в дальние (равно как и в ближние) страны Брежнев официально именовался «членом Президиума Верховного Совета СССР». (Позже он все-таки решил стать его Председателем, то есть как бы Президентом.) Но титул «Генерального секретаря» и до этого даже иностранцами уже воспринимался как высшая государственная должность в Советском Союзе.
Вот и опять, значит, создалась ситуация, при которой первоначальная формула соотношения партии и правительства должна была восторжествовать.
Так оно, в сущности, и вышло, хотя к старой формуле уже не вернулись. Вместо нее возникла новая: «Партия — руководящая и направляющая сила советского общества».
О том, как ко всему этому относилось население нашей необъятной страны, можно судить по такому анекдоту.
► Вступительные экзамены в каком-то советском вузе. Профессор спрашивает у абитуриента:
— Что является руководящей и направляющей силой нашего общества?
Парень мнется, хлопает глазами — явно не знает, как ответить на этот вопрос.
— Ну, хорошо, — решает ему помочь профессор. — Скажите тогда: какую роль в нашей стране играет Коммунистическая партия?
Абитуриент тупо молчит.
— Ладно, — сдается профессор. — Скажите тогда: кто у нас Генеральный секретарь ЦК КПСС?
По лицу экзаменующегося он видит, что тот и на этот вопрос тоже не может ответить.
— Ну, а кто такой Брежнев, вы, я надеюсь, знаете? Леонид Ильич Брежнев?
Абитуриент пожимает плечами: нет, и этого он тоже не знает.
— Послушайте! — взрывается профессор. — Откуда вы к нам приехали?
— Из Урюпинска.
Профессор — с тоской:
— Бросить бы все к такой-то матери и уехать на хуй в этот Урюпинск!
Передовица
Вообще-то слово это старое. Академический (четырехтомный) «Словарь русского языка», объясняя его значение, ссылается на Салтыкова-Щедрина. («На другой день явилась в „Уединенном пошехонце“ передовица, которая разъяснила дело уже в более решительном тоне». «Пошехонские рассказы».)
Но в официальный советский новояз слово это вошло не сразу. Сперва полагалось говорить и писать не «передовица», а — «передовая статья». В крайнем случае просто — «передовая».
Однако уже в 20-е годы оба выражения обрели равные права гражданства:
► Раньше в газетах были «передовые статьи». В разговорном же языке называли их передовицами. Теперь и в письменной и в устной речи обычно — передовицы, реже — передовая. — Комментируя в передовице это заявление, либеральная «Дейли ньюс» говорит… Эта же мысль повторена в передовице «Правды» («Правда», 1925, № 297).
(А. Селищев. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1926. М., 1928. С. 82.)Однако позже пути официального словесного оборота и его разговорного варианта снова разошлись.
Связано это, я думаю, с тем, что официальный оборот сохранил былое, основное свое значение:
► ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ. Руководящая редакционная статья в газете, журнале, помещаемая на первой странице.
(Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998. С. 585)Разговорный же вариант постепенно обрел пренебрежительно-ироническую и даже осуждающую окраску:
► — Роман плох до отвращения. Все его персонажи говорят языком газетных передовиц.
Иосиф Бродский на постоянно задаваемый ему вопрос, явилось ли его изгнание из отечества следствием его политических расхождений с советской властью, неизменно отвечал отрицательно. Нет, говорил он, расхождение, а лучше сказать, отторжение происходило не на политическом, а на языковом уровне:
► …Если поэта не печатают, то потому, что не печатают язык. Язык оказывается в состоянии противоречия и противоборства с системой и с языковой идиоматикой, которой пользуется система. То есть, другими словами, русский язык не выносит языка, которым пользуется власть. Именно поэтому и не печатают у нас на родине настоящих поэтов: потому что власть хочет установить некоторую языковую доминанту, в противном случае все выйдет из-под контроля.
(Иосиф Бродский. Большая книга интервью. М., 2000. С. 236)Замечание очень точное. Но кое-что к этому абсолютно верному диагнозу я бы все-таки хотел добавить.
Да, власть «хочет установить некую языковую доминанту». Но тут действует скорее инстинкт, нежели осознаннная, заранее запланированная программа. Лучше даже сказать, что в этом стремлении проявилась своеобразная ментальность носителей этой самой власти:
► На Политбюро, на пленумах, на съездах руководители партии и правительства, как их называли, фактически произносили речи, подготовленные референтами различного ранга. Брежнев, например, никогда ничего не писал и даже не правил. Ему зачитывали текст, а он одобрительно кивал головой или, прервав, начинал рассуждать о том, что ему в голову приходило. Любил делиться воспоминаниями из собственной жизни, поглаживая одновременно коленки сидящих рядом стенографисток.
Нет, все же я помню случай, когда Брежнев вмешался в текст. Александр Бовин, как правило, писал разделы о демократии. Когда в очередной раз мы собрались в зимнем саду в Завидове зачитывать свои разделы, Бовин зачитал свой. И вдруг Брежнев говорит:
— Что-то буржуазным духом попахивает. Ты, Саша, перепиши.
Вечером Саша разделся до трусов, поставил перед собой бутылку и за ночь переписал. Наутро все было прочитано Брежневу. Он сказал; «Это другое дело». Почему другое, почему буржуазным духом попахивало? Мы, в общем, догадывались. Брежнева забеспокоили какие-то словечки из непривычного для него лексикона.
(Александр Яковлев. Омут памяти. М., 2000. С. 172)Вот как оно было на самом-то деле!
Из приведенной зарисовки (с натуры) ясно видно, что Брежнев (и, конечно, не он один) скорее проглотил бы какую-нибудь буржуазную мысль, выраженную близкими ему, родными нашими новоязовскими средствами, нежели самую что ни на есть тривиальную советскую идею, изложенную несвойственным ему, а стало быть, чужим, «буржуазным» слогом.
Но есть тут и еще одна тонкость, отмеченная тем же Бродским:
► Я был просто самим собой, занимался своим делом, писал. Видите ли, существуют две разные вещи: нормативная лексика официоза и язык литературы; они противостоят друг другу. Стилист избегает банальности. А государство заявляет монопольное право на владение языком. Оно смотрит с подозрением на любого писателя, который не пользуется жаргоном «Правды».
(Иосиф Бродский. Большая книга интервью. М., 2000. С. 183)Вот почему даже для вполне ортодоксальных советских писателей, не гнушавшихся жаргоном «Правды» (а им не брезговал и Алексей Николаевич Толстой), язык газетных передовиц был последней степенью литературного падения. И вот почему выражение «на языке передовицы» стало синонимом предельно тусклой, серой, невыразительной, мертворожденной речи.
Но — не только.
На раннем этапе существования советского государства, когда идеология этого государства еще не стала словесной оболочкой пустоты, передовая статья в партийной газете (а тем более — в «Правде») действительно была руководящей. Это было прямое руководство к действию. Такая статья нередко имела силу постановления ЦК. И какое-нибудь словечко, впервые пущенное в оборот такой статьей, тотчас же становилось политическим термином. Слово не только теряло все свои живые краски — из него изымался, выветривался, уходил весь его прежний смысл. (Точнее, даже не смысл, а смыслы, поскольку каждое слово в языке несет в себе не одно, а по меньшей мере несколько значений.)
Все это происходило в точном соответствии с программой, обозначенной в романе Оруэлла:
► Задача новояза — сузить горизонты мысли. В конце концов… каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты.
Именно к этой цели стремился (может быть, неосознанно, инстинктивно) язык советских газетных передовиц.
Какое-нибудь живое, не казенное слово, попадая в контекст газетной передовицы, сразу обретало только один, и нередко даже вовсе не свойственный ему до этого смысл.
Вот, пожалуй, самый яркий пример такой трансформации старого русского слова.
Номер «Правды» от 13 января 1953 года открывался передовой статьей, разъясняющей и комментирующей появившееся в том же номере сообщение ТАСС об аресте группы врачей-вредителей. После того как все слова были сказаны, все проклятия по адресу «убийц в белых халатах» и их заокеанских хозяев были произнесены, то есть когда передовица, в сущности, была уже закончена, к ней — довольно искусственно — был прилеплен еще один абзац, начинающийся словами: «Все это правильно…» И далее следовало еще несколько слов о зловредных явлениях, которым в связи со всем случившимся советские люди должны объявить самую беспощадную войну. Явления эти обозначались словами: «ротозейство» и — «идиотская болезнь беспечность».
Для опытного читателя было совершенно очевидно, что уже написанную передовую дали на утверждение Сталину и, прочитав ее, он начертал под ней нечто вроде резолюции, начинающейся вот этими самыми словами: «Все это правильно…»
Оцепеневшие от страха редакторы «Правды» пришпандорили эту сталинскую резолюцию к передовой статье, и тотчас же эти старые русские слова обрели значение зловещего клейма, тягчайшего политического обвинения — такого же жуткого, каким в прежние времена были «троцкизм» или «правый уклон». И все авторы передовиц и иных редакционных статей во всех газетах страны, как попки, стали — к месту и не к месту — повторять: «ротозейство», «идиотская болезнь беспечность», подставляя под эти политические ярлыки имена и фамилии несчастных, якобы повинных в этих ужасных грехах.
Словарь Даля к словам «ротозейство», «ротозейничанье», «ротозейничать» дает такие синонимические обороты, объясняющие разные их смысловые оттенки: «зевать», «глазеть», «хлопать глазами», «глядеть попусту», «глупо засматриваться на все встречное».
Слово «беспечность» ассоциируется у нас прежде всего с знакомыми пушкинскими строчками:
► Где вы, лета беспечности недавней?..
Каков я прежде был, таков и ныне я: беспечный, влюбчивый…
Быть может, уж недолго мне в изгнаньи мирном оставаться, / вздыхать о милой старине / и сельской музе в тишине / душой беспечной предаваться…
Друзья мои, прекрасен наш союз! Он как душа неразделим и вечен — неколебим, свободен и беспечен…
На руль склонясь, наш кормщик умный в молчаньи правил грузный челн; а я, беспечной веры полн, — пловцам я пел…
Первое слово («ротозейство»), пожалуй, и в «староязе» несло в себе легкий осуждающий оттенок. Но именно — легкий, во всяком случае — скорее добродушный, чем злобный.
Что же касается второго («беспечность»), то в нем (если верить Пушкину. А кому еще нам верить, если не ему?) не было даже и тени осуждения, а тем более саморазоблачения, самокритики, как сказали бы мы все на том же нашем новоязе.
Но дело даже не в том, что, попав в передовую «Правды», оба эти слова изменили прежнее свое значение. Главный смысл происшедшей трансформации в том, что живое слово стало мертвым. И даже не просто мертвым, а — омертвляющим, несущим, сеющим смерть.
В сталинские времена это было едва ли не главное свойство языка газетных передовиц.
Но по мере того как государственная идеология утрачивала, теряла свой былой боевой заряд и превращалась в пустопорожнюю болтовню, слово «передовица», как уже было сказано, стало синонимом предельной тусклости и серости языка. Я бы даже сказал, синонимом предельной бессодержательности.
В 60-е годы в Италии возникло новое, ультрасовременное по тем временам направление в искусстве: неоавангард. Теоретики этого самого неоавангарда исследовали закономерности, определяющие, какое количество информации содержится в том или ином сообщении. Они отталкивались при этом от теории информации, согласно которой количество информации находится в прямой зависимости от вероятности. Чем менее вероятно сообщение, тем большее количество информации оно в себе содержит. Сообщение, содержащее минимум невероятного, содержит в себе минимум информации.
Теоретики неоавангарда исходили из того, что вот это самое количество невероятного как бы определяет меру художественности произведения, силу его художественного воздействия.
Для этих целей теория вероятностей, я думаю, вряд ли годится. А вот для определения стилистики передовой статьи в советской газете, когда идеология нашего идеологического государства была уже на излете, теория эта подходит как нельзя лучше.
Передовая статья — по определению — не должна была содержать ничего невероятного. И даже если речь в ней шла о каких-нибудь действительно невероятных вещах или событиях, сообщать о них полагалось так, словно ничего невероятно в них нет и быть не может. Говоря проще, передовая статья, как правило, несла в себе даже не минимум, а — ноль информации.
Унылая, безликая, стертая стилистика передовой статьи была производным от этого — главного ее качества. Еще и поэтому, если вдруг — каким-то чудом — мелькнет, бывало, в передовице какое-нибудь живое слово, живая мысль, живой оборот, — это вызывало самое настоящее смятение умов.
Был, например, такой случай.
То ли в конце 60-х, то ли в начале 70-х главным редактором «Правды» стал А.Ф. Румянцев. Хоть и был он довольно видным партийным функционером и даже членом Ревизионной комиссии КПСС, не без некоторых к тому оснований считался там, у них, белой вороной. Немудрено, что на должности главного редактора главной партийной газеты он продержался недолго.
Однако за недолгий этот срок он успел напечатать в этой главной партийной газете передовицу, произведшую в писательской среде большой переполох.
Передовица эта была посвящена литературе. Точнее — тем задачам, которые стояли в тот момент перед советскими писателями. Но наряду с разными подходящими к случаю формулами, которые давно уже никого особенно не волновали (служить народу, воспитывать читателя в духе преданности идеям коммунизма и т. д. и т. п.), было там еще одно — совершенно неожиданное заявление, которое писателей наших просто ошеломило. В совершенно категорической форме там утверждалось, что советский писатель должен быть интеллигентным человеком.
На разных этапах партия предъявляла деятелям литературы и искусства разные требования. Но такого они в своей жизни не слышали ни разу.
Александр Трифонович Твардовский поделил однажды всех членов Союза писателей на две неравные группы: тех (они были в явном меньшинстве), кто читал «Капитанскую дочку», и тех (таких было подавляющее большинство), кто ее не читал.
Прочитавшие «Капитанскую дочку», узнав, что советскому писателю отныне вменяется в обязанность быть интеллигентным человеком, потирали руки и, ликуя, повторяли знаменитую ленинскую фразу: «Не начало ли поворота!» Те же, кто «Капитанскую дочку» не читал, пребывали в полнейшей растерянности. Мало того, что их всю жизнь проверяли «на вшивость» (партийность, идейность, народность и проч.) — так вот, на тебе! Будут теперь проверять еще и на интеллигентность! Чего доброго, еще и экзамены какие-нибудь сдавать заставят!
И тех и других можно было понять. Ведь все они хорошо помнили времена, когда передовая «Правды» несла в себе некий код, шифр, с помощью которого партия объяснялась с передовой частью народа.
Однако и ликование тех, кто читал «Капитанскую дочку», и паника в рядах тех, кто ее не читал, длились недолго.
Как уже было сказано, А.Ф. Румянцев на посту главного редактора «Правды» не удержался, и жизнь писателей постепенно вошла в обычную свою колею. А правдинские передовицы вновь обрели свою привычную форму, главными приметами которой, как всегда, оставались безликость, серость и бессодержательность.
Этих трех слов тут, впрочем, явно недостаточно. Всю меру этой безликости, серости и бессодержательности не выразишь никакими словами: тут нужен какой-то другой способ выражения. И кажется, я его нашел.
Каждый, кто наблюдал за работой стенографистки на каком-нибудь собрании, не мог не заметить, что за оратором, говорящим на своем, живом, индивидуальном языке, стенографистка, как правило, не поспевает. Ее карандаш летит по бумаге с такой быстротой, что просто диву даешься.
А бывает, что оратор говорит долго, а стенографистка сидит без движения: сделает, не спеша, какую-нибудь одну закорючку в своей тетрадке — и опять застывает.
Это происходит в тех случаях (увы, не таких уж редких), когда речь оратора складывается не из слов, фраз, предложений, индивидуальных речевых, синтаксических оборотов, а из готовых словесных блоков.
Вот из таких блоков и состояли, как правило, газетные передовые статьи.
Ну, а если кого интересует, кем и как они сочинялись, эти передовицы, то у меня на этот случай имеется такая правдивая история.
* * *
Когда я работал в «Литературной газете», там на каких-то неведомых мне ролях подвизался очень милый, добродушный пожилой еврей по фамилии Бланк. Он был сотрудником отдела внутренней жизни. Каковы были там его обязанности, я не знаю, да, по правде сказать, не очень этим и интересовался: отдел литературы, в котором я работал и который, естественно, представлялся мне самым важным в газете, был своего рода государством в государстве. Сотрудники всех других отделов по тогдашней моей самонадеянной глупости представлялись мне людьми второго, а то и третьего сорта. Тем более, какой-то там старик Бланк, который с тем же успехом мог бы работать в любой другой газете, скажем, в «Социалистической индустрии» или даже в какой-нибудь затруханной заводской многотиражке — и только волею каких-то неведомых мне, наверняка совершенно случайных обстоятельств оказался в «Литературке».
Но однажды я увидал, как с Бланком обнимается и целуется, как с родным, знаменитый в ту пору литературный ас — Зиновий Паперный. Он как-то особенно любовно оглаживал Бланка, хлопал его по плечу. Потом они долго о чем-то говорили, снисходительно поглядывая на пробегавших мимо с гранками в руках молодых (вроде меня) сотрудников. Сразу видно было, что старые бойцы вспоминают «минувшие дни, и битвы, где вместе рубились они». И вот тут-то я и соблаговолил, наконец, поинтересоваться, кто такой Бланк и чем он занимается в моей родной газете.
— О! Это великий человек, — сказал Зяма, когда я задал ему этот вопрос. И рассказал такую историю.
Когда он — Зяма то есть — пришел работать в «Литгазету», он, естественно, ничего не умел, понятия не имел, что тут с чем едят, и страшно боялся первого своего редакционного задания. И вот этот грозный миг наступил. Его вызвал к себе сам Ермилов (он был тогда главным редактором).
Трепеща и содрогаясь, юный Паперный переступил порог редакторского кабинета. Там уже сидел Бланк.
Без долгих предисловий, коротко и ясно, Ермилов сформулировал задачу, которую им двоим предстояло выполнить. Необходимо было срочно — в номер — написать передовую статью под названием «Литература и жизнь». Зяма хотел было что-то спросить, уточнить, получить какие-то дополнительные пожелания и инструкции, но — не успел: Бланк молча кивнул и, взяв Зяму под руку, вывел его из редакторского кабинета.
— Как мы будем работать? — спросил растерянный Зяма, когда они с Бланком остались одни.
— Очень просто, — сказал Бланк. — Я ничего не понимаю в литературе, но я знаю жизнь. А вы ничего не понимаете в жизни, но знаете литературу. Поэтому вы идите к себе и пишите про литературу. А я пойду к себе и буду писать про жизнь.
— А как это все потом соединится? — спросил мало чего соображающий Зяма.
— Очень просто, — ответил Бланк. — Свою часть вы закончите такой фразой: «А между тем литература все еще не…»
Зяма так и сделал. И эта волшебная фраза соединила написанный им текст с текстом Бланка так прочно, что два эти текста сразу срослись в один. И никакому, самому придирчивому читателю (разумеется, если исходить из того, что у газетных передовиц был тогда хоть один читатель) даже в голову бы не пришло, что этот монолит создавали порознь два совершенно не знающие друг друга, почти даже не знакомые друг с другом человека.
В литературе Бланк и в самом деле ничего не понимал. Но что правда, то правда: жизнь он знал.
Пламенный привет
Анализируя язык Третьего рейха, Клемперер замечает, что в гитлеровские времена совершенно иной, новый смысл обрело слово «фанатично», «фанатичный». Раньше оно несло в себе негативный смысл, определенно уничижительную окраску. А в эпоху торжества нацистов стало употребляться исключительно в положительном смысле, определяя едва ли не главную гражданскую добродетель.
У нас тоже произошло нечто подобное. Такие эпитеты, как, например, «яростный», употреблявшиеся раньше скорее в отрицательном смысле, обрели совсем иное — утверждающее, ликующее звучание:
Пьем за яростных, за непохожих, За презревших грошевой уют… (Павел Коган. Бригантина)Да и сам фанатизм как свойство человеческой души тоже превратился из качества весьма сомнительного в повод для «яростного» поэтического восторга. Вспомним хотя бы хрестоматийные строки Маяковского, которые я уже приводил в главе «Коммунисты, вперед!»:
Пятиконечные звезды выжигали на наших спинах панские воеводы… и т. д.К чести Маяковского, однако, надо сказать, что, воспевая коммунистических фанатиков, само это слово («фанатик», «фанатичный», «фанатично») в комплиментарном и даже просто положительном смысле он не употреблял.
Да и никем, пожалуй, оно в этом смысле у нас не употреблялось.
Зато постоянно употреблялся другой близкий по значению и эмоциональной окраске эпитет — «пламенный» в самых разных сочетаниях: «пламенные революционеры» (была даже такая книжная серия в Политиздате), «а вместо сердца пламенный мотор…», «пламенный привет».
Едва ли не самый смешной из слышанных мною тогда анекдотов связан именно с этим, наиболее часто употреблявшимся и, можно сказать, знаковым словечком советского новояза.
► По улице движутся колонны демонстрантов (дело происходит в один из главных советских праздников — то ли Первого мая, то ли Седьмого ноября). Колышутся на ветру алые флаги и транспаранты. Сияют счастливые лица юных энтузиастов. Звучат ликующие песни, воспевающие нашу кипучую, могучую, самую любимую и никем не победимую страну, единственную в мире, «где так вольно дышит человек». А на тротуаре стоит старуха и выкрикивает:
— Пламенный привет!.. Пламенный привет!..
Человек, стоящий с нею рядом и, видимо, ощущающий некоторую чужеродность этого слова привычному для нее лексикону, удивленно ее спрашивает:
— Почему пламенный?
Понизив голос, старуха доверительно ему отвечает:
— Чтоб они сгорели!
А вот — такое же ироническое переосмысление этого официального новоязовского оборота.
Тот свет, на который попал у Твардовского Вася Теркин, оказался, как помните, — «вроде станции метро, чуть пониже своды». И еще одно отличие сразу заметил наблюдательный Василий:
Стрелка «Вход». А «Выход»? Нет. Ясно и понятно: Значит, пламенный привет, — Путь закрыт обратный.Твардовский, конечно, не придумал это — услышал. Стало быть, в живом, народном словоупотреблении «пламенный привет» означало — точка, абзац, хана. Полный карачун.
Положишь партийный билет
На этой языковой формуле держалось — без преувеличения — все наше государство. Вся его жесткая структура с железно управляемой, как теперь говорят, вертикалью власти. И даже вся наша так называемая социалистическая экономика (до той поры, пока она окончательно не развалилась).
Можно даже сказать, что для экономики страны формула эта была важнее, чем для всех политических ее институтов. Ведь в экономике могут действовать только две силы, два регулятора — третьего не дано: рубль (то есть законы рынка) или внеэкономическое принуждение, то есть — диктат власти. Законы рынка при социализме (я имею в виду наш, советский, российский социализм), как известно, не работали. Работал только приказ: жесткая, почти военная дисциплина.
Но диктат власти может опираться только на силу. А как эта сила (даже если дело происходит не на закате, а в пору самой цветущей зрелости социалистического государства) может себя проявить? Не поставишь же около каждого руководителя предприятия — каждого директора завода, каждого председателя колхоза — человека с ружьем?
Вот тут и срабатывала эта магическая формула: «Положишь партийный билет!»
► Кагановича (на фронте) спросили: почему не открывают Второй фронт? Он ответил:
— Открыть второй фронт может только Черчилль. Если бы Черчилль был член партии, мы с товарищем Сталиным вызвали бы его, сказали: «Положишь партийный билет». А так…
(Мих. Ардов. Легендарная Ордынка. Портреты)С Черчилля, конечно, были, как говорится, взятки гладки. На него эта магическая формула подействовать не могла. Но для члена Коммунистической партии не было и не могло быть ничего страшнее этой угрозы. В особенности если он был не рядовым ее членом, а пусть маленьким, но — руководителем. Тем более — руководителем производства.
Если верить партийному уставу, из рядов Коммунистической партии можно было выйти. На самом деле, однако, выход по собственной воле из этих железных рядов был делом совершенно немыслимым. И не только потому, что это был — смертный грех, гражданская казнь, остракизм. Это было невозможно физически. Таков уж был самый механизм этого уникального устройства.
Действие этого механизма очень точно — с присущей его художественному мышлению простотой и наглядностью — показал Владимир Войнович в уже цитировавшемся мною своем романе о жизни и необычайных приключениях солдата Ивана Чонкина.
Вот как в этом романе исключают из партии — на бюро райкома — председателя колхоза Голубева.
Перед тем как приступить к персональному делу Голубева, члены бюро исключили из партии учителя Шевчука — за то, что в первый день войны он неосторожно воскликнул: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Яркую сцену исключения Шевчука я приводить здесь не буду, напомню только ее драматический финал:
► — Итак, есть предложение подтвердить исключение из партии. Другие мнения есть? Нет? Голосуем. Голосуют только члены бюро. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет? Принято единогласно. Товарищ Шевчук, у вас билет с собой?
Шевчук молчал, вцепившись в сукно и глядя прямо перед собой.
— Шевчук, я вам говорю! — повысил голос Ревкин. — Положите билет на стол.
Шевчук вдруг вытаращил глаза, приподнялся на носки, странно, со свистом и даже с каким-то гулом втянул в себя воздух и попятился назад, таща за собой скатерть со всеми графинами, стаканами, пепельницами и чернильными приборами…
Кто-то, сидевший на другой стороне стола, ухватился за скатерть, пытаясь ее удержать. Скатерть треснула. Упал графин. Зазвенело стекло. И вдруг Шевчук с клоком сукна в руках, не подгибая колен, ровно, как столб, опрокинулся навзничь. Громко хрустнул затылок.
Члены бюро повскакивали на ноги и, вытянув шеи, смотрели на распростертое жалкое тело…
— Кто-нибудь из медиков есть среди нас? — растерянно спросил Ревкин. — Раиса Семеновна!
Раиса Семеновна наклонилась над телом, и стоявшим сзади стали видны ее толстые ляжки, туго обтянутые резинками голубых трикотажных рейтуз.
— Пульса нет, — сказала Раиса Семеновна, с трудом разгибаясь.
То ли на Голубева, персональное дело которого должно было разбираться сразу после персонального дела Шевчука, произвела впечатление эта сцена, то ли он уже решил это для себя раньше, но он в процессе исключения повел себя совсем не так, как предписывала партийная традиция и партийная дисциплина:
► Голубев поднял голову и увидел, что все глаза устремлены на него.
— Товарищ Голубев, — повторил Ревкин, — я вас спрашиваю в третий раз, хотите ли вы что-нибудь сказать?
— А чего говорить? — спросил Голубев…
— Хотите что-нибудь возразить по поводу сказанного?
— Можно и возразить, — подумав, сказал Голубев.
— Только покороче, — вставил Борисов.
— Можно и покороче, — согласился Голубев.
Вскочил Неужелев.
— Товарищи, я предлагаю установить регламент. Мы тут и так много времени потеряли.
— Какой регламент вы предлагаете? — спросил Ревкин.
— Пять минут.
— Пять много, — заметил Борисов, — достаточно трех.
— Товарищ Голубев, — повернулся к нему Ревкин, — хватит вам трех минут?
— Еще и останется. — Голубев встал, медленно пошел к первому секретарю. — Вот, получите, — сказал он и, положив партбилет на стол перед Ревкиным, пошел к выходу.
— Товарищ Голубев! Товарищ Голубев! — закричали вместе Ревкин и Борисов.
Голубев махнул рукой и вышел за дверь. Члены бюро растерянно переглядывались, не зная, как реагировать на столь неожиданный поступок.
— Это провокация! — вдруг не своим голосом завопил Неужелев. — Мы должны его немедленно остановить!
Борисов, не дожидаясь дальнейшего развития событий, кинулся вслед за Голубевым. Он догнал его уже на улице, где Голубев, отвязав свою лошадь от забора, влезал в двуколку.
— Иван Тимофеевич! — выбежав без пальто и шапки, Борисов дрожал. — Иван Тимофеевич, ты чего это?
Иван Тимофеевич взгромоздился на двуколку и разобрал вожжи. Лошадь сразу пошла…
— Да погоди ты, — бежал рядом Борисов, хватаясь за борт двуколки.
— Отойди, говорят! — Голубев замахнулся кнутом.
Лошадь рванула, Борисов отлип.
Когда Борисов вернулся в райком, там царила полная растерянность. Обсуждали, что делать. Парнищев предложил:
— Раз он сам положил билет, у нас нет другого выхода, как принять его.
Вскочил Неужелев.
— Нет, товарищи, так делать нельзя. Это будет политической ошибкой. Мы, товарищи, не можем допустить, чтобы коммунисты кидались самым дорогим для нас документом. Мы должны заставить Голубева взять партбилет обратно. А вот когда он его возьмет, тогда мы его и… — Неужелев сделал хищный хватающий жест рукой.
— Правильно, — сказал Ревкин. — Думается, что Неужелев дело говорит. — (Неужелев скромно потупился.) — Давайте запишем примерно такое решение. Первое: осудить недостойное поведение коммуниста Голубева и указать ему на недопустимость небрежного обращения с партийным билетом. Второе: обязать товарища Голубева принять обратно партийный билет. Выполнение поручить… — Он поднял голову и встретился глазами с Борисовым. — Вот товарищу Борисову и поручим, — завершил он злорадно. Борисов покорно наклонил голову.
По поведению описанных в этой сцене членов бюро райкома может показаться, что принятое ими решение было вроде как самодеятельностью. На самом деле, однако, это была система.
Вот так вот просто взять да и положить — по собственному волеизъявлению — на стол свой партийный билет было невозможно.
Не зная толком ни партийного устава, ни этих их обычаев, я почему-то это всегда знал. Не берусь судить, откуда взялось это мое знание: просто знал, что этого не бывает, — не может быть, вот и все!
Поэтому я был не то чтобы удивлен, а прямо-таки изумлен, когда Магомет-Султан, дагестанский писатель, с которым я подружился, рассказал мне, что бывший редактор ихней областной партийной газеты, уйдя на пенсию, послал в ЦК свой партийный билет, объявив тем самым, что выходит из рядов КПСС.
— А что ты удивляешься? — сказал Магомет-Султан. — У нас многие так делают. Большие люди. Даже бывшие секретари райкомов или работавшие в аппарате ЦК.
— А зачем им это? — спросил я.
— Перед смертью с Аллахом помириться хотят. — Он усмехнулся. — Только зря все это.
— Почему зря? — задал я провокационный вопрос, не сомневаясь, что услышу в ответ что-нибудь насмешливо-атеистическое. Но услышал совсем другое.
— Не знаю, как ваш русский Бог, — сказал Магомет-Султан, — а наш Аллах не фрайер.
Честно говоря, я тоже не знаю, фрайер или не фрайер наш русский Бог. Но твердо знаю, что создатель Коммунистической партии фрайером точно не был. Недаром он так уперся на первом параграфе первого пункта партийного устава и даже учинил среди отцов-основателей создаваемой партии по этому, казалось бы, такому мелкому и несущественному для серьезных разногласий поводу — настоящий раскол. Он далеко глядел.
Не могу поручиться, что он уже тогда во всех деталях знал, каким оно будет, закладываемое им здание. Но в результате этих его усилий сложилась система, при которой легче было «вернуть билет» Творцу, как это сделал Иван Карамазов у Достоевского и как собиралась сделать Марина Цветаева («Пора, пора, пора — Творцу вернуть билет!»), чем кинуть свой партбилет на грязное сукно канцелярского стола в занюханном каком-нибудь райкоме.
Ну, а уж не в райкоме, а на более высоком, самом высоком уровне, — тут и говорить нечего. Тут этот жестокий закон «невыхода» из игры совсем уже не знал никаких исключений.
* * *
Когда волнения в Венгрии осенью 56-го достигли критической точки и стало ясно, что вторжения советских войск не избежать, Имре Надь (тогдашний премьер-министр Венгерской Республики) обратился за помощью в Организацию Объединенных Наций.
До этого деятельность товарища Надя в нашей печати освещали по-разному: то обвиняли его в правом уклоне, популизме и других смертных грехах, то именовали верным ленинцем и чуть ли не единственным в Венгерской компартии последовательным борцом за социализм.
24 октября Надь вновь (уже во второй раз) стал премьер-министром Венгрии. Но спустя несколько дней — 3 ноября — было создано «Временное революционное рабоче-крестьянское правительство» во главе с Яношем Кадаром. Оно и обратилось к советскому руководству с просьбой о вторжении. И тут уже стало ясно, что песенка Надя спета.
Хорошо зная нравы своих бывших товарищей, он укрылся в югославском посольстве.
Когда мятеж был подавлен, советские власти обратились к Югославии с требованием выдать Надя. И после долгих переговоров те в конце концов его выдали, заручившись обещанием, что никакая суровая расправа ему не грозит.
Наши такое обещание с легкостью дали. И с такой же легкостью его нарушили: Имре Надь был расстрелян.
Я тогда — по молодости лет — был потрясен этим беззастенчивым, а главное, как мне тогда казалось, совершенно бессмысленным коварством.
— Главное — зачем?! Ведь в этом же нет никакого смысла! — сказал я тогдашнему своему дружку Илье Звереву, одному из немногих, с кем рисковал откровенничать на всю катушку.
Главная мысль моя заключалась в том, что моральные потери, понесенные в этом случае нашей родной советской властью, не диктовались никакой политической целесообразностью. В сущности, я мусолил (может быть, и не догадываясь об этом) знаменитую мысль Талейрана по поводу расстрела Наполеоном герцога Энгиенского: «Это хуже, чем преступление: это — ошибка».
Но Зверев отрезвил меня одной короткой фразой.
— Смысл в этом как раз есть, — сказал он.
И на мой немой вопрос пояснил:
— Чтобы все знали, что выход из банды карается смертью.
Этот давний (чуть ли не полувековой давности) разговор я вдруг с поразительной ясностью вспомнил сейчас (даже место вспомнил, где мы про это говорили), прочитав в книге Р. Пихоя «Советский Союз: история власти», в главе о венгерских событиях, такую короткую сноску:
► И. Надь, эмигрировавший в СССР в 1929 г., с января 1933 г. стал агентом Главного управления госбезопасности НКВД по кличке Володя.
Умница Зверев, объяснивший мне, в чем состояла «политическая целесообразность» расстрела Имре Надя, при всей своей сообразительности, конечно, не подозревал, что предложенная им формула («за выход из банды») несет в себе еще и этот, особый, вполне конкретный смысл.
Впрочем, можно с уверенностью сказать, что, если бы даже он и не принадлежал к тайной агентуре «органов», расплата была бы та же: пулю в затылок он получил за выход из главной, партийной «банды».
* * *
Случай с Имре Надем — конечно, не рядовой, даже, можно сказать, экстраординарный. Но и не в таких экстраординарных случаях расставание с партийным билетом было, как говорится, чревато. И каждый, кто вынужден был с ним расстаться, прекрасно это понимал. А если не понимал, так чувствовал. (Подробно об этом см. в главе «Единство».)
Сегодняшние наши деятели, публично признающиеся, что даже сейчас, десятилетие спустя после того как КПСС прекратила свое существование, продолжают хранить свои партбилеты (об этом говорили Сергей Кириенко и Владимир Путин), конечно, думают и чувствуют иначе. В этих их заявлениях, наверно, больше расчета, чем искренности: Кириенко предстояло пройти голосование в Думе, большинство которой составляли тогда коммунисты, Путину — выборы в президенты, и он, естественно, не хотел терять и коммунистическую часть электората. Но при этом они, я думаю, не врали: партбилеты свои действительно не выкинули, продолжают хранить.
Что это? Сентиментальность? Наверное. Но нет ли в этой сентиментальности хоть мельчайшей крупицы того страха, который в давние, советские времена охватывал каждого, кому грозило лишиться своего партийного билета?
Впрочем, насчет каждого — это я, конечно, хватил.
На самом деле этот «священный трепет» затронул лишь тех, у кого от обладания партбилетом зависела вся их жизнь. В сознании простого человека не было и следа этого «священного трепета». Что нашло свое отражение в таком, например, анекдоте:
► Приходит муж домой в несколько растрепанных чувствах. Жена спрашивает:
— Что с тобой?
— Представляешь, вызвали в партком, говорят: «Одно из двух: или поедешь в Чернобыль, или завтра утром клади на стол партбилет».
Жена говорит:
— А тебе-то что волноваться? Ты же не член партии.
— Вот я и думаю, — отвечает он, — где я им до утра достану партбилет?
Это — анекдот. А вот, как сказано у Бабеля, — замечание из жизни.
Историю эту рассказал мне Фазиль Искандер. Однажды на сухумском базаре он заговорил с человеком, который продавал водительские права. Покупать он их не собирался (у него и машины-то не было), но из любопытства спросил:
— Сколько?
Тот ответил:
— Пять тысяч.
— А за три не отдашь? — спросил Фазиль. (Тоже, разумеется, из чистого любопытства.)
Продавец обиделся:
— Что я тебе, партийный билет продаю?
Самое интересное в этом ответе, как объяснил мне Фазиль, было то, что цена партийного билета в его родном Сухуми составляла тогда ровно три тысячи рублей. В партию принимали преимущественно рабочих. И интеллигенту, которому для карьеры или по иным каким-нибудь причинам (скажем, чтобы избежать очередного сокращения штатов) приспичило вступить в железные ряды, надо было уплатить (в виде взятки) именно такую сумму.
О том, насколько оторвалось представление о членстве партии от необходимости исповедовать коммунистическую идеологию, может свидетельствовать такой анекдот:
► Рабиновича исключили из партии. Рабинович, конечно, переживает, мучается: дело ведь идет о жизни и смерти. И вот снится ему такой сон.
Ясное солнечное утро. Под колокольный звон на белом коне въезжает на Красную площадь генерал Деникин. Народ ликует: наконец-то злодейский коммунистический режим повержен. Затаив дыхание все ждут, какие слова произнесет, обращаясь к народу, белый генерал. И белый генерал торжественно провозглашает:
— Первым делом восстановить Рабиновича в партии!
Этим давним — еще брежневских времен — анекдотом была, кстати сказать, предсказана совсем уже откровенная оторванность сегодняшней Компартии от декларируемых ею когда-то идей: трогательная готовность лидеров нынешней нашей КПРФ не только христосоваться с попами и архимандритами и кропить святой водой свои партийные съезды, но и осенять алым партийным знаменем государственные похороны царской семьи.
Президиум
Нормальное, обычное слово. Во всех языках оно есть. Но в советской жизни, а значит — и в советском новоязе, оно было наполнено совершенно особым, сакральным, каким-то даже эзотерическим смыслом.
Однажды в разговоре с Николаем Николаевичем Асеевым зашла у нас речь о Николае Семеновиче Тихонове. Я выразил изумление по поводу того, что этот поэт, начинавший так талантливо и ярко, превратился в унылого графомана, утратившего не только какие-либо признаки поэтического дара, но даже и остатки простого умения более или менее грамотно укладывать слова в стихотворные строки.
Причина этой катастрофы была мне более или менее ясна. Но Николай Николаевич пролил на эту загадку дополнительный свет.
Сидели как-то они с Тихоновым в ложе во время какого-то торжественного собрания. Возможно даже, это было на первом писательском съезде. Сидели и разговаривали о чем-то, как казалось Асееву, одинаково важном и интересном для обоих.
— И вот я замечаю, — рассказывал Николай Николаевич, — что он меня не слушает. Покраснел весь, напрягся…
Оказалось, что с трибуны зачитывали список лиц, предлагавшихся в президиум высокого собрания. И Тихонова в этот момент больше всего на свете интересовало: будет или не будет сейчас упомянута и его фамилия. Ясное дело, что тут уж ему было не до Асеева, и не до отвлеченного их разговора о каких-то там высоких материях.
Рассказав эту историю, Николай Николаевич махнул рукой и — заключил:
— Тут я понял: говно!
Не берусь утверждать, что вся человеческая трансформация — лучше сказать, деградация — талантливого (в прошлом) поэта началась именно с этого момента. Какое-то количество этого самого «говна», надо полагать, содержалось в его душе и раньше. Но, может быть, это и не получило бы такого ужасного развития, если бы не открывшаяся вдруг пред ним возможность попасть в президиум.
Такая возможность (а тем более невозможность) играла в жизни и судьбе советского человека ключевую, а нередко и роковую роль.
Герой одного известного советского романа даже умер, узнав, что его не избрали в президиум.
Один из самых известных и влиятельных в своем городе людей, он однажды опоздал на какое-то важное городское собрание. Вошел в зал, привычно прошел в президиум, сел. И вдруг почувствовал: что-то не то. Сидящие рядом как-то на него косились и между собой тоже перебрасывались — явно на его счет — какими-то странными взглядами. Через несколько секунд все разъяснилось: сидящая рядом женщина наклонилась к его уху и шепнула: «А вас не выбрали».
Потрясенный, растерянный, он вышел на улицу. Шел, погруженный в свои невеселые мысли, — и даже не сразу заметил, что его толкнула машина.
Толчок был не сильный, и он, конечно, от этого удара быстро бы оправился. Смертельным оказался тот, другой, моральный удар. Через несколько дней он скончался от инсульта.
Не исключено, конечно, что это был всего лишь такой художественный образ. Говоря по-научному, гипербола. Вроде как в рассказе Чехова «Смерть чиновника»: не всякий же чиновник, случайно начихавший на генеральскую лысину, тут же и отдавал Богу душу. И тем не менее случай, описанный Чеховым, безусловно отразил, опять-таки говоря по-научному, типический характер в типических обстоятельствах. Вот так же и смерть Немировского — одного из главных героев романа Григория Бакланова «Друзья».
Однако, как оказалось, этого своего героя и всю эту драматическую историю писатель не выдумал:
► В тот день зачем-то поехал я в Союз писателей… И в троллейбусе, а это еще будет иметь значение, встретил секретаря парткома Винниченко. Вместе вышли, перешли улицу Герцена, в дверях, как водится, произошла гоголевская сцена: поуступали друг другу право первым войти. Крупный мужчина цветущего вида, мог ли он думать, что жить ему осталось недолго? А случилось с ним вскоре вот что: на собрании его не выбрали в президиум. Ну и что? — скажете вы. Как что? Секретаря парткома не выбрали в президиум. Где его законное место! Тот, кто знает весь механизм изнутри — а он-то знал, — может себе представить, что произошло: вышестоящие товарищи не вставили его в список. Или, что еще страшней, вычеркнули. И уже кто-то, наверное, присмотрен на эту должность, а ему возвращаться в первобытное состояние, стать просто писателем…
Вот представьте: снимает он трубку телефона у себя в кабинете (в этот момент секретарша никого не пустит к нему: занят!), звонит в издательство или в редакцию журнала и посреди ничего не значащего разговора — «Я тут одну вещичку закончил… Не берусь даже определить жанр. Само вылилось. Так рука легла…» А там, хоть и представляют, что могло вылиться, знают его руку, тем не менее радостно приветствуют. И в служебном конверте доставляется курьером, и сразу — в набор.
И вместо этого, удобного, привычного, самому со своей рукописью просителем являться в редакцию, а там еще и злословить начнут: «Это — бывший секретарь парткома, тот, которого поперли… А за что, кстати говоря, поперли? Числится что-то за ним?» Бывший… Это ведь вот что значило: в плане издательства «Художественная литература» стоял однотомник одного из секретарей Московской писательской организации, было уже известно, под каким номером, когда намереваются выпустить, и вдруг секретаря переизбирают; и под тем же номером, в том самом утвержденном плане появляется однотомник, но уже не его, а нового секретаря; сменился человек в кресле, заменили и книгу в плане…
Так что же дороже, возможно, спросите вы: пребывание в должности или жизнь? А если пребывание в должности и есть жизнь? Не берусь утверждать, так ли, не так думал он, когда узнал, что не избран в президиум, но он вернулся домой и его разбил паралич. В дальнейшем, когда я писал роман «Друзья», историю гибели Немировского, вспоминалось мне все происшедшее с Винниченко, жизнь его и смерть.
(Григорий Бакланов. Жизнь, подаренная дважды)Не знаю, может быть, в какие-то очень давние времена, на заре советской власти, например, в президиумы собраний и в самом деле избирались самые достойные, самые уважаемые, самые заслуженные из присутствующих. Но я этого уже не застал. И у меня слово «президиум» вызывает поэтому совсем другие ассоциации.
* * *
Шло собрание московских писателей. Не помню уж, по какому случаю собрали нас тогда. Помню только, что на сцене, за столом президиума восседали все секретари. Да и не только секретари — были там еще и какие-то морды то ли из райкома, то ли из горкома, а может быть, даже и из ЦК. Все было чинно, торжественно и до смерти скучно.
Скука была такая, что я на время как-то выключился. Вроде как даже задремал. И вдруг — очнулся. Почувствовал: что-то произошло. Какой-то тихий шорох прошел по залу. И — тишина. Но не та мертвая, тухлая тишина, которая царила в этом зале до того, как я отключился. Это была совсем другая тишина: живая, напряженная. Весь зал кого-то внимательно слушал. Слушал так, как давно уже никого не слушали в этом зале.
Приглядевшись, я узнал оратора. Это был Степан Павлович Злобин — человек редкой смелости, честности и благородства. Что же он такое сказал? — успел подумать я, ругая себя за то, что проспал что-то интересное, а может быть, даже и важное. Но оказалось, что очнулся я вовремя: самое интересное и важное только началось.
Обернувшись к столу президиума и указывая на сидящих за этим столом рукой, Степан Павлович кинул им прямо в их сановные рожи:
— Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!..
Лица секретарей и партийных функционеров стали багровыми.
Голос Степана Павловича гремел:
— Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда — всё молчи!..
Зал наслаждался. Сидящие в президиуме ежились. Лица их из багровых стали фиолетовыми. Но что они могли сделать? Нельзя же было запретить оратору читать вслух стихи Лермонтова. Так что пришлось им — в кои-то веки! — услышать всю правду о себе. Высказанную публично, при большом стечении народа и в самых нелицеприятных выражениях.
Привычно обозначая сидевших в том президиуме местоимением третьего лица («они», «им»), я как бы предполагаю тем самым, что речь идет об одних и тех же людях, — словно членство в президиуме очередного какого-нибудь собрания было их постоянной должностью. Но так оно, в сущности, и было. Герой романа Бакланова не зря ведь так обмишулился: пройдя через зал прямо к столу президиума и усевшись там, даже не соизволив узнать, избран он или не избран в этот «руководящий орган». Зачем ему было об этом осведомляться, если там, в президиуме, было его постоянное место. Каждый, кто уже однажды попал в эту номенклатуру, всегда именно так и поступал.
Кое-какое значение имела тут, наверно, и личная инициатива. Но — небольшое.
Однажды я слушал, как Михалков (главный Михалков, старший — Сергей Владимирович) говорил кому-то про одного хоть и молодого, но уже набиравшего силу (не в творческом, разумеется, а в карьерном, административном смысле) поэта:
— Он — наглец. Входит в зал и сразу лезет в президиум, как будто так и надо. — Подумал и добавил: — Я, правда, делаю то же самое. Но я это делаю на обаянии. А ведь это именно то, чего у него как раз и нет.
На самом деле, конечно, Сергей Владимирович делал это тоже не только на обаянии. Просто он знал, что имеет право. И не сомневался, что никто и никогда у него этого права не отберет.
Обаянием, конечно, можно достичь многого. Но чтобы так вот просто, по собственному волеизъявлению усесться в президиуме, да чтобы никто тебя оттуда не попросил, — одного только обаяния тут явно недостаточно.
Хотя однажды был и такой случай.
* * *
В так называемом Дубовом зале писательского клуба шло собрание московских поэтов. Как водится, был избран президиум, в который вошли все, кому полагалось туда войти. Собрание уже набирало обороты, когда открылась дверь, отделявшая зал заседания от ресторана, и в зал вошел Михаил Аркадьевич Светлов. Он, по-видимому, довольно сильно принял, потому что на ногах держался с некоторым трудом. Огляделся, ища стул. Но поблизости свободного места не нашлось. И тогда, слегка пошатываясь, он двинулся к столу президиума, углядев там единственное незанятое, свободное место. Усевшись там, он облокотился локтями на зеленое сукно, положил голову на ладони и тихо, мирно задремал.
Председательствоваший на том собрании Степан Петрович Щипачев нашел неожиданный, но, надо сказать, остроумный выход из создавшегося щекотливого положения.
— Есть предложение, — обратился он к залу, — кооптировать Михаила Аркадьевича в президиум.
Предложение это было встречено веселым гулом, кажется, даже аплодисментами. Все дружно проголосовали «за».
А Михаил Аркадьевич так мирно и проспал за столом президиума до самого конца собрания. Наутро он, естественно, ничего не помнил. А когда ему рассказали о вчерашнем его подвиге, меланхолически заметил:
— Вот как легко сделать карьеру. Для этого, оказывается, нужна всего лишь добрая порция хорошего армянского коньяка.
Сам я при этом не был, историю эту знаю (и пересказываю) со слов моего соседа — старого московского поэта Я.А. Хелемского. Но кое-что к свидетельству очевидца все-таки хочу добавить.
Степан Петрович Щипачев особой смелостью не отличался. Скорее даже был он робок. Во всяком случае — законопослушен. Среди остряков, которые ради красного словца не пожалеют родного отца, тоже не числился. И если он позволил себе эту маленькую вольность, значит, ничего такого уж рискованного для него в ней не было. Либо то собрание было не шибко важное. Либо слово «президиум» уже теряло тогда свою сакральную, магическую силу.
Попробовал бы он вот так «кооптировать» Михаила Аркадьевича в президиум какого-нибудь из тех собраний, что проходили в том же Дубовом зале, скажем, в 49-м году, когда громили «безродных космополитов».
Даже мысль такая тогда у него бы не возникла.
Да и сам Михаил Аркадьевич, сколько бы ни принял на грудь доброго армянского коньяку, пробираться к столу того президиума, чтобы усесться там рядом с Грибачевым и Софроновым, наверняка не стал бы. Единственное, что он мог себе тогда позволить, — это, стоя на деревянной лестнице, ведущей на балкон, меланхолически кинуть в пространство:
— Что они от нас хотят? Вот мы уже пьем, как они…
Провокация
В 60-е годы был распространен такой анекдот:
► В Египте обнаружили неизвестную прежде мумию какого-то фараона. Необходимо было установить личность покойника. Для этой цели съехались искусствоведы из всех стран мира. Из СССР тоже прибыли два искусствоведа в штатском. И разгадать загадку удалось только им. Искусствоведы других стран долго что-то там высматривали, вынюхивали, но толком ответить на поставленные вопросы так и не смогли. А наши провели наедине с мумией несколько часов и сразу назвали имя фараона, эпоху, годы его царствования. Все, понятное дело, стали интересоваться, как удалось им так быстро все это выяснить, да еще с такой потрясающей точностью. Они охотно объяснили:
— Сам признался!
После этого анекдота выражение «искусствоведы в штатском» стало расхожим. А в литературной среде у него тотчас появился аналог: «Литературоведы в штатском». Кличка эта пристала ко многим…
Ни один из литературоведов, о которых пойдет речь в этом моем рассказе, к категории «литературоведов в штатском» в собственном (одиозном) смысле этого слова отнесен быть не может. А почему я тут вспомнил это — ставшее крылатым — выражение, будет ясно из дальнейшего.
В 70-е годы Марина Цветаева уже прочно вошла в первую десятку (а может быть, даже и пятерку) русских поэтов XX века. На Западе о ней писались диссертации, выходили монографии, собирались специально посвященные ей симпозиумы и научные конференции. Одну из таких конференций — весьма представительную — предполагалось провести в Италии. И устроители этой конференции направили в Москву, в Союз писателей СССР, письмо, в котором они приглашали принять в ней участие соотечественников поэта — известного литературоведа Владимира Николаевича Орлова, подготовившего и выпустившего со своим предисловием том Цветаевой в большой серии «Библиотеки поэта», родную сестру Марины Ивановны — Анастасию Ивановну Цветаеву, Владимира Брониславовича Сосинского, дружившего с Цветаевой в эмиграции, в Париже, и двух литературоведов, давно занимающихся изучением жизни и творчества Цветаевой — Анну Саакянц и Ирму Кудрову.
Посовещавшись и, разумеется, согласовав свое решение с начальством, руководство Союза писателей ответило на это приглашение письмом, в котором сообщалось, что делегация в указанном выше составе безусловно на конференцию прибудет. Но при этом высказывалась просьба, чтобы в число ее членов включили еще двух известных советских литературоведов: литературоведа Т. (автора книги о Салтыкове-Щедрине) и литературоведа П. (автора книги о Бальзаке).
Не вдаваясь в выяснение причин, по которым автор книги о Щедрине и автор книги о Бальзаке должны участвовать в конференции, посвященной творчеству Цветаевой, устроители пошли навстречу пожеланиям московских коллег и ответили, что охотно пригласят указанных господ тоже.
Однако перед самым открытием конференции из Союза писателей СССР полетело в Италию новое письмо, в котором сообщалось, что В.Н. Орлов, А.И. Цветаева и В.Б. Сосинский — люди преклонного возраста и слабого здоровья — отправиться в столь далекое путешествие, к сожалению, не могут. Что же касается госпожи Саакянц и госпожи Кудровой, то эти две дамы, увы, не являются членами Союза писателей, по каковой причине связаться с ними руководству Союза не удалось. По всему по этому советская делегация прибудет в Италию лишь в составе двух ее членов — литературоведа Т. (автора книги о Салтыкове-Щедрине) и литературоведа П. (автора книги о Бальзаке).
На это, естественно, последовал ответ, что если лица, приглашавшиеся на конференцию итальянской стороной, приехать не смогут, то и господ Т. и П., навязанных устроителям конференции московской стороной, тоже просят не беспокоиться.
Гнев «московской стороны», вызванный этим вежливым отказом, не поддается описанию. Наглым итальянцам была послана нота, выдержанная в лучших традициях советской дипломатии. В ней говорилось, что нежелание допустить к участию в Цветаевской конференции двух известных советских литературоведов нельзя расценить иначе как провокацию, цель которой состоит в том, чтобы железным занавесом отгородиться от выдающихся достижений ученых, живущих и работающих на родине поэта.
Чем дело кончилось, я, по правде сказать, не знаю. Может быть, литературоведам Т. и П. так и не привелось съездить в тот раз в Италию. А может быть, итальянцы — так часто бывало — дали задний ход и в конце концов все-таки приняли странные условия игры, навязываемые им великой ядерной державой.
Эту историю я рассказал для того, чтобы показать, в каком причудливом контексте и с каким смыслом употреблялось в советском новоязе слово «провокация».
В таком же далеком от общеупотребительного значении это слово вошло не только в официальный политический жаргон, но и в нашу повседневную, бытовую речь.
Это было одно из главных слов советского лексикона.
Пытаясь характеризовать духовный облик советского человека, без этого слова не обойтись. В особенности если речь пойдет о психическом состоянии и поведении жителей нашей страны за границей.
Оказавшись за пределами родимой державы, советский человек жил в состоянии постоянного страха. Ни на минуту его не оставляла мысль, что в любой момент он может стать жертвой провокации. И в каждой незнакомой и не очень понятной примете чужой — заграничной — жизни ему мерещился жуткий призрак этой вот самой провокации.
Один мой сосед — известный и даже довольно знаменитый советский поэт — в числе первых советских туристов оказался в Австрии. И вот какую жуткую историю поведал он по возвращении об одном из самых острых тамошних своих впечатлений.
Очутившись в своем гостиничном номере, он, естественно, решил пойти в душ. С трудом освоив непростой пульт управления этим заграничным прибором (у них ведь там все не так, как у нас), отрегулировал воду до нужной ему температуры, пустил ее щедрой струей, всласть намылился, и… И тут-то все и произошло. Вода вдруг прекратила течение свое. Вырубилась. Как отрезало.
Потом оказалось, что у педантичных австрийцев — не как у нас, безалаберных россиян, — вода в душе не выдается моющимся гражданам в неограниченном количестве, а выделяется строго отмеренной мерой. Когда отмеренная порция кончается, желающий продолжить процедуру должен опустить в соответствующее отверстие шиллинг. И мыться в свое удовольствие дальше.
Наш поэт ничего об этом, конечно, не знал. И поэтому сперва подумал, что произошла обычная в наших краях техническая неполадка. Но он тут же в этом и усомнился. Все, что приходилось ему слышать о заграничной жизни, подсказывало ему, что У НИХ (в отличие от нас) никаких таких технических неполадок не бывает. Значит… Значит — провокация! Одна из тех, о неизбежности которых его предупреждали…
Как бы то ни было, положение его было ужасным.
С трудом вспомнив подходящие к случаю немецкие слова, он заорал:
— Фрау!.. Вассер!..
Но фрау на его призывы не откликалась. И вода не шла.
По правде говоря, я уж не помню, как он там выкарабкался из этой ужасающей ситуации. Как-то все-таки выкарабкался. Но, рассказывая об этих своих переживаниях, он завершал этот свой рассказ всякий раз одной и той же фразой:
— Представляешь? Голый… Весь в мыле… В капиталистической стране!
И выражение его лица при этом не оставляло сомнений, что и потом, когда причина случившегося разъяснилась, он так и остался при убеждении, что это была самая что ни на есть настоящая провокация, цель которой состояла в том, чтобы унизить его достоинство советского человека. Каковая цель — увы, приходится это признать — в конечном счете и была достигнута.
А вот еще одна история про то, как было унижено достоинство советского человека. В этот раз дело тоже происходило за границей. В огромном каком-то европейском аэропорту. И объектом унижения в этом случае, как на грех, тоже стал поэт.
В аэропорту этом он оказался не один, а с группой товарищей. Но товарищи, ловя последние счастливые миги заграничной жизни (они все уже возвращались из своей загранпоездки домой), отправились бродить по разным закоулкам этого гигантского аэропорта, а он, сославшись на усталость, с ними не пошел. Сказал, что посидит, подождет их вот здесь, в этом зале.
Ждать ему пришлось довольно долго, и в процессе этого ожидания ему смертельно захотелось по малой надобности.
Особых проблем с этим делом в Европе, как известно, не бывает. Туалет оказался рядом. Но чтобы туда попасть, надо было (проклятый мир чистогана!) что-то такое заплатить, кинуть в щель какую-то монетку. А этой самой монетки у него как раз и не было.
Желание облегчить мочевой пузырь все нарастало, с каждой минутой становилось все более и более нестерпимым. И тогда наш поэт, близкий к отчаянию, пошел на такой смелый шаг. Он давно уже приметил, что дверь, ведущая в кабину, не доходит до пола. Между нею и полом было довольно большое пространство, в которое он, сравнительно молодой и довольно спортивного сложения человек, без особого труда мог протиснуться. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что вокруг — ни души, отважный поэт быстро осуществил свой гениальный план и, оказавшись в кабине, удовлетворил наконец свое желание, испытав при этом знакомое каждому блаженство.
Но когда дело было сделано и он совсем уже готов был тем же манером выбраться из кабины наружу, он с ужасом обнаружил, что зал ожидания уже не так пуст, как это было минуту назад. В непосредственной близости от его кабины две какие-то иностранные дамы что-то такое щебетали на своем иностранном языке.
Блаженное состояние, вызванное освобождением мочевого пузыря, настроило нашего героя на оптимистический лад. Он беспечно подумал, что неприятная эта заминка — ненадолго. Сейчас эти дамы уйдут, и тогда…
Но когда дамы ушли, на их месте появились другие. А там и весь зал медленно, но неуклонно стал заполняться пассажирами. С каждой минутой положение становилось все более угрожающим. Пассажиры всё прибывали. За стенками кабины уже раздавался несмолкающий гул множества голосов. Надежд на то, что удастся выпутаться без скандала, становилось все меньше. Тем более что, кажется, уже даже объявили посадку на их рейс.
Пока он предавался этим печальным размышлениям, в зале появились его товарищи. Не обнаружив своего спутника там, где его оставили, они сперва не слишком обеспокоились: мало ли что — живой человек! Но по мере того как время шло, беспокойство их все возрастало. Черт возьми! Ведь их же предупреждали, что никто из них ни в коем случае не должен оставаться в одиночестве: гулять, ходить, а теперь вот выяснилось, что и сидеть можно только группами. В крайнем случае — парами.
Проклиная свою политическую беспечность, они ударились в самую настоящую панику. И когда по радио объявили, что посадка на их рейс заканчивается, они, взявшись за руки, загородили проход и объявили, что не пустят в самолет больше ни одного пассажира, пока им не вернут их пропавшего товарища.
Появилась полиция, а следом за ней и вездесущие журналисты. За их спинами скапливались любопытствующие пассажиры, старающиеся понять причину суматохи. И тут, окончательно уверившись, что никакого другого выхода из создавшейся ситуации у него нет, наш герой решился покинуть свое убежище тем же путем, каким он туда проник.
Раньше всех смысл происходящего усекли корреспонденты. Увидав слегка помятую человеческую фигуру, с трудом протискивающуюся из-под двери туалета, они быстро направили туда объективы своих фото- и кинокамер. И вот, под вспышки блицев и радостные вопли толпы, наш герой, хоть и порастеряв слегка свое достоинство советского человека, обрел наконец желанную свободу.
На следующее утро во всех газетах появились фотографии советского туриста, стоящего на четвереньках и испуганно глядящего в объектив. И рядом — другое фото: цепочка дружно взявшихся за руки его друзей, мужественно требующих, чтобы им вернули их товарища, ставшего жертвой гнусной политической провокации.
А герои всей этой газетной шумихи возвращались на родину с чувством хорошо выполненного долга. О том, что их ждет дома, в Москве, они старались не думать.
И еще одна история на ту же тему.
Другой мой сосед, тоже довольно известный в то время советский писатель Дмитрий Холендро в группе туристов летел куда-то через город Париж. И в аэропорту Орли ему вдруг сказали, что с ним хочет увидеться какой-то важный представитель авиакомпании, услугами которой они пользовались. Он, разумеется, согласился.
— Господин Голлендер? — осведомился тот, когда его представили Диме.
— Да, это я, — согласился Дима, предположив, что именно так произносится его фамилия на французский манер.
Убедившись, что перед ним именно тот, кого он искал, француз разразился длинной речью, из которой (при помощи переводчика, конечно) Дима понял, что во все время предстоящего им перелета авиакомпания готова неукоснительно обеспечивать его и его спутников кошерной пищей.
В том, что это была самая настоящая провокация — притом не какая-нибудь, а сионистская, — не могло быть ни малейших сомнений.
— Позвольте, — возмутился Дима. — Какая кошерная пища? Я, — он приосанился, — православный… Мои друзья, — обведя взглядом спутников, он чуть запнулся. — Мои друзья… гм… атеисты… При чем тут кошерная пища?!
Недоразумение довольно быстро разъяснилось.
Как оказалось, несколькими днями раньше известный на всю Европу раввин Голлендер устроил тут представителям этой авиакомпании грандиозный скандал по поводу того, что они нарушили заранее оговоренные условия полета его и его спутников: не обеспечили их кошерной пищей. Обнаружив в списке пассажиров схожую фамилию, представители компании решили, что это тот же раввин со своей свитой летит теперь обратным рейсом. И сочли своим долгом заверить его, что имевшая место оплошность будет исправлена.
Но православный Дима и его спутники-атеисты долго не могли успокоиться. А некоторые из них — самые недоверчивые — так и остались при убеждении, что никакого раввина Голлендера на самом деле не существует, а была это все-таки самая что ни на есть настоящая сионистская провокация.
Все эти истории (при желании я мог бы припомнить еще несколько) относятся к временам, когда путешествие за железный занавес было для советского человека еще в новинку. Позже, когда турпоездки эти стали более или менее обычным делом, страх перед возможными провокациями не то чтобы совсем исчез, но постепенно как бы притупился. А некоторые смельчаки даже хорохорились, давая понять, что ни в какие провокации они не верят, что все разговоры о них — не более чем пропаганда.
В одной такой (уже более поздней) туристской поездке вся группа дружно отмахивалась от предупреждений о грозящих им провокациях. Предупреждения эти исходили от одного бывалого туриста, который всю дорогу твердил своим товарищам по поездке, что здесь, за границей, надо быть крайне осторожным, что, потеряв бдительность, того и гляди влипнешь в какую-нибудь провокацию. Никто ему не верил. Над всеми этими его страхами смеялись. И тогда, не выдержав, он сгоряча признался:
— Вот вы не верите, а меня в такой поездке однажды так спровоцировали… Еле отмылся!
Провокация, как выяснилось, состояла в том, что он, уезжая, прихватил из своего номера в отеле маленький телевизор. За что и поплатился.
Строго говоря, он был прав: проклятые иноземцы его действительно спровоцировали. Телевизор, очевидно, был так хорош, что его просто невозможно было не украсть.
И тут мы слегка меняем тему. Все предыдущие истории относились скорее к проблеме социальной психологии. А тут мы уже вплотную подошли к проблеме чисто филологической: к тому, какой новый смысл в советском новоязе приобрело это старое слово — «провокация».
* * *
В Литературном институте на одном курсе со мною учился студент С., обладавший ярко выраженной еврейской внешностью: толстые семитские губы, грустные еврейские — слегка навыкате — глаза, а главное, конечно, — нос. Такой еврейский нос, как у него, можно было встретить нечасто.
И вот однажды другой студент, без всякого к тому повода, ну просто-таки ни с того ни с сего, с криком «Жидовская морда!» врезал кулаком по этому выдающемуся еврейскому носу. Из носа хлынула кровь. Драчуна оттащили, пострадавшему оказали первую помощь. Дело, вероятно, так бы и кончилось ничем: обладатель замечательного еврейского носа был незлобив и готов был простить своего обидчика, тем более что тот после тяжелой контузии был слегка с приветом. Обладатель еврейского носа и сам прошел войну, что такое контузия — понимал хорошо, потому и легко согласился с товарищами, уговаривавшими его историю эту оставить без последствий.
Но вмешалась комсомольская организация. Возникло персональное дело.
Героем этого персонального дела, то есть объектом разбирательства стал и получил суровое комсомольское взыскание, однако, не тот студент, который ударил, а тот — которого ударили.
Обвинялся же он в том, что спровоцировал русского человека на драку.
Строго говоря, так оно на самом деле и было.
Студент С. действительно спровоцировал своего сокурсника на этот безобразный поступок. Спровоцировал своей ярко выраженной «жидовской мордой». Точнее — носом. Нос — подтверждаю — был еврейским до отвращения. Такой нос не мог не возмутить и не вывести из себя истинно русского человека.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Когда я учился в 8-м классе, меня сделали редактором школьной стенгазеты.
Раньше от всяких (любых) общественных нагрузок я старался увиливать. Но эта пришлась мне по душе. Стенгазету мы (я и еще несколько моих дружков-старшеклассников) делали с увлечением. Сочиняли эпиграммы, рисовали карикатуры. И эти наши усилия были вознаграждены. Раньше стенгазета висела себе и висела на стене, потому что «так полагалось». И никто никогда не обращал на нее никакого внимания. А около нашей, когда мы вывешивали очередной, только что сделанный номер, сразу собиралась толпа. Поэтому, когда мы узнали, что объявлен общегородской конкурс школьных стенных газет, никто из нас не сомневался, что наша на этом конкурсе безусловно займет первое место.
Эта наша надежда превратилась в полную уверенность, когда мы увидали другие стенгазеты, развешанные по стенам конференц-зала. Конкурс был поставлен на широкую ногу: проходил он в горкоме партии, а председателем жюри был главный редактор городской газеты — толстый добродушный дядька в огромных роговых очках на полном, постоянно улыбающемся лице. Фамилия его была Клиросов: я запомнил ее, потому что его сын Володька Клиросов учился с нами в одном классе.
Город был маленький (Северный Урал, эвакуация, 1942 год), и школ в нем было немного. Но стенгазет в том зале было вывешено не меньше полусотни. И все они — все до одной! — угнетали своим скучным, унылым однообразием. Они все словно были сделаны одной рукой. Наша на этом тоскливом фоне должна была сразу броситься всем в глаза. В отличие от тех, серых, от начала до конца заполненных аккуратно переписанными и симметрично расположенными на листе ватмана заметками, она переливалась всеми цветами радуги — и в прямом, и в переносном смысле слова. Ведь, как я уже сказал, помимо заметок (куда же без них?) там у нас были и стихи, и эпиграммы, и рисунки, и веселые смешные карикатуры. Не могло быть никаких сомнений: первое место было нам обеспечено.
Каково же было мое изумление, когда среди вывешенных на всеобщее обозрение газет нашей вообще не оказалось. Не сомневаясь, что это просто какое-то недоразумение, я подошел к отцу Володьки Клиросова, и он с неизменной своей добродушной, а сейчас, как мне показалось, добродушно-хитроватой улыбочкой сказал мне:
— А ты загляни в соседнюю залу.
В соседней «зале» были вывешены — в назидание другим — образцы того, КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ школьную стенгазету. И на самом видном месте среди этих образцов газетного брака висела наша красавица.
Нет, карикатур, стихов и эпиграмм наших никто не ругал. Наоборот, их даже хвалили. И вообще газета наша на вкус членов жюри во всех отношениях была хороша и безусловно заслужила бы какую-никакую премию. Но был в ней, оказывается, один коренной порок, который не только одним махом перечеркнул все ее достоинства, но даже самое обсуждение ее кандидатуры сделал невозможным.
Порок этот состоял в том, что мы забыли начертать в самом верху газетного листа лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
На самом деле мы про это не забыли. Мы просто-напросто не знали, что без этого обязательного лозунга не может выйти в свет ни один орган, как торжественно выразился отец Вовки Клиросова, «большевистской печати».
Сколько мне помнится, это мое первое столкновение с «популярным лозунгом международного рабочего движения» стало и последним.
Написанный Марксом и Энгельсом «Манифест коммунистической партии», откуда этот лозунг был взят, я, конечно, читал. И даже слыхал песню, написанную старым поэтом Н. Минским. В конце века он обрел «титло отца русского декадентства». А в 1905-м, обратившись вдруг в новую, революционную веру, стал издавать большевистскую газету «Новая жизнь» — ту самую, в которой Ленин напечатал знаменитую свою статью «Партийная организация и партийная литература». Именно вот тогда «отец русского декадентства» и сочинил песню, которую сейчас уже мало кто помнит, а я еще застал:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наша сила, наша воля, наша власть. В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь. Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть. Станем стражей вкруг всего земного шара, И по знаку, в час урочный, все вперед! Враг смутится, враг не выдержит удара, Враг падет, и возвеличится народ. Мир возникнет из развалин, из пожарищ, Нашей кровью искупленный новый мир. Кто работник, к нам за стол! Сюда, товарищ! Кто хозяин, с места прочь! Оставь наш пир! Братья-други! Счастьем жизни опьяняйтесь! Наше все, чем до сих пор владеет враг. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Солнце в небе, солнце красное — наш стяг!Текст, конечно, убогонький. Но первый куплет в моей памяти все-таки застрял. Наверное, потому, что в младших классах нас заставляли его разучивать на уроках пения.
Однако ни песня эта, ни сам лозунг никакого заметного следа в моей жизни не оставили. Единственным ярким воспоминанием осталась история со стенгазетой, из чего можно заключить, что в повседневную, живую речь эта словесная формула так и не вошла.
Чего не скажешь о другом языковом клише, заимствованном из того же источника: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей».
Это выражение мне приходилось слышать не раз, и отнюдь не в политическом, а самом что ни на есть бытовом, житейском контексте. Например, во время игры в карты или в шахматы — перед тем как сделать какой-нибудь рискованный ход, кто-нибудь вдруг воскликнет:
— Эх, была — не была! Пролетариату ведь нечего терять, кроме своих цепей…
И партнер иронически подхватит:
— А приобрести он может весь мир.
А лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», давно уже похороненный на первых полосах партийных газет, в оттепельные, хрущевские времена неожиданно вдруг воскрес в анекдоте.
Анекдот был такой:
► Приходит на телевидение Карл Маркс, просит, чтобы ему дали выступить. Ему объясняют: нет, никак нельзя, у нас все расписано по минутам.
— Да мне, — говорит Маркс, — только минута и нужна.
В общем, уговорил. И в самом деле — уложился. Даже и минуты не заняла эта его телевизионная речь. Появившись на экране, основоположник великого учения произнес только одну-единственную фразу:
— Пролетарии всех стран, извините!
Пролетарский гуманизм
Что такое пролетарский гуманизм и чем он отличается от гуманизма буржуазного, нам вдалбливали с детсадовского возраста. О том, как это происходило, рассказал Павел Коган в писавшемся им перед самой войной стихотворном романе:
И тетя Надя, их педолог, Сказала: «Надо полагать, Что выход есть и он недолог И надо горю помогать. Мы наших кукол, между прочим, Посадим там, посадим тут. Они — буржуи, мы — рабочие, А революции грядут. Возьмите все, ребята, палки, Буржуи платят нам гроши; Организованно, без свалки Буржуазию сокрушим». Сначала кукол били чинно И тех не били, кто упал, Но пафос бойни беспричинной Уже под сердце подступал. И били в Бога, и в апостола, И в христофор-колумба-мать, И невзначай лупили по столу, Чтоб просто что-нибудь сломать. Володя тоже бил. Он кукле С размаху выбил правый глаз, Но вдруг ему под сердце стукнула Кривая ржавая игла. И показалось, что у куклы Из глаз, как студень, мозг ползет, И кровью набухают букли, И мертвечиною несет, И рушит черепа и блюдца, И лупит в темя топором Не маленькая революция, А преуменьшенный погром. И стало стыдно так, что с глаз бы, Совсем не слышать и не быть, Как будто ты такой, и грязный, И надо долго мылом мыть. Он бросил палку и заплакал И отошел в сторонку, сел И не мешал совсем. Однако Сказала тетя Надя всем, Что он неважный октябренок И просто лживый эгоист, Что он испорченный ребенок И буржуазный гуманист.Это была далеко не самая жестокая форма практических занятий по усвоению теории пролетарского гуманизма.
А вот и сама теория:
► На нашем съезде получило все права гражданства одно слово, к которому мы еще недавно относились с недоверием или даже враждебностью. Слово это — гуманизм. Рожденное в замечательную эпоху, это слово было запакощено и заслюнявлено тщедушными вырожденцами, ничтожными потомками великих отцов. Они подменили могучее его звучание — человечность — христианским сюсюканьем — человеколюбием.
Мы должны были и мы имели историческое право презирать и ненавидеть людей, произносивших это слово…
Некоторым товарищам гуманизм представляется в образе русоволосой девушки в белом платье, шагающей по солнечной, напоенной ароматом весеннего цветения земле…
Я хочу принять этот красивый образ, но не могу. Что-то восстает у меня внутри против него. Что-то заставляет рисовать себе образ нашего гуманизма другим, может быть, более грубым, но в своей грубости более прекрасным.
Я знал одного человека. Мы познакомились с ним в санатории. Познакомились и сдружились, потому что были людьми одной жизни. Этот человек однажды рассказал мне историю своего бытия…
Октябрь застал его, четырежды Георгиевского кавалера, дезертира и полубольшевика, председателем волостного Совета. Он отчуждал помещичьи земли, делил барское имущество… Он стал председателем уездной ЧК. 13 лет провел он на работе в карательных органах республики, и когда некоторые приятели из «морально чистых» интеллигентов спрашивали его: «Неужели, когда ты посылал людей на расстрел, не просыпалось в тебе чувство гуманизма и ты ни разу не ставил себя на их место?» — он отвечал глухо и скупо: «Я на их месте всю жизнь стоял. Когда мужик на поле выдирает лебеду, он не спрашивает ее — приятно ей это или нет…»
Образ этого человека заслоняет для меня метафорическую девушку, когда я думаю о гуманизме. Этот образ импонирует мне своей цельной мужественностью, ибо гуманизм класса, в свирепой борьбе добывающий людям право на подлинное человеческое существование, есть гуманизм мужественный.
Замечательную образную формулу этого гуманизма дал покойный Багрицкий в стихотворении «ТВС».
…Век поджидает над мостовой, Сосредоточен, как часовой, Иди и не бойся с ним рядом стать, Твое одиночество веку под стать. Оглянешься, а вокруг — враги: Руку протянешь — и нет друзей; Но если он скажет: «Солги!» — солги! Но если он скажет: «Убей!» — убей!Я счел нужным говорить на эту тему, потому что практика некоторых наших поэтов и писателей, в особенности молодых, заставляет несколько насторожиться. У нас по праву входят в широкий поэтический обиход понятия любовь, радость, гордость, составляющие содержание гуманизма. Но некоторые молодые (да и немолодые иногда) поэты как-то сторонкой обходят четвертую сторону гуманизма, выраженную в суровом и прекрасном понятии НЕНАВИСТЬ. (Продолжительные аплодисменты.)
(Речь А.А. Суркова на Первом всесоюзном съезде советских писателей)Этот урок старшего товарища не прошел даром для молодых поэтов. Некоторыми из них он был очень даже хорошо усвоен:
► Помню, какой-то советский поэт через много лет после войны сочинил такой опус на тему о социалистическом гуманизме: война, советские солдаты в окопах, впереди немцы — тоже в окопах, между этими двумя позициями — минное поле, о котором немцы не знают. И вдруг на поле неизвестно откуда появляется маленькая девочка. Автор изображает ее самым трогательным образом. Маленькая, тоненькая, в белом платьице, с бантиками в косичках. Солдаты в ужасе. Нет, не только потому, что девочка сейчас подорвется на мине, а потому, что, подорвавшись, она откроет врагу, что поле заминировано. Положение трудное, но выход ясен. Социалистический гуманист-пулеметчик скашивает девочку очередью, и враг остается одураченным. Прошло много лет, поэт припомнил этот случай, подумал и написал, что если в его жизни еще раз случится что-то подобное… «Я знаю — я так же, я знаю — я снова / Небритой щекой припаду к „дегтярю“».
(Владимир Войнович. Четвертая сторона гуманизма)Прочитав это стихотворение, Алексей Александрович Сурков, надо думать, был бы доволен. Он даже мог бы — по примеру классика — подарить его автору свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя».
Пролетарский интернационализм
Это была одна из главных идеологем советского новояза и одна из немногих, сохранившихся в его лексиконе до последнего дня существования Советского Союза. (Советских солдат, воевавших в Афганистане, называли «воинами-интернационалистами». И это была не только дань газетной публицистической трескотне. Официальная формула солдатской похоронки гласила: «Погиб при исполнении интернационального долга».)
Но смысл этой словесной формулы не был постоянным. Он менялся. И в конечном счете изменился радикально.
В 1911 году молодой русский журналист Владимир Жаботинский (идеологом и лидером сионизма он станет позже) написал и опубликовал небольшую статью — «Урок юбилея Шевченко».
Урок этот, на взгляд автора статьи, был чрезвычайно важен для будущего (ни много ни мало!) всего человечества.
Начинал он с малого, с пустяка: с язвительного фельетонного глумления над теми, кто не видел особой разницы между русским и украинским языками:
► Одно упрямство, одно мелочное цепляние за отдельные буквы. Что за причуда — писать непременно так: «Думы мои, думы мои, лыхо мени з вами! Чому стали на папери сумнымы рядамы?» — когда можно с таким же успехом написать вот как:
Ах вы думы, мои думы, Ах, беда мне с вами! Что стоите на бумаге Грустными рядами?Но далее, из этой фельетонной насмешки над последователями тургеневского Пигасова вырастало грозное пророчество. Молодой журналист предрекал, что в недалеком будущем из-за этого «цепляния за отдельные буквы» прольются моря крови, будут рушиться царства и империи.
► Дурь, причуда! Мадьяры сколько лет ведут борьбу за мадьярскую команду в венгерской армии, а всего-то язык команды состоит ровным счетом из семидесяти слов. Из-за семидесяти слов падают министерства, откладываются важнейшие реформы, трещит по шву реки Лейты политическая карта Европы. В венгерском парламенте, среди четырехсот с лишком мадьяр, сидят сорок депутатов из Кроаци и свято хранят свое право говорить с трибуны по-хорватски, то есть на языке, которого никто, кроме них, не понимает и употребление которого в парламенте поэтому, казалось бы, не только бесполезно, но даже вредно для самого хорватского дела. Эти же хорваты подняли бунт, когда венгерское начальство попыталось завести в некоторых правительственных учреждениях Загреба рядом с хорватскими вывесками также и мадьярские: были уличные демонстрации, столкновения с войсками, лилась кровь… Дурь, причуда! — говорим мы, мы, захолустные обыватели захолустной страны, мы, с высоты нашего политического ума и опыта. А не гораздо ли правильнее было бы взглянуть на дело с другой стороны и понять, что с фактами не спорят?.. Вот беснуются чуть ли не целые народы из-за семидесяти слов или десяти вывесок на чужом языке; вот большие поэты, мгновенно теряющие дар Божий, как только попытаются сделать внутри себя маленький, крохотный, невинный подлог: сказать «свет» вместо «cвiт», «buona sera» вместо «bona sera». Это все факты, непреложные явления жизни, которые не изменятся от того, что мы будем их порицать или одобрять. Не порицать и не одобрять их надо, не ставить двойки или пятерки мировому порядку и его проявлениям, а скромненько учиться из них уму-разуму; брать жизнь такою, какой она есть в основе своей, и на этой основе строить наше мировоззрение.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что такой взгляд на национальную проблему в те времена представлялся мелким, провинциальным. Можно даже сказать — местечковым.
Представителям так называемой передовой интеллигенции истинным представлялся тогда принципиально иной взгляд на эту проблему. Этот иной — а лучше сказать противоположный — взгляд сформулировал и последовательно отстаивал во всех своих статьях на эту тему другой Владимир — В.И. Ленин.
► …Среди «вопросов европейской жизни», — писал он в заметке «Веховцы и социализм» (апрель 1913 г.) — социализм стоит на 1-м месте, а национальная борьба — на 9-м… Смешно даже сопоставлять борьбу пролетариата за социализм, явление мировое, с борьбой одной из угнетенных наций восточной Европы против угнетающей ее реакционной буржуазии.
В другой статье, написанной в том же году, вождь мирового пролетариата высказался на эту тему еще определеннее:
► Остается та всемирно-историческая тенденция капитализма к ломке национальных перегородок, к стиранию национальных различий, к ассимилированию наций, которая с каждым десятилетием проявляется все могущественнее, которая составляет один из величайших двигателей, превращающих капитализм в социализм…
Кто не погряз в националистических предрассудках, тот не может не видеть в этом процессе ассимиляции наций капитализмом величайшего исторического процесса, разрушения национальной заскорузлости различных медвежьих углов — особенно в отсталых странах вроде России.
(В. И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу)Ни в 1911 году, ни в 1913-м, ни даже год спустя, в 1914 году, когда мрачные пророчества Владимира Жаботинского стали уже сбываться, ни тем более в 1917 году никто, конечно, еще не мог всерьез предполагать, что движение мировой истории пойдет не по Ленину, а — по Жаботинскому.
Случилось, однако, именно это.
* * *
В 1957 году Борис Слуцкий — один из последних могикан, сохранивших веру в торжество пролетарского интернационализма, написал такое стихотворение:
Я строю на песке, а тот песок Еще недавно мне скалой казался. Он был скалой, для всех скалой остался, А для меня распался и потек. Я мог бы руки долу опустить, Я мог бы отдых пальцам дать корявым. Я мог бы возмутиться и спросить, За что меня и по какому праву… Но верен я строительной программе… Прижат к стене, вися на волоске, Я строю на плывущем под ногами, На уходящем из-под ног песке.Строки «Я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву…» скорее всего имели в виду политику государственного антисемитизма, все прелести которой Борис Слуцкий, конечно, уже испытал к тому времени на собственной шкуре. Но это был не единственный и даже, я думаю, не главный стимул, побудивший его написать такое стихотворение. Главным было то, что фундамент всего здания, которое они возводили, не щадя жизни, как выяснилось, стоял на «плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке». Говоря проще, что сама идея, в которую они так беззаветно верили, оказалась фикцией.
А совсем недавно, уже в нынешнее время, другой поэт написал стихотворение, в основе которого — тот же образ, та же материализовавшаяся метафора:
Ветхозаветные пустыни, Где жизнь и смерть — на волоске. Еще кочуют бедуины. Израиль строит на песке. Он строит, строит без оглядки. Но вот прошли невдалеке — Как хрупки девушки-солдатки! Израиль строит на песке. Грозят хамсин или арабы, Зажав гранату в кулаке. О чем, поклонники Каабы? Израиль строит на песке. Крик муэдзина, глас раввина Сливаются на ветерке. Какая пестрая картина! Израиль строит на песке. Где проходили караваны, Вздымая прах из-под копыт, Взлетают пальмы, как фонтаны, И рукотворный лес шумит. На дело рук людей взгляни-ка, Интернационал стола: Услада Севера — клубника, Япончатая мушмала. Что могут рассказать века мне На человечьем языке? Что мир не выстроил на камне — Израиль строит на песке. Арабский рынок, шум базарный, Непредсказуемый Восток. Но, за доверье благодарный, Не рассыпается песок.Автор этого стихотворения — Фазиль Искандер — бесконечно далек от идей сионизма. (Помимо всего прочего, он вырос в мусульманской семье.) Стихотворение написано, что называется, без всякой задней мысли: по живым впечатлениям от поездки по Израилю. И никакого Жаботинского он, наверно, не читал. И о стихотворении Слуцкого, сочиняя эти свои строки, скорее всего даже и не вспомнил.
Но вышло так, что оба эти стихотворения подтверждают одну и ту же — непреложную — истину.
«Скала», на которой зиждилось величественное здание пролетарского интернационализма, обратилась в песок. (От интернационала остался только «интернационал стола».) А песок, на котором возвел свое национальное государство маленький Израиль, стал камнем.
Два эти стихотворения, поставленные рядом, могут служить ярчайшим подтверждением того непреложного факта, что движение мировой истории пошло, как уже было сказано, по Жаботинскому, а не по Ленину.
Выяснилось это, однако, не сразу.
* * *
На заре советской власти словосочетание «пролетарский интернационализм» было антонимом «патриотизму», который рассматривался тогда как понятие контрреволюционное, поскольку пролетарии, как утверждали основоположники научного коммунизма, не имеют отечества. Пролетарии не должны были желать победы своему отечеству ни в войне с Японией в 1905 году, ни войне с Германией в 1914-м. Напротив, они должны были желать своим соотечественникам поражения в этих войнах, поскольку такое поражение должно было приблизить зарю мировой революции.
Мировая революция, однако, все запаздывала, и новым идеологам великого учения пришлось выдвинуть тезис о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой стране.
И тут вдруг выяснилось, что у пролетариев есть отечество.
Этим их отечеством стал Советский Союз, получивший в тогдашнем советском новоязе наименование международного отечества трудящихся.
Жители Советского Союза теперь не только не должны были бояться прослыть патриотами: они просто обязаны были ими быть.
Но, выполняя свой патриотический долг, укрепляя обороноспособность нашей родины, защищая ее границы (на Халхин-Голе и у озера Хасан), они защищали не свое отечество, а вот это самое международное отечество трудящихся. Что же касается пролетариев других стран, то они, согласно тому же великому учению, должны были оставаться пораженцами по отношению к войнам, которые вели их страны.
Даже во время войны с Гитлером вожди Французской компартии на первых порах не осмеливались призывать французских рабочих к сопротивлению, поскольку международное отечество трудящихся было тогда союзником гитлеровской Германии.
А когда началась наша война, когда Гитлер совершил свое «вероломное нападение» на Советский Союз, я (мне было тогда 14 лет), как и все мои сверстники, был уверен, что немецкие пролетарии ни за что не станут воевать с русскими своими братьями по классу.
И даже месяцы спустя, когда суровая реальность, казалось бы, должна была окончательно развеять эти наши наивные детские иллюзии, долго еще ходили легенды о каких-то немецких рабочих, которые там, в Германии, на заводах, где делались бомбы или снаряды, вместо боевой начинки вкладывали туда письма и записки о международной пролетарской солидарности и своей ненависти к войне, которую империалисты развязали против международного отечества трудящихся.
Вера эта была внушена нам антифашистскими фильмами: «Карл Брунер», «Профессор Мамлок», «Семья Оппенгейм». О первых двух у меня сохранились только смутные детские воспоминания. А с третьим мне пришлось столкнуться совсем недавно — ни мало ни много шесть десятков лет спустя, после того как я увидел его впервые.
* * *
Было это зимой 1997 года. Меня пригласили на телевидение: принять участие в беседе — в прямом эфире — об этом старом фильме, сделанном по знаменитому шестьдесят лет тому назад роману Лиона Фейхтвангера.
В это время у нас уже вовсю действовали наши, отечественные фашисты. И «Майн кампф» Гитлера открыто лежала на книжных лотках, и газетки фашистские выходили, и штурмовики-чернорубашечники мелькали на экранах телевизоров. Поэтому принять участие в обсуждении давнего антифашистского фильма показалось мне не бессмысленным: соблазнительно было, как принято у нас говорить в таких случаях, использовать высокую трибуну, чтобы врезать как следует с телеэкрана — не столько даже распоясавшимся фашистским молодчикам, сколько нашим правоохранительным органам, не умеющим, а скорее — не желающим сделать им укорот.
Забегая вперед, сразу скажу, что эти мои благородные планы с треском провалились. И не по чьей-нибудь, а исключительно по моей собственной вине.
Получив приглашение, я намекнул, что фильм помню смутно и нехудо бы, чтобы перед началом передачи мне его показали. Меня заверили, что это непременно будет сделано.
Фильм я смотрел не в одиночестве: со мной был еще один участник предстоящей беседы — высокий молодой красавец нордического типа. Как мне объяснили, знакомя нас, то ли историк, то ли философ.
Во время просмотра мы время от времени обменивались репликами, не слишком лестными для создателей фильма. Что говорить, фильм и в самом деле был из рук вон: плоский, примитивный, плакатный.
Глядя на экран, я вспомнил забавный случай из нашей литинститутской жизни. Со мной на одном курсе учился Алексей Марков, будущий видный в Союзе писателей антисемит, получивший за это — по аналогии с известным думским черносотенцем — прозвище «Марков Второй». На экзамене по западной литературе ему досталась драма Лессинга «Натан Мудрый». Требования экзаменаторов к нам были тогда не шибко высокими, и от Маркова профессор хотел добиться только одного: чтобы он хотя бы более или менее внятно сказал, в чем смысл Лессинговой драмы, про что она. Алексей долго думал, потел, мялся (Лессинга он, конечно, ни при какой погоде не читал) и, наконец, собравшись с духом, выпалил:
— За евреев!
Содержание «Натана Мудрого» в эту краткую формулу, конечно, не укладывалось. Но содержание фильма, который мы с молодым историком (или философом) в тот день смотрели, могло в нее уложиться без особых потерь. Об этом мы и переговаривались с моим юным коллегой во время просмотра. Не столько словами, сколько междометиями и разными скептическими похмыкиваниями. Но общий настрой этих похмыкиваний нам обоим был ясен, и немудрено, что к концу просмотра я уже стал воспринимать своего товарища по несчастью как человека примерно одних со мною вкусов, взглядов и настроений.
Это была ошибка.
Как только просмотр кончился и началась наша беседа перед телекамерой, так сразу же выяснилось, что к фашизму мой молодой философ относится совсем не так, как я. Иначе.
В отличие от меня он, судя по его речам, не испытывал к этому социальному явлению ни малейшей антипатии. Временами мне даже казалось, что он фашизму скорее симпатизирует.
Честно говоря, я и сейчас не могу с уверенностью утверждать, что мне случилось в тот раз беседовать с убежденным молодым фашистом. Не исключаю, что тогдашним моим собеседником был просто молодой болван-интеллектуал, кокетничающий своей философской беспристрастностью. Но, как бы то ни было, фашистов он защищал. Он искренно старался их понять, а значит — простить. Он уверял, что с фашизмом все не так просто. Что это сложное и отнюдь не однозначное духовное явление. Он ссылался при этом на Гауптмана и Гамсуна, на Ницше и Хайдеггера. Он сыпал и другими, совершенно неизвестными мне именами.
А фильм, о котором шла речь, — повторю еще раз, — и в самом деле был примитивен до крайности, и защищать его было трудно. А времени на ответ у меня оставалось уже совсем мало. И был это — напоминаю! — прямой эфир…
Короче говоря, осталось у меня от той беседы гадостное ощущение полного, постыдного моего провала.
Этим своим ощущением я делился со всеми, кому случилось увидеть меня в тот час на экране телевизора. Одни меня утешали, другие поругивали. Но самое сильное впечатление на меня произвела реакция одного моего приятеля.
— Знал бы я заранее про эту вашу беседу, — сказал он, — я бы сообщил вам один факт… Думаю, он там пришелся бы вам очень кстати… Я ведь остался жив благодаря этому самому фильму…
Я изумленно на него уставился.
И он рассказал.
Перед войной он с матерью жил где-то близ западной нашей границы. Когда война началась, никакой организованной эвакуации населения там уже не было. Кто хотел — и мог — уходил. Кто не хотел или не мог уйти — оставался.
Оставались многие. В том числе, кстати говоря, и евреи, не верившие советской пропаганде. Они были уверены, что слухи об антисемитской политике гитлеровцев сильно преувеличены.
Все они, конечно, погибли.
Ситуация эта была хорошо мне знакома, поскольку такой же смертью погибли мои родные дед и бабка. Они жили не так близко от границы и вполне могли уехать. Но дед сказал, что помнит немцев по той, прежней войне. Это культурные люди, и бояться их нечего. На все уговоры он отвечал: «Что я, немцев не знаю?» А бабка сказала, что никуда не поедет, потому что «Сталин не допустит, чтобы Гитлер взял Златополь». (Так называлось местечко, где они жили.) Смерть их была ужасна: очевидцы рассказывали, что после расстрела нацистами местных евреев на месте захоронения их тел несколько суток шевелилась земля.
Приятель мой, рассказывавший мне свою историю, как я уже сказал, жил у самой границы, и жители тех мест, казалось бы, могли быть посообразительнее, чем моя бабушка. Но некоторые из них тоже надеялись, что Сталин их в обиду не даст, а другие, точь-в-точь как мой дед, верили, что культурные немцы ничего плохого им не сделают.
Приятель, рассказавший мне эту историю, в тех дискуссиях участия не принимал, поскольку было ему тогда чуть меньше года. Но мама его для себя этот вопрос решила сразу, без колебаний. Дело в том, что незадолго до того она видела фильм «Семья Оппенгейм». И именно поэтому, не рассуждая, она взяла на руки своего годовалого сына и — пешком — ушла с ним на восток.
— Вот почему, — закончил он свой рассказ, — я, ничуть не преувеличивая, могу сказать, что остался жив благодаря вот этому самому плохому фильму.
* * *
Как я уже сказал, фильм и в самом деле был плохой. Поражающий своей прямо-таки детской наивностью.
Но это сейчас мы все такие умные. А тогда, в июне 41-го, не только я и мои сверстники — тринадцатилетние и четырнадцатилетние подростки — верили, что немецкие пролетарии ни за что не станут стрелять в своих русских братьев по классу. В это верили и многие вполне взрослые и даже немолодые люди.
Вера эта выросла из сознания, что страна, в которой мы живем, и в самом деле — неслыханная, небывалая, не похожая ни на какие другие страны и государства.
Даже Пастернак, славящийся — и даже слегка кокетничающий — своей принципиальной аполитичностью («Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»), и тот захлебывался от восторга:
► …Наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство.
(Борис Пастернак. Охранная грамота)В чем состояла эта неслыханность, небывалость, непохожесть нашей страны на все другие страны и государства, как бывшие, так и настоящие, с присущей ему — плакатной — простотой и ясностью выразил Маяковский:
Перед нашею республикой стоят богатые. Но как постичь ее? И вопросам разнедоуменным нет числа: что это за нация такая «социалистичья» и что это за «соци- алистическое отечество»?.. Приятно русскому с русским обняться, — но у вас и имя «Россия» утеряно. Что это за отечество у забывших об нации? Какая нация у вас? Коминтерина?В голосе поэта снисходительное презрение: им, гагарам, недоступно… Где им понять, что именно ради этой великой цели, ради этого маячившего вдалеке ослепительного сияния и шли они на пытки, на мученическую смерть, когда их кидали в паровозные топки и «рот заливали свинцом и оловом»:
Мы живем, зажатые железной клятвой. За нее — на крест, и пулею чешите: это — чтобы в мире без России, без Латвии, жить единым человечьим общежитьем.Маяковского часто обвиняли в авангардизме (не только эстетическом, но и политическом). Да он и сам не скрывал, что «оторвался от масс», слишком далеко «забежал вперед», обогнал свое время:
Мне скучно здесь одному впереди. Поэту не надо многого. Пусть только время скорей родит такого, как я, быстроногого.Но в этой своей вере в грядущую жизнь «без Россий, без Латвий» Маяковский был не одинок. Фанатиков этой новой веры тогда было много.
► Однажды к ним пришла большая компания, ватага, как говорил Крымов. Две полные и низкорослые круглолицые ученые женщины из Института мирового хозяйства, индус, которого прозвали Николаем Ивановичем, испанец, англичанин, француз…
Решили, что каждый споет на своем родном языке.
Запел Шарль, журналист, друг Барбюса, в неряшливом, помятом пиджаке, со спутанными волосами, падающими на лоб… Его песенка с нарочито простыми, детски наивными словами трогала своей недоуменной грустью.
Потом запел Фриц Гаккен, просидевший полжизни в тюрьмах, профессор-экономист, высокий, с сухим длинным лицом. Он пел, положив на стол сжатые кулаки, известную по исполнению Эрнста Буша песню «Wir sind die Moorsoldaten». Песенка обреченных на смерть. И чем дольше он пел, тем угрюмей становилось выражение его лица. Он, видимо, считал, что поет песню о самом себе, о своей судьбе…
Когда предложили петь испанцу, он закашлялся, а потом встал руки по швам и запел «Интернационал».
Все поднялись и, стоя, запели каждый на своем языке.
Женя была охвачена общим торжественным чувством. Она увидела, как по щекам Крымова сбежали две слезы.
(Василий Гроссман. Жизнь и судьба)Ну, это, положим, коминтерновцы, профессиональные революционеры. Интеллигенты к тому же. А простым-то людям, рабочим от станка, крестьянам от сохи, — им-то эта великая идея небось была до лампочки?
Как бы не так!
Вспомним платоновского Степана Копенкина, который свою лошадь по имени Пролетарская Сила любил больше жизни, но ценил ее все-таки «третьим разрядом». На втором месте в его шкале ценностей была — Революция. А на первом — Роза Люксембург.
► Копенкин надеялся и верил, что все дела и дороги его жизни неминуемо ведут к могиле Розы Люксембург. Эта надежда согревала его сердце и вызывала необходимость ежедневных революционных подвигов…
— Роза! — вздыхал Копенкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии: они пройдут над могилой Розы и над землей, которую она топтала своими башмаками. Для Копенкина все направления дорог и ветров шли в Германию…
Если дорога была длинна и не встречался враг, Копенкин волновался глубже и сердечней.
Горячая тоска сосредоточенно скоплялась в нем, и не случался подвиг, чтобы утолить одинокое тело Копенкина.
— Роза! — жалобно вскрикивал Копенкин, пугая коня, и плакал в пустых местах крупными, бессчетными слезами, которые потом сами просыхали.
Поглотившая все его существо вера в Мировую Революцию, претворившаяся в религиозную любовь к Розе Люксембург, разжигает в душе Копенкина бешеное пламя ненависти не только к врагам, но и ко всем, кто не разделяет его «тоски по Розе»:
► — Роза! — уговаривал свою душу Копенкин и подозрительно оглядывал какой-нибудь голый куст: так же ли он тоскует по Розе. Если не так, Копенкин подправлял к нему коня и ссекал куст саблей: если Роза тебе не нужна, то для иного не существуй — нужнее Розы ничего нет.
(Андрей Платонов. Чевенгур)Эта бешеная страсть роднит Копенкина с шолоховским Макаром Нагульновым:
► — Гад! — выдохнул звенящим шепотом, стиснув кулаки. — Как служишь революции? Жа-ле-е-ешь? Да я… тысячи станови зараз дедов, детишек, баб… Да скажи мне, что надо их в распыл… Для революции надо… Я их из пулемета… всех порешу! — вдруг дико закричал Нагульнов, и в огромных, расширенных зрачках его плеснулось бешенство, на углах губ вскипела пена.
Это бешенство — не что иное, как оборотная сторона все той же великой мечты. И когда речь заходит о ней — о главной мечте его жизни, — в голосе Нагульнова вдруг начинает звучать совсем вроде ему несвойственная нежность:
► — Я весь заостренный на мировую революцию. Я ее, любушку, жду…
Нагульнов мечтательно улыбнулся и с жаром продолжал:
— Вот как поломаем все границы, я первый шумну: «Валяйте, женитесь на инакокровных!» Все посмешаются, и не будет на белом свете такой срамоты, что один телом белый, другой желтый, а третий черный, и белые других цветом ихней кожи попрекают и считают ниже себя. Все будут личиками приятно смуглявые, и все одинаковые. Я об этом иной раз ночами думаю…
(М. Шолохов. Поднятая целина)Это была не только мечта.
Было время, когда казалось, что это — уже состоявшаяся, сбывшаяся, навсегда пришедшая в мир и утвердившаяся в нем новая реальность. И когда Маяковский без особой печали констатировал, что у нас «и самое имя Россия — утеряно», он тоже не был одиночкой, обогнавшим свое время. Так в то время тоже думали многие. Чуть ли не все:
► ТАТАРОВ. Это правда, что в России уничтожают интеллигенцию?..
ЛЕЛЯ. Теперь ведь России нет.
ТАТАРОВ. Как нет России?!
ЛЕЛЯ. Есть Союз Советских Республик.
ТАТАРОВ. Ну, да. Новое название.
ЛЕЛЯ. Нет, это иначе. Если завтра произойдет революция в Европе… скажем: в Польше или Германии… тогда эта часть войдет в состав Союза. Какая же это Россия, если это Польша или Германия?
(Юрий Олеша. Список благодеяний)Но так не вышло.
Это выяснилось довольно быстро: по прошествии одного-двух десятилетий.
«Единая и неделимая» постепенно обрела свой прежний облик. Присоединили прибалтов. Снова (кажется, уже в четвертый раз?) разделили Польшу. Вернули Бессарабию. Не совсем ладно вышло с Финляндией: проклятые чухонцы упорно не хотели присоединяться. Но, в конце концов, и это можно было объяснить в традиционном великодержавном духе: Александр Первый даровал финнам сейм, Ленин предоставил им независимость. Так что и тут все развивалось в русле давних традиций.
Представление, что Советский Союз будет все расти и расти, пока не превратится во Всемирный Союз Советских Республик, очень скоро обнаружило свою несостоятельность. Польша так и осталась Польшей, Германия — Германией. Даже претерпев насильственные разделы и став послушными сателлитами Москвы, в состав Союза Советских Республик они так и не вошли.
Случилось то, что должно было случиться. Россия достигла своих прежних имперских границ, и на этом вся «мировая революция» закончилась. И слово «СССР» сразу утратило свой таинственный, мистический, сакраментальный смысл. Стало восприниматься как точный синоним слова «Россия», как ее официальное наименование. (Подобно тому как США является официальным наименованием бытового, разговорного, общеупотребительного — Америка.)
И постепенно в лексикон даже самых оголтелых пролетарских интернационалистов вернулось старое, почти уже забытое слово — «Родина».
На первых порах, правда, оно еще как-то сопрягалось с идеей грядущей мировой революции:
Мир яблоком, созревшим на оконце, Казался нам… На выпуклых боках — Где Родина — там красный цвет от солнца, А остальное — зелено пока… (Николай Майоров)Но все чаще звучало так, что уже и понять было нельзя, какое пламя пылает в душе юного интернационалиста — мечта о «земшарной республике Советов» или нечто совсем иное, гораздо более простое и понятное:
Но мы еще дойдем до Ганга, Но мы еще умрем в боях, Чтоб от Японии до Англии Сияла Родина моя.Павел Коган — автор этих, ставших знаменитыми строк — хотел, конечно, пасть в боях за дорогую его сердцу «земшарную республику Советов».
Но от его мечты «дойти до Ганга» веет чем-то совсем иным. Увы, давно и хорошо знакомым:
Москва, и град Петров, и Константинов град — Вот царства русского заветные столицы… Но где предел ему? И где его границы На север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временам судьбы их обличат… Семь внутренних морей и семь великих рек!.. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая — От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная… Вот царство русское… и не пройдет вовек, Как то провидел Дух и Даниил предрек. (Федор Тютчев. Русская география)Это ни в малой степени не было случайным совпадением. «Интернационалистическая идея», владевшая душой Павла Когана, не случайно слилась с мечтой сугубо патриотического и даже националистического толка:
► Самый интернационализм русской коммунистической революции — чисто русский, национальный. Я склонен думать, что даже активное участие евреев в русском коммунизме очень характерно для России и для русского народа. Русский мессианизм родствен еврейскому мессианизму…
Русский народ не осуществил своей мессианской идеи о Москве как Третьем Риме. Религиозный раскол XVII века обнаружил, что Московское царство не есть Третий Рим… Мессианская идея русского народа приняла или апокалиптическую форму, или форму революционную. И вот произошло изумительное в судьбе русского народа событие. Вместо Третьего Рима в России удалось осуществить Третий Интернационал, и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. Третий Интернационал есть тоже священное царство, и оно тоже основано на ортодоксальной вере… Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея.
(Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма)Пламя Третьего Интернационала довольно быстро зачахло и вскоре погасло. Но у тех, кто был взращен на этих идеях, сознание своей исторической миссии, своего мессианского предназначения, своей роли в мировой истории — осталось.
Кардинально изменилось, однако, не только понимание этой роли.
В 20-е и даже в 30-е годы идея всемирного интернационального братства («Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать») была радостным душевным порывом:
► — Ну, вы же помните обстановку тех лет! — горячо рассказывал Вася. — Идет испанская война! Фашисты — в Университетстком городке. Интербригада! Гвадалахара, Харама, Теруэль! Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку — нет, учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, запускаю зачеты, экзамены — учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем, да революционная совесть не позволит нам остаться в стороне… Как же мне туда попасть? Очевидно, что просто бежать в Одессу и садиться на корабль — это мальчишество, да и пограничники. И вот я — к начальнику четвертой части военкомата, третьей части, второй части, первой части: пошлите меня в Испанию!..
(А. Солженицын. Случай на станции Кречетовка)Полвека спустя это воспринималось уже как вековечная постылая обязанность, тяжкий крест, чуть ли не национальное проклятье:
► ОНА. Откуда, откуда в вас эта обида?
ОН. Должно быть, я с нею явился на свет. Мой прадед передал ее деду, мой дед — отцу, мой отец — мне… Наверно, не нужна нам Европа, а мы и подавно ей не нужны.
ОНА. О да, я читала у ваших классиков, что у России — особый путь.
ОН. Понять бы — путь это или крест. Я здесь смотрю на этих людей. Все беззаботны, все веселятся, им нет до меня никакого дела. Радуются морю и солнцу, тому, что уходит двадцатый век. А что они знают про двадцать первый? Про Азию с ее полумесяцем? Про Африку, пухнущую от голода? Двадцатый век еще им покажется легкой авантюрной прогулкой. И вот тогда они вспомнят про нас. Как всякий раз вспоминали их предки, когда их надо было спасать. От Чингисхана, от Наполеона, от Гитлера, от любой чумы. Стоит ей где-нибудь запылать и — «значит, нам туда дорога». И надевай свою гимнастерку и залезай в свою кирзу.
ОНА. Скажите, не приходило вам в голову однажды помочь самим себе?
Пьеса Леонида Зорина, из которой я взял этот диалог, называется «Послевкусие». Применительно к главной ее драматургической коллизии слово это воспринимается как обозначение горького итога отношений между НИМ и ЕЮ. Но в контексте только что процитированного разговора оно вдруг обретает иной, куда более широкий и емкий смысл. Это «послевкусие» — тяжкое похмелье в чужом пиру, горькое отрезвление от некоего всемирно-исторического заблуждения, которому не только герой пьесы, но и все его соотечественники исстари приносили в жертву себя, свои жизни, свои человеческие судьбы.
Что же касается идеи международной пролетарской солидарности, то примерно к концу 60-х она уже настолько выродилась, что окончательно перешла в разряд комического: стала предметом разного рода насмешек, иронических шпилек, шутливых розыгрышей.
Вот, например, такая история.
* * *
Приехала в Париж группа советских писателей. А в Париже в это время была забастовка. Бастовали рабочие завода «Рено». Они были недовольны тем, что администрация завода слишком далеко от заводских ворот расположила стоянку для их автомобилей. Им не нравилось, что от стоянки им еще приходилось некоторое расстояние идти пешком.
Причина забастовки сильно позабавила наших писателей. Кое-кто даже позволил себе некоторые шуточки по этому поводу, что сильно не нравилось руководителю группы.
Руководителем был Александр Исбах — человек скорее простодушный, чем умный. (Бывшие его сокамерники рассказывали, что, возвращаясь в камеру после очередного допроса, избитый до полусмерти, он постоянно повторял: «Мы должны помогать следствию, это наш партийный долг».)
А главным шутником был Александр Альфредович Бек. Он был шутником высочайшего класса, что проявлялось, в частности, в том, что никогда нельзя было понять, когда он шутит, а когда говорит серьезно. Самую уморительную чепуху он ухитрялся нести с такой убедительной серьезностью, что люди и поумнее Исбаха попадались на эту удочку.
И вот Бек говорит:
— Меня очень тревожит эта забастовка. Я считаю, что мы не имеем права оставаться в стороне.
— Что вы хотите сказать? — испугался Исбах.
— Я считаю, что мы должны помочь французским товарищам, — объяснил Бек.
— Товарищ Бек! — нервно осадил его Исбах. — Это сугубо внутреннее дело французских рабочих. Мы тут совершенно ни при чем.
— То есть как это ни при чем? — удивился Бек. — А как же международная пролетарская солидарность?
— Товарищ Бек! — еще больше занервничал Исбах. — Мы не занимаемся экспортом революции.
— Но ведь мы помогли только что нашим чешским товарищам, — возразил Бек.
Упоминание о вводе советских войск в Чехословакию лишило бедного Исбаха последних остатков разума.
— Чешские товарищи нас попросили… Они к нам обратились… — не найдя других аргументов, лепетал он.
— О, за этим дело не станет, — парировал Бек. — Это я вам сейчас устрою! Мы обратимся в стачечный комитет, скажем, что хотим поддержать их требования, и они, конечно, согласятся сделать вид, что инициатива исходит от них…
Исбах был уже близок к инфаркту (или к инсульту), когда Александр Альфредович наконец сжалился над ним и признался, что шутит.
Но Исбах, кажется, не очень в это поверил. И до самого конца поездки поглядывал на Бека с опаской. Кто его знает! А вдруг и в самом деле пойдет к французам и попросит их, чтобы они обратились к нам за помощью?
* * *
Рассказав эту историю, я уже готов был написать, что в последние годы существования Советского Союза словосочетание «пролетарский интернационализм» превратилось в фикцию, в пустышку, в скорлупу от ореха, ядро которого давно сгнило. Но на самом деле это не так. Некоторое значение оно еще сохраняло.
Оно уже окончательно превратилось в обоснование экспансионистских амбиций «международного отечества трудящихся», ставшего мировой «Империей зла». В мандат, дающий ей моральное право на любую территориальную экспансию: на военное вторжение в Венгрию, в Чехословакию, в Афганистан, в Анголу, на установку ракет с ядерными боеголовками на Острове свободы.
Так подтвердилась мысль Бердяева о том, что «Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея». Во всяком случае, то, что принято было считать русской национальной идеей. В сущности, ведь и знаменитая идея Достоевского о так называемой «всемирной отзывчивости» русского народа («…русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится…») тоже была своего рода мандатом на расширение Царства Русского «от Нила до Невы, от Эльбы до Китая».
Ни при одном своем императоре Россия не была так близка к реализации своих имперских амбиций, как при Сталине и его преемниках. «Прокуратор», назначенный Москвой, сидел не только в Ташкенте, Алма-Ате, Баку, Тбилиси, Кишиневе, Риге, Таллине и Вильнюсе, но и в Софии, Варшаве, Праге, Будапеште, Берлине. Советские подводные лодки бороздили воды Мирового океана, достигая берегов Америки. Ни Федор Иванович Тютчев со своей «русской географией», ни Федор Михайлович Достоевский, пределом мечтаний которого был Константинополь, ни Павел Николаевич Милюков с его жалкой мечтой о проливах в самых радужных своих снах не могли представить, что их родина превратится в такую гигантскую суперимперию.
Но странная это была империя.
Быть может, единственная из всех мировых империй, где метрополия жила хуже колоний, а имперская нация прозябала в такой нищете и таком убожестве, в сравнении с которыми самая скромная жизнь присоединенных к империи и угнетаемых ею народов казалась немыслимым процветанием.
Это была плата за ту самую «всемирную отзывчивость». За титул «старшего брата» в семье не только советских, но и восточноевропейских народов.
Сам же русский народ — надо отдать ему должное — все это прекрасно понимал и сомнительной ролью «старшего брата» не шибко обольщался, о чем свидетельствует такой, например, анекдот:
► Россия. Средняя полоса. По бездорожью едет телега, доверху нагруженная навозом На этом дерьме сидит заросший мужик, нахлобучив на себя шапку-ушанку, потягивая махорку, держит в руках вожжи. Вдруг — откуда ни возьмись — американец. Увидал живого человека. Обрадовался. Догоняет телегу.
— Do you speak English?
— Yes, I do.
Подумал и добавил:
— А хули толку?!
Пятилетка
Меня всегда удивляли и восхищали строчки Маяковского:
Товарищ жизнь! Давай быстрей протопаем, протопаем по пятилетке дней остаток.Восхищали не только своей поэтической заразительностью. Ведь Маяковский застрелился в 1930-м. А первый пятилетний план был принят на XVI съезде партии — в 1929 году. Слово «пятилетка», стало быть, было тогда совсем новым, едва-едва успело войти в язык. А он уже освоил его, ввел в свой поэтический лексикон.
И как естественно, натурально вошло оно в ткань его стиха — словно давным-давно уже стало привычным, общеупотребительным.
Маяковский, как известно, питал особую склонность к новым словам, нередко даже сам их изобретал, выдумывал. Но далеко не все советизмы и неологизмы звучали у него вот так органично, так естественно и так живо, как это только что родившееся слово.
Была тут, наверно, и его заслуга тоже. Но главная причина, наверно, состояла все-таки в том, что слово это усилиями советской пропаганды — сразу и надолго — стало едва ли не главным из всех употреблявшихся тогда слов советского новояза.
Тому, как говорил дедушка Крылов, мы тьму примеров сыщем.
Вот постоянный герой Михаила Зощенко — управдом — в дни Пушкинского юбилея выступает с речью о Пушкине. Присоединившись к всенародному чествованию великого юбиляра, он попутно дает отпор настырному жильцу Цаплину, который тоже пишет стихи и на этом основании требует, чтобы ему переложили печку: «Я, говорит, через нее угораю и не могу стихов писать».
Зощенковский управдом так отвечает на эту неслыханную наглость:
► — Ну, мало ли что он может стихи писать. Тогда, я извиняюсь, и мой семилетний Колюнька может в жакт претензии предъявлять: он тоже у меня пишет. И у него есть недурненькие стихотворения:
Мы, дети, любим тое время, когда птичка в клетке. Мы не любим тех людей, кто враг пятилетке.Шпингалету семь лет, а вон он как бойко пишет!
(М. Зощенко. В пушкинские дни)Вряд ли надо доказывать, что жало этой художественной сатиры, как любил выражаться автор процитированного рассказа, направлено не в семилетнего Колюньку и даже не в его папашу, а в тех, кто так задурил всем головы этой самой пятилеткой, что даже семилетние дети насобачились рифмовать ее с кем и с чем угодно — хоть с «птичкой в клетке».
Но что говорить о Маяковском, который готов был предъявить потомкам «все сто томов» своих «партийных книжек», или даже о семилетием Колюньке, который наверняка был если не пионером, так октябренком, если даже Пастернак, еще недавно измерявший время тысячелетиями («Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?..»), тоже стал пользоваться этой новой мерой:
И разве я не мерюсь пятилеткой, Не падаю, не подымаюсь с ней?А там уж — пошло, поехало. И вот уже недавний белоэмигрант, изломанный декадент и рафинированный эстет Александр Вертинский тоже счел необходимым сочинить и исполнить с эстрады такое произведение:
Без песни жить нельзя. Она нужнее хлеба. Она в сердцах людей, как птица, гнезда вьет. И с нею легче труд, и голубее небо, И только с песней жизнь идет вперед. Нас, старых, мудрых птиц, осталось очень мало, У нас нет голосов, порой нет нужных слов. Притом война, конечно, распугала Обидчивых и нежных соловьев. А мы… А мы поем! Дыханье нам не сперло, От Родины своей нам незачем лететь. Во все бесхитростное наше птичье горло Мы будем радостно, мы будем звонко петь! Мы — птицы русские. Мы петь не можем в клетке, И не о чем нам петь в чужом краю. Зато свои родные пятилетки Мы будем петь, как молодость свою!В отличие от семилетнего зощенковского Колюньки Александр Николаевич был профессиональным поэтом, стихи сочинял смолоду и немало в этом деле понаторел. Но, стараясь зарифмовать «пятилетку», пошел тем же, колюнькиным путем: так и не смог выдумать ничего лучшего, чем присобачить к неизбежной «пятилетке» ту же колюнькину «птичку в клетке».
Что касается других профессиональных стихотворцев, то рифмы у них порой находились и другие. Но стишки все равно не очаровывали. Как выразились однажды по сходному поводу Ильф и Петров, не дул от них ветер вдохновения:
У новой стартовой отметки Стоит сейчас моя страна. Итог минувшей пятилетки Спокойно подвела она.Даже Маршак, прикоснувшись к этой казенной теме, недалеко ушел от такой же бездушной политической трескотни:
На Спасской башне круглый циферблат Считает все минуты пятилетки.Было, правда, одно исключение. Но не в печатной стихотворной продукции, а в самиздате.
Слово «самиздат», как известно, придумал Николай Глазков. Задолго до того, как оно вошло в повседневную нашу речь, он мастерил рукописные, самодельные свои книжечки, на которых писал: «Самиздат. Тираж — 1 экземпляр».
Так вот, этот самый Глазков первый день великой нашей войны отметил таким четверостишием:
Господи, вступися за Советы! Охрани страну от высших рас. Потому что все твои заветы Гитлер нарушает чаще нас.А в стихотворении, написанном в 45-м, когда страшная эта война наконец кончилась, родились у него такие строки:
И пятилетний план войны Был выполнен в четыре года.Это был перифраз навязшего в зубах, всем и каждому известного, еще довоенного политического лозунга: «Пятилетку — в четыре года!» Но в контексте глазковского стихотворения он был преображен трагической иронией поэта (не берусь утверждать, что осознанной). Ирония заключалась в том, что никакого пятилетнего плана войны не было, был совсем другой план: «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью могучим ударом». А трагической эта ирония была потому, что это был единственный случай, когда к этой — из официального новояза взятой — словесной формуле с чистым сердцем мог бы присоединиться каждый: да, слава богу, что эта проклятая война продолжалась четыре года, а не пять. Хотя особого повода для радости тут тоже не было: ведь четыре года — это тоже много. Непомерно много:
Нет, у нас жестокая свобода Помнить все страдания. До дна. А война — была. Четыре года. Долгая была война. (Борис Слуцкий)Что же касается самого этого лозунга («Пятилетку — в четыре года!»), то он как раз — на первых порах — вдохновил некоторых художников слова на создание действительно ярких и талантливых книг, самой живой из которых был знаменитый в начале 30-х годов роман Валентина Катаева «Время, вперед!».
Но закрыл тему, как всегда, — народ. Все теми же, традиционными своими жанрами — анекдотами, частушками.
Из анекдотов мне запомнился такой:
► — К чему привели нас сталинские пятилетки?
— Лес рубили, щепки летели, а топить нечем.
В том же роде были и частушки.
Например, такая:
Жопа гола, Лапти в клетку, Выполняем Пятилетку.Или — вот такая:
Вставай, Ленин, Вставай, дедка, Заебла нас Пятилетка.А самый последний период существования Советского Союза, когда за смертью Брежнева вскоре последовала смерть Андропова, а затем — совсем уже скоро — смерть нового генерального секретаря Черненко, народ метко окрестил: пятилетка в три гроба.
Пятый пункт
Под номером пятым в анкетах значилась национальность.
В первые годы советской власти пункт этот был не из самых важных. Одно время даже казалось, что он и вовсе не важен, а вставлен в анкету просто так, для порядка. Для статистики, может быть?
В 1934 году Ильф и Петров написали и опубликовали (не где-нибудь, а в самой «Правде») фельетон «Безмятежная тумба». Начинался он так:
► Вот что произошло несколько дней назад.
Одной женщине сделали аборт. Когда она вернулась домой, ей вдруг стало плохо, началось сильное кровотечение. Это был очень опасный случай, требующий немедленной операции. Женщину повезли в больницу.
Здесь, вместо того чтобы сию же минуту передать больную хирургам, ее посадили в приемную и заставили ждать очереди не к операционному столу, а к канцелярскому, где заполняются опросные листки. Напрасно говорили дежурному, что больная истекает кровью, что анкету можно заполнить потом, что не в учетных деталях сейчас дело.
Это не помогло.
Дежурный поступил по всей форме, запись производил в порядке живой очереди, нисколько не помышляя о том, что последнее звено этой живой очереди находится в полуживом состоянии. Когда пришел черед несчастной женщины, то и тут из правила не сделали исключения: проверялись документы, заполнялись пункты — возраст, образование, национальность (очень важна в такой момент национальность, особенно в Союзе Советских Социалистических Республик!).
Сарказм этой последней реплики очень точно отражает ситуацию 1934 года. Тогда и в самом деле казалось (а может быть, и не только казалось?), что национальность «в нашей юной прекрасной стране» никакого значения не имеет.
Но всего лишь каких-нибудь десять, а тем более пятнадцать лет спустя так уже никому не казалось. И словосочетание «пятый пункт» стало едва ли не самым зловещим из всех пунктов официальной советской анкеты. Правда, лишь для одной категории граждан.
Вопрос: «Как у вас в отношении пятого пункта?» — мог означать — и означал — только одно: «Не еврей ли вы?» Украинцы, татары, чуваши, удмурты, мордвины и представители разных других нацменьшинств, услышав такой вопрос, могли не беспокоиться.
Именно в этом смысле выражение «Пятый пункт» из языка официального перекочевало в живой, разговорный.
Был даже такой анекдот.
► — Национальность? — задают Рабиновичу в отделе кадров роковой вопрос. И Рабинович грустно отвечает:
— Да.
Еще лучше положение евреев в Советском Союзе в те незабвенные годы отразилось в другом анекдоте:
► Маленький мальчик (лет шести-семи) объявляет родителям, что собирается жениться.
— На ком же, Андрюшенька? — умиленно спрашивает его мать. — Наверно, на Лялечке?
Нет, отвечает он, не на Лялечке.
— На Ирочке?
Нет, и не на Ирочке.
— Ну почему же, Ирочка такая хорошая девочка. Тогда, наверно, на Танечке?
Нет, и не на Танечке.
В конце концов Андрюшенька признается, что жениться он решил на лучшем своем друге — Грише.
Мать (с ужасом):
— Тыс ума сошел! Он же еврей!
Или — в таком:
► — Доктор! Мне сказали, что только вы можете мне помочь… Моя фамилия Кац…
— Извините, тут медицина бессильна.
Именно вот тогда за всеми евреями в народе утвердилось прозвище «инвалидов пятой группы», что нашло отражение даже в одном поэтическом произведении, в то время ходившем в самиздате и лишь недавно опубликованном:
Он был еврей — мишень для шутки грубой, Ходившей в те неважные года. Считался инвалидом пятой группы, Писал в графе «национальность»: «Да». (Евгений Агранович. Еврей-священник)С теми, кто честно писал «да», справиться было нетрудно. Да с ними и справляться не надо было, они сами знали свое место. Но были ведь и хитрованы, скрывавшие свою принадлежность к опальной нации. Тем более что имена и фамилии у многих были уже вполне русские, нераспознаваемые. (Как говорила про мою маму Марию Филипповну наша соседка по коммунальной квартире Татьяна Тимофеевна Рощина: «Цапают наши имена!»)
Кроме того, были ведь и так называемые полукровки. Как быть с ними?
У немцев, как известно, орднунг, порядок. У них там были специальные Нюрнбергские законы, где все это было четко расписано, жестко регламентировано. (Хотя даже и у них бывали отклонения от принятых железных правил, о чем свидетельствует знаменитая реплика Геринга: «Это я решаю, кто еврей!»)
У нас — при нашей российской безалаберности — никаких четких установок на этот счет (во всяком случае, на первых порах) не было. Так что все нередко зависело от доброй (или злой) воли какого-нибудь начальника.
Был даже такой анекдот.
► Мальчик получает первый в своей жизни паспорт. Кто-то из его родителей (папа или мама, не важно) — «инвалид пятой группы». И вот сидят они в приемной у начальника паспортного стола, ждут, трепещут: что там напишут в соответствующей графе паспорта у их отпрыска? Наконец выходит из кабинета начальника какой-то милицейский чин и торжественно им объявляет:
— Ваш вопрос решен положительно!
Поскольку Нюрнбергских законов у нас не было, формальная, паспортная принадлежность к коренной нации (или не коренной, но не такой ущербной) практически решала дальнейшую судьбу обладателя «чистого» паспорта.
Но — далеко не всегда.
Во-первых, процесс пошел. Государственный антисемитизм постепенно поразил всю жизнь страны, проник в каждую пору государственного (и не только государственного) организма.
Самым удивительным, пожалуй, тут было то, что после смерти Сталина, в пору хрущевской «оттепели», и позже, когда либерализм хоть и иссякал, но режим явно слабел (вынужден был терпеть «подписантов», чикаться с «диссидентами»), этот самый государственный антисемитизм набирал все большую силу, день ото дня становился все жестче и изощреннее.
Ну, а во-вторых, навстречу этому процессу шла другая, встречная волна: антисемитизм личный, персональный, а то и групповой тех, кто решал судьбу «инвалида пятой группы», заполняющего анкету при поступлении на работу или в высшее учебное заведение.
У этих были свои, неписаные законы, не уступающие Нюрнбергским. Была и своя — негласная, конечно, но хорошо всем известная терминология: «полтинник» (тот, у кого половинка еврейской крови) и «четвертак» (у кого «из евреев» были дедушка или бабушка).
Пятый пункт этих укрывшихся от бдительного начальственного ока «полтинников» и «четвертаков» выявить не мог. И вот тут-то и приходил им на помощь этот вечный, неумирающий, сакраментальный вопрос: «Кто ваши родители?»
Национальность родителей анкетой не отмечалась. Но если у какого-нибудь «русского» Иванова (таких иронически именовали «Иванов по матери», даже если русская фамилия доставалась им от отца) вдруг обнаруживалась мама «Сарра Марковна» или папа «Израиль Моисеевич», — тут его, голубчика, за ушко да на солнышко…
Опытному начальственному глазу, впрочем, достаточно было одного только отчества, что отметил в одном своем стихотворении Борис Слуцкий:
— По отчеству, — учил Смирнов Василий, — их распознать возможно без усилий! Фамилии сплошные псевдонимы, а имена — ни охнуть, ни вздохнуть, и только в отчествах одних хранимы их подоплека, подлинность и суть. Действительно: со Слуцкими князьями делю фамилию, а Годунов — мой тезка, и, ходите ходуном, Бориса Слуцкого не уличить в изъяне. Но отчество — Абрамович. Абрам — отец, Абрам Наумович, бедняга. Но он — отец, и отчество, однако, я, как отечество, не выдам, не отдам.«Смирнов Василий», которого упоминает автор этого стихотворения, был человек в ту пору известный. Даже знаменитый.
Вообще-то их было трое — знаменитых Смирновых.
Илья Григорьевич Эренбург редко ходил на писательские собрания. Но на одно какое-то — очень, как тогда считалось, важное — пришел. Предстояли выборы правления.
Раздали бюллетени для голосования. И было в этих бюллетенях трое вот этих знаменитых Смирновых.
Первым из них был Василий Александрович Смирнов — тот самый, которого помянул Слуцкий, — известный прозаик, более, впрочем, известный как ярый антисемит.
Второй Смирнов — поэт, злобный горбун, о котором тогда была сложена такая эпиграмма:
Поэт горбат. Стихи его горбаты. Кто виноват? Евреи виноваты.Третьим Смирновым, включенным в списки для голосования, был Сергей Сергеевич Смирнов — будущий автор «Брестской крепости». Он незадолго до того был заместителем Твардовского по «Новому миру», и когда Твардовского снимали (в первый раз, за первую редакцию «Теркина на том свете») — повел себя довольно трусливо и даже предательски. А в будущем ему еще предстояло быть председателем на том писательском собрании, на котором исключали из Союза писателей Пастернака.
До исключения Пастернака, впрочем, было еще далеко, и Сергей Сергеевич — особенно на фоне двух других Смирновых — считался человеком приличным, во всяком случае, как тогда выражались, — прогрессивным. Тем более что о трусливом его поведении в «Новом мире» мало кто знал.
И вот Эренбург, запутавшись во всех этих сложностях, подошел к Твардовскому и сказал:
— Александр Трифонович! Тут — трое Смирновых. Мне объясняли, что двое из них плохие, а один — хороший. Вы не могли бы подсказать мне: кого из трех надо вычеркнуть?
Твардовский ответил:
— Вычеркивайте всех троих. Не ошибетесь.
Слуцкий, я думаю, так бы не сказал. Во всяком случае, из всех троих он не случайно выбрал именно Василия. Антисемитизм Сергея Смирнова (горбуна) был его личным, можно даже сказать, интимным свойством. (Хоть он своей нелюбви к «лицам еврейской национальности» и не скрывал.) Василий же Александрович эту свою нелюбовь не просто не скрывал: он ею гордился. Он был самым искренним, самым горячим и самым последовательным проводником этой новой государственной политики. Можно даже сказать, что он был ее знаменосцем. В полном соответствии с этой своей ролью он был тогда главным редактором журнала «Дружба народов».
Дело свое он знал хорошо, и совет обращать внимание на отчество тех, кто подозревался в тайном, тщательно скрываемом еврействе, — был хорош. Что говорить, это был толковый, дельный совет.
Но и отчество тоже не всегда помогало.
Во-первых, далеко не все «инвалиды пятой группы» были так совестливы и принципиальны, как Борис Абрамович Слуцкий. Некоторые легко готовы были «выдать» не только имя, но и отчество — поменять, скажем, Абрамовича на Александровича или Моисеевича на Михайловича. Да и «Абрамовича» Слуцкий при желании вполне мог бы оспорить — с не меньшим основанием, чем свою родовую фамилию, которую он делил с князьями.
В одну из самых жутких годин государственного антисемитизма — в пору знаменитой антикосмополитической кампании или еще более знаменитого «дела врачей» — Семен Израилевич Липкин встретил на улице Евгения Долматовского. Постояли, поговорили.
— Ну что, Женя? Как дела? — спросил Семен Израилевич.
— Плохо, — понурился Долматовский. — Ты ведь видишь, что происходит. Ко мне вроде это никакого отношения не имеет. Я, как ты знаешь, евреем себя никогда не чувствовал и не считал. Но вот — отчество. Я ведь — Аронович…
— Ну, это ничего, — сказал лукавый Липкин. — Такое в истории российской поэзии уже бывало. Вот, например, Баратынский был Евгений Абрамович.
— Да ну? — удивился и обрадовался Долматовский. — Ты правду говоришь?
Липкин подтвердил, что да, безусловно, никаких сомнений — Абрамович. А был чистопородный русак. Даже хорошего дворянского рода.
И Долматовский ушел, повеселевший, обнадеженный, что, быть может, и его, Ароновича, этот жуткий смерч как-нибудь обойдет стороной. Во всяком случае, будет на что сослаться, отрицая свою непричастность к проклятой нации.
У Долматовского, кажется, и впрямь все обошлось. Но как правило — не обходилось. Тут ведь действовала уже совсем иная логика. Логика — разоблачения, выявления скрытых, маскирующихся, затаившихся.
На эту тему тоже сочинялись и рассказывались разные анекдоты.
Например, такой:
► Устраивается на работу человек по фамилии Рабинович. Не тот, что на вопрос о национальности грустно ответил «да», а совсем другой Рабинович — русский. И на этот раз дело происходит не в отделе кадров, а уже непосредственно у начальника, от которого зависит, взять ему или не взять несчастного Рабиновича на работу.
— Понимаете, — объясняет он, — это просто у меня фамилия такая. А вообще-то я русский.
— Гм, — реагирует начальник. — С такой фамилией я бы уж предпочел еврея.
Но этот начальник из анекдота был — формалист, бумажная душа. Ему — лишь бы на бумаге все было в порядке.
А были ведь идейные антисемиты — вроде вот главного редактора журнала «Дружба народов».
Академик Понтрягин и другой такой же знаменитый математик, ставший впоследствии крупнейшим идеологом антисемитизма, — Игорь Шафаревич у себя там, на математическом факультете МГУ, установили такую систему приемных экзаменов, что не то что безусловный какой-нибудь «полтинник» или «четвертак» не имел шанса туда просочиться, но даже и абитуриент с самой что ни на есть микроскопической прожидью.
Эта их система была куда более совершенной, чем жалкие Нюрнбергские законы их педантичных немецких коллег.
Тут я мог бы припомнить и рассказать тьму-тьмущую разных историй. Но расскажу только одну, услышанную от одной моей близкой приятельницы.
Сын ее еще в школе обнаружил выдающиеся математические способности. Закончив школу, он, естественно, хотел поступить на математический факультет МГУ, и мать его в этом поощряла. Тщетно все друзья и знакомые твердили ей, что предприятие это совершенно безнадежное, что для евреев — даже для подозреваемых в слабой причастности к «пятому пункту» — там установлен совершенно непреодолимый барьер. (Дело было в середине 70-х.) Она на все эти уговоры не поддавалась и твердо решила предоставить своему выдающемуся мальчику возможность схватиться врукопашную с могучей ядерной державой.
Выдающийся мальчик это сражение, конечно, проиграл, хотя из всех предложенных ему на экзамене задач не решил, кажется, только одну знаменитую теорему Ферма.
Но мой рассказ не о нем.
В той же группе, с которой экзаменовался сын моей приятельницы, был еще один выдающийся математик. Не один, конечно, там все были выдающиеся. Но этот был особенно выдающимся, и к тому же он был самый что ни на есть чистопородный русак. Не только с мамой и папой, но и с дедушками, и с бабушками все у него было в полном порядке.
Приехал он в Москву из какой-то дальней глубинки, чуть ли не из Сибири. Там, у себя, он блистал на всех школьных, районных, областных и прочих математических олимпиадах. А тут вдруг с ужасом обнаружил, что на экзамене — один за другим — сыплются «звезды», ничуть ему не уступающие, может быть, даже слегка превосходящие его своим столичным математическим блеском.
Он был просто раздавлен, изо дня в день наблюдая, как прославленные профессора-математики, принимающие экзамены, сладострастно топят одного блистательного абитуриента за другим, не жалея ни сил, ни времени, тратя по четыре, а то и по пять часов на каждого.
Несчастный русский мальчик не знал, какая играется тут игра. Он решил, что здесь, в столице, ко всем поступающим предъявляют такие высокие требования. Убедившись, что такой экзамен ему нипочем не выдержать, он забрался на самый высокий этаж высотного здания прославленного Московского университета и кинулся вниз.
Написав сейчас эти три слова — «несчастный русский мальчик», я вдруг поймал себя на мысли, что слово «несчастный» пришло мне тут на ум не только потому, что так ужасно закончилась его короткая жизнь. Если бы такая история произошла с мальчиком-евреем, я бы, рассказывая об этом, тоже, наверно, назвал его несчастным. Но в этом случае слово «несчастный» было бы плоским, однозначным. А тут у него — более сложный, двойной смысл: суть несчастья не только в том, что он погиб, но еще — и, может быть, даже главным образом — в том, что произошла нелепая, ужасная, чудовищная ошибка. Суть в том, что он погиб зазря.
Если бы такое случилось с мальчиком-евреем… Что ж! Еврейскому мальчику это на роду написано. Ужасный конец его был бы, конечно, так же ужасен, но — не так драматичен. И вся история была бы вполне банальной. Настолько банальной, что мне даже в голову бы не пришло тут о ней рассказывать. Мало ли было таких историй!
Да, историй о наглой, подлой, гнусной дискриминации школьников-евреев, тщетно пытавшихся поступить в разные советские вузы, мне привелось слышать множество. И были среди них совершенно чудовищные. Но ни одна из них не поразила меня так, как эта. Что лишний раз подтверждает мудрость еще одного грустного еврейского анекдота: на возглас «Бей евреев и велосипедистов!» кто-то искренне удивляется: «А велосипедистов-то за что?»
Это, положим, анекдот старый. Наверняка он ходил (в другой какой-нибудь редакции) еще задолго до изобретения велосипеда. Но в начале 70-х появились совсем другие анекдоты на эту вечную тему.
Вот, например, такой:
► Длинная очередь — положим, за сахаром. Люди стоят уже несколько часов. Устали. Томятся. Ждут. Надеются. Выходит директор магазина и говорит:
— Товарищи! Сахара мало. На всех не хватит. Поэтому ставлю вас в известность: евреям сахар выдаваться не будет.
Выслушав это сообщение, евреи уходят. Остальные продолжают терпеливо ждать.
Очередь не двигается. Проходит еще несколько часов. Вновь появляется директор. Объявляет:
— Товарищи! Вы люди сознательные. Надеюсь, поймете все правильно. Сахару на всех не хватит. Поэтому беспартийным он выдаваться не будет. Только коммунистам.
Беспартийные, повздыхав, может быть, даже поругиваясь, уходят. Проходит еще час, другой. И вновь появляется директор — уже с третьим объявлением.
— Товарищи! — говорит он. — Здесь остались только коммунисты, поэтому я могу быть с вами вполне откровенным. Сообщаю: сахару нет и не будет.
Плюясь и матерясь, все расходятся. И кто-то завистливо подбивает итог случившемуся:
— А жидам-то опять пофартило. Их отпустили первыми.
Анекдот этот не случайно возник именно вот тогда, в 70-е годы. Это была реакция на новый, совершенно неожиданный поворот в судьбе советских евреев.
Вот как описал (тогда) этот неожиданный исторический поворот живущий ныне в Мюнхене писатель Борис Хазанов:
► …До сих пор мы жили в сознании нерушимой отъединенности от мира. Мы выросли с этим знанием. Оно было для нас так же естественно, как знание о том, что невозможно летать. Мы знали, что Россия — наше отечество; но мы знали также, что, кроме отечества, не существует никакой другой земли. Мы повторяли себе и другим, что, если бы нам предоставлен был выбор, мы все равно не уехали бы. За всем этим, однако, подразумевалось, что уехать нельзя. Не говоря о том, что даже мимолетная мысль о бегстве была политическим преступлением, за которое полагалось сидеть в лагере, — эта мысль считалась нравственным преступлением. Приученные с детства считать привязанность к земле отцов похвальным чувством, зазубрив любовь к родине наизусть, мы как будто не догадывались, каким оскорблением для этой любви является ее насильственность.
И вот что-то произошло, и точно приоткрылась узкая щель на горизонте. На наших глазах происходит небывалое: то тут, то там соотечественники отбывают за границу. Просто так, законным путем, как «порядочные», точно свободные люди, со скарбом и семьями пересекают ту самую границу, которая пятьдесят лет была на замке, проволочный круг, на котором, кажется, и сегодня еще висят клочья мяса пытавшихся подлезть под него.
Непостижимо!
И, как пес, проскуливший всю жизнь на цепи, вдруг увидел конец цепочки, просто так лежащий на земле, перевел глаза на ворота и — колеблется: вдруг ворота захлопнутся и защемят его? — так и мы боимся сдвинуться с места, переминаемся с ноги на ногу и ловим слухи. Слухи подтверждаются один за другим. Уехать — можно.
Уехать и в самом деле было можно. Не так комфортно, конечно, как это ему тогда виделось. И даже с некоторым риском: можно было годы просидеть «в отказе» и в конце концов поехать в обратном направлении.
В общем, для раздумий и колебаний основания были, и немалые. Но пока он — и такие, как он, — раздумывали, с тоской глядя на эту оборванную, валяющуюся на земле цепь, другие, более активные и более ловкие, ринулись в эту узкую щель и даже слегка расширили ее своими телами, порою довольно сильно ободрав себе бока, но в конце концов вырвавшись все-таки на волю.
И пятый пункт вдруг оказался в цене. Еще вчера бывший знаком изгойства, отщепенчества, он вдруг стал привилегией.
Еврейская жена (или еврейский муж) стали чем-то вроде транспортного средства — легальной возможностью побега из тюрьмы. Появились фиктивные браки. Евреи, давным-давно уже числившиеся (и сами числившие себя) русскими, раскапывали каких-то прадедов и прабабок, похороненных на разрушенных и давно забытых еврейских кладбищах. Выдумывали предков, зарытых в Бабьем Яру, чтобы доказать свое еврейство. Не брезговали этим и многие коренные русаки, исхлопатывая себе фальшивые еврейские документы.
— Русский патриотизм, — сказал как-то Эренбург, — это нечто из области патологии. «Ты — единственная!» И — шмыг в Баден-Баден.
Но что Эренбург, если даже Федор Иванович Тютчев — патриот, можно сказать, не из последних, — любил повторять: «У меня не тоска по родине, а тоска по чужбине». И узнав, что убийцу Пушкина — Дантеса — военный суд приговорил к высылке с фельдъегерем за границу, мрачно пошутил: «Пойду, убью Жуковского».
Казалось бы, евреям, этим вечным «беспачпортным бродягам», патентованным космополитам, людям без корней, даже и раздумывать — не то что колебаться — было нечего. Но вот тут-то и оказалось, что далеко не все из них хотят воспользоваться этой внезапно открывшейся перед ними ослепительной возможностью. И объясняли они это со свойственным им еврейским скепсисом.
► — Рабинович! — спрашивают у такого еврея. — А почему вы не едете в Израиль?
— Зачем? — отвечает он. — Мне и здесь плохо.
Был, впрочем, и другой анекдот, освещавший эту проблему несколько иначе.
► Время действия — будущее. И, как это представлялось автору (или авторам) анекдота, не такое уж отдаленное.
Идут по улице два мужика. А впереди ковыляет какая-то старуха.
— Смотри! — говорит один другому. — Еврейка!
— Ты что? — отвечает тот. — Они же все давно уехали!
— А я тебе говорю — еврейка!
Слово за слово, спорили, спорили, наконец решили спросить у самой старухи.
— Простите, пожалуйста, — обратился к ней тот из спорщиков, который открыл дискуссию. — Ведь правда же, вы еврейка?
— Я еврейка? — саркастически переспрашивает она. — Я идиотка!
Правильной дорогой идете, товарищи!
Моя жена в молодости очень любила халву. А халва в те времена, как и многое другое, была довольно большой редкостью. И вот однажды в буфете издательства «Правда», куда не каждый смертный мог получить доступ, я увидал этот дефицитный продукт. И, разумеется, захотел порадовать жену ее любимым лакомством.
Но дело осложнялось тем, что любила она не всякую халву, а тахинно-ванильную. Однажды я принес домой другую халву, арахисовую, и она долго пилила меня, объясняя, какой я невнимательный муж, да и вообще недотепа: не знаю даже, как разительно отличается арахисовая халва, которую невозможно взять в рот, от тахинно-ванильной, которую она обожает.
Буфетчица ответить на мой вопрос, какая у них в продаже халва — тахинно-ванильная или арахисовая, — не смогла. Она даже не поняла смысла моего вопроса: халва, мол, она и есть халва, чего вам еще надо? И на ее хорошеньком личике я прочел: «Совсем люди уже стыд потеряли. С жиру бесятся!»
Мне было и в самом деле неловко приставать к ней с дальнейшими расспросами, но я преодолел себя и попросил дать мне упаковку этой халвы в руки, чтобы я мог внимательно изучить этикетку и получить таким образом ответ на свой дурацкий вопрос.
Не очень охотно, но она все-таки выполнила мою просьбу.
Первое, что бросилось мне в глаза на той этикетке, были слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Были там и другие надписи, из которых можно было узнать название завода, произведшего эту халву, а также, чье имя носит этот завод и какими орденами он награжден. Все там было. Кроме того, что так важно мне было узнать, чтобы жена была довольна и не устроила мне еще одну сцену по поводу моего хамского равнодушия к ее изысканным вкусам.
Ситуация эта была довольно типичной для тогдашней нашей жизни, поскольку мы со всех сторон были окружены текстами, не несущими никакой полезной информации: «СЛАВА КПСС!», «НАРОД И ПАРТИЯ — ЕДИНЫ!» «СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ — НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!», «ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — РАБОЧУЮ ГАРАНТИЮ!», «ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ!» Много их было, таких плакатов, — всех не перечислишь. И — что особенно раздражало — все это при полном отсутствии указателей, несущих информацию, которая бывала нам в тот момент жизненно необходима.
В связи с этим возникало множество разнообразных комических — а иногда и не только комических — ситуаций.
Одну из них, в которой случилось ему оказаться, в присущей ему и «чуждой нам», как выразился о нем один критик, «поэтике изображения жизни как она есть», воспроизвел Владимир Войнович в своей документальной книге «Антисоветский Советский Союз»:
► В начале 70-х мы с женой, возвращаясь с Черного моря в Москву, где-то, в районе, кажется, Армавира, попали на большую и по советским стандартам довольно хорошую дорогу, соединяющую Пятигорск с Ростовом-на-Дону. У въезда на дорогу никаких указателей не было, мы свернули в сторону, которая казалась нам правильной, и покатили, рассчитывая, что доберемся до ближайшего указателя и в лучшем случае поедем дальше, а в худшем развернемся.
Дорога была совершенно пустынна. Очень редко попадались встречные автомобили, а в нашу сторону, казалось, не ехал никто, кроме нас. Впрочем, мы не беспокоились. Главное — доехать до ближайшего указателя. А вот вроде и он…
Большой дорожный щит мы заметили издалека. Но когда приблизились, увидели, что это огромный портрет Ленина, очень доброго на вид старичка с красным скромным бантиком на отвороте пиджака и в кепке. Приложив к кепке полусогнутую ладонь, Владимир Ильич ласково щурился и одобрял выбранное нами направление. «ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!» — крупными буквами было написано под портретом…
Нас, конечно, сообщение вождя мирового пролетариата в данном случае удовлетворить не могло, хотелось бы получить более детальные сведения, но, что поделаешь, мы поехали дальше. И опять пустынная дорога без населенных пунктов, без бензоколонок, без указателей, даже без обычных (тоже бесполезных) фанерных щитов, на которых местные колхозы сообщают, сколько молока или яиц в текущей пятилетке они собираются сдать государству. И только портреты Ленина с той же усмешкой и с теми же словами «ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!» с раздражающей периодичностью появлялись у края дороги.
Проехав около сотни километров, мы, наконец, догнали какой-то трактор и выяснили у водителя, что дорогой мы идем, конечно, правильной, но в совершенно противоположную сторону. Развернувшись, мы поехали обратно, и опять один за другим возникали, приближались и исчезали портреты Ленина с теми же словами «Правильной дорогой…».
P
Реальный социализм
Сталинский тезис о построении коммунизма в одной, отдельной взятой стране был краеугольным камнем советской идеологии.
Никто давно уже не принимал эту идею всерьез. Шутили даже над известным выражением «Коммунизм на горизонте», напоминая, что горизонт — это воображаемая линия соприкосновения неба с землей и что по мере приближения к нему он удаляется.
Но начальство твердо держалось этой основополагающей идеи. Волюнтарист (так его потом назвали) Хрущев пообещал: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» И даже наметил конкретные сроки: объявил, что произойдет это в 1980 году. Посулил нам к тому времени какие-то бесплатные биточки. А пока распорядился бесплатно выдавать хлеб в столовых и ресторанах.
Но вот уже и восьмидесятый год не за горами. А до коммунизма все так же далеко. И даже бесплатный хрущевский хлеб в столовых пришлось отменить. И вообще, как сказано у Войновича в его знаменитом романе про солдата Ивана Чонкина: «Дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже».
Теперь это можно было сказать уже не об одном, отдельно взятом колхозе, а обо всей нашей отдельно взятой стране.
Концы в нашей передовой теории не сходились с концами. Надо было срочно в ней что-то менять.
Думало наше высокое начальство, думало после снятия наобещавшего народу золотые горы волюнтариста Хрущева — и додумалось.
Решили (на время) о коммунизме забыть.
Взамен ему придумали термин: зрелый (развитой) социализм. Объяснили, что это — социализм, достигший высшей стадии развития.
В докладе секретаря ЦК на Пленуме ЦК КПСС 14 июня 1983 года было сказано:
► Советское общество вступило в ИСТОРИЧЕСКИ ДЛИТЕЛЬНЫЙ (выделено мною. — Б. С.) этап развитого социализма.
Близких перемен к лучшему, стало быть, уже даже и не обещали.
Но и тут тоже выходило не совсем гладко, поскольку дела в стране, где уже был построен этот самый развитой социализм, продолжали с каждым годом идти все хуже и хуже.
И вот тут-то и возник этот новый — спасительный — термин: реальный социализм.
Реальный — это значило: какой есть. Другого не будет. Лопайте, дескать, что дают.
Говорят, что сынишка Муссолини спросил однажды за обедом у отца:
— Папа, что такое фашизм?
На что дуче мрачно ответил:
— Жри и молчи.
Тоже, конечно, не ответ. Но у них там хоть было что пожрать.
У наших вождей, правда, с жратвой дело тоже обстояло неплохо. Был на эту тему даже такой анекдот:
► — Где проходит граница между развитым социализмом и коммунизмом?
— По Кремлевской стене.
А про реальный социализм говорили, что это — самый долгий путь к капитализму. (На самом деле оказалось, что не такой уж и долгий: чем реальнее становился наш социализм, тем ближе было его крушение.)
Был еще и такой анекдот на эту тему:
► — Что такое реальный социализм?
— Это когда без денег еще ничего не дают, а за деньги уже ничего не купишь.
В результате такого нашего поступательного, как принято было тогда говорить, движения к светлому будущему сама идея социализма в нашей стране оказалась безнадежно скомпрометированной. Что нашло отражение в таком, например, анекдоте:
► — А можно построить социализм, например, в Швейцарии?
— Можно, но жалко.
Или — в таком:
► Вопрос армянскому радио:
— А в отдельно взятой Армении социализм можно построить?
— Можно, но лучше — в Грузии.
И, наконец, — в таком:
► — Как вы считаете, Маркс был — ученый? Или политик?
— Пожалуй, скорее все-таки политик.
— Вот и я так думаю. Был бы ученый, так сперва на животных попробовал бы.
Разоружиться перед партией
У этого выражения было довольно много родственных словесных оборотов: «Покаяться», «Признать ошибки», «Отмежеваться».
Почти все они довольно рано стали предметом иронического глумления.
Уже в 1932 году Ильф и Петров в фельетоне «Идеологическая пеня» издевались над ритуалом обязательных «отмежеваний»:
► Необходимо помнить, что на сочинителей, не отмежевавшихся своевременно, начисляется идеологическая пеня 0,2 (ноль целых, две десятых) ругательной статьи на печатный лист художественной прозы.
И для литераторов, еще не овладевших техникой отречения от своих произведений, предлагали различные варианты готовых, клишированных «литотмежеваний», среди которых был даже один стихотворный:
Спешу признать с улыбкой хмурой Мой сборничек «Котлы и трубы» Приспособленческой халтурой, Отлакированной и грубой.В середине 30-х на ту же тему был сочинен иронический перифраз, который по справедливости должен считаться одной из жемчужин тогдашнего интеллигентского фольклора:
Он по-марксистски совершенно Мог изъясняться и писал, Легко ошибки признавал И каялся непринужденно.В литературной среде волна таких массовых покаяний поднялась в 1929 году, в связи с так называемым делом Пильняка и Замятина. «Дело» это, а лучше сказать, кампания (едва ли не первая из известных нам идеологических кампаний) обозначила некий исторический рубеж, резко отделив один историко-литературный период от другого.
Поводом для начала этой кампании стала публикация в зарубежных — эмигрантских — изданиях романа Евгения Замятина «Мы» и повести Бориса Пильняка «Красное дерево». Но дело было не в Пильняке и Замятине. Главная цель кампании (и она была достигнута) состояла в том, чтобы покончить с сохраняющейся еще тогда иллюзией отдельного существования литературы от государства.
Литераторы «намек» поняли.
Вот как несколькими годами позже (в 1933 году) вспоминал об этом один из главных фигурантов того громкого «дела» — Е.И. Замятин:
► Шок от непрерывной критической бомбардировки был таков, что среди писателей вспыхнула небывалая психическая эпидемия: эпидемия покаяний. На страницах газет проходили целые процессии флагеллантов: Пильняк бичевал себя за признанную криминальной повесть («Красное дерево»), основатель и теоретик формализма Шкловский отрекался навсегда от формалистической ереси; конструктивисты каялись в том, что они впали в конструктивизм и объявляли свою организацию распущенной; старый антропософ Андрей Белый печатно клялся в том, что он в сущности антропософический марксист… Особенно благоприятную почву для себя эта эпидемия нашла в Москве, легче поддающейся эмоциям: среди петербургских писателей — флагелланты были исключением.
(Е. Замятин. Москва — Петербург)Дело было, конечно, не в эмоциях, а в той общественной атмосфере, которую создавала — и создала — власть не только в Москве (и так и не ставшем исключением из общего правила Петербурге), но — во всей стране.
Ключевым словом в этом рассуждении Замятина было слово «флагеллант» — ученый термин, обозначающий средневекового религиозного аскета-фанатика, подвергающего себя публичному самобичеванию ради искупления грехов. Но наши флагелланты никакими религиозными фанатиками, конечно, не были. Они были жертвами. Жертвами обязательного ритуального действа, которое, конечно, тоже можно было бы назвать флагелляцией, но гораздо уместнее тут будет наше, коренное, гораздо более нам понятное словцо — порка.
Именно так это и было понято народом (во всяком случае лучшей его частью), о чем может свидетельствовать такой, например, анекдот:
► Вызывает как-то товарищ Сталин верного своего пса Лаврентия Павловича Берия и говорит:
— Скажи, Лаврентий, ты не боишься, что народ у нас может выйти из повиновения?
— Да ну что вы, Иосиф Виссарионович, — отвечает Лаврентий.
— А вот у меня есть такое опасение, — задумчиво говорит вождь.
— Нет, — смеется Лаврентий. — Я в нашем народе уверен.
— А в интеллигенции?
— В интеллигенции — тем более. Хотите сделаем такой эксперимент: объявим, что с завтрашнего дня на Красной площади будет проводиться ежедневная порка всего населения.
— Да ты что, Лаврентий! Ведь это же вызовет бунт. Может быть, даже революцию…
— А вот увидите! — говорит Лаврентий.
В общем, уговорил, подлец.
Объявили.
На следующее утро стоят они у окна сталинского кремлевского кабинета и видят, как приближается к Красной площади какая-то толпа — с флагами, транспарантами, лозунгами.
— Ну вот, — оборачивается Сталин к Лаврентию. — Что я тебе говорил? Сперва демонстрация, потом бунт, а там и революция. Так ведь и мы начинали. Доигрался ты, братец, со своими экспериментами.
— Не торопитесь с выводами, Иосиф Виссарионович, — говорит Лаврентий. — Пусть подойдут поближе.
Колонна демонстрантов приближается, и все отчетливее становятся видны буквы на плакатах и транспарантах. И вот уже можно прочесть, что написано на первом транспаранте. И вождь читает:
МЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР, ТРЕБУЕМ, ЧТОБЫ НАС ВЫПОРОЛИ ПЕРВЫМИ!
Это, конечно, аллегория. Но ритуал публичной порки со временем стал одной из главных примет советской жизни. И не только в среде писателей или академиков.
Этот ритуал прилюдной флагелляции — уже не в интеллигентском, а, так сказать, в простонародном варианте — изобразил (в более поздние времена) Александр Галич:
Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать. Вот стою я перед вами, словно голенький, Да, я с племянницей гулял с тети-Пашиной, И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники, И в моральном, говорю, моем облике Есть растленное влияние Запада, Но живем ведь, говорю, не на облаке, Это ж только, говорю, соль без запаха!Долгое время я думал, что чуть ли не с детства бывшее у меня на слуху выражение «разоружиться перед партией» целиком исчерпывается вот этим самым ритуалом. Наивно полагал, что вот так вот заголиться перед коллективом — это и значит «разоружиться».
Оказалось, что — нет. Что словесная формула эта несет в себе иной, более глубокий и вполне конкретный смысл.
* * *
Впрямую столкнулся я с этой формулой в конце 60-х, в эпоху так называемого «подписантства».
Эпоха эта началась с попытки группы писателей вступиться за арестованных коллег — Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Было сочинено и отправлено в высокие инстанции письмо в их защиту. Подписали это письмо что-то около восьмидесяти членов Союза писателей, в числе которых был и я. Письмо было, на мой взгляд, довольно глупое. Вместо того чтобы объяснить начальству, что писателя за его сочинения можно судить, как учил классик, лишь судом, им самим над собою признанным, мы заявляли, что готовы взять своих провинившихся коллег на поруки. (Была тогда такая форма: коллектив предприятия мог взять на поруки какого-нибудь проворовавшегося или по пьянке надебоширившего своего члена и тем самым спасти его от тюрьмы.) Сочинив и отправив наверх такое письмо, мы тем самым как бы признавали вину арестованных писателей перед обществом.
Я назвал это обращение к начальству глупым, но тут проявилась не столько глупость авторов подписанного нами текста, сколько общая наша, всем нам свойственная робость. Казавшаяся тогда, да и не только казавшаяся, но и на самом деле бывшая по тем временам несказанной смелостью. Ведь письмо это было первым в череде последовавших за ним в те годы, и каждое последующее было смелее предыдущего. Там «подписанты» уже не просили, а — требовали. Что же касается этого — первого — письма, то, будь оно чуть смелее, под ним никогда не поставили бы своих подписей аж целых восемьдесят писателей: хорошо, если бы таких смельчаков набралось с десяток.
Первое письмо начальство пропустило мимо ушей, никак на него не прореагировало. Но письма, как я уже сказал, становились все смелее и решительнее, а реакция начальства — все круче, все суровее. И в какой-то момент к «подписантам» было решено применить санкции.
Я (по беспартийности) отделался каким-то пустяковым выговором, о существовании которого даже и узнал-то случайно.
Друзья уговорили меня подать заявление на туристскую поездку в Болгарию (они собирались туда целой компанией). И вдруг мне стало известно, что меня даже не включили в тот список.
Отказов в выезде за рубеж я тогда наполучал уже много. Но в прежних случаях мне отказывали какие-то таинственные, неведомые мне инстанции, и это было, как мне тогда казалось, в порядке вещей. А тут мне — на самой ранней, самой первой инстанции — отказал мой родной Союз писателей. Что такое? Почему такая дискриминация?
Возмутившись, я заглянул в кабинет секретаря по оргвопросам — не столько в надежде поправить дело, сколько для того, чтобы выразить ему свое негодование. Вместо хорошо мне знакомого Виктора Николаевича Ильина там сидел замещавший его на тот момент другой секретарь — довольно известный прозаик.
С ним я был знаком только шапочно, но в отличие от отставного генерала ГБ он со мною держался не по-чиновничьи, а как свой брат — литератор. Внимательно выслушал мою сбивчивую гневную речь. Пожал плечами:
— Ума не приложу… — начал он. И, словно бы вдруг догадавшись (некоторый чрезмерный наигрыш тут сразу его выдал), предположил:
— Постойте! Может быть, вы что-нибудь подписывали?
Я признался, что да, конечно, подписывал.
— Ну вот, — радуясь, что ему удалось так быстро разгадать загадку, сказал он. — Вот тут и зарыта собака. Вам надо, — дружелюбно посоветовал он, — написать в секретариат маленькое письмецо. Ну, сами понимаете: что по прошествии времени вы поняли, осознали… Ну, что я буду вам подсказывать, форму найдете сами. Разумеется, письмо это никуда не пойдет, так и останется лежать тут в наших бумагах. На этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Это не более чем простая формальность.
— Ладно, — сказал я. — Спасибо. Поеду не в Болгарию, а в Коктебель.
— Тоже неплохо, — улыбнулся он.
К этому, кажется, и свелись все последствия полученного мною тогда выговора.
А вот судьба одного моего тогдашнего приятеля, подписавшего то же письмо, сложилась иначе.
Он, на свою беду, в отличие от меня был членом партии. И ему грозило исключение из ее железных рядов.
Чем была тогда чревата такая — крайняя — мера, объяснять не надо. Это была гражданская смерть. Волчий билет.
Поэтому, узнав от этого моего приятеля, что он решил признать ошибки, покаяться, я не удивился. И не счел себя вправе отговаривать его, а тем более указывать ему на постыдность такого покаяния. Но когда он дал мне прочесть какой-то — видать, уже далеко не первый — вариант своего покаянного письма, я бы потрясен.
Боже! Чего только он там не понаписал о себе! Как только себя не обгадил!
— А нельзя ли было… — осторожно начал я.
— Нельзя! — жестко оборвал меня он. И я понял, что все способы сохранить «и в подлости остатки благородства» были уже испробованы им и беспощадно отринуты партийным начальством.
Признаться, про себя я подумал, что лучше уж было бы ему не подписывать того письма, сразу смириться с тем, что такие гражданские доблести ему — члену великой партии — не по зубам. Но ему я этого, разумеется, не сказал, а только выразил уверенность, что такой ценой свой партийный билет он, конечно же, сохранит.
Увы, я ошибся.
На бюро райкома его все-таки исключили. С той вот самой формулировкой: не разоружился перед партией.
Услыхав об этом, я — по беспартийной своей наивности — воспринял случившееся как проявление какого-то изощренного партийного садизма, увидел в нем только злобную, жестокую, иезуитскую игру: ведь разоружиться (то есть обгадить себя) больше, чем мой приятель сделал это в своем покаянном письме, было просто невозможно.
На самом деле, однако, ларчик открывался куда как проще.
Главный, непрощеный грех моего приятеля заключался в том, что, обгадив себя с ног до головы, он не смог переступить последней черты: отказался назвать того, кто дал ему подписать то злополучное письмо. То есть — заложить товарища. Попросту говоря, совершить предательство.
Вот, оказывается, что она означала — эта не сразу понятая мною формула: «разоружиться перед партией».
Обо всех этих делах тот мой бывший приятель наверняка уже давно забыл. В последние годы он ударился в православие и теперь в своих статьях (он — известный литературовед) сурово осуждает Пушкина за то, что тот недостаточно решительно отмежевывался от своей «Гавриилиады» — юлил, пытался даже свалить свою вину на других. В общем — не разоружился перед Церковью.
Разрядка
В «Толковом словаре русского языка» Ушакова (1939) слово это объясняется так:
► 1. Разреженная расстановка букв в слове для выделения его в тексте (тип.). Набрать цитату вразрядку. Слово выделяется или жирным шрифтом, или курсивом, или разрядкой.
2. То же, что разряд (см. разрядить в 1 знач.)
В четырехтомном академическом «Словаре русского языка» (1983 г.) примерно так же. С той только разницей, что оба эти значения поменялись местами: первое стало вторым, а второе — первым:
► 1. Действие по знач. глаг. разрядить — разряжать; действие и состояние по глаг. разрядиться — разряжаться. Разрядка ружья. Разрядка аккумулятора.
2. Типогр. Более редкая, чем обычно, постановка букв в слове для выделения этого слова в тексте.
В советском новоязе слово это обрело новое значение, которое не только оттеснило на второй и третий план все прежние, но быстро стало практически единственным:
► РАЗРЯДКА — ослабление международной напряженности. «По самой своей сути разрядка — это внедрение в практику международных отношений ленинских принципов мирного сосуществования». «Разрядка — не благое пожелание, а вполне осязаемое и реальное явление».
(Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998)Как и многие другие слова и обороты советского новояза, выражение это народом было понято (и совершенно правильно понято) с точностью до наоборот. Примерно так же, как выражение «Борьба за мир» в известном анекдоте:
► — Как вы думаете, будет третья мировая война?
— Нет, войны не будет. Но будет такая борьба за мир, что ни одного живого человека на Земле не останется.
Анекдотов, связанных со словом «разрядка», мне вспомнить не удалось. Но вспомнилась песня:
Помню я, как когда-то в Париже Совещание было в верхах. Там собрались четыре министра — Говорили о разных делах. Тут поднялся товарищ Макмиллан, И сказал он себе на позор, Что желает с позиции силы Он с Хрущевым вести разговор. Тут Хрущев сразу с места ответил И сказал, посмотрев на него: «Дорогой мой товарищ Макмиллан! Ты не прав. Ты сказал не того». Эйзенхауэр тихо смеялся И почесывал ногтем усы. Поддержал он Макмиллана сразу, Потому что он был сукин сын. Тут поднялся де Голль длинноносый И сказал; «Такова селяви — Я хочу небольшой перерывчик, Я сегодня немного устал». Эйзенхауэр тихо смеялся И почесывал ногтем усы, Поддержал он, конечно, де Голля, Потому что он был сукин сын. Тут товарищ Хрущев встал со стула И сказал: «Дорогие друзья! Мы вас можем тотчас уничтожить, Коль на это приказ выдам я». Сразу в мире опять потеплело. Лед растаял холодной войны. Лишь стояли-молчали ракеты Нашей мирной Советской Страны.Текст этой песни я цитирую по книге Аркадия Арканова «От Ильича до лампочки. Учебник истории советской власти для слаборазвитых детей».
Приводя ее в этом своем «учебнике», автор предваряет цитату таким кратким вступлением:
► По электричкам ходили нищие и пели песни о разрядке международной напряженности. Сохранилась одна из них — «О Парижском совещании в верхах».
Этим предуведомлением автор как бы дает нам понять, что слова песни, как принято говорить в таких случаях, народные. Но мне почему-то кажется, что сказано это было из чистой скромности, что на самом деле «текст слов» этой замечательной песни сочинил он сам.
Интересно, конечно, было бы узнать, насколько верно это мое предположение. Но так ли, этак, — сути дела это в общем-то не меняет. Во всяком случае, для тех целей, которые я ставлю перед собой в этой моей книге, особого значения это не имеет.
Раскулачить
В академическом «Словаре русского языка» это слово объясняется так:
► Лишить кулака (кулаков) средств производства и земли в процессе ликвидации кулачества как класса.
В «Толковом словаре языка Совдепии» (СПб., 1998), помимо этого, дается второе значение того же слова:
► Ограбить, обворовать кого-либо. С пометкой: Жарг. лаг.
В «Словаре тюремно-лагерно-блатного жаргона» (М., 1992) — только второе:
► Раскулачить сидора — украсть мешок с вещами или продуктами, украсть багаж, ручную кладь.
На блатном, лагерном жаргоне, может, оно и так. Но для меня слово это с детства несет в себе совсем иной смысл.
Может быть, это связано с ситуацией, в которой я впервые его услышал.
Когда мне стукнуло десять лет, мне купили велосипед. Это было событие не только в моей жизни, но и в жизни всего нашего двора. Велосипед тогда был не то чтобы такой уж большой редкостью, но далеко не каждому десятилетнему мальчишке выпадало счастье стать обладателем настоящего, взрослого велосипеда. Во всяком случае, став таковым, я приобрел известность: поглядеть на меня приходили никогда раньше не слыхавшие обо мне и не знавшие даже моего имени ребята всех окрестных дворов. Имени моего они, впрочем, как не знали раньше, так не знали и теперь: я был для них «мальчик с велосипедом». И этим все было сказано.
А велосипед мой и впрямь был красавцем. Я не мог налюбоваться блестящей хромированной поверхностью его руля и колес. Поминутно протирал носовым платком сверкающую черным лаком его раму. Запах скрипящего под моей рукой новенького кожаного седла сводил меня с ума, так же как крепившейся к раме — тоже кожаной — сумки, в которой хранились инструменты и запчасти: гаечные ключи, ниппели, резиновые заплатки — на случай, если придется заклеивать прокол в камере, еще какие-то, как теперь говорят, прибамбасы. Особенно восхищали меня насос, фонарь и пропитанная густым, темным машинным маслом цепная передача.
Целый день я любовался своим сокровищем, а на ночь ставил его около своей кровати, не забыв еще раз протереть все лакированные и хромированные его поверхности.
Счастье это, однако, длилось недолго.
Совесть не позволяла мне кататься на моем велосипеде в одиночку: на нем гоняли мальчишки не только нашего, но и всех окрестных дворов. И велосипед постепенно обрел, так сказать, рабочий — сперва вполне затрапезный, а потом и вовсе неприглядный вид.
Сперва исчез насос. Потом куда-то подевалась сумка с инструментами. Фонарь я выменял на два шарикоподшипника, чтобы сделать из них самокат: велосипед велосипедом, но самокат тоже был мне необходим — хотя бы для того, чтобы не отличаться от остальных моих сверстников.
Лакированные ободья и рама покрылись царапинами. Хромированная поверхность руля потускнела. Кожаное сиденье потрескалось и обтрепалось. Ободья погнулись от многочисленных падений, и даже колеса стали слегка вихляться при езде: глядя на них, знатоки хмурились, произнося при этом загадочное слово «восьмерка».
И вот в один прекрасный день наш сосед Иван Иванович, оглядев сочувственно мою еще недавно совсем новенькую машину, покачал головой и — то ли с сожалением, то ли с осуждением — произнес:
— Эк, брат, ты его раскулачил!
Иван Иванович был членом партии с 17-го года. И никаких расхождений с линией партии по поводу политики раскулачивания, то есть ликвидации кулачества как класса, у него не было и быть не могло. Но слово уже жило другой, своей жизнью. И значило — то, что значило.
И так навсегда и осталось оно для меня в этом своем значении: не «отобрать награбленное, экспроприировать экспроприаторов», как на официальном политическом жаргоне. И не «украсть», не «своровать», не «ограбить» — как на блатном, тюремно-лагерном. А — разорить, уделать. Справную, ладную, хорошо, любовно сделанную вещь превратить в убогую, обглоданную, от которой никому и никогда уже не будет ни пользы, ни радости.
Решительный протест
В иных случаях его можно было выразить и в индивидуальном порядке. Но чаще это бывало заявление целого коллектива, а то и многих коллективов. Когда возникала такая необходимость, организовывались специальные собрания или митинги, на которых выступали специально отобранные ораторы и зачитывали заранее подготовленные для них тексты речей и резолюций. Резолюции, разумеется, принимались единогласно. А на следующий день в печати появлялись сообщения, что весь советский народ «решительно протестует» (вариант: «гневно осуждает»), что по всей стране прокатилась «массовая волна протестов», «мощная волна протестов» и т. п.
Эта высокая патетика, как правило, прикрывала тотальное равнодушие советского человека к тем явлениям, которые он якобы «гневно осуждал», против которых «решительно протестовал». И чем равнодушнее было истинное его отношение к обсуждаемой проблеме, тем более решительным и гневным оказывался этот его протест.
Но порой случалось, что этот самый «решительный протест» бывал искренним, идущим, что называется, от самого сердца.
Вот, например, такой случай.
* * *
На одном московском заводе готовился какой-то большой митинг. По какому поводу — не помню, да это и не важно.
Все роли, как водится, были заранее распределены, все речи — написаны и утверждены. Но, как на грех, во всех утренних газетах появились новые разоблачительные статьи о какой-то очередной антигосударственной выходке академика Сахарова. Опальный академик не унимался, и советские патриоты в очередной раз давали ему отпор.
Вносить добавления в тексты написанных и утвержденных речей было уже поздно, и парторг перед самым началом митинга остановил одного из самых смышленых ораторов, какого-то передовика производства, и сказал ему:
— Ты, когда речь дочитаешь, потом от себя что-нибудь про Сахарова скажи.
Тот кивнул:
— Обязательно.
— Смотри, не забудь. Я на тебя надеюсь.
Тот жестом дал понять: не волнуйся, мол, все будет в порядке. Не забуду.
И действительно, не забыл.
Дочитав свою речь до конца, он аккуратно сложил бумажный листок, на котором она была напечатана, и спрятал его в карман.
— А теперь, товарищи, — сказал он, — я хочу сказать про Сахарова. Это что же получается! Мы ему дали всё! И зарплату высокую, и премиальные, и новую квартиру. А он — перебежал в киевское «Динамо»!
* * *
А вот решительный протест совсем другого рода.
Однажды, выходя из дому, я достал из почтового ящика газету, развернул и тут же наткнулся на очередную гневную отповедь академику Сахарову. Под письмом, исполненным самого бурного гражданского негодования, стояли подписи, среди которых мне сразу бросилась в глаза фамилия моего соседа — известного кинорежиссера. И только вышел я во двор, как — вижу! — он…
Завидев меня, он сделал на лице выражение гражданской скорби и, кивнув на газету в моей руке, быстро заговорил:
— Уже читали?.. Да, да… Ужас, ужас… Всю неделю я прятался, уехал на дачу, не подходил к телефону… Жене велел говорить, что она не знает, где я… Нашли, приехали, посадили в машину, привезли… Крутили руки… заставили… Ничего не мог сделать…
Несколько дней спустя я был по своим делам на «Мосфильме» — как раз в том объединении, где мой сосед был худруком. Сидели, болтали о том о сем. И вдруг кто-то сказал:
— А наш-то! Видали? Тоже оскоромился…
— Да, я как раз в тот день его встретил, — сказал я. И вкратце пересказал наш разговор.
Все расхохотались.
А отсмеявшись, рассказали, что их худрук, прослышав где-то, что готовится такое письмо, прямо весь извертелся. Звонил в Госкино, в ЦК, еще куда-то. И в конце концов добился-таки, чтобы под проклятиями Сахарову красовалась и его подпись тоже.
— Господи! — изумился я. — Зачем ему это?
Все снова расхохотались. А отсмеявшись, объяснили мне, как несмышленышу:
— То есть как это — зачем? Ведь он тоже — основоположник, Герой Социалистического Труда, и все такое… Все «гертруды» подписали, а его подписи нет… Не дай бог, подумают, что он уже выпал из обоймы…
Родная партия
Это был постоянный эпитет.
«Постоянный эпитет» — это специальный литературоведческий термин, относящийся к народной поэзии. Именно для нее характерны такие эпитеты: если поле — так непременно чистое, море — синее, тучи — черные, солнце — красное и т. п.
В советском новоязе таким постоянным эпитетом к слову «партия» стало неизменное прилагательное — «родная»:
Родная партия ведет уверенно, Презрев опасности, гремит она в боях…Самым замечательным тут было то, что эпитет этот так прочно прирос к характеризуемому им слову, что не отрывался от него не только в официальных советских песнях и стихах, но и в озорных, издевательских, глумливых стишках и частушках.
Вот, например, когда в одночасье мы узнали, что вчерашний народный любимец Н.С. Хрущев больше уже не «Наш Никита Сергеевич», а всего лишь пенсионер союзного значения, родился и повсеместно повторялся такой стишок:
Ой, позор на всю Европу! Срамота-то, срамота! Десять лет лизали жопу — Оказалося — не та! Но народ не унывает, Смотрит радостно вперед: Наша партия родная Нам другую подберет.Безграничная вера народа в партию даже и в этой, не совсем обычной ситуации оставалась неизменной, а потому и эпитет как был, так и остался постоянным.
Родной завод
Эта расхожая формула советского новояза была хороша тем, что в ней органически сочетались обе ипостаси советского патриотизма: любовь ко всему родному («любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», как говорит классик) и одновременно чувство пролетарской солидарности — сознание прочного, неразрывного, кровного родства со своими братьями по классу. («Я счастлив, что я этой силы частица, что общие — даже и слезы из глаз. Сильнее и чище нельзя причаститься великому чувству по имени класс», как объясняет нам другой классик.)
Самым искренним выражением этого слитного, двуединого чувства была необыкновенно популярная в 20-е, а отчасти же и в 30-е годы песня — «Кирпичики»:
На окраине, где-то в городе, Я в рабочей семье родилась, Лет шестнадцати, горе мыкая, На кирпичный завод нанялась. Было трудно мне время первое, Но потом, проработавши год, За веселый гул, за кирпичики Полюбила я этот завод. На заводе том Сеньку встретила. И с тех пор, как заслышу гудок, Руки вымою и бегу к нему В мастерскую, накинув платок. Но, как водится, безработица По заводу ударила вдруг. Сенька вылетел, а за ним и я, И еще двести семьдесят душ. Тут война пошла буржуазная, Озверел, обозлился народ, И по винтику, по кирпичику Растащили весь этот завод. После вольного счастья Смольного Развернулась рабочая грудь. И решили мы вместе с Сенькою На кирпичный завод заглянуть. Там нашла я вновь счастье старое, На ремонт поистративши год, И по камешку, по кирпичику Собирали мы этот завод…В конце концов собрали — и зажили новой жизнью, не в пример более прекрасной, чем прежняя. В каком-то из вариантов — в финале песни Сенька становился директором завода и звался он теперь уже не Сенька, а — «товарищ Семен».
Но это все — романтика первых советских лет. По прошествии двух-трех десятилетий она начисто выветрилась, песня «Кирпичики» была напрочь забыта, а тема «родного завода» получила совершенно новое развитие. Тоже, надо сказать, высокохудожественное:
Гудит как улей Родной завод. А нам-то — хули, Ебись он в рот.РСФСР
К.И. Чуковский, который на протяжении всей своей жизни проявлял острый интерес и редкостную чуткость к живым формам живого языка, на заре советской власти выписал около десятка услышанных им издевательских вариантов расшифровки этой официальной аббревиатуры:
► Русская Селедка Фунт Сорок Рублей
Разная Сволочь Фактически Слопала Россию
Раздача Соли Фасоли Советским Рабочим
Рабочим Соль Фасоль Себе Рябчики
Россия Спешно Формирует Старый Режим
Редкий Случай Феноменального Сумасшествия Расы
С краю Розы, потом Слезы, а в Середине Фига
Рабочие Сняли Фуражки Снимут Рубашки
Ребята Смотри Федька Сопли Распустил
(«Чукоккала». Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1999. С. 301)В этом кратком перечне отразились самые разные взгляды. Взгляд человека из народа и взгляд интеллигента, взгляд патриотический («Разная сволочь фактически слопала Россию») и взгляд «русофобский» («Редкий случай феноменального сумасшествия расы»), взгляд «пролетарский» («Рабочим соль, фасоль — себе рябчики») и взгляд антипролетарский («Рабочие сняли фуражки, снимут рубашки»), взгляд контрреволюционный («Ребята, смотри, Федька сопли распустил») и взгляд революционный, рассматривающий случившееся как очевидную измену идеалам революции («Россия спешно формирует старый режим».)
Но все эти взгляды, направленные на рассматриваемый предмет с самых разных сторон, объединяет одинаково негативное, иронически глумливое отношение не только к новому наименованию новой России, но и вообще к тому, что случилось с Россией в 1917 году.
Ходил будто бы и такой анекдот (авторство приписывают Булгакову):
► — Почему РСФСР — хоть справа налево, хоть слева направо — во всех направлениях РСФСР?
— А это — чтобы Ленин прочел по-нашему, а Троцкий — по-ихнему.
Записал (а может, и придумал) этот диалог писатель Эдуард Шульман. А закончил он эту свою запись так: «Это, считай, юдофобский перевертыш».
Я бы выразился немного иначе: а вот еще одна, юдофобская версия.
Русский революционный размах и американская деловитость
Два эти качества — в диалектическом их сочетании — должны определять стиль работы настоящего большевика-ленинца. Это сказал Сталин. И не где-нибудь, а в основополагающем своем труде «Об основах ленинизма».
Это была одна из главных сталинских заповедей, которые всем нам полагалось знать назубок. Немудрено поэтому, что она наряду со многими другими изречениями вождя вошла и в повседневную, бытовую речь «человека сталинской эпохи». Обращаясь к какому-нибудь растяпе, говорили: «Да, брат, нет у тебя этой самой американской деловитости». А кому-нибудь, не в меру горячему, так же добродушно рекомендовали слегка умерить свой революционный размах.
Что же касается официального ее употребления, то, как и все прочие сталинские формулы, она не подлежала никакому вольному изложению. Вождя полагалось цитировать точно, не меняя в его текстах ни единого знака препинания.
Каково же было мое изумление, когда однажды в какой-то статье «Правды» я прочел, что настоящий коммунист должен сочетать русский революционный размах не с американской, как это было сказано, а с большевистской деловитостью.
Это было году что-нибудь в 48-м. Советско-американские отношения достигли тогда предельной напряженности, и вроде можно было и не удивляться тому, что американскую деловитость вдруг заменили на большевистскую. Но много тут было и неясного. Означает ли это, что замена произведена навсегда? То есть — что прежняя сталинская формула устарела? И следует ли, цитируя ее в новой редакции, ссылаться при этом на Сталина? То есть — сам ли он внес это изменение в свой старый текст?
Со всеми этими вопросами я в простоте душевной (а может быть, и с тайным желанием посадить ее в галошу) обратился к нашей институтской преподавательнице марксизма-ленинизма Славе Владимировне Щириной.
Удовлетворить мое любопытство она, разумеется, не смогла. Не слишком внятно пробормотала только, что большевистская деловитость безусловно является высшей формой деловитости.
На том тогда дело и кончилось.
А узнать, чем на самом деле большевистская деловитость отличается от американской, мне случилось несколько позже. Уже в другую историческую эпоху.
Что-нибудь так в середине 60-х прочел я в «Известиях» статью, в которой стиль американской деловой жизни сравнивался с нашим. Автор, как видно, много лет проживший в Америке, приводил там такой яркий пример. Вот звонит, скажем, какой-нибудь американец в какое-нибудь американское учреждение и спрашивает:
— Могу я поговорить с мистером Бейкером?
Отлично вышколенная секретарша отвечает:
— Мистер Бейкер сейчас в отпуске. Его замещает мистер Таккер. Его телефон — такой-то. Если вам угодно поговорить с мистером Таккером сейчас, я могу вас соединить.
В наших широтах, — сокрушался автор статьи, — в аналогичном случае все происходит совсем иначе. Вы задаете тот же вопрос:
— Могу я поговорить с товарищем Петькиным?
— Его нет! — отвечает секретарша и швыряет трубку.
Вы вторично набираете тот же номер:
— Простите, это я вам только что звонил. Мне нужен товарищ Петькин. Вы сказали, что его нет. Что это значит? Может быть, он будет через час? Или, может быть, он здесь уже не работает?
Секретарша так же отрывисто отвечает:
— Он в отпуске.
И снова швыряет трубку.
Вы звоните снова:
— Простите, пожалуйста, это опять я. Вы не скажете, когда товарищ Петькин вернется из отпуска?
— В конце месяца.
И трубка снова швыряется.
Поразмыслив, вы снова набираете тот же номер:
— Ради бога, извините, что я вам надоедаю. Может быть, вы скажете мне, кто замещает товарища Петькина?
— Товарищ Васькин.
И снова — отбой.
Вы звоните еще раз:
— Мне очень неловко, что я вас так беспокою, — подобострастно начинаете вы. — Будьте так любезны, если вам не трудно, дайте мне, пожалуйста, телефон товарища Васькина!
И только тут (и это еще хорошо!) вы наконец получаете то, что вам было нужно: номер телефона товарища Васькина, замещающего ушедшего в отпуск товарища Петькина.
Сколько времени убито понапрасну! — сокрушался автор статьи. — Какая нелепая трата сил и человеческих нервов! А все потому, что наша, советская секретарша не прошла соответствующей школы. Она просто не знает, в чем состоят ее секретарские обязанности.
В то время, когда в «Известиях» появилась эта замечательная статья, я как раз замещал (временно, конечно) редактора отдела «Литературной газеты». Сидел в большом редакторском кабинете с этаким предбанником, в котором помещалась моя личная секретарша — не молоденькая какая-нибудь щебетунья, а весьма почтенная матрона. Очень милая, надо сказать, была женщина. Но вела она себя с посетителями и отвечала на телефонные звонки примерно так же, как та «среднестатистическая», которую так убийственно изобразил в своей статье автор «Известий». Ну, может быть, не так грубо, чуть более вежливо. Но схема была совершенно та же.
Причина, однако, была совсем не в том, что моя Инна Ивановна в отличие от американской секретарши не прошла должной выучки. И уж совсем не в том, что она была неопытна.
Когда я — не слишком рано, а так, что-нибудь после полудня — появлялся на своем рабочем месте, она входила ко мне и докладывала:
— Вам звонил Икс. Я сказала ему, что у вас сегодня творческий день. Потом позвонил Игрек. Я сказала, что вы с утра поехали в ЦК. Позже заходил Зет. Ну, этому я дала понять, что вас не будет до конца недели. Начальство тоже интересовалось, почему вы не на месте: я сказала, что с утра вы собирались поехать к Маршаку…
Нет, неопытной моя Инна Ивановна не была. Как раз наоборот: она была очень опытна. Строго говоря, она была не просто опытная, а прямо-таки идеальная, идеально вышколенная секретарша. Но эта ее вышколенность была нацелена совсем не в ту сторону, в какую направляла свою деловитость ее американская коллега. Ее цель состояла в том, чтобы любым способом оградить шефа, грудью заслонить его от любого покушения на его драгоценный покой, от кого бы это покушение ни исходило — от какого-нибудь докучливого посетителя или от высокого начальства.
Разница между моей Инной Ивановной и ее американской коллегой, конечно, была. Но, строго говоря, разница эта была не между ними — секретаршами двух разных школ, — а между учреждениями, в которых они служили. Американское учреждение, если судить по описанному выше четкому поведению американской секретарши, было запрограммировано на то, чтобы ДЕЛАТЬ ДЕЛО. Главная же цель любого нашего, советского учреждения состояла в том, чтобы НЕ ДЕЛАТЬ ДЕЛА. Непроницаемой стеной отгородиться от необходимости делать какое бы то ни было дело…
В те годы бытовала у нас такая поговорка: «Два мира — два Шапиро».
Родилась она так.
На протяжении многих лет в Москве жил и работал известный американский журналист, корреспондент одной из самых влиятельных американских газет — Генри Шапиро. Фамилия его время от времени появлялась на страницах и наших газет. А в Центральном доме литераторов был администратор — маленький, тщедушный, заморённый еврей — тоже Шапиро. И не знаю уж, по какому-то поводу пересекся он как-то с тем, знаменитым, американским Шапиро или просто так, смеху ради, — но возникло и быстро прижилось в нашей писательской среде это ерническое выражение. Я и сам по разным поводам то и дело повторял: «Два мира — два Шапиро». Но, повторяя, вкладывал в эту реплику довольно плоский смысл: мол, где уж нашему брату, затраханному советскому человеку, тягаться с американцем, — все равно что людоедке Эллочке с дочкой Вандербильда.
И только после появления в «Известиях» той статьи, натолкнувшей меня на все эти грустные размышления, дошел до меня подлинный, неизмеримо более глубокий смысл этого нашего присловья.
Воистину — два мира…
С
Счастье
Даль дает в основном два значения этого слова. На первом месте — рок, судьба, участь, доля. И — близкое к этому — успех, удача. А на втором — благоденствие, благополучие, земное блаженство.
► …желанная насущная жизнь, без горя, смут, тревоги; покой и довольство; вообще все желанное, все то, что покоит и доводит человека, по убежденьям, привычкам и вкусам его.
В академическом (четырехтомном) «Словаре русского языка» на первом месте — состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-либо. На втором — успех, удача. Счастье в игре. Военное счастье. На третьем — хорошо, удачно; в значении сказуемого: «Да! Счастье, у кого есть этакий сынок!» (Грибоедов. Горе от ума.) И только на четвертом месте — и то с пометкой «просторечие» — то, что у Даля идет на первом: удача, доля, судьба.
Но и у Даля, и в современном словаре, составленном через полтора столетия после Даля, счастье — независимо от того, идет ли речь об удаче в карточной игре, в любви, в семейных отношениях или служебных, карьерных, — подразумевает личную удачу, личный успех. Или такое же личное, сугубо индивидуальное состояние физического или душевного довольства.
В официальном советском новоязе слово это — как правило — употреблялось в ином значении и в совершенно иных словосочетаниях. Чаще всего, например, так: Борец за народное счастье.
Если же речь, случалось, заходила о личном счастье, то это, во-первых, особо подчеркивалось эпитетом, а во-вторых, обретало презрительный, а то и прямо осуждающий характер:
► — Ну и черт с тобой, пой в своем хоре, солируй на своих концертах, куй личное счастье!
(Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998. С. 596).В обычном же официальном словоупотреблении слово «счастье» стало обозначением некоего постоянного состояния общества. Разумеется, только нашего, советского, социалистического общества. И даже когда говорилось о счастье советского человека, имелся при этом в виду не конкретный какой-нибудь советский человек, а советский человек вообще, который счастлив (должен быть счастлив!) уже по одному тому, что он советский, что ему выпало счастье родиться и жить в советской стране. («Читайте! Завидуйте! Я гражданин Советского Союза!»)
Об этом счастье ему каждое утро пели в песнях («Здравствуй, страна героев! Страна мечтателей, страна ученых…»; «Только в нашей стране дети брови не хмурят. Только в нашей стране песни радуют слух…»; «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»).
Об этом выпавшем ему счастье (в противоположность тем, кто имел несчастье родиться и жить в мире капитала) ему твердила каждодневная газета:
► В МИРЕ ТРУДА[3]
В предгорьях Алатау зацвел миндаль. В этом году сбор дикорастущих возрастет на 28 % по сравнению с 1913 годом.
В МИРЕ КАПИТАЛА
Вторую неделю сплошной туман окутывает Англию. В Лондоне, Глазго, Манчестере и Ливерпуле прекращено уличное движение.
В МИРЕ ТРУДА
Работница текстильной фабрики «Красная шпулька» Роза Басулаева родила пятерых близнецов. Счастливой матери предоставлена новая пятикомнатная квартира.
В МИРЕ КАПИТАЛА
Покончил жизнь самоубийством рабочий Джон Гопкинс из Чикаго, который не смог уплатить очередной взнос за купленный в рассрочку автомобиль.
В МИРЕ ТРУДА
На перегоне Махачкала — Сухуми сошел с рельсов скорый поезд. Благодаря находчивости машиниста П. Паровозова поезд был тут же снова поставлен на правильные рельсы и смог продолжать свой путь.
В МИРЕ КАПИТАЛА
Свалился в кювет междугородный автобус Гамбург — Бонн. 270 пассажиров убито, 320 тяжело ранено. Полицейские власти отказались принять необходимые меры по спасению пострадавших.
В МИРЕ ТРУДА
Со стапелей рижского кораблестроительного завода спущен на воду новый танкер водоизмещением 500 тысяч тонн. Танкеру присвоено имя «Егор Пуговкин».
В МИРЕ КАПИТАЛА
В Бискайском заливе затонул океанский пароход «Нептун». Причина катастрофы, как сообщают французские газеты, осталась невыясненной.
(Зиновий Паперный. Как делать газету. В помощь начинающему редактору)Это, конечно, пародия. Но так ли уж сильно отличается она от того, что мы читали в советские времена каждое утро в каждой газете? Ведь пародируется здесь не частность, а главный принцип советской печати, советской информационной политики.
В личной, частной жизни советского человека порой случались, конечно, кое-какие неприятности. Но они не могли разрушить ту общую атмосферу счастья, которая царила в стране в целом.
Если вас случайно Муж с ребенком бросил И поступок этот В сердце вам проник, Вспомните, как много Есть людей хороших. Их у нас гораздо больше, Вспомните про них. И улыбка, без сомнения, Вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение Не покинет больше вас!Тоже — пародия. Но тоже не слишком отличающаяся от пародируемого текста.
Среди множества бодрых, ликующих песен, прославляющих счастье жить в самой прекрасной, самой свободной и самой процветающей стране мира, была еще такая:
На газонах Центрального парка В темных грядках растет резеда. Можно галстук носить очень яркий И быть в шахте героем труда. Как же так — резеда? И героем труда? Почему, растолкуйте вы мне. Потому что у нас Каждый молод сейчас В нашей юной Прекрасной стране.В следующем куплете сообщалось, что на газонах того же Центрального парка «даже старые клены в цвету» и что «можно быть очень важным ученым и играть с пионером в лапту». Далее следовал тот же припев:
Старый клен — и в цвету? С пионером — в лапту? Почему, растолкуйте вы мне. Потому что у нас Каждый молод сейчас… и т. д.Едва только эта песня явилась на свет, родилась озорная, можно даже сказать — хулиганская пародия на нее:
На аллеях Центрального парка С пионером гуляла вдова. Пионера вдове стало жалко, И вдова пионеру дала. Как же так — вдруг вдова Пионеру дала? Почему, растолкуйте вы мне. Потому что у нас Каждый молод сейчас… и т. д.Все эти пародии сочиняли, конечно, интеллигенты. Но и народ тоже вполне недвусмысленно выразил свое отношение к этому советскому идеологическому штампу.
Такой, например, частушкой:
Наша родина прекрасна И цветет как маков цвет. Окромя явленья счастья Никаких явлений нет!Серп и молот. Красное знамя
В середине 60-х в Уголовный кодекс РСФСР были включены три новые статьи: 190-1, 190-2 и 190-3.
Зачем понадобились две из них («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный строй» и «Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»), не составляло никакой загадки. То было время возникновения и бурного распространения самиздата. Возникло и с каждым днем набирало все большую силу правозащитное движение. Да и вообще советские люди слегка «пораспустились», стали более свободно болтать. А некоторые наглецы даже стали выходить на центральные площади столицы с разными плакатами, требующими то соблюдения норм советской Конституции, то вывода наших войск из Чехословакии, то еще чего-нибудь.
Болтуны и самиздатчики не всегда подходили под статью 70-ю («Антисоветская агитация и пропаганда»), хотя решалось это, конечно, в зависимости не от реального «состава преступления», а исключительно от выраженной тем или иным способом воли начальства. Что же касается демонстрантов и пикетчиков, то их подвести под монастырь было еще труднее, поскольку еще сталинская Конституция (а вслед за ней и новая, брежневская) гарантировала гражданам СССР «свободу уличных шествий и демонстраций». Когда эта статья Конституции сочинялась, никому из сочинявших ее, конечно, и в голову не могло прийти, что законопослушные советские люди могут устроить какое-нибудь уличное шествие или демонстрацию помимо тех, что Первого мая и Седьмого ноября каждого года собирали на улицах толпы ликующих граждан с красными флагами и портретами любимых вождей.
Вот поэтому и потребовались те новые две статьи — 190-1 и 190-3.
А вот зачем понадобилась третья — 190-2 («Надругательство над Государственным гербом или флагом») было мне не слишком понятно.
Во всяком случае, я сразу отмахнулся от нее, поскольку был убежден, что ни меня, ни моих друзей и знакомых коснуться она никак не может.
О первых двух сказать это с полной уверенностью я бы не мог. Поди угадай, что они там сочтут «распространением заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный строй». Узнают, скажем, что я дал кому-нибудь почитать хранящуюся у меня машинописную копию «Собачьего сердца» Булгакова или что, собравшись на чей-нибудь день рождения, я и мои друзья пели под гитару песни Галича, — вот вам и статья на этот случай.
Да и среди единомышленников Андрея Дмитриевича Сахарова, собиравшихся у памятника Пушкину и требовавших соблюдения норм советской Конституции, вполне мог оказаться если не сам я, то уж наверняка кто-нибудь из моих друзей или близких знакомых.
Что же касается статьи, включенной в УК под номером 190-2, то она, как мне тогда казалось, ни меня, ни моих друзей и знакомых не могла коснуться ни с какой стороны. Надругаться над советским гербом и флагом никто из нас не собирался. Да и, честно говоря, я даже и представить себе не мог, кого конкретно эта статья имела в виду: разве каких-нибудь хулиганствующих юнцов. Ни один взрослый, а тем более интеллигентный человек, думал я, такими глупостями заниматься не станет.
Сейчас, однако, поразмышляв немного на эту тему, я понимаю, что такое мое беспечное отношение к этой новой статье Уголовного кодекса было по меньшей мере наивным.
Вполне можно было подвести под эту статью и меня, и едва ли не всех моих ближайших друзей и знакомых.
Ведь все мы знали, и повторяли, и передавали из уст в уста вот такое, например, четверостишие:
Серп и молот. Молот, серп. Это наш советский герб. Хочешь — жни, а хочешь — куй. Все равно получишь хуй.Повторяя эту емкую стихотворную формулу, мы восхищались не только талантом «народа-языкотворца», создавшего этот маленький шедевр, но и точностью мысли, выраженной в нем так просто, так коротко и так ясно.
При всей своей лаконичности стишок этот выразил суть дела с поистине исчерпывающей полнотой. Безымянный его автор, как принято говорить в таких случаях, закрыл тему.
Тема, однако, оставалась открытой и обрастала (в анекдотах) все новыми и новыми юмористическими подробностями.
Был, например, такой анекдот, тоже вполне подпадающий под указанную выше статью.
► Маленький щупленький еврей на каких-то спортивных состязаниях бросил молот на самое дальнее расстояние, победив не только всех своих соперников, но чуть ли даже не поставив мировой рекорд.
— Рабинович, — говорят ему изумленные друзья и болельщики. — Мы и не думали, что вы такой замечательный спортсмен!
— Дайте мне серп, — отвечает Рабинович, — и я закину его так далеко, что вы его и не найдете!
Не забыт был в этих всплесках народного юмора и государственный флаг — родное наше красное знамя.
Был, например, такой детский стишок о пионерском галстуке:
Как наденешь галстук, Береги его. Он ведь с красным знаменем Цвета одного.Пионеры тотчас же создали свой — пародийный — вариант:
Не стесняйся, пьяница, Носа своего. Он ведь с нашим знаменем Цвета одного.Не надругательство, конечно, а просто милая шутка. Даже вполне невинная.
Но были шутки и похлеще.
Героем одной из самых выразительных стал, конечно, опять Рабинович.
► — Рабинович, — говорит ему какое-то там ответственное лицо. — На завтрашней демонстрации (дело происходит накануне одного из двух главных государственных праздников) понесете портрет Брежнева!
— Нет, нет, что вы! — отнекивается Рабинович. — Я уже всех носил. И Троцкого носил, и Каменева, и Зиновьева, и Бухарина, и Рыкова… А потом я и Сталина носил, и Берия, и Молотова, и Маленкова, и Кагановича…
— Слушайте, Рабинович, у вас такая легкая рука! Понесите красное знамя!
Герой другого анекдота на ту же тему — уже не Рабинович, а какой-то иностранец. Допустим, швед.
► Приехал этот швед в нашу страну на своей, как у нас теперь говорят, иномарке — на какой-нибудь там «Вольво» или «БМВ», а может быть, даже и на «Мерседесе». И угораздило его вместе с этой своей иномаркой провалиться в какую-то дорожную яму. Иномарка, конечно, всмятку, а сам швед хоть и отделался сравнительно легко, но тоже пострадал: сломал руку и два ребра, и еще небольшое сотрясение мозга, и еще там разные мелкие синяки и шишки. В общем, отделался, как говорится, легким испугом.
Отделаться он, конечно, отделался, но очень при этом возмущался. Безобразие, говорит. У нас, например, говорит, как, впрочем, и в других цивилизованных странах, этого не бывает.
— Что ж, — ему говорят, — у вас ям, что ли, не бывает?
— Нет, — говорит, — ямы у нас, конечно, тоже иной раз встречаются. Хоть и не так часто. Но у нас, ежели, скажем, какая-нибудь яма, какие-нибудь, допустим, идут дорожные работы, так это место обносят таким, знаете, заборчиком, а вокруг — красные флажки, чтобы издалека видно было.
— А вы, — ему говорят, — когда подъезжали на этой своей иномарке к нашей государственной границе, разве не заметили такой большой красный флаг?
Может быть, это тоже не надругательство, а просто такая добродушная шутка. Такая как бы критика отдельных наших недостатков.
Но вот анекдот, который иначе как надругательством уже не назовешь:
► Приходит Петька к Василию Ивановичу и говорит:
— Василий Иваныч! А Анка-то у нас, оказывается, целка!
— С чего это ты взял?
— А вот сегодня утром, она еще спала, я глянул, — а у нее вся простыня красная.
— Вот блядь! Сколько уж раз я ей говорил: не ебись на знамени!
Не знаю, как поступил бы высокий суд с рассказчиком такого анекдота, но героиня его уж точно получила бы — как минимум — год исправительно-трудовых работ. Тем более что в пункте шестом соответствующей статьи говорилось, что «для признания рассматриваемого деяния оконченным преступлением не требуется наступления каких-либо вредных последствий». А тут ведь даже и кое-какие вредные последствия вполне могли иметь место.
Самая читающая страна
Эта формула, построенная по хорошо нам всем знакомой колодке («Наши паралитики самые прогрессивные»), одно время тоже казалась не совсем пустой, худо-бедно отражающей реальность повседневного нашего бытия.
Читали у нас действительно много. Читали в метро, в трамваях, в автобусах… И не только те, кому посчастливилось занять сидячие места, но нередко и те, кто стоял, зажатый, стиснутый со всех сторон другими пассажирами, одной рукой ухватившись за поручень, а в другой сжимая раскрытую книгу или журнал. Что они при этом читали — это уже совсем другой вопрос, и со временем мы к нему непременно вернемся. Пока же отметим, что таких вот жадных глотателей книг в нашей стране было действительно много.
Отчасти поэтому, а отчасти по другим причинам родилось, распространилось и тоже вошло в новояз повсеместно повторяемое утверждение, что у нас, «в нашей юной прекрасной стране», — САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ ЧИТАТЕЛЬ.
Эту последнюю формулу часто повторял в своих статьях Илья Григорьевич Эренбург, и это, конечно, добавляло ей немало дополнительного веса. Не только потому, что Эренбург пользовался у советских интеллигентов особым доверием, а еще (и главным образом) потому, что он славился своим скептицизмом. Если уж такой скептик, как Эренбург, объехавший к тому же весь мир и знающий, как обстоит дело с чтением книг в Америке и Европе, — если даже он признает, что у нас самый лучший в мире читатель, — значит, так оно и есть и спорить тут не о чем.
Но у Эренбурга для этого постоянно повторяемого им утверждения были свои, особые причины. В отличие от других «священных коров», других живых классиков, он время от времени позволял себе публично сомневаться в том, что наша советская литература — лучшая в мире. Не отрицал, конечно, что она несет миру самые передовые идеи, но всякий раз при этом давал понять, что она грешит наивностью, примитивностью, порой даже и антихудожественностью. И вот тут-то, чтобы как-то сбалансировать, уравновесить все эти — совершенно непозволительные, конечно, — проявления своего скепсиса, он всякий раз добавлял, что эта еще очень молодая, подающая надежды, но весьма далекая от совершенства литература, — конечно же, недостойна нашего лучшего в мире читателя.
Думаю, что он при этом не кривил душой.
В этих своих статьях (и не только в статьях, но даже и в романах) Эренбург постоянно упоминал о девушках-комсомолках, которые, обливаясь слезами, читают «Анну Каренину».
Да, такие девушки наверняка были.
Но были у толстовской «Анны Карениной» и другие читатели.
* * *
У Александра Трифоновича Твардовского однажды сломалась машина, и старик Маршак, с которым они были дружны, предложил ему:
— Я стар, все равно почти никуда уже не езжу. Бери мою.
На следующее утро машина Маршака стояла у подъезда Твардовского.
Шофер отложил в сторону какую-то толстую книгу и взялся за руль, ожидая указаний: куда ехать?
Твардовскому, понятно, захотелось узнать, что за книгу читает шофер. Он перегнулся через сиденье, глянул: это была «Анна Каренина». Сердце поэта залило волной радости.
— Ну как? Нравится? — спросил он, кивнув на книгу и, само собой, Не сомневаясь в ответе.
— Ох, и не говорите, — вздохнул шофер.
И по дороге он рассказал ему такую горестную историю.
— Еду я как-то с Самуил Яковличем. Проезжаем мимо какого-то железнодорожного пути. Самуил Яковлич говорит: «Не узнаете, где мы едем? Это ведь то самое место, где Анна Каренина под поезд бросилась». Я говорю: «Места знакомые. А кто это такая, Анна Каренина? Я ее вроде никогда у вас не встречал…» Только я сказал эти слова, вижу, Самуил Яковлич аж побелел. «Остановите машину, голубчик! — говорит. — Я не могу находиться в одной машине с человеком, который не знает, кто такая Анна Каренина». Насилу я его уговорил, чтобы до дому доехать. Подъехали мы к дому, он говорит: «Подымитесь со мной, голубчик!» Ну, думаю, все. Сейчас даст расчет. Однако вышло иначе. Выносит он мне книгу, эту вот самую. И говорит: «Вот, читайте. А до тех пор, пока не прочтете, считайте, что мы с вами незнакомы…» Вот я и читаю, — горько вздохнул он.
История, конечно, грустная. Но задушевную мысль Эренбурга она все-таки не опровергает, поскольку в формуле, утверждавшей, что у нас самый лучший в мире читатель, уж во всяком случае, было гораздо меньше неправды, чем в той, которая утверждала, что у нас самые лучшие в мире писатели.
Ведь читатели наши, — эти вот самые, которые в метро, в трамваях, в автобусах, — они ведь читали и «Капитанскую дочку», и «Анну Каренину», и «Даму с собачкой», и «Красное и черное», и «Мадам Бовари», и другие прекрасные книги…
Да, конечно. Но вот именно «и».
Один мой приятель некоторое время был членом редакционного совета издательства «Художественная литература». И вот какую историю он мне рассказал.
В издательстве готовились к выпуску собрание сочинений Мопассана и собрание сочинений Ванды Василевской. В ходе обсуждения выяснилось, что выпустить оба эти собрания издательство — по чисто техническими или там финансовым причинам — не может. Надо выбирать.
Голоса разделились. Одни члены редсовета были за то, чтобы оставить в плане выпуска Мопассана, другие стояли за Ванду Василевскую.
До рыночных отношений тогда в нашем государстве было еще далеко, и фирма не стояла перед затратами. Но кое-какую роль соображения издательской выгоды все-таки играли. Поэтому большинство членов редсовета склонялось все-таки к Мопассану. Сторонники Ванды Василевской возражали:
— Мы не имеем права забывать о главной нашей обязанности, о конечной цели всей нашей деятельности. Цель же эта, как известно, состоит в том, что мы должны воспитывать нашего читателя в духе коммунистической идейности. Главное для нас — именно идейное содержание выпускаемой нами книжной продукции.
И тут поднялся присутствовавший на том заседании представитель Книготорга.
— Простите, — сказал он. — У меня вопрос. Как именно представляете вы себе вот это самое воспитание читателя в коммунистическом духе? Как конкретно оно будет происходить?
— Неужели непонятно? — удивился защитник Ванды Василевской. — Если мы будем издавать книги, проникнутые нашими, коммунистическими идеями, люди будут их читать, и…
— Так читать-то как раз и не хотят, — перебил его представитель Книготорга. И сообщил, что на складах — целехонькое, нераспроданное — предыдущее собрание сочинений Ванды Василевской. Так стоит ли издавать новое?
Сторонники Ванды пытались еще как-то там отстаивать свои позиции. Говорили, что издательство не должно идти на поводу у пошлых коммерческих соображений, что идейность — превыше всего. Но их игра была проиграна Выступление представителя Книготорга решило дело: победил Мопассан.
Следует, однако, признать, что такой исход дискуссии был отнюдь не типичен. Это был частный случай, казус. Исключение из правила. А как правило — идейность торжествовала. И в конечном счете этот представитель Книготорга, конечно, был посрамлен, потому что — как это ни грустно — всю эту высокоидейную макулатуру, заполнявшую книжные прилавки, люди тоже читали. И может быть, не «тоже», а в первую очередь именно ее.
Тут действовал — не мог не действовать! — мощный экономический закон, суть которого в том, что производство (всякое производство) создает не только некий продукт для некоего гипотетического потребителя, но и самого потребителя для этого произведенного продукта. И если люди привыкли питаться сосисками, сделанными не из мяса, а, скажем, из смеси костной муки с крахмалом и туалетной бумагой, дело неизбежно кончится тем, что настоящие, мясные сосиски, случись им их попробовать, покажутся им какими-то не такими, может быть, даже не совсем съедобными.
Тоннами извергавшаяся на книжный рынок высокоидейная макулатура породила и воспитала, выпестовала своего читателя.
Однажды моя жена со смехом рассказала мне про встреченную ею сокурсницу (они вместе учились не где-нибудь, а на литфаке), которая призналась ей, что любимый ее писатель — Георгий Марков. И, как видно, почувствовав, что собеседница слегка удивлена, заключила это свое признание такой репликой:
— В чем другом, а в литературе я петрю.
Вот он — результат этого массового производства эрзац-литературы.
А ведь помимо литературной практики была еще и соответствующая литературная теория. Была литературная критика, породившая и воспитавшая совершенно особый тип читателя — этакого литературного унтера Пришибеева.
* * *
В 60-е годы я работал в «Литературной газете», где по долгу службы мне приходилось знакомиться с читательскими письмами, а иногда даже и отвечать на них. Не могу себе простить, что не собирал их, не снимал с них копий: могла бы получиться совершенно поразительная книга.
Но кое-что (отдельные реплики, фразы, абзацы, отрывки) я все-таки догадался сохранить (авось пригодятся!). Вот некоторые из них:
► Том Сойер — врожденный дегенерат, вор, хулиган, лгун с уродливой наследственностью. Все злокачества человеческого уродства выплеснуты гнилой утробой на белый свет.
Эта опасная книга — мрачный спутник воровских шаек, извращенных преступников и всевозможных притонов. При ликвидации беспризорных групп, при разгроме Дома Ермака в Москве всюду находился «Том Сойер» — в карманах малолетних преступников и беспризорных.
Вредная книжонка эта должна быть изъята из советских библиотек.
Опять и в который раз вышло произведение Корнея Чуковского о Мухе-Цокотухе. На этот раз это произведение выпущено тиражом в 1 300 000 экземпляров.
До каких пор К. Чуковский будет вводить в заблуждение советских детей? Муха — самое отвратительное насекомое на земле. Она садится на экскременты, на всякую падаль, а затем на лицо человека, на пищу, вызывая ряд инфекционных заболеваний, как дизентерию. Это насекомое отравляет все лучшие человеческие чувства. Мух надо убивать, уничтожать для удобства человеческой жизни, но Корней Чуковский воспел эту гадость, он восхваляет Муху-Цокотуху, празднует ее именины. Вместо того чтобы привить ненависть к этому гнусному и отвратительному насекомому, причиняющему человечеству постоянный вред…
Это противоестественно, чтобы комар мог жениться на мухе. Вошь не может жениться на клопе и комар на мухе. Это все несусветная чушь и обман. Муха откладывает семьдесят яичек не от комара, и ее потомство растет в геометрической прогрессии. Она заражает пищу, она является источником многих болезней. У детей должно быть развито чувство ненависти к отвратительной мухе.
Не пройдет много времени, когда мы уничтожим вредную муху, воспеваемую К. Чуковским.
Бесполезную книжечку К. Чуковского о мухе можно смело сжечь…
Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но помните, я прошел очень большой путь от блокады Ленинграда, от забойщика до начальника шахты, и сейчас работаю, конечно, после переезда с Донбасса в Черкассы, не на большой должности бригадира склада горючих материалов. Я страстный любитель музыки, участник в прошлом в художественной самодеятельности, но хочу сказать, что для меня противно то, что не является реальным, а главное, зачастую в передачах, вы заметьте и учтите, когда идет по радио речь о каком-то классическом оперном или балетном произведении, не делайте ударение на сюжет старого, ибо оно может заразить многих. А делайте ударение на вреде, могущем принести нашим дням. Например, каким бы ни было произведение «Пиковая дама» классическим, это среда картежников, любителей взять все от жизни, а это, значит, и порожденные в наше время стиляги всякого рода, и те, кто презирает физический труд. Это результат этой классики, идущей наряду с большими карманами пап и мам, допускающих этих паразитов общества. Я неравнодушен к таким стилягам и в любом произведении, хотя сам люблю музыку, конечно, не оперу и балет, ибо это равно абстрактному искусству.
По вполне понятным причинам я сохранил в своей маленькой коллекции только вот такие, самые сочные отклики, особенно, как мне тогда казалось, поражающие своей монструозностью. Теперь я понимаю, что самыми монструозными были как раз другие — написанные гладко, литературно: чувствовалось, что авторы их — люди более или менее интеллигентные, даже образованные, во всяком случае начитанные. Но какие поразительные мысли они высказывали! Один, например, был возмущен поведением толстовской Анны Карениной. Но упрекал он ее (не ее, а Толстого, конечно) не в том, что она изменила мужу. Любовь — дело святое, это он понимал. Возмутило же его то, что Толстой заставил свою героиню изменить крупному государственному деятелю, человеку, отягощенному важными государственными заботами. Вот она — главная ошибка автора, вот он — коренной его идейный порок.
Такие письма (а их была — тьма) я, к сожалению, не сохранял. А ведь именно в них ярче всего отразился лик нашего «самого лучшего в мире» читателя, а в некотором смысле и всей нашей «самой читающей» страны.
Вернемся, однако, к тому редсовету, участники которого с боем отстояли Мопассана, похоронив притязания сторонников Ванды Василевской.
Это, конечно, была большая удача. Но не мешает при этом обратить внимание на тот факт, что Ванде Василевской в том споре противостоял не Пруст, не Кафка, не Джойс (об издании этих писателей в описываемые времена не могло быть и речи), и даже не Фолкнер, и не Хемингуэй. (За издание романа Хемингуэя «По ком звонит колокол» шла упорная борьба на протяжении двух десятилетий, и всякий раз, когда победа была уже близка, в бой вступала тяжелая артиллерия: Долорес Ибаррури. И очередная атака «вольнодумцев», пытавшихся протащить «вредный» роман американского классика, опять оказывалась отбитой.)
Даже и в отборе классиков действовал тот же критерий — идейность. Ну, а уж из живых иноземцев выбирались только так называемые прогрессивные: Драйзер, Говард Фаст, совсем уж ничтожный Джеймс Олдридж. В результате даже те читатели, которые сумели бы отличить настоящую литературу от «эрзаца», получали в конечном счете не совсем то (а иногда и совсем не то), что им бы хотелось.
В рассказе Василия Гроссмана «Несколько печальных дней» героиня размышляет о библиотеке только что умершего брата:
► Эта библиотека сейчас умерла вместе с Николаем Андреевичем. Марью Андреевну поразила мысль, что книги, собранные волей одного человека, выразили его духовную жизнь. И сейчас, со смертью брата, библиотека начала распадаться, как распадается на клеточки мозг умершего.
Это очень тонкая и точная мысль. Но среди интеллигентов новой, советской формации люди, подобные гроссмановскому Николаю Андреевичу, были белыми воронами. В силу указанных выше причин, как правило, дело обстояло иначе.
* * *
Один мой сосед — довольно известный писатель — переезжал на другую квартиру. Он поменялся квартирами с другим интеллигентом, кажется, тоже писателем.
Я как-то заглянул к нему. Квартира была уже наполовину разорена, и мы, естественно, заговорили о том, какая это морока — переезд. Повторялась при этом, разумеется, классическая фраза насчет того, что два переезда равны одному пожару.
— Труднее всего будет с этим, — вздохнул сосед, указывая на стеллаж с книгами, занимавший целую стену его довольно просторного кабинета. — Полки делались на заказ, встроены в стену. Теперь всю эту конструкцию разбирать придется. Как еще довезут, да как установят…
— А книги! — посочувствовал я. — Стеллаж поцарапают — не беда. А вот если книги порвут или загадят… Тебе надо коробки какие-нибудь добыть, чтобы упаковать их как следует…
— Ну, с книгами у меня как раз никакой мороки не будет, — возразил он.
И со смехом рассказал мне, что книги он перевозить не будет, поскольку у его сменщика те же самые книги, что у него. Те же многотомные собрания сочинений Бальзака, Гюго, Золя, Драйзера, Горького, Лескова… Одним словом, подписные издания. Книги ведь они оба — и он, и его сменщик, — приобретали не те, какие им были жизненно необходимы, а те, на которые можно было подписаться. Простой советский книголюб, чтобы подписаться на какого-нибудь там дефицитного Драйзера, должен был с ночи занять очередь, а потом бегать отмечаться, трепеща, не пролетел ли при очередной перекличке его номер. А наш брат-писатель мог получить любую подписку без всяких хлопот. Ну как же тут было не подписаться!
— Так что возьму я в портфельчик какой-нибудь десяток книг, отражающих мою индивидуальность, — посмеялся мой сосед, — и все дела. А остальное — махнем не глядя!
Сеть партийного просвещения
Иногда это называлось партпросвещением, иногда — партучебой. Но и в том и в другом случае к этому понятию непременно прилагалось слово «сеть». И это действительно была сеть. И сетью этой была опутана вся страна.
Учиться «науке наук» было предписано всем, и по одним и тем же учебникам; при Сталине — по «Краткому курсу истории ВКП(б)» — учились все — от сантехника до академика и от театрального капельдинера до народного артиста.
Было на эту тему множество анекдотов. И больше всего почему-то — как раз вот про народных артистов.
Был, например, такой анекдот про Александру Александровну Яблочкину.
► Учитывая ее огромные заслуги перед отечеством, а также преклонный возраст, на экзамене по «науке наук» (а полагался и экзамен) ей задали самый легкий, самый простой вопрос: что такое коммунизм? Или даже еще проще — как она, она лично представляет себе жизнь при коммунизме?
— При коммюнизме? — переспросила она, произнося это слово на старинный манер, как писал его Толстой в «Анне Карениной» (она и слово «колхоз» произносила на иностранный манер: «кольхоз»). — Ну, во-первых, там в магазинах будет все… Любая еда, даже фрукты… И одежда тоже любая… И не будет этих… очередей… Ну, в общем, как при царизме…
Другой анекдот рассказывали про Юрия Александровича Завадского.
Ему на экзамене тоже старались задавать самые простые вопросы. Но для него даже и они оказались трудны. И он таким образом вышел из этого положения.
Выслушав первый вопрос, сказал:
— Так, это я знаю. Дальше…
Последовал еще один вопрос.
— И это я знаю, — благосклонно кивнул Юрий Александрович. — Дальше…
Так он ответил на все вопросы и, говорят, получил даже диплом об окончании Университета марксизма-ленинизма.
Все эти истории скорее всего выдуманные (хотя и возникшие, наверно, на какой-то реальной основе). А вот — история подлинная.
Был такой литературный критик — Владимир Барлас. По профессии он был, если не ошибаюсь, геолог. Но, влюбленный в поэзию, бредивший стихами, он стал писать статьи о своих любимых поэтах, и постепенно это его хобби стало профессией. Его даже приняли в Союз писателей.
Время от времени мы с ним встречались и разговаривали. Иногда спорили. Бывало, часами. И вот однажды, когда очередная такая наша поэтическая встреча сильно затянулась, я хватился, что меня давно уже ждут друзья.
— Да, мне тоже уже пора, — сказал Барлас, озабоченно взглянув на часы.
Мы вместе вышли, вместе спустились в метро, вместе доехали от моего «Аэропорта» до Маяковской, продолжая какой-то наш бесконечный, не сегодня начавшийся спор.
Выйдя из метро, я спросил:
— А вы куда?
Спросил в том смысле, что, если нам и дальше по пути, мы, может быть, сможем перекинуться еще парочкой-другой аргументов в нашем затянувшемся споре.
Барлас ответил:
— Я — в Союз. Там сегодня закрытие сети партийного просвещения. Последнее занятие.
Ответ этот меня изумил. Времена были уже довольно либеральные, «вегетарианские», как говорила Анна Андреевна Ахматова. И среди моих знакомых не было, кажется, ни одного, кто ходил бы на эти казенные лекции и семинары. Но Владимир Яковлевич Барлас, пожалуй, даже менее, чем кто-либо другой из всех моих друзей и приятелей, был похож на человека, которого можно было бы заманить «под своды таких богаделен».
— Вы в самом деле ходите на эти занятия? — не удержался я.
Он сухо ответил:
— Хожу.
— Зачем? — спросил я, искренне желая понять эту загадку. Черт его знает! Может, там, на этих партийных семинарах, и впрямь бывает что-то интересное? А может, ему интересны члены Союза писателей, посещающие эти занятия? Для меня это привычная и малопривлекательная, а для него все-таки совсем новая, незнакомая ему среда.
Но ответ Барласа на мой бестактный вопрос лежал, как оказалось, совсем в иной плоскости.
— Бенедикт Михайлович, — тихо сказал он. — Сколько вам было лет в 37-м году?
Я сказал:
— Десять.
— А мне — двадцать…
Дело было вечером, спорить было нечего.
Мы молча пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Я — по своим делам, уж не помню сейчас, куда. А он — в Союз писателей, на последнее в том сезоне занятие сети партийного просвещения.
Сила положительного примера
Сила эта должна была проявлять себя, конечно, и в жизни. Но главным образом — в искусстве и литературе. Вернее, в жизни, но благодаря прямому воздействию на жизнь этих вот самых положительных примеров, из которых состояли книги, пьесы и кинофильмы, сотворенные по методу социалистического реализма.
Не знаю, шибко ли верили в эту силу те, кто постоянно повторял это заклинание, или даже те, кто придумал и пустил его в ход. На этот счет у меня имеются большие сомнения.
А вот в силу отрицательного примера они верили свято.
Из книг, пьес и кинофильмов тщательно вымарывались сцены, эпизоды и даже отдельные реплики, в которых герои чокались, выпивали, произносили разные застольные тосты. Или, не дай бог, прибегали к так называемой ненормативной лексике. Или даже просто закуривали.
Можно было подумать, что советские редакторы и цензоры не сомневались, что, не вымарай они какую-нибудь такую вредоносную сцену, все, кто прочитает или увидит ее на экране, тотчас же кинутся пить, курить и сквернословить.
Вера начальства в магическую силу искусства (особенно в силу вот этих самых отрицательных примеров) была так велика, что в пору борьбы за какой-то там правильный (вернее, в то время считавшийся правильным) севооборот, даже из книг классиков (Тургенева, Некрасова, Лескова, Глеба Успенского) тщательно вымарывались слова «вика», «овес» и всякие иные упоминания тех сельскохозяйственных культур, чрезмерное увлечение которыми на том этапе развития советского сельского хозяйства не поощрялось.
Что же касается веры начальства в силу положительного примера, то она, конечно, тоже имела место, о чем можно судить хотя бы вот по такой истории.
Ее рассказал мне Александр Альфредович Бек.
Позвонил ему как-то один писатель, живущий в соседнем — тоже писательском — доме, и сказал, что он сейчас составляет для одного крупного столичного издательства сборник рассказов о рабочих. Книга эта — по замыслу тех, кто затеял ее издание, — должна была способствовать новому пополнению рядов рабочего класса. (Это тоже был один из самых распространенных в советском новоязе клишированных оборотов.) Так вот, не найдется ли у Александра Альфредовича какого-нибудь рассказа на эту тему?
Александр Альфредович вспомнил, что да, действительно, есть у него небольшой рассказ, который подходит под эту галочку. Обещал разыскать рукопись. Разыскал. Договорились встретиться в нашем дворе.
Встретились, сели на лавочку. Бек достал обещанный рассказ и вручил его соседу. Тот поблагодарил. И стал жаловаться.
Вот, издательство поручило ему составить сборник рассказов о рабочем классе. Он взялся. Но дело это оказалось совершенно неподъемное. О рабочем классе, как выяснилось, никто из писателей сейчас не пишет. А ведь это такая важная тема. Ведь быть рабочим — это самая высокая, самая прекрасная должность человека на земле. Но молодые люди этого, к сожалению, не понимают. Мы обязаны воспитывать молодежь в этом духе. И не как-нибудь, а силой вот этого самого положительного примера…
Бек вежливо выслушал этот монолог и хотел было уже распрощаться. Но ему было неудобно прервать встречу, ограничившись, так сказать, официальной частью. Поэтому — прежде чем уйти — он спросил у своего собеседника:
— Ну, а как вообще жизнь?
— Плохо, — ответил тот. — Сын еле-еле тянул на тройки, а сейчас вот совсем бросил школу. В институт, конечно, уже не поступит. Будет простым рабочим…
Выразив свои соболезнования отцу будущего представителя рабочего класса, Бек простился с ним и пошел домой — писать свой многострадальный роман «Новое назначение».
Советская власть
В учебниках истории, по которым мы учились, говорилось, что Ленин открыл Советы, открыл советскую власть как высшую форму демократии, неизмеримо более истинную, нежели насквозь фальшивый и лживый буржуазный парламентаризм.
Эта ленинская мысль пала на исключительно благодатную почву.
Лживую буржуазную демократию в России на дух не принимали и люди, которым идеи Ленина были совсем не близки.
Вот в высшей степени характерная запись из дневников Блока:
► Почему «учредилка»? Потому что — как выбираю я, как все? Втемную выбираем, не понимаем. И почему другой может быть за меня? Я один за себя. Ложь выборная (не говоря о подкупах на выборах, которыми прогремели все их американцы и французы).
Надо, чтобы маленькое было село, свой сход, своя церковь…
Инстинктивная ненависть к парламентам, учредительным собраниям и пр. Потому, что рано или поздно некий Милюков произнесет: «Законопроект в третьем чтении отвергнут большинством»…
Медведь на ухо. Музыка где у вас, тушинцы проклятые?
Если бы это — банкиры, чиновники, буржуа! А ведь это — интеллигенция!
Или и духовные ценности — буржуазны?
В этой неприязни к западным формам государственного, политического и всякого иного жизнеустройства Блок дошел до предела. Он выразил это чувство острее, сильнее, безогляднее, горячее, чем кто бы то ни было. Но в этом своем отталкивании от «фальшивых» форм западной (буржуазной) демократии он был не одинок.
Примерно так же рассуждали тогда многие куда более спокойные, сдержанные, хладнокровные люди.
Вот что писал почти в это же время (3 апреля 1919 года) — и не кому-нибудь, а убежденному монархисту Б.А. Садовскому — Владислав Ходасевич:
► Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых, Чулковых и прочую «демократическую» погань.
Это — высоколобые интеллигенты!
Так что уж говорить о рабочих, матросах, солдатах, которые пели:
Смело мы в бой пойдем За Власть Советов. И как один умрем В борьбе за это.Пели искренно. И действительно шли на смерть за эту самую советскую власть.
Ведь тогда они еще не знали, что за штука — эта самая советская власть, с чем ее едят. Для них это была — мечта.
А в натуре…
В натуре советская власть, если говорить честно, это — то, чего никогда не было.
Ведь то, что официально именовалось республикой (или республиками) Советов, с самого начала, с первого дня своего существования было диктатурой партии. А Советы уже тогда играли чисто декоративную роль.
Не только интеллигенты, но и неграмотные рабочие и крестьяне довольно быстро это усекли. Помните — лозунг: «Советы — без коммунистов». Но им быстро разъяснили, что никаких Советов без коммунистов не бывает и быть не может. И постепенно все привыкли, что «советская власть» — это совсем не то, что предполагалось и о чем мечталось, а — то, что есть.
Название окончательно оторвалось от первоначального своего значения. И, поминая ежедневно эту самую «советскую власть», мы пользовались этим словосочетанием примерно так же, как выражениями типа «красные чернила» или «стрелять из ружья». (Ведь называя чернила красными, мы не задумываемся о том, что чернила — это то, что чернит, а не краснит. А говоря о стрельбе из ружья, не вспоминаем, что из ружья, пулей, можно «пульнуть», «пальнуть», но никак не «выстрелить», потому что стрелять — в точном смысле этого слова — можно только стрелами.)
Однако, называя — по привычке, по инерции или просто потому, что название прижилось, — тоталитарный режим партийной диктатуры советской властью, никто из жителей «Страны Советов» не заблуждался насчет истинной природы этого режима. А кое-кто — так даже и не скрывал, что не заблуждается. И это отношение народа к «народной» власти проникало даже в официальную советскую печать:
► — Слыхал? Ныне у советской власти два крыла образовалось — правая и левая. Так, может, она снимется на этих крыльях и улетит от нас к едрене фене?..
(М. Шолохов. Поднятая целина)Мой дружок Гена Снегирев, проходя медицинскую комиссию, на вопрос одного из врачей, доверяет ли он советской власти (вопрос был не провокационный, а сугубо медицинский, о чем речь впереди), безмятежно ответил:
— Как я могу ей доверять, если все наши телефонные разговоры прослушиваются.
Гена, правда, был не совсем обыкновенный человек. Он был не только необычайно одаренный молодой, даже очень молодой (в то время — дело было в середине 50-х — ему было немногим больше двадцати) писатель, но и самый что ни на есть настоящий псих. Псих, как говорится, со справкой. И вопрос врача, на который он так искренно и правдиво ответил, был задан ему не где-нибудь, а в дурдоме, куда он отправился добровольно, чтобы, как он сам говорил, немного отдохнуть от нашей безумной жизни. Он, кстати, и меня уговаривал последовать его примеру.
— Давай, — говорил, — не пожалеешь. Отдохнешь. Чего-нибудь там напишешь.
Место действия, естественно, заставляет вспомнить дурдом, описанный Ильфом и Петровым, — тот самый, в котором оказался «косивший под психа» бухгалтер Берлага. Там, как вы, конечно, помните, симулянт, делавший вид, что он воображает себя Юлием Цезарем, тоже выкрикивал разные антисоветские лозунги: «И ты, Брут, продался большевикам!»
Но Геночка Снегирев симулянтом не был.
— Я, — говорил он, — никогда им не вру. На все вопросы отвечаю честно. Они спрашивают, верю ли я советской власти, я говорю: «Конечно, не верю. Как я могу ей верить, если все наши телефонные разговоры прослушиваются». Ну, они сразу и лепят мне диагноз: «Мания преследования». Дальше — спрашивают: «Где вы работаете?» Я отвечаю: «Нигде не работаю». — «А на что вы живете?» Отвечаю: «Пишу рассказы. Их печатают в журнале „Мурзилка“ и довольно хорошо мне за это платят». Они пишут: «Маниакальный бред». Спрашивают: «Как вы собираетесь провести лето?» Я говорю: «Хочу поехать в Туву, купить там ослика и попутешествовать немного по диким местам». Они пишут: «Бред с подробностями».
Насчет Тувы и ослика Гена тоже не врал. Он действительно именно так проводил каждое свое лето. Не всегда, конечно, отправляясь именно в Туву, иногда в Таджикистан, иногда на Кавказ, — каждый раз в другой какой-нибудь экзотический край нашей необъятной Родины. И вот из одного такого своего путешествия Гена и вывез ту фразу, ради которой я, собственно, и ударился в этот свой слегка затянувшийся «бред с подробностями». Фразу эту он услышал от одного старого чабана, с которым откровенно обсуждал волновавшие его политические проблемы.
— Советский власть, — вздохнул этот неграмотный, но мудрый старик, — хороший власть. Только маленько долгий.
Мудрость этой политической формулы особенно наглядно подтвердилась в постсоветские времена, когда оказалось, что страны Восточной Европы (Венгрия, Польша) быстрее и легче вписались в «рынок». А почему? Потому что у них этот самый «советский власть» был не такой «долгий», как у нас: сорок лет — не семьдесят.
Если даже жители самых глухих горных аулов так ясно это понимали, так что уж говорить о московских и питерских интеллигентах. Даже тех из них, которые с ней — с этой самой советской властью — не только смирились, но и сроднились. Называя ее «Софьей Власьевной», а то и просто «Софой», они вкладывали в эти ласково-фамильярные наименования немалую толику иронии.
Придумывали про нее такие, например, анекдоты:
► — Рабинович, как вы относитесь к советской власти?
— Как к родной жене.
— ???
— Немножечко люблю, немножечко боюсь, немножечко хочу другую.
Сочиняли такие ернические стишки:
Я проснулся в шесть часов: Нет резинки от трусов. — Вот она, вот она, На хую намотана. Я проснулся: — Здрасьте! Нет советской власти. — Вот она, вот она…От этого «вот она» веяло безнадежностью: унылым сознанием, что советская власть — это навсегда. Во всяком случае, на наш век хватит.
Но были анекдоты, в которых брезжила туманная надежда и на иное развитие событий.
Вот, например, такой:
► Человек входит в ресторан, садится за столик.
— Рюмку коньяку и газету «Правда», — роняет он подскочившему к нему официанту.
— Рюмку коньяку, пожалуйста, — отвечает тот. — А газету «Правда», к сожалению, не могу. Сегодня ночью произошел государственный переворот, советской власти уже нет, и газета эта больше не выходит.
— Тогда рюмку коньяку.
Спустя некоторое время, выпив эту свою рюмку, он вновь подзывает официанта и повторяет тот же заказ:
— Рюмку коньяку и газету «Правда».
— Рюмку коньяку, пожалуйста, — уже слегка раздраженно говорит официант. — А газету «Правда» не могу. Сегодня ночью произошел государственный переворот, советской власти уже нет, и газета эта больше не выходит. Сколько можно говорить!
Посетитель — блаженно:
— Говорите, говорите!
Слушая — или рассказывая — этот анекдот, мы испытывали почти такое же блаженство, какое испытывал его герой, с упоением повторяя это свое: «Говорите, говорите!» Даже только поговорить о возможном конце советской власти было нам сладко. Несбыточная, конечно, — а все-таки надежда.
Ни в каком сне не могло нам тогда привидеться, что мы — во всяком случае, некоторые из нас — доживем до времен, когда эта сладкая мечта станет реальностью.
А вот — дожили!
Газета «Правда», однако, все еще выходит.
Советский народ — строитель коммунизма
С этой языковой формулой — одной из ключевых в политическом жаргоне советской эпохи — у меня связана такая юмористическая история.
Когда я работал в «Литературной газете», моим начальником был очаровательный человек — Михаил Матвеевич Кузнецов. Мы сразу с ним подружились: легко перешли на «ты», и называть я его стал фамильярно — Михмат. Такое амикошонство в отношениях с высоким начальством было явлением не то чтобы редким, а прямо-таки уникальным. Михмат и по возрасту был гораздо меня старше, а по субординации — и говорить нечего: я был рядовой литсотрудник (исключительно для красоты слога нас именовали спецкорами), а он — заместитель главного редактора.
По работе, однако, у нас с Михматом постоянно возникали конфликты. И не только у меня одного — у всех сотрудников нашего (литературного) отдела. Близко сойдясь со всеми нами, Михмат — не без некоторых к тому оснований — подозревал каждого из нас в желании протащить на газетные полосы какую-нибудь крамолу. Поэтому любой материал, который мы клали ему на стол, он норовил забодать. Реакция при этом у него всегда была одна и та же. Строго говоря, реакции было две. В одних случаях он говорил:
— Нет, ребята, это не пойдет! Это антисоветчина!
В других случаях фраза звучала несколько иначе:
— Нет, ребята, это не пойдет! Это — жеребятина!
Поскольку по части антисоветчины — равно как и по части того, что он называл жеребятиной, — Михмат не только нам, но и себе самому тоже не очень доверял, он постоянно дул на холодное. Мы же с самым невинным видом уверяли его, что антисоветчина (уже не говоря о жеребятине) в наших материалах ему только мерещится.
И вот вызвал меня однажды Михмат в свой кабинет и строго, заранее пресекая всякую полемику, сказал:
— Это статья Панферова. Я ставлю ее в номер. Ты будешь ее вести. Только, пожалуйста, без всяких этих ваших штучек. Никакой правки… Ни одной запятой… Панферов — это Панферов! Грамотно там или неграмотно — вот так, как он написал, так и напечатаем… Ты меня понял? Ни одной запятой!..
Я пожал плечами и, даже не заглянув в рукопись живого классика, отнес ее в машинное бюро. Потом, так же, не читая, заслал перепечатанный текст в набор. Так же, не читая (зачем читать, если все равно нельзя изменить ни одной запятой?) подписал гранки. Но когда пришла контрольная полоса, я подумал: «Дай-кось все-таки прочту этот бред!» И прочел. И, к огромному своему удовольствию, обнаружил там такой абзац:
► Вот уже сорок лет советский народ, преодолевая неимоверные трудности, по колено в крови, по колено в гвоздях и строительном мусоре, БЕЗРОПОТНО СТРОИТ КОММУНИЗМ!
По колено в крови и по колено в гвоздях — это тоже было неплохо сказано. Но более всего меня восхитило, конечно, слово «безропотно». Вот уж правда: умри, Денис, лучше не напишешь!
«Ну, погоди, — злорадно подумал я о Михмате. — Сейчас я тебе покажу ни одной запятой!»
— Воля твоя, Михмат, — сказал я, войдя к нему в кабинет, — но я не могу выполнить твое распоряжение. Кое-что в статье Панферова все-таки придется поправить.
— Я русским языком тебе сказал! — заорал Михмат. — Ни одной запятой! Неужели непонятно, что эти ваши эстетские штучки тут неуместны! Это Панферов! У него свой стиль! Он, в конце концов, имеет право даже и на безграмотность!..
— На безграмотность, пожалуйста, — сказал я. — Сколько угодно. Но есть вещи, которые мне просто моя гражданская совесть не позволяет… Как хочешь, но в таком виде я эту статью не подпишу…
Тут с Михматом случилась настоящая истерика. Он долго выкрикивал какие-то слова насчет вонючих эстетов с шестого этажа. Орал, что дядя Митя (так мы звали между собой главного нашего врага — заведующего отделом культуры ЦК партии Дмитрия Алексеевича Поликарпова) вскорости нас разгонит, и будет совершенно прав…
Но когда он откричался, я все-таки ткнул его носом в тот злополучный абзац.
Продолжать крик у Михмата сил уже не было, и ему не оставалось ничего другого, как вникнуть в отчеркнутый мною текст. А когда он вник…
— Предоставляю тебе самому определить, что это такое, — сказал я. — Антисоветчина? Или, может быть, скорее все-таки жеребятина?
Задумчиво взяв свой красный редакторский карандаш, Михмат — с некоторым даже, как мне показалось, сожалением — вымарал крамольные строки.
Сожаление его было мне понятно. Ведь ничего лучше этих нескольких строк за всю свою долгую жизнь Федор Иванович Панферов не написал.
Советский человек
Первоначально определение «советский» в этом словосочетании было откровенно идеологическим.
Когда следователь, занимавшийся реабилитацией Мейерхольда, встретился с Пастернаком, имя которого фигурировало в деле, и задал ему традиционный вопрос: «Вы были его другом?» — Пастернак искренне удивился:
— Что вы! Я никогда не был достаточно советским человеком для этого!
«Леф удручал и отталкивал меня своей избыточной советскостью», — признавался он в одном письме.
Постепенно этот идеологический окрас стерся, и эпитет «советский» в сочетании со словом «человек» стал обозначать всего лишь принадлежность к советскому гражданству.
Некоторое время в этом словоупотреблении еще как бы сталкивались оба смысла:
► — Вы понимаете, — втолковывал редактор, — это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо…
— Робинзон — это можно, — кратко сказал писатель.
— Только не просто Робинзон, а советский Робинзон.
— Какой же еще! Не румынский!
(И. Ильф, Е. Петров. Как создавался Робинзон)Редактор здесь по-прежнему вкладывает в эпитет «советский» смысл сугубо идеологический, но писатель уже воспринимает его иначе. В этом, новом его значении уже даже и Пастернак вполне мог бы назвать себя советским человеком. А каким же еще? Не румынским же!
Нередко, однако, государство, прибегая к этому — уже вполне расхожему — словосочетанию, склонно было все-таки подчеркивать идеологическую окраску во всех иных случаях уже вполне нейтрально звучавшего эпитета. Так, например, вербуя кого-нибудь в стукачи, полномочный представитель государства неизменно прибегал к такому аргументу:
— Ведь вы же советский человек!
Мол, откажетесь с нами сотрудничать — потеряете право называться советским. И никому не надо было объяснять, что это значит, какими последствиями грозит.
Впрочем, официальная государственная пропаганда — и во всех других случаях тоже — изо всех сил старалась придать стершемуся эпитету как можно более торжественное звучание, наполнить ею «чувством законной гордости», какую полагалось испытывать каждому носителю этого высокого звания.
На эти государственные потуги народ отвечал по-своему. Такой, например, частушкой:
На горе стоит калина, Под горою танка. Я советский человек, А ты — пиздорванка!Советское — значит отличное
Вариант: «Советское — значит лучшее». Имелись в виду все (любые) товары отечественного производства.
В народе это популярное клише советского новояза употреблялось, как правило, в обратном, противоположном смысле. И началось это очень рано:
► Советской ситец — это новой выработки, хлипок, как кисея.
(А. Селищев. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет. 1917–1926. М., 1928. С. 216)То, что все советские товары (и не только товары, а вообще все, что произведено на советской земле), так сказать, по определению хуже всего заграничного, было для нас чем-то само собой разумеющимся.
Корни явления уходили в самые глубинные основы советской экономики и советского образа жизни.
► Мы обошли все этажи, и я предложил председателю и санинспектору посмотреть вторую секцию. Предложил я это просто для очистки совести, наверняка зная, что они откажутся.
— Чего там смотреть? — сказал Дроботун. — Все ясно. Где акт?
Я вынул акт, сложенный вчетверо, из кармана. Я уже думал, что сейчас все кончится, и обрадовался. Если уж я не могу делать все, как полагается, так пускай хоть будет меньше возни.
В это время открылась дверь, в комнату, где мы находились, вошел студент, мокрый с ног до головы, в ботинках и брюках, облепленных грязью…
— Я был во второй секции, — отдышавшись, сказал студент.
— Ну и что?
— Ничего. Все плохо. Дом принимать нельзя.
— Так уж и нельзя? — переспросил Дроботун.
— Нельзя, — уверенно сказал студент. — Я акт не подпишу.
— Подпишешь, — сказал Дроботун.
— Да вы пойдите посмотрите, что там творится…
Ничего страшного во второй секции не было — обычная наша работа. Кое-где двери не закрывались.
— Вот, — сказал студент, — двери не закрываются.
— Сырость. Потому и не закрываются, — пояснил Дроботун.
— Если бы одна дверь… — сказал студент.
— Сырость на все двери действует сразу, — заметил санинспектор…
— А теперь поднимемся выше, — сказал студент. Он говорил уже так уверенно, словно был самым большим нашим начальником. Он пошел впереди, перепрыгивая через ступени, мы не спеша плелись следом.
— Карьерист, — глядя студенту в спину, тихо сказал Дроботун. — Такой молодой, а уже выслуживается..
Студент вывел нас на балкон четвертого этажа и толкнул сильно балконную решетку. Она оторвалась от бокового крепления и закачалась…
— Вот видите, — сказал студент торжествующе и посмотрел на Дроботуна. Тот нахмурился.
— Это уже непорядок, — сказал он. — А вдруг кто свалится? Подсудное дело. Пускай сегодня же приварят.
— Потом подпишем акт, — добавил студент.
— Акт подпишем сейчас, — сказал Дроботун. — Решетку он приварит.
— А дверь? А окна? — сказал студент.
— Это ерунда, — сказал Дроботун. — Подсохнет — и все будет нормально. Ты уж хочешь, чтоб вообще все было без придирок…
(Владимир Войнович. Хочу быть честным)Желторотый студент, оказавшийся в приемочной комиссии, тоже знает, конечно, что все эти недоделки — норма, что иначе не бывает. Но он хочет быть честным.
Честным пытается быть и главный герой повести — прораб Самохин. И получает в результате этой своей отчаянной попытки инфаркт.
Жалкий бунт «карьериста» студента и честняги Самохина подавлен. Вывод ясен: никаким индивидуальным бунтом эту ситуацию не изменишь.
А насчет того, как можно (и даже нужно) было бы ее изменить, рассказывали такой анекдот.
► В квартире течет кран. Вызывают слесаря-сантехника.
Тот долго возится с прохудившимся краном и в конце концов объявляет, что ничего сделать нельзя. Нужны прокладки, а их у него нет.
Ему намекают, что заплатят, сколько скажет, пусть только достанет эти злополучные прокладки.
Он думает, чешет затылок. Наконец говорит
— Дык ведь и сам кран тоже никуда не годится.
Ему дают понять, что готовы заплатить и за новый кран.
Снова тяжкое раздумье, почесыванье в затылке. И наконец — ответ. Нет, и новый кран не поможет: ведь трубы тоже гнилые.
— Что же делать? — спрашивают убитые горем хозяева.
И после долгой паузы и тяжкою вздоха следует ответ
— Всю систему надо менять.
Смысл анекдота был прозрачен, как стекло. Независимо от того, что имел в виду этот слесарь, ясно, как апельсин: менять надо не водопроводную (или отопительную, или канализационную) систему, неполадки в которой его (слесаря) позвали устранять. Чтобы сантехника работала нормально, менять надо совсем другую систему.
На прямую связь низкого качества советских товаров с самой природой социалистического способа производства, всей нашей советской экономической и политической системы бросали свет десятки, может быть, даже сотни анекдотов, историй, случаев из жизни.
Вот лишь некоторые из них.
* * *
До какого-то высокого начальства дошло, что наш отечественный трактор существенно тяжелее американского трактора той же мощности. Тут же в соответствующий НИИ было спущено задание: довести вес отечественного трактора до американского стандарта.
Ученые мужи в НИИ решили эту задачу просто. Всюду, где можно было, они заменили тяжелые металлы (железо? сталь?) на более легкие (дюраль? алюминий?). Себестоимость трактора при таком раскладе сильно выросла, но фирма не стояла перед затратами: задание-то было не удешевить машину, а сделать ее легче. А это было выполнено даже и с превышением: новый трактор, наполовину сделанный из цветных металлов, оказался даже легче американского. Выходило, таким образом, что наши конструкторы не только догнали, но даже и перегнали Америку.
Но у нового трактора оказался один довольно существенный недостаток. Он не мог нормально двигаться. Он не передвигался по земле обычным способом, как ему полагалось, а прыгал, как лягушка.
Вероятно, новый вес трактора требовал какой-то новой, совершенно иной его конструкции.
Но ученые ребята из НИИ и тут не растерялись. Они стали загружать трактор балластом, подвешивать ему какую-то там чугунную гирьку, что ли. И в конце концов пришли к результату, при котором и волки были сыты, и овцы целы. Трактор стал хоть и не таким легким, как в начале эксперимента, но все-таки не тяжелее американского. И при этом нормально двигался.
Ну, а что касается стоимости драгоценных цветных металлов, пошедших на его «усовершенствование», так до этого, естественно, никому не было дела. Никто ведь за них не платил. Да и кому платить, если все — свое, то есть — государственное, то есть — ничье.
Или вот такой — совсем короткий и совсем незатейливый рассказ, слышанный мною от одного моего приятеля, побывавшего на целине. О том, как они возили на грузовиках зерно по тамошнему бездорожью. Когда грузовик буксовал, черпали зерно ведрами, щедро сыпали его под колеса и двигались дальше, до следующей заминки.
Еще один рассказ на эту же тему. Его я услышал от возившего меня таксиста, который раньше работал на грузовике.
Выполненный план им считали не по числу сделанных ездок и не по пройденному километражу, а по количеству израсходованного за рабочий день бензина. Поэтому часть бензина они сливали прямо на дорогу.
Но лучше я изложу другой — не такой короткий, но, как мне кажется, особенно выразительный сюжет. Помимо всего прочего, он дорог мне тем, что вся эта история разыгралась на моих глазах. Я был ее живым свидетелем.
А приключилась она с моим соседом по дому Рудольфом Бершадским.
Когда кооперативный дом наш на Аэропортовской еще только строился, мы, будущие его обитатели, то и дело приходили полюбоваться, как идет стройка, и уходили счастливые, увидав, что дом вырос еще на пол-этажа. Почти все мы до этого ютились по коммуналкам, и грядущее вселение в отдельную квартиру представлялось нам немыслимым счастьем. И вот, когда дом уже подбирался к последнему — девятому — этажу, нам объявили, что каждый может заказать себе индивидуальную планировку. Скажем, увеличить кухню за счет прилегающей к ней комнаты. Или наоборот.
Соответствующие расходы надо было, понятно, предварительно оплатить. Но цены тогда на все эти дела были божеские, а по нашим нынешним временам так и вовсе символические.
Я тем не менее на эту удочку не клюнул. А Рудя Бершадский — клюнул. Он заказал себе тамбур. Это значило, что длинную кишку коридора, тянущуюся через всю его квартиру, он решил перегородить: в полутора метрах от входа навесить вторую дверь. Получалось очень элегантно: входя в квартиру, вы попадали в крохотную прихожую, снимали там пальто, шапку, если хозяин прикажет, и обувь меняли на тапочки, и только после этого, отворив вторую дверь, попадали уже в собственно апартаменты. И вот, оплатив соответствующим образом эту свою индивидуальную планировку, Рудя стал чуть ли не каждый день наведываться в свою будущую квартиру, чтобы поглядеть, не сделали ли ему наконец этот его вожделенный тамбур. Но всякий раз ему отвечали, что нет, пока не сделали, поскольку до сих пор на стройку не завезли дверей.
Но всякому ожиданию, как известно, рано или поздно приходит конец, и в один прекрасный день, явившись на свой пост, Рудя услыхал, что его тамбур вроде бы наконец готов. Ликуя и содрогаясь, как сказано у Бабеля, он взбежал по лестнице, толкнул дверь своей будущей квартиры, и… Нет, его не обманули. Прихожая, которая так долго являлась ему в мечтах, была именно такой, какой он ее себе представлял. Но когда он сделал попытку открыть вторую дверь и пройти в квартиру, из этого ничего не вышло. Дело было в том, что первая, входная дверь открывалась внутрь квартиры, то есть от себя. А вторая, — та, которую рабочие наконец навесили, — на себя. А поскольку тамбур, как я уже сказал, был крохотный, две двери — первая, входная, и вторая, ведущая в квартиру, — сталкивались друг с дружкой, и проникнуть в квартиру при такой раскладке не было никакой физической возможности.
— Мужики, вы что же мне это сделали? — спросил ошеломленный Рудя у неспешно копошившихся в его квартире работяг.
— Чего?.. A-а, это? — невозмутимо ответствовали они. — Да нам тут, понимаешь, завезли только левые двери. Правых, говорят, сейчас нету…
— Так ведь в квартиру же не войти… Как же я…
— Да ты, хозяин, не волнуйся, — успокоили его. — На той неделе завезут нам правые двери, и мы тебе ее навесим.
— Так какого же дьявола вы навешивали эту дверь, если она не годится? Зачем двойную работу делать?
Тут на него посмотрели, как на малолетку-несмышленыша:
— То есть как, зачем? Ведь если бы мы не навесили, нам бы ведомость не закрыли. Мы бы расчет не получили… Да ты, хозяин, не волнуйся! Все будет путем. Приходи на той неделе, увидишь: будет у тебя нормальная дверь.
Так оно, в общем-то, и вышло.
Но насчет того, что дверь, которую ему потом навесили, была так-таки уж совсем нормальная, — верится с трудом.
Когда я въехал в этот наш дом, в новую — первую мою отдельную — квартиру, сразу же обнаружилось, что двери в ней открываются очень туго. Так просто не откроешь. А двери, которые открывались сравнительно легко, — те не закрывались. То есть закрывались, конечно, если приложить силу, но тогда уж их было не открыть.
Много было и других недоделок.
Но я искренне полагал, что все это нормально. О том, чтобы строители исправили эти недоделки сами — по доброй воле или по приказу своего начальств — я, конечно, и не помышлял. Такая дурацкая мысль мне даже в голову не приходила. Нашел каких-то работяг, привел их в новую свою квартиру, показал им все, что требовало вмешательства их золотых рук.
Работяги ходили за мной, смотрели, щупали все «недоделки», хмыкали, качали головами. И высказывались так:
— Да-а, не по-советски сделано… Не по-советски… Рази ж это работа? Да за такую работу этим работничкам руки и ноги перебить…
Я-то как раз не сомневался, что сделано все это было как раз по-советски. Но объяснять им это не стал и не сказал даже, что от них жду как раз не советской, а настоящей, добротной работы. Говорить я им этого не стал, потому что уже понял (увидел), что работать они умеют.
А когда работа была закончена, я выставил пару-другую бутылок, и мы с ними выпили за мое новоселье. И тут у них развязались языки, и они мне признались:
— Хозяин! Да ведь это мы ж здесь и работали. Наша ведь это работа. Наши все недоделки-то…
Так выяснилось, что они не хуже, чем я, знали, в чем состоит разница между работой «по-советски» и работой «по-капиталистически», то есть за живые деньги.
* * *
Ну, а в заключение, как водится, — анекдот.
► Приехал к нам с визитом какой-то важный иностранный гость, — допустим, японец.
Ну, показали ему все наши достижения, весь, как говорится, товар лицом. И перед отъездом, перед самым его возвращением домой, на родину, задают традиционный вопрос:
— Что вам больше всего понравилось в нашей стране?
Японец, не задумываясь, отвечает:
— Дети.
— Ну, дети… да… Это понятно… А еще что?
Японец так же твердо отвечает:
— Дети.
— Ну да, — говорят ему. — Конечно… Дети у нас замечательные. Дети — это наша смена. Ну, а кроме детей… Неужели вам у нас больше ничего не понравилось?
— Нет-нет, — твердо стоит на своем японец. — Только дети. Все, что вы делаете руками, никуда не годится.
Социалистические страны
У Леонида Ильича Брежнева в последние годы его пребывания в должности генерального секретаря с особенной силой стали проявляться свойственные ему и раньше дефекты речи. Выловить какой-нибудь смысл из словесной каши, которую он жевал, было порой довольно-таки трудно. И на этот счет ходило множество анекдотов. Например, вот этот:
► — Я что-то не понял, в какой это связи Леонид Ильич упомянул во вчерашней своей речи сиськи-масиськи?
— Да не «сиськи-масиськи». Это он так произносит слово «систематически».
Лучшим из этих анекдотов был такой:
► Приходит в ЦК докладная записка от руководства какого-то мясокомбината. Директор, партком, все начальство указанного предприятия признают, что Леонид Ильич Брежнев в последнем своем выступлении совершенно справедливо критиковал низкое качество производимых ими сосисок. «Сосиски сраные» — вот как генеральный секретарь нашей партии, со свойственной ему партийной прямотой и нелицеприятностью, охарактеризовал основные свойства этого продукта. Руководство комбината заверяет наш ленинский ЦК и лично товарища Леонида Ильича Брежнева, что работники нашего предприятия приложат все силы к тому, чтобы оправдать доверие партии и правительства и в кратчайший срок повысить качество производимой продукции. Мы не сомневаемся, что в самое ближайшее время наши сосиски заслужат более высокую оценку из уст генерального секретаря.
Работники аппарата ЦК, прочитавшие это письмо, долго не могли понять, в чем тут дело. Ни о каких сосисках Леонид Ильич, насколько им было известно (а им ли было этого не знать, ведь это они же и писали все его речи) не говорил.
Наконец кого-то из них осенило.
Не СОСИСКИ СРАНЫЕ на самом деле сказал генсек, а — СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ.
Казалось, не может быть никаких сомнений насчет того, куда направлено, как любил говорить в таких случаях Зощенко, жало этой художественной сатиры. Разумеется, лично в товарища Брежнева. И даже еще уже, еще локальнее, — в его косноязычие, в его нудную и маловразумительную словесную жвачку.
На самом деле, однако, смысл анекдота оказался куда как глубже.
Я говорю «оказался», потому что совершенно не уверен, что этот глубинный его смысл входил в намерения его создателей. Скорее всего он, этот второй, главный его смысл возник непроизвольно. Как бы сам собой.
А суть дела в том, что между понятиями «социалистические страны» и «сосиски сраные» существует гораздо более прочная связь, чем брежневское косноязычие. Это — прямая причинная связь. Впрочем, нет, не прямая. Скорее — обратная. Та, которую математики называют обратно пропорциональной зависимостью.
Можно даже сказать, что анекдот этот открыл и сформулировал некий закон экономики социализма; чем дальше продвинется та или иная страна по пути становления на социалистический путь развития, тем гаже, отвратительнее, несъедобнее будут производимые в этой стране сосиски.
Был на эту тему еще такой анекдот.
► — Почему у нас всегда проблема с туалетной бумагой?
— А вы разве не знаете? Потому что она вся уходит на сырье для производства сосисок.
Разумеется, отмеченная нами обратно пропорциональная зависимость действовала не только по отношению к сосискам. Этот экономический закон распространялся на все, чем была богата та или иная страна до вступления ее на путь социализма.
Поляки открыли даже такое дополнение к этому закону. Есть, говорили они, четыре трудности социализма: зима, лето, весна и осень.
Но лучше всего выразил суть этой проблемы такой незатейливый анекдот.
► — А что будет, если социализм начнут строить в пустыне Сахаре?
— Ясно, что: сразу же начнутся трудности с песком.
Социально близкие
Так в сталинских лагерях официально именовались уголовники — в отличие от «социально чуждых» политических, которых «социально близкие» воры, уркаганы, бандиты, убийцы и насильники в связи с этим получили право третировать, как «фашистов», травить, загонять под нары, грабить, избивать и разными другими способами демонстрировать им свое моральное превосходство.
Эта тема нашла свое выражение в песне, родившейся в конце 40-х. Сочинил ее, разумеется, интеллигент — молодой литературовед Ахилл Левинтон.
► Он был член партии. И марксист. И ум у него был строгий. Он был ученый-филолог ленинградского толка, то есть академический, не падкий на финтифлюшки…
В 1948 году, когда в стране даже анекдотов не стало, он сочинил песню. На мотив «стаканчиков граненых»…
Песня была безупречна. Она постепенно вошла в фольклор, в самиздат, в тезаурус языка (я имею в виду «советского завода план» как клише).
(Руфь Зернова. Израиль и окрестности. Jerusalem, 1990)Песня эта и в самом деле вошла в фольклор и в самиздат. Но не в первозданном своем виде, не в «авторской редакции». Так вообще-то бывает всегда, когда какой-нибудь авторский текст подхватывает народ. И всякий раз тут наблюдается некая закономерность, совершенно определенная тенденция, сразу обнаруживающая себя при сравнении любого авторского текста с фольклорным.
Ироническую, ерническую, глумливую песню, сочиненную интеллигентом как пародию («Жил был великий писатель граф Лев Николаич Толстой…», «Я был батальонный разведчик…»), народ, как правило, воспринимает простодушно, что называется, всерьез. «Редактируя» первоначальный текст, народ как бы не замечает авторской иронии, своими поправками снимает ее, воспринимая излагаемую в песне историю как трогательную, а отнюдь не смешную.
В случае с песней Ахилла Левинтона этого не произошло. Вот как выглядит она в «народном» варианте:
Стою я раз на стреме, Держу в руке наган, И вдруг ко мне подходит Неизвестный мне граждан. Он говорит: «В Марселе Такие кабаки! Такие там мамзели, Такие бардаки! Там девочки танцуют голые, Там дамы в соболях, Лакеи носят вина, А воры носят фрак». Вытаскивает ключик, Открыл свой чемодан. Там были деньги-франки И жемчуга стакан. «Бери, — говорит, — деньги-франки, Бери весь чемодан, А мне за то советского Завода нужен план». Советская малина Собралась на совет. Советская малина Врагу сказала: «Нет!» Мы сдали того суку Войскам НКВД С тех пор его по тюрьмам Я не встречал нигде.В авторском варианте было:
Стою себе на месте, Держуся за карман, И вдруг ко мне подходит Незнакомый мне гражда нин. Он говорит мне тихо: «Куда бы мне пойти, Чтоб мог сегодня лихо Я вечер провести? Чтоб были-были бы девчонки, Чтоб было-было бы вино, А сколько будет стоить — Мне это все равно!»В народном варианте герой песни уже не просто так «стоит себе на месте», а «стоит на стреме». И держится он при этом, соответственно, уже не за карман, а — за наган, что более соответствует образу «вора в законе». Картинка Марселя тоже претерпела некоторые изменения: вместо «девчонок» авторского варианта появились «мамзели», вместо «кабаков» — «бардаки». Изысканный enjambement авторского текста («гражда…» — и перенос в следующую строку — «нин»), разумеется, исчез: его заменил не шибко грамотный, но достаточно внятный и выразительный неологизм: «граждан». Но самое главное, конечно, не это. В народном варианте вылетел целый куплет. «Неизвестный граждан» тут не тратит время на пустые расспросы насчет того, куда бы ему пойти, чтобы лихо провести вечер. Он сразу приступает к сути: пытается совратить собеседника, нарисовав ему соблазнительную картину злачных мест неведомого тому Марселя. И тотчас же выдает ему свое «гнусное предложение». Причем не на словах, а подкрепляя его, так сказать, предметно.
Нарисованная в этом варианте картина («неизвестный граждан» вытаскивает ключик, открывает чемодан, наглядно демонстрируя «деньги-франки и жемчуга стакан»), конечно, гораздо ярче отвлеченного интеллигентского: «Он предложил мне франки…» При этом, правда, в народном варианте полностью пропала замечательная строчка, вошедшая, как справедливо отметила Руфь Зернова, в тезаурус языка: «советского завода план». Авторская ирония, однако, при этом не померкла. Напротив, она даже обострилась, усилилась — прежде всего благодаря сосредоточенности на основной линии сюжета, но особенно за счет появившегося нового четверостишия:
Советская малина Собралась на совет. Советская малина Врагу сказала: «Нет!»По слухам, строчки эти сочинил и внес в авторский текст не кто-нибудь, а сам Галич. Но это не так уж и важно. Важно, что «народ» не отмел, усвоил, можно даже сказать, присвоил это четверостишие, то есть целиком принял не только заданную автором песни ироническую ее тональность, но и это галичевское — уже откровенно издевательское — усиление авторской иронии. Ну, а уж куда она была нацелена, эта ирония, объяснять, я думаю, не надо.
Не могу поручиться, что выражение «социально близкие» вышло за пределы «малой зоны» и утвердилось в общесоветском новоязе. Но однажды мне все-таки случилось услышать его в контексте, довольно-таки далеком от лагерной тематики и проблематики.
Вот как это было.
* * *
В начале 60-х, когда я работал в «Литературной газете», ярый сталинист Кочетов опубликовал роман, в котором откровенно выступал против хрущевской «оттепели», ратовал за возвращение страны назад, к Сталину. Мы (говоря «мы», я имею в виду двух-трех особенно активных сотрудников отдела литературы) изо всех сил пытались уговорить наше литгазетское начальство выступить с резкой статьей, разоблачающей не только художественное убожество, но и политическую реакционность этого кочетовского изделия. Но начальство боялось Кочетова больше, чем Хрущева, что свидетельствовало, во-первых, о том, что оппозиция либеральным хрущевским реформам в стране была очень сильна, а во-вторых, о том, что и сам Хрущев двигался по своему либеральному пути зигзагами, его постоянно мотало из стороны в сторону, и было довольно-таки трудно угадать, какова будет его реакция на такую статью, буде она появится.
Окончательно убедившись, что на начальство нам в этом деле надеяться нельзя, мы решили предпринять самостоятельную «подрывную» акцию. Отправились к Эренбургу, надеясь уговорить его написать такую статью. Если бы это нам удалось, начальству нашему деваться было бы некуда: не напечатать статью, подписанную громким именем Эренбурга, наш главный редактор никогда бы не решился.
Но Эренбург участвовать в этой авантюре отказался. Выслушав нас, он долго молчал, как видно, перебарывая себя.
— Не трогайте меня сейчас, — наконец сказал он. — Я ведь не отсиживаюсь в тылу. Я печатаю мемуары.
Мы поняли, что настаивать было бы жестоко. Да, наверно, и бесполезно.
Разговор, однако, на этом не кончился. Заговорили о Хрущеве. О его непоследовательности, половинчатости. И тут я, наверно, перешел границу дозволенного, назвав первого человека государства то ли недоумком, то ли малограмотным болваном, который и сам толком не знает, чего хочет.
— Вы ошибаетесь, — мягко возразил мне Илья Григорьевич. — У Никиты Сергеевича, конечно, немало недостатков, но это — серьезный политический человек.
Я сразу понял, что сказано это было не «страха ради иудейска», что Эренбург на самом деле считает невежественного и суматошного Хрущева «серьезным политическим человеком».
Но согласиться с этим я не мог.
— Да разве серьезный политический человек устроил бы всю эту истерику по поводу Пауэрса?[4] — горячился я. — Ну, ладно. Истерика — это еще куда ни шло. Это в конце концов вопрос темперамента. Но разве серьезный политический человек сорвал бы из-за этого визит Эйзенхауэра? Разве серьезный политический человек наплевал бы на весь мир, в том числе и на де Голля, который склонялся к мирному решению скандала? Да и сам Эйзенхауэр тоже ведь извинился. Серьезный политический человек, как вы его назвали, не стал бы давать волю своим чувствам…
— Поверьте мне, — повторил Илья Григорьевич. — Это серьезный политический человек. И если он решил устроить всю эту, как вы говорите, истерику, значит, были у него для этого еще и какие-то другие причины, гораздо более важные, чем личная обида.
— Ну, хорошо, — сказал тогда я. — Если это действительно так, если он и в самом деле серьезный политический человек, неужели никто, вот хоть вы, например, не может ему объяснить, что роман Кочетова направлен прямо против него, против всей его политики?
— А вот это, — улыбнулся Эренбург, — объяснить ему как раз нельзя. Он этого просто не услышит. И уж тем более — от меня… Когда я несколько раз пытался заводить с ним разговор о литературе, у него сразу появлялось… Вы ведь знаете, у него же на лице все написано, он не умеет скрывать своих чувств… Так вот, у него сразу появлялось такое выражение: «Ох, обманет!..» Нет, что касается литературы, тут он верит только своим — Софронову… Грибачеву… Тому же Кочетову…
— Своим?! — изумился я. — Да ведь они же его ненавидят!
— Да, — кивнул Эренбург. — Но они ему социально близкие.
СССР
СССР (Союз Советских Социалистических Республик) — наименование нового государственного образования, сложившегося (в 1922 г.) на территории бывшей Российской империи.
Интеллигенты вокруг этого нового названия накрутили много сложностей:
► Была бы я в России, все было бы иначе, но — РОССИИ (звука) нет, есть буквы: СССР, — не могу же я ехать в ГЛУХОЕ, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: БУКВЫ НЕ РАЗДВИНУТСЯ.
(Марина Цветаева. Письмо Анне Тесковой. Февраль 1928)Народ воспринял перемену названия своей страны спокойнее. А аббревиатуру расшифровал по-своему:
► Сами Срали Сами Расхлебывайте.
(Николай Любимов. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний)Была еще одна — тоже народная — расшифровка этой аббревиатуры:
► Открылась с лязгом дверь, и в камеру вошел низкорослый мужичонка. Прижимая к груди надкусанную пайку, он испуганно озирался: неизвестно, куда попал, может, тут одни уголовники, отберут хлеб, обидят. Это был его первый день в тюрьме.
— Какая статья? — спросил Калашников.
— Восьмая.
— Нет такой. Может, пятьдесят восьмая?
— Не знаю. Они сказали — как у Радека. Террорист, сказали.
Все сразу стало понятно: 58-8, террор. Радеком мы его и окрестили. Настоящую его фамилию я не запомнил — зато отлично помню его рассказ о первом допросе. По профессии он был слесарь-водопроводчик.
Привели его ночью, и сразу в кабинет к следователям. Их там сидело трое. Один показал на портрет вождя и учителя, спросил:
— Кто это?
— Это товарищ Сталин.
— Тамбовский волк тебе товарищ. Рассказывай. Чего против него замышлял?
— Да что вы, товарищи!..
— Твои товарищи в Брянском лесу бегают, хвостами машут… Ну, будешь рассказывать?
— Не знаю я ничего, това… граждане.
Второй следователь сказал коллеге:
— Да чего ты с ним мудохаешься? Дать ему пиздюлей — и все дела!
Они опрокинули стул, перекинули через него своего клиента и стали охаживать его по спине резиновой дубинкой. Дальше — его словами:
Кончили лупить, спрашивают: ну, будешь говорить? Я им:
— Граждане, может, я чего забыл? Так вы подскажите, я вспомню!
— Хорошо, — говорят, — Степанова знаешь?
А Степанов — это товарищ мой, он в попы готовится, а пока что поет в хоре Пятницкого.
— Да, — говорю, — Степанова я знаю. Это товарищ мой.
— Вот и рассказывай, про чего с ним на Первое мая разговаривали.
Тут я и правда вспомнил. Выпивали мы, и Степанов меня спросил: что такое СэСэСэР, знаешь? Знаю, говорю. Союз Советских Социалистических Республик. А он смеется: вот и не так! СССР — это значит: Смерть Сталина Спасет Россию… Рассказал я им это, они такие радые стали:
— Ну вот! Давно бы так.
(Валерий Фрид. 58 1/2. Записки лагерного придурка)Сталин — это Ленин сегодня
Поначалу формула эта казалась притянутой за уши, искусственной, даже фальшивой.
Очень хорошо помню чувство, испытанное мною однажды в кино. Шел фильм «Ленин в восемнадцатом году». (Дело было в 1939 году, мне было 12 лет.) Раненый Ленин говорил врачу:
— Доктор, вы коммунист?.. Вы обязаны сказать мне правду: если рана смертельная, надо немедленно вызвать Сталина!
Отчетливо помню, что мне было как-то неловко слышать эту заведомую ложь. Я ни в малой степени не сомневался в праве Сталина на роль вождя. Но почему-то точно знал, что смертельно раненный Ленин этих слов сказать не мог. Знал, что артист, играющий Ленина, произнес их не потому, что ТАК БЫЛО, а потому, что ТАК НАДО. И мне было за него вроде как стыдно.
Не знаю, чего тут было больше: сознания исторической неправды или интуитивного ощущения неправды (фальши) художественной. Как бы то ни было, я не зря, наверное, так отчетливо помню это свое чувство даже и сейчас, почти шесть десятков лет спустя после того киносеанса.
Откуда же такая необыкновенная проницательность в столь раннем возрасте?
Ларчик открывается просто. О том, что Сталин вовсе не был «законным наследником» Ленина, я прекрасно знал из разговоров взрослых. Помню, например, как наш сосед по коммуналке — старый большевик Иван Иванович Рощин рассказывал, что вблизи («вот как тебя») видел всех вождей — и Ленина, и Троцкого, и Каменева, и Зиновьева.
— А этого-то, нынешнего хозяина, сколько раз видел! — закончил он свой рассказ. И надо было слышать, сколько пренебрежения было в этой реплике, чтобы почувствовать, какой мелюзгой в сравнении с теми, «настоящими вождями» был в его глазах этот «нынешний хозяин».
Эти слова Ивана Ивановича — не столько даже слова, сколько интонация, с какой они были произнесены, — снова припомнились мне совсем недавно, когда случилось мне прочитать воспоминания актрисы Е. Тяпкиной о Николае Эрдмане.
В 1925 году Мейерхольд поставил первую эрдмановскую пьесу — «Мандат». (Тяпкина играла в ней Настю.) И вот однажды на репетиции произошел такой случай. Показывая матери и сестре свой фальшивый, им же самим состряпанный «мандат», ошалевший от собственной смелости Гулячкин (его играл Эраст Гарин) в экстазе выкрикивал:
— Копия сего послана товарищу Чичерину!
Чичерин был тогда наркомом иностранных дел, и имя его звучало почти так же громко, как имена самых главных тогдашних советских «вождей», о чем свидетельствует, например, такая — популярная в те годы — частушка:
Я в своей красоте Оченно уверена. Если Троцкий не возьмет — Выйду за Чичерина.Но реплика Гулячкина, в которой упоминался Чичерин, была особенно эффектной еще и потому, что брошена она была — под занавес. (Ею заканчивалось второе действие комедии.) А в устах Гарина она прозвучала так, что Мейерхольд смутился. Он сказал:
— Товарищи, все-таки Чичерин такое лицо… Неудобно!.. Надо кого-нибудь помельче.
И предложил заменить Чичерина Сталиным.
Напоминаю: «Мандат» Эрдмана Мейерхольд поставил в 1925 году — том самом, когда Царицын был уже переименован в Сталинград.
Но в 41-м, когда, заключая какую-то свою речь, Сталин (сам!) произнес: «Да здравствует партия Ленина — Сталина!», — это уже мало кого удивило. К тому времени все давно уже привыкли к мысли, что Ленин и Сталин — «близнецы-братья».
Ну, а уж когда Сталин умер, никому даже и в голову не пришло, что его могли похоронить не рядом с Лениным, не в ленинском Мавзолее.
Впрочем, вру. Кое-кому такая мысль в голову приходила.
Вот, например, был у нас в ЦДЛ (Центральном доме литераторов) парикмахер — Моисей Михайлович Маргулис. Стриг он не бог весть как. Но его остроты (лучше сказать — хохмы) повторяла вся Москва. А одна из них, даже не самая лучшая, перелетела через океан и долетела до самой Америки, аж до Белого дома: ее подхватил и повторил тогдашний президент США Франклин Рузвельт.
Собственно, это была даже не хохма. Произнося ее, Моисей и думать не думал хохмить: он просто в присущей ему форме выразил то, что хотел выразить. Именно так рождались все его хохмы. А эта родилась в июне 1941 года, в один из первых дней великой нашей войны. Писатели, дожидавшиеся у него своей очереди, толковали о том, что всего важнее в этой войне. Кто-то сказал, что всего важней танки, кто-то — что авиация. Важен экономический потенциал страны, возразил третий. Четвертый заметил, что самое главное — морально-политическое единство советского народа.
— Вот вы спорите, — вмешался Моисей, — а я вам скажу, что главное в этой войне. Главное — вижить.
Именно эта формулировка и докатилась до Рузвельта.
— Мне рассказали, — в какой-то своей речи припомнил он, — что один московский парикмахер так определил, что главное в этой войне.
И с удовольствием повторил замечательную формулу нашего Моисея.
Так вот, этот самый Моисей Маргулис, когда Сталина положили в Мавзолей рядом с Лениным, высказался об этом так.
— Пока, — сказал он, — они еще лежат там вдвоем. Но жировка — на одного.
А ведь до XXII съезда, на котором было принято решение выкинуть Сталина из Мавзолея, было еще довольно далеко. И для многих — очень многих! — людей, особенно иностранцев, Сталин был тогда гораздо более почтенной и, уж во всяком случае, гораздо более известной фигурой, чем Ленин.
Как раз в это самое время приехала к одним моим знакомым в гости молодая американка. То ли родственница, то ли дочка каких-то их американских друзей. Показывая ей разные достопримечательности Москвы, они сводили ее и в Мавзолей. И она так прореагировала на увиденное.
— Это дядя Джо, я знаю, — шепнула она, показывая глазами на Сталина. — А кто вон тот, другой парень?
Но то — иностранка.
А у нас «тот, другой парень» долго еще сохранял свой нимб святого.
Даже жители далеких горных аулов, не скрывавшие своего недовольства по поводу того, что советская власть оказалась такой долгой, к нему, основателю этой самой, изрядно поднадоевшей им власти, продолжали относиться с какой-то странной, необъяснимой, загадочной нежностью:
► Они про него говорили, что он хотел хорошего, но не успел. Чего именно хорошего, они не уточняли. Иногда, стыдясь суесловного употребления его имени и отчасти кодируя его от злого любопытства темных сил природы, они не называли его, а говорили: Тот, кто Хотел Хорошего, но не Успел.
По представлению чегемцев, Ленин был величайшим абреком всех времен и народов. Он стал абреком после того, как его старшего брата, тоже великого абрека, поймали и повесили по приказу царя.
(Фазиль Искандер. Сандро из Чегема)Казалось бы, Сталину гораздо больше должна была подойти роль абрека. (Участвовал в лихих налетах на царскую казну, и вообще — «лицо кавказской национальности».) Но Сталина чегемцы абреком почему-то не считали. Насчет него у них не было никаких иллюзий:
► Вопреки либеральному ликованию в стране, когда гроб с телом Сталина убрали из Мавзолея, чегемцы приуныли.
— Надо же было все наоборот сделать, — говорили они в отчаянии, — надо было Ленина похоронить, а этого оставить, написав на Мавзолее: «ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ВУРДАЛАК, ВЫПИВШИЙ НАШУ КРОВЬ». Неужели им некому было подсказать?
(Фазиль Искандер. Сандро из Чегема)Так чегемцы и не поняли, что «Сталин — это Ленин сегодня».
Можно, конечно, объяснить это их политической наивностью. Но на самом деле корни этого непонимания лежали глубже. Усвоить эту простую истину долго не могли и люди куда более проницательные и политически грамотные:
► В то время совершилось во мне то, что можно было бы назвать «кризисом веры»… Я перестал верить в то, чему учили, что говорили о политике, о революции и социалистическом строе. Например, рассказывалось о том, что в 1940 году прибалтийские республики добровольно вошли в состав СССР, а я в школе на перемене в яростном споре доказывал кому-то из одноклассников, что мы просто-напросто захватили Литву, Латвию и Эстонию, воспользовавшись их беззащитностью. Рассказывалось о счастливой колхозной деревне, а я видел, что люди не могут говорить о колхозе без ненависти и насмешки. Каждый день я открывал что-нибудь новое; каждый день падал какой-нибудь очередной глиняный идол. Так повалились одна за другой «первая в мире страна», «власть трудящихся», «дружба народов», «закон, по которому все мы равны», рухнул, разбившись вдребезги, и сам великий вождь и учитель, и только Ленин все еще оставался невредим, точно был вырублен из прочного известняка, а не слеплен, как все прочие, из алебастра. Как и подобает мыслящему человеку, я вел дневник, в котором начертал, когда мне было 16 лет, мысль, казавшуюся мне необыкновенно оригинальной, о том, что «у нас здесь, в СССР, — фашизм». Я рассуждал о том, что если бы Ленин был жив, то был бы наверняка объявлен врагом народа и расстрелян, вроде того как у Достоевского Великий инквизитор собирается сжечь Христа, действуя от его же имени.
Автор этих строк — писатель Борис Хазанов — этот свой «кризис веры» относит к временам, когда ему было лет пятнадцать-шестнадцать.
Нечто похожее в эту пору моей жизни происходило и со мной тоже.
Я, впрочем, был в то время, пожалуй, инфантильнее этого моего сверстника. Во всяком случае, «Легенду о Великом инквизиторе» Достоевского тогда еще не читал, поэтому таких сложных ассоциаций у меня не возникало.
Но и для меня тоже, когда Сталин и все прочие идолы давно уже рухнули, разбившись вдребезги, Ленин долго еще оставался невредим.
И много еще утекло воды прежде, чем до меня (до всех нас) наконец дошло, что формула-то была верная. Что Сталин и в самом деле — это «Ленин сегодня». Потому что Ленин — это Сталин вчера.
Страна сплошной грамотности
Однажды — было это в середине семидесятых — пришел на мое имя из ЦДЛ (Центрального дома литераторов) пригласительный билет не совсем обычного вида. От других цэдээловских билетов, которые почта приносила мне тогда чуть ли не ежедневно, он отличался даже на ощупь. Напечатан был на какой-то особенно плотной бумаге, глянцевитой плотностью своей напоминающей даже не картон, а целлулоид или, еще точнее, — слоновую кость. И сам текст приглашения был выполнен не совсем обычным типографским шрифтом, а стилизован под этакую изысканную каллиграфическую скоропись с разными изящными росчерками и завитушками. Ко всем этим странностям была там еще одна — совсем уж загадочная: в левом верхнем углу тем же каллиграфическим почерком меня уведомляли, что билет этот — персональный и ни в коем случае не подлежит передаче в другие руки. А в правом верхнем углу красовался вычурный вензель, сплетенный из трех букв, образующих знакомую зловещую аббревиатуру: КГБ.
Короче говоря, мне была оказана редкая честь. Я приглашался на встречу с ответственными (или руководящими, не помню точно, как именно это было сформулировано в том билете) работниками Комитета государственной безопасности.
И вот я сижу в Малом зале ЦДЛ в числе сотни особо избранных, особо доверенных (за что только мне такая честь?) московских писателей. Со всех сторон меня окружают знаменитости. Вот — Сергей Михалков. А неподалеку от него — Василий Ардаматский, автор знаменитого фельетона «Пиня из Жмеринки»… Это — слева от меня. А справа — Аркадий Васильев, о котором кем-то было сказано, что он «спланировал» в литературу из органов… Вон и другие корифеи, чья многолетняя связь с «нашими славными органами» тоже давно и хорошо всем известна.
На маленьком просцениуме — два хорошо одетых, вполне благопристойно выглядящих господина. Один худощавый, даже тщедушный, в очках. Другой — плотный, упитанный, без очков. Тем не менее они чем-то неуловимо похожи друг на друга.
Начинает тщедушный. Он говорит об участившихся идеологических диверсиях. Враг коварен и хитер. ЦРУ не дремлет. Но они, работники наших славных органов, тоже не лыком шиты. Тщедушный подробно рассказывает, как вовремя была разгадана и предотвращена одна такая, спланированная в ЦРУ идеологическая диверсия.
В Москву прибыл на гастроли знаменитый американский джаз Бенни Гудмана. В столице возник по этому поводу нездоровый ажиотаж. Ответственные работники КГБ, получив об этом соответствующие сигналы, поняли, что дело пахнет крупной провокацией. (В переводе на нормальный человеческий язык это означало, что на концертах упомянутого джаза некоторые не в меру впечатлительные зрители будут слишком уж бурно аплодировать, демонстрируя тем самым иностранцам свое некритическое, а может быть, даже и восторженное отношение к американскому образу жизни.)
Обсудив создавшуюся непростую ситуацию (не отменять же уже объявленные гастроли!), наши славные чекисты разработали такой хитроумный план. В городские кассы — решили они — поступит лишь малая часть билетов. Основная же их часть будет распространяться по учреждениям и предприятиям среди особо проверенных товарищей — коммунистов и комсомольцев.
Замечательный план этот был приведен в исполнение. Проверенные коммунисты и комсомольцы сидели на концертах Бенни Гудмана с каменными лицами. Вражеская провокация была сорвана.
Другие сюжеты были в том же духе.
Я уже мысленно хихикал, предвкушая, как буду пересказывать друзьям все эти идиотские истории. Но скоро мне стало не до смеха.
Тщедушный вдруг слегка изменил тон и повел речь о том, что отдельные идеологические диверсанты проникли и в писательскую среду. Эту тему он мусолил довольно долго, как-то блудливо подмигивая и время от времени довольно прямо давая понять, что сказанное им относится и к кое-кому из сидящих в этом зале. Мне показалось, что несколько раз при этом он взглянул на меня. Под этими его взглядами я ежился, хотя никаких идеологических диверсий вроде бы не совершал. Но ведь и устроители концерта Бенни Гудмана тоже не совершали никаких идеологических диверсий. И не зря же в конце концов на эту закрытую (билет без права передачи!) встречу вместе с Михалковым, Ардаматским и Аркадием Васильевым они позвали меня и нескольких других, как это тогда называлось, «подписантов».
Я сидел как на иголках, ожидая, что вот-вот на весь зал прозвучит моя фамилия. Но до меня и других грешников дело не дошло. Сообщая об идеологических диверсиях отдельных идейно незрелых писателей, оратор никаких фамилий называть не стал, так и ограничился всеми этими многозначительными подмигиваниями и намеками, после чего уступил площадку упитанному.
Тот, показалось мне, был совсем уже неотесанный. Родной речью владел туго.
Он объявил, что будет говорить не об идеологических диверсиях, а совсем на другую тему.
Комитету государственной безопасности, сообщил он, нужна наша, писательская помощь. В США по специальному заказу ЦРУ выпущена книга, разоблачающая пороки советской государственной и политической системы. Все социальные, нравственные и всякие иные изъяны советского общества. Так вот, нельзя ли нам выпустить книгу, которая так же убедительно и на таком же хорошем литературном уровне разоблачала бы пороки, присущие самой передовой империалистической державе?
— Ведь нам тоже есть что предъявить им, не правда ли, товарищи? — интимно обратился к присутствующим ответственный сотрудник Комитета государственной безопасности.
Сообщив для начала, что в Соединенных Штатах свирепствует безработица, а кроме того, там очень плохо обращаются с неграми, словно доверяя нам некую тайну, слегка даже понизив голос, он перешел к главному.
— Да, — сказал он, — экономически мы от Америки действительно несколько отстали. Но зато мы сильно обогнали их в других областях жизни. Например, в культуре. Они даже и сами не отрицают, что у них, в Соединенных Штатах, еще довольно много (он назвал какую-то цифру) неграмотных. А у нас — страна сплошной грамотности.
Эту словесную формулу я, конечно, не раз слышал и раньше. Но, как и многие другие официальные советские лозунги («Народ и партия — едины» и т. п.) как-то не принимал ее всерьез. Больше того, над клишированными фразами именно вот такого типа («советское — значит отличное») все мы привыкли слегка трунить, сочиняя разные пародийные их варианты: «Советские паралитики — самые прогрессивные». Или: «Наш советский онанизм укрепляет организм».
Но тут я подумал (это цифры, наверно, произвели на меня такое сильное впечатление): а ведь и правда, неграмотность-то у нас вон еще когда ликвидирована! Пожалуй, мы и в самом деле, без вранья, можем именовать себя страной всеобщей, поголовной, сплошной грамотности.
Но тут же мне припомнился один замечательный рассказ любимого моего Михаила Михайловича Зощенко — как раз на эту тему. И мой патриотический настрой тотчас же испарился.
Весь рассказ, целиком, цитировать, я, конечно, не буду. Но сравнительно небольшой отрывок из него — не могу удержаться! — приведу:
► А ведь сейчас, граждане, ни черта не разберешь — кто грамотный, а кто неграмотный…
Вот, например, Василий Иванович Головешечкин. Да он и сам не знает, грамотный он или нет. Человек, можно сказать, совсем сбился в этом тумане просвещения.
Председатель однажды чуть даже не убил его за это. Главное, что два дня всего осталось до полной ликвидации неграмотности. Скажем, к Первому мая велено было в губернии начисто ликвидировать неграмотность. А за два дня до этого бежит Василий Иванович в сельсовет и докладывает, запыхавшись, — дескать, неграмотный он.
Председатель чуть не укокошил его на месте.
— Да ты, — говорит, — что это, сукин сын? Да как же ты ходишь, не ликвидировавшись, раз два дни осталось?
Василий Иванович разъясняет положение — дескать, неспособен, способностей, дескать, к наукам нету.
Председатель говорит:
— Ну что, говорит, я с тобой, с чучелой, делать буду? Кругом, говорит, начисто ликвидировано, а ты один декреты нарушаешь. Беги, говорит, поскорей в тройку, проси и умоляй. Может, они тебя в два дни как-нибудь обернут. Пущай хотя гласные буквы объяснят.
Василий Иванович говорит:
— Гласные, говорит, буквы я знаю. Чего их всякий раз показывать. Голова заболит.
Тут председатель обратно чуть не убил Василия Ивановича.
— Как, — говорит, — знаешь? Может, ты и фамилию писать знаешь?
— Да, — говорит, — и фамилию.
— Значит ты, сукин сын, грамотный?
— Да выходит, что грамотный, — говорит Василий Иванович. — Да только какой же я грамотный? Смешно.
Председатель опять чуть не убил Василия Ивановича после этих слов.
— Нет, — говорит, — у меня инструкции разбираться в ваших образованиях, чучело, говорит, ты окаянное!..
А теперь Василий Иванович сильно задается. И говорит, что он грамотный. И вообще с высшим образованием. Даже может в вузах преподавать…
(М. Зощенко. Туман)Не удержался я от такой длинной цитаты не только потому, что не мог совладать с всегдашней своей слабостью (хотя и это тоже, конечно, сыграло свою роль). Но в данном случае я руководствовался еще и тем, что хоть коллизия этого зощенковского рассказа (как всегда у Зощенко) откровенно пародийна, историю полной ликвидации неграмотности в нашей стране она отражает вполне адекватно. Можно даже сказать — один к одному.
Этот свой рассказ Зощенко написал в начале 20-х. Именно тогда развернулась во всю ширь охватившая всю страну кампания по ликвидации неграмотности (или, как тогда говорили, безграмотности, откуда и взялось прочно вошедшее в советский новояз слово «ликбез»).
А десять лет спустя, в середине 30-х, Зощенко вдруг — ни с того ни с сего (кампания по ликвидации неграмотности давным-давно уже отшумела) — написал еще одно, новое сочинение на эту тему. На этот раз это был не юмористический (или сатирический) рассказ, а — статья, которая так прямо и называлась: «О неграмотности». И речь в ней шла о разного рода стилистических несообразностях и огрехах, которыми изобиловала тогдашняя советская журналистика.
Многочисленные примеры неграмотности, которые приводил в этой своей статье Михаил Михайлович, по правде говоря, были не особенно даже вопиющие. И вообще выглядело все это довольно странно: за чистоту речи, за точность словоупотребления, за возврат к правильной, нормативной лексике ратовал тот самый писатель, оригинальный художественный метод которого был основан как раз на искажениях правильной русской речи, на самых разнообразных — как правило, прямо чудовищных — отклонениях от этой вот самой языковой нормы.
На самом деле ничего странного в этом как раз не было, поскольку эстетическое своеобразие зощенковского стиля, комизм всех этих зощенковских словечек и оборотов («Сердце не так аритмично бьется, как хотелось бы…», «Я, говорит, беспорядков не нарушаю», «Отвезши мою помершую бабушку в крематорий и попросив заведующего в ударном порядке сжечь ее остатки…») может ощущаться только тем читателем, который твердо стоит на почве языковой нормы. Читатель, утративший ощущение этой нормы, все эти комические зощенковские обороты легко может принять за чистую монету. Поэтому Зощенко как раз больше, чем кто-либо другой, был заинтересован в сохранении этой самой языковой нормы, в том, чтобы граница между грамотностью и неграмотностью не стиралась, не размывалась, чтобы неграмотность не стала в конце концов нормой современного русского языка.
Однако вспомнил я эту старую зощенковскую статью совсем не для того, чтобы объяснить, почему вдруг статью о пользе грамотности написал не кто-нибудь, а Зощенко — тот самый Зощенко, которого критика постоянно упрекала в том, что он грубо и беззастенчиво калечит, уродует русский язык, демонстративно пренебрегая самыми элементарными нормами грамотной, литературной речи.
Больше всего поразила меня та зощенковская статья тем, что она ничуть не устарела.
Занимаясь писателем Михаилом Зощенко на протяжении многих лет и твердо зная, что в самой сути своей герой этого писателя за минувшие годы не шибко изменился, я все-таки наивно предполагал, что суть сутью, а вот по части некоторого внешнего лоска, а главное, по части грамотности он — этот самый герой — все-таки сильно вырос.
Но, прочитав ту старую зощенковскую статью «О неграмотности», я вдруг с ужасом убедился, что в этом щекотливом вопросе за минувшие шесть — или даже семь — десятков лет не наметилось у нас никакого прогресса. Скорее даже наоборот.
Перечень приведенных в той старой зощенковской статье примеров неграмотности тогдашних советских журналистов я тут же с легкостью продолжил такими же — и даже не такими же, а куда более выразительными — примерами, почерпнутыми из сегодняшних наших газет и журналов.
Один современный журналист, например, выразился так: «Бывший экс-премьер Гайдар…» Ему, бедняге, невдомек, что приставка «экс» как раз и означает — «бывший». Другой, рассказывая об автографе, которым его одарил при встрече великий князь Владимир Кириллович, заключает этот свой рассказ таким пассажем: «подписался великий князь размашисто, по-русски: „Владимир“ с „ять“ на конце…» Третий поражает таким откровением: «Как сказано в Ветхом Завете, в начале было слово…» (Сказано это было отнюдь не в Ветхом, а в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна.) Он же сообщает: «Проблематик сейчас у нас много», наивно полагая, что слово «проблематика» означает то же, что слово «проблема». Четвертый, скептически отозвавшись о ваучерах, признает, что при всем при том они (ваучеры) все же «сыграли определенную пользу…».
О том, что практически ушла из языка (упразднена за ненадобностью?) форма склонения числительных, я уже не говорю. Ни один оратор, ни один диктор радио или телевидения сейчас уже не скажет, что где-то там недосчитались, положим, трехсот семидесяти восьми рублей. Скажут: «Недостает триста семьдесят восемь рублей». Эта новая форма уже почти узаконена.
Особенно любопытна тут еще такая закономерность: чем малограмотнее тот или иной деятель, тем ретивее включается он в борьбу за чистоту русского языка.
Вот, например, экс-председатель нашей Государственной думы Геннадий Селезнев высказал однажды недовольство по поводу того, что его называют спикером. Заодно он выступил против употребления и других иностранных слов: «консенсус», «саммит»… А в заключение сказал:
— Нам это не надо. У нас, у русских, свой имидж.
Это уже случай не языковой, а, так сказать, общекультурной неграмотности. Но такого у нас — навалом.
Вот — самый свежий пример.
Едва ли не самый интеллигентный в стране ведущий теленовостей, сообщая о похоронах Олега Ефремова, сказал, что похоронили его на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Станиславского, «основателя (цитирую дословно) Малого и Художественного театров».
А вот этот пример я выписал из книжечки сатирика Валерия Хаита «Избранное из услышанного»:
► Напротив нашего дома школа. Митинг 1 сентября. Выступает директор. На всю округу слышится:
— Я хочу аплодисментами услышать вашу любовь к своим учителям!..
И дальше об учениках:
— Им удостоена большая честь…
Вообще-то услышать можно и не такое. Но я решил присоединить эти перлы к своей коллекции, поскольку услышал их автор книжечки не от кого-нибудь, а от директора школы.
Придя к власти, коммунисты много чего обещали нам ликвидировать. Не только неграмотность, но и, скажем, различия между физическим и умственным трудом. Ликвидация — это было едва ли не самое любимое их слово. И кое в чем — это нельзя не признать — они тут добились успеха. Действительно ликвидировали помещиков и капиталистов. Ликвидировали как класс (на общую нашу беду) кулаков.
А вот неграмотность так и не ликвидировали.
Этот печальный наш опыт натолкнул меня на такую кощунственную мысль. А может быть, не надо было даже и стремиться к тому, чтобы наша страна стала страной сплошной грамотности? Сказал же Н.И. Грег в ответ на вопрос царя, для чего нужна в русском алфавите буква «ять»:
— Для того, ваше величество, чтобы можно было отличать грамотных от неграмотных.
Ей-богу, это не так уж глупо: разница между грамотным и неграмотным должна сохраняться. Потому что сплошная грамотность — это ведь не что иное, как сплошная, всеобщая малограмотность.
Сын за отца не отвечает
В сталинские времена эта словесная формула была одной из главных. И, как все другие основополагающие формулы, определяющие самые основы тогдашней нашей жизни, придумана и запущена в машину государственной пропаганды она была самим Сталиным.
Сейчас это кажется диким, но когда слова эти были произнесены, они казались нам верхом великодушия:
Сын — не ответчик за отца, — Так он сказал однажды с места, Прервав на миг дыханье съезда В стенах кремлевского дворца. И не вместились в старом зале, Рванулись к тысячам сердец Пять этих слов, что возвещали Проклятью тяжкому конец. Вам, из другого поколенья, Едва ль постичь до глубины, Что означало избавленье От той предписанной вины. От той графы в любой анкете… (А. Твардовский. Рабочие тетради. «Знамя», 2000, № 9. С. 169)О том, что сулила та графа в любой анкете не тысячам, а миллионам людей, затронутым «большими сталинскими чистками», знает каждый, кто жил в то время. И «великодушная» сталинская формула (Твардовский не соврал) для них для всех действительно означала «избавленье от той предписанной вины». И все, кого эти вдруг брошенные с места сталинские слова касалась, кому они были адресованы, и в самом деле испытали тот восторг, то счастье, которое испытал и спустя годы выплеснул в этих своих стихотворных строчках Твардовский. (К нему-то это сталинское «избавленье от вины» имело самое прямое, самое непосредственное отношение.)
Что греха таить! Эта сталинская формула вполне устроила бы нас всех. Если бы она не была чистейшей воды лицемерием. Повторяя ее как заклятие, в глубине души все мы прекрасно знали, что при случае ответим не только за отца, но и за какого-нибудь двоюродного дядю, и за троюродную бабушку, и даже за то, что нам приснилось однажды в каком-нибудь странном и нелепом сне, который и сам Зигмунд Фрейд не исхитрился бы расшифровать.
Эту психологическую коллизию рассмотрел Илья Ильф в одном своем раннем рассказе:
► Иногда мне снится, что я сын раввина. Меня охватывает испуг. Что же мне теперь делать, мне, сыну служителя одного из древнейших религиозных культов?
Как это случилось? Ведь мои предки не все были раввинами. Вот, например, прадед. Он был гробовщиком. Гробовщики считаются кустарями. Не кривя душой, можно поведать комиссии по чистке, что я правнук кустаря.
— Да, да, — скажут в комиссии, — но это прадед. А отец? Чей вы сын?
Я сын раввина.
— Он уже не раввин, — говорю я жалобно. — Он уже снял…
Что он снял? Рясу? Нет, раввины не снимают рясы. Это священники снимают рясу. Что же он снял? Он что-то снял, он отрекся, он отмежевался от своего бородатого бога, с визгом и ревом он порвал связь с божеством и отказал ему от дома.
Но я не могу точно объяснить, что снял мой отец, и мои объяснения признаются неудовлетворительными…
Я иду по фиолетовой снежной улице и шепчу сам себе:
— И совершенно прав был товарищ Крохкий, когда… Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты… Яблочко от яблони недалеко падает… Совершенно прав был председатель комиссии товарищ Крохкий. Меня надо изжить. Действительно, давно пора.
Я поеду домой, к отцу, к раввину, который что-то снял. Я потребую от него объяснений. Будет крупный разговор…
В том-то вся и штука, что знаменитая сталинская формула была не только лицемерна. Она отражала самую суть тех исключительных обстоятельств, в которые нас загнали, в которых нам приходилось жить. Истинный смысл формулы заключался в том, что каждый должен был в любой момент быть готовым к тому, чтобы отречься от отца, от всех своих связей, от своего собственного прошлого, и лишь тогда, став в каком-то смысле идеальным членом этого удивительного общества, он получит право надеяться, что общество, быть может, посмотрит сквозь пальцы на эти разорванные, но все же когда-то ведь существовавшие связи.
Мне рассказывали, что Зинаида Николаевна Пастернак (жена Бориса Леонидовича) с восторгом говорила, что ее дети больше всех людей на свете любят Сталина, а потом уже — ее, Гарика (первого ее мужа, Генриха Нейгауза) и Борю. И ей совсем не казалось диким и ничуть ее не оскорбляло, что в иерархии сердечных привязанностей ее маленьких сыновей Сталин безоговорочно занимает первое место и только на втором и третьем идут родители.
Замечательное высказывание это говорит о многом. И свидетельствует оно отнюдь не только о некоторой — скажем так — умственной ограниченности его автора. Скорее наоборот: оно свидетельствует о том, что душа Зинаиды Николаевны была очень чутким барометром (или сейсмографом, уж не знаю, название какого прибора тут более уместно). Жена великого нашего поэта очень верно почувствовала (и сформулировала) основу основ сталинской системы ценностей.
Сталин, как известно, учился в духовной семинарии и, следовательно, хорошо знал известную формулу Христа, записанную в Евангелии от Матфея:
► Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня… Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.
Я не берусь судить о том, какой смысл вкладывал в эти слова Спаситель (или записавший их евангелист). Но Сталин в эту свою претензию (а она у него безусловно была: тут, пожалуй, уместно вспомнить, что в газетах победоносного 45-го года Сталина неоднократно именовали Спасителем — с большой буквы) вкладывал смысл очень определенный. Он имел в виду, что любить его больше, чем отца и мать, — недостаточно. Надо еще быть готовым предать отца и мать. Совершивший такое предательство «ради Него» не только не потеряет душу свою, но, напротив, сбережет ее:
► Блудный сын возвращается домой. Блудный сын в толстовке и людоедском галстуке возвращается к отцу. Стуча каблуками, он вбегает по лестнице из вареного мрамора на четвертый этаж… Сын не видел отца десять лет. Он забыл о предстоящем крупном разговоре и целует отца в усы, пахнущие порохом и селитрой.
Отец тревожно спрашивает:
— Тебе надо умыться? Пройди в ванную.
В ванной темно, как десять лет назад, когда вылетевшие стекла заменили листом фанеры. Ничего в отцовской квартире не изменилось за десять лет.
В темноте я подымаю руку кверху (там была полка и лежало мыло в эмалированной лоханочке), и она находит мыло.
Зажмурив глаза, я могу пройти по всей квартире, не зацепившись за мебель. Память убережет меня от столкновения со стулом или самоварным столиком. Закрыв глаза и лавируя, я могу пройти в столовую, взять налево и сказать:
— Я стою перед комодом. Он покрыт полотняной дорожкой. На нем зеркало, голубой фарфоровый подсвечник и фотография моего брата, которого в училище звали Ямбо. Он был толстым мальчиком, а тогда толстых называли Ямбо.
Что касается самого Ямбо, то это был слон…
Отец стоит рядом со мной, поправляя пороховые усы…
Такого отца надо презирать. Но я чувствую, что люблю его…
Позор, я люблю раввина!
Сердце советского гражданина, гражданина, верящего в строительство социализма, трепещет от любви к раввину, к бывшему орудию культа. Как могло это произойти? Яблочко, яблочко, скажи мне, с кем ты знакомо, и я скажу, кто тебя съест…
И съели бы. Со всеми потрохами.
Да, дело шло о жизни и смерти — ни больше ни меньше.
И тем не менее все решилось сразу, в один миг: сын почувствовал, что у него недостанет сил отмежеваться от родного отца. Он только воскликнул с безнадежностью отчаяния:
— Зачем, зачем ты был раввином?
И тут (такое, увы, могло быть только во сне) все вдруг разъяснилось самым счастливым образом.
— Я никогда не был раввином, — удивленно ответил отец. — Тебе это приснилось. Я бухгалтер, я герой труда…
Приснится же в самом деле такая чушь человеку!
► Сон кончается мотоциклетными взрывами и пальбой. Я просыпаюсь радостный и возбужденный. Как хорошо быть любящим сыном, как приятно любить отца, если он бухгалтер, если он пролетарий умственного труда, а не раввин.
К сожалению, не всем советским гражданам, даже свято верящим в строительство социализма, в отцы достались пролетарии умственного труда. Некоторым не повезло: их родители действительно были раввинами. Или попами. Или дьяконами. Или просто имели несчастье петь когда-то в церковном хоре. И с невезучими детьми этих недальновидных родителей все то, что с героем рассказа Ильфа случилось во сне, происходило наяву. Я уж не говорю о том, что и от пролетариев умственного — да и не только умственного — труда тоже приходилось отрекаться, если случалось им попасть в кровавую сталинскую мясорубку. А кто был от этого застрахован?
* * *
В начале 60-х мой друг Эмка Мандель (Н. Коржавин) познакомил меня с замечательной женщиной — Ольгой Львовной Слиозберг. Она была лет на двадцать нас старше, отбыла к тому времени свои семнадцать лет тюрьмы, лагеря и ссылки (там, в ссылке, в Караганде они с Эмкой и подружились). Тюремные и лагерные ее рассказы произвели на меня тогда сильное впечатление. Особенно один из них.
В тюрьме она сблизилась с одной совсем простой, неграмотной женщиной, обвинявшейся, естественно, в троцкизме. И вот однажды эта женщина обратилась к ней за советом. Дошло до нее с воли письмо от дочки. Дочке исполнилось пятнадцать лет, и ей предстояло вступать в комсомол. И она просила мать, чтобы та написала ей: правда ли, что она троцкистка, что злоумышляла против нашей страны, против товарища Сталина. Если правда, она проклянет ее и вступит в комсомол. Если же мать честно напишет ей, что ни в чем не виновата, то вступать в комсомол она ни за что не станет. Девочка признавалась, что ей, конечно, очень страшно думать, что при таком повороте она сразу станет изгоем. (Выражала она это, конечно, другими словами, но мысль была именно такая.) «И все-таки, — писала она матери, — лучше бы мне узнать, что никакая ты не троцкистка, не враг народа».
Получив это письмо, мать девочки проревела всю ночь. А наутро попросила Ольгу Львовну написать дочери от ее имени, что все, в чем ее обвиняют, — правда. «Так прямо и напиши, — сказала она. — Вступай, доченька, с чистым сердцем вступай. У тебя перед комсомолом никакой вины нет, а за мать ты не ответчица. Сам товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает».
Ольга Львовна изо всех сил старалась уговорить ее не возводить на себя напраслину, не признаваться в несуществующей вине. Но та твердо стояла на своем.
— Ей жить, — сказала она. — Легкое ли это дело девчонке знать, что мать сидит ни за что? Нет, пусть уж лучше думает, что я троцкистка.
Знать, что мать сидит ни за что, девочке, конечно, было бы нелегко. Но намного ли легче было ей думать, что мать посадили за дело? Она ведь не лгала, когда написала в своем письме, что лучше бы все-таки оказалось, что мать никогда не была троцкисткой. Пусть уж лучше она сама окажется изгоем в этой стране, только бы не пришлось ей отрекаться от своей матери, предавать ее. Но если все-таки окажется, что мать — троцкистка, что ее арестовали не зря… Тогда… Что ж! Тогда никакого другого выхода у нее уже не будет. Тогда, не раздумывая, она откажется от матери и останется со всей страной, с партией, с комсомолом, с товарищем Сталиным.
А Александр Трифонович Твардовский даже и колебаться не стал. Сразу отказался от родителей, когда их выслали, хоть и твердо знал, что никаким кулаком его отец никогда не был.
И — мало того! — убедил себя в том, что Тот, Главный его Отец, отправляя на медленную мученическую смерть с миллионами других ни в чем не повинных крестьян и его родителей, БЫЛ ПРАВ. Прав той самой своей «нелегкой временами, крутой и властной правотой».
Как это ни ужасно, следует признать, что сталинская формула «Сын за отца не отвечает» вполне устроила бы нас, если бы с нами играли честно. Если бы декларируемое в ней великодушие было истинным, а не фальшивым. Мы не понимали тогда, что формула эта безнравственна в самом своем существе. Потому что на самом деле СЫН ЗА ОТЦА ОТВЕЧАЕТ. Только нравственный урод, недочеловек, ублюдок может искренно, от души стремиться к тому, чтобы НЕ ОТВЕЧАТЬ за своего отца. Нормальному человеку такое насилие над собой — не под силу.
Т
Терсборы
Всех младенцев, сросшихся телами в утробе матери и такими и явившимися на свет, мы — по невежеству — называем сиамскими близнецами. А оказывается, они бывают разные. Те, что сращены в области грудины — называются ксифопаги. А те, что срослись в области крестца — пигопаги. По отношению к последним применяется хирургическое вмешательство: их можно разъединить. Да и те, что принадлежат к одному и тому же типу, тоже сильно разнятся: одни оказываются более или менее жизнеспособными, другие погибают рано, а некоторые и вовсе не жильцы на этом свете.
Примерно так же обстоит дело и с теми словами нашего советского новояза, которые при рождении срослись «телами». (Лучше сказать — корнями.)
Некоторые из них срослись так прочно, что мы, ежедневно вставляя их в свою речь, даже уже и не замечаем, что это не совсем нормальные слова, а — «сиамские близнецы». Таких — не так уж и мало: «колхоз», «детдом», «профсоюз», «партком», «стенгазета», «угрозыск».
Другие настоятельно требуют хирургического вмешательства — так и просятся, чтобы их разъединили: уж больно уродливо они звучат для нормального слуха: «стеклопосуда», «морепродукты», «бочкотара». (Вспомните «Затоваренную бочкотару» Василия Аксенова.)
Не знаю, может быть, Аксенов эту свою «затоваренную бочкотару» и выдумал. Но вот это — точно не выдумка, а самый что ни на есть доподлинный факт: в конце 50-х над одним из прилавков Елисеевского магазина красовалась вывеска: «СВИНОВАРЕНОСТИ И СВИНОКОПЧЕНОСТИ». (Впоследствии она исчезла.)
Говорят, была даже такая воинская должность: «Заместитель командующего по морским делам», название которой в новоязовском варианте звучало так: ЗАМКОМПОМОРДЕ.
Каждый наверняка вспомнит десяток-другой таких словесных ублюдков.
Многие из них скончались вместе с породившими их советскими учреждениями: «главсахар», «главбумага», «главтабак», «главспички»… Но и в те времена, когда они еще были живы, уродливость этих диких словосочетаний не осталась не замеченной народом-языкотворцем, о чем, например, свидетельствует такая тогдашняя частушка:
От обеда в главстоловке Главжелудок бесится. Дайте, дайте главверевку, Чтобы главповеситься.Но это уже позже, когда страсти улеглись и возникла почва для юмора. А на заре советской власти диапазон эмоционального восприятия этих новоязовских слов-уродцев был необычайно широк.
Для одних они звучали сладостной музыкой: Чумазые (сыны чумазых), Станковые (сыны станков), Несем мы в жизнь десятки разных Невиданных чумазых слов… Для нас теперь понятней всех пословиц: «Эмка не выдаст, учраспред не съест». Миры живут в словах — «рабфак», «свердловец», А мир миров Есть в слове — «Партсъезд». ………………………… Наше бремя нести будет каждый готов. О, партсъезд наш! (Чумазое слово.) Знаем: время последнею горстью годов Засыпает могилу былого. (Александр Безыменский. В кн.: А. Безыменский и А. Жаров. Наш день. 1925)У других те же слова вызывали судорогу ненависти:
► «Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе»… А сегодня… Сегодня я не нахожу любимой Москвы. Сегодня мне все чужое… На вывесках — оскорбительные для русского уха слова… «Наркомздрав»… «Пролеткульт»… «Москвотоп»… «Наркомпрод»… Я опускаю глаза. Я не хочу, я не могу видеть их.
А. Ропшин (Б. Савинков). Конь вороной.Из попытки молодого Безыменского опоэтизировать слова-уродцы («эмка», «учраспред») так ничего и не вышло. Несмотря на все его поэтические потуги эти (и другие, им подобные) словообразования так и остались уродцами.
Однако другим поэтам поэтизация по крайней мере некоторых из этих только что родившихся слов удалась: они не только обогатили их словарь, но и наполнили их поэтическую речь новой, несвойственной им прежде силой и мощью.
Взять хотя бы вот эти четыре строки Зинаиды Гиппиус:
Мы стали злыми и покорными, Нам не уйти. Уже развел руками черными Викжель пути.Эти строки, сразу покорившие меня своим мрачным обаянием, процитировал любимый мною Маяковский в своей статье «Как делать стихи». Полностью это стихотворение я прочел не скоро: лет, наверно, двадцать спустя. И тогда же узнал, что написано оно было 9 ноября 1917 года, то есть на другой день после Октябрьского переворота. Маяковский об этом в своей статье не упоминал, а дата тут очень важна. Не зная, когда стихотворение было написано, трудно понять его истинный смысл. Даже само название его (называется оно — «Сейчас») требует точной даты:
Как скользки улицы отвратные, Какая стыдь! Как в эти дни невероятные Позорно жить! Лежим, заплеваны и связаны, По всем углам. Плевки матросские размазаны У нас по лбам. Столпы, радетели, воители Давно в бегах. И только вьются согласители В своих Це-ках. Мы стали псами подзаборными, Не уползти! Уж разобрал руками черными Викжель — пути.Внимательный читатель, конечно, уже отметил, что, цитируя последнюю строфу стихотворения, Маяковский слегка ее исказил.
Может быть, такова сила первого впечатления, но даже и сейчас мне кажется, что, исказив, Маяковский не ухудшил эти строки, а в чем-то даже их улучшил. Во всяком случае, «уже развел» — гораздо лучше, чем «уж разобрал». Разобрать пути мог и какой-нибудь чеховский «злоумышленник», отвинчивавший гайки от железнодорожных рельсов. А вот развести эти самые рельсы мог только он, этот таинственный, неведомый мне Викжель, от самого имени которого веяло какой-то странной, мистической жутью. (Впоследствии выяснилось, что никакой мистики там не было и в помине: «Викжель» — это всего навсего «Всероссийский исполнительный комитет союза железнодорожников».)
Ну, а уж Маяковскому, как говорится, сам бог велел превратить эти новые, неуклюжие слова-уроды в золотые россыпи поэзии. Что он и сделал. Но и у него тоже, хоть он относился к этим знакам нового времени совсем не так, как Гиппиус, от них веяло порой той же мрачной жутью:
Я хочу, чтоб в конце работы завком запирал мои губы замком!Трудно найти метафору более страшную, более чудовищную, чем эта.
Быть может, даже помимо воли автора в ней с предельной мощью выразилось патологическое стремление великого нашего поэта наступать на горло собственной песне, насиловать, уродовать свой лирический дар. И уродливое слово «завком» в немалой степени этой поэтической мощи способствовало.
Если уж мы заговорили о стихах, нельзя не вспомнить и о стихотворных сочинениях совсем другого рода, где эти новые, недавно явившиеся на свет словечки окрашивались в иронические, издевательские тона.
Была, например, такая, очень знаменитая в начале 20-х годов — и не только в Одессе, где она родилась, — песня: «Свадьба Шнеерсона…». Один ее куплет вспомнил и процитировал К. Паустовский в своей книге «Время больших ожиданий», придав ей, так сказать, второе дыхание. Но мне посчастливилось раздобыть полный ее текст:
Ужасно шумно в доме Шнеерсона, Се тит зих хойшех — прямо дым идет! Там женят сына Соломона, Который служит в Губтрамот. Невеста же — курьерша с финотдела Сегодня разоделась в пух и прах: Фату мешковую надела И деревяшки на ногах. Глаза аж прямо режет освещенье, Как будто бы большой губернский бал, А на столе стояло угощенье, Что стоило немалый капитал… Жестяный чайник с кипятком из куба И гутеса сушеного настой, Повидло, хлеб Опродкомгуба, Крем-сода с зельцерской водой… Танцуют гости все в восторге диком, От шума прямо рушится весь дом. Но вдруг вбегает дворник с криком: — Играйте тише, колет преддомком! Сам преддомком Абраша дер Молочник Вошел со свитою — Ну прямо просто царь! За ним Вайншток — его помощник И Хаим Качкес — секретарь. Все преддомкому уступили место, Жених его к себе тотчас позвал; — Знакомьтесь, преддомком, — невеста, Арон Вайншток и Сема Качковал. Но преддомком всех поразил, как громом, И получился тут большой скандал. — Я не пришел к вам как знакомый, — Он тотчас жениху сказал. — Кто дал на брак вам разрешенье? И кто вообще его теперь дает? Я налагаю запрещенье! Чтоб завтра ж был мине развод!Песню эту сочинил Мирон Ямпольский: имя этого знатока одесского быта и одного из классиков одесского эстрадного песенного репертуара можно встретить в мемуарах старых одесских куплетистов: В. Коралли, Ильи Набатова, Леонида Утесова.
Что значит «се тит зих хойшех» в точности я сказать не могу. Но остряки-одесситы объяснили мне, что выражение «се тит зих хойшех в доме Шнеерсона» — это хоть и приблизительный, но наиболее близкий по смыслу перевод на одесский классической толстовской фразы: «Все смешалось в доме Облонских».
Нуждаются в объяснении и некоторые другие слова и выражения, которыми инкрустирован текст этой песни.
Губтрамот — это Губернский транспортный (может быть, трамвайный?) отдел.
Деревяшки — сандалии с деревянной подошвой.
Гутес (евр.) — айва. Настой сушеной айвы заменял тогда одесситам начисто исчезнувший чай.
Хлеб Опродкомгуба — это хлеб, полученный по карточкам Особой губернской продовольственной комиссии по снабжению Красной армии.
Слово финотдел в объяснении не нуждается: оно вошло в общеупотребительный, а не только в одесский новояз. То же относится и к слову преддомком. Но об этом последнем кое-что сказать все-таки придется.
Преддомком, то есть председатель домового комитета, для одесского обывателя начала 20-х годов был фигурой исключительной значимости: он выдавал жизненно важные справки, заверял наиважнейшие документы, надзирал за выдачей продовольственных карточек, от него зависело уплотнение и распределение жилплощади. Вот почему герой этой песни, вчера еще известный всем ее персонажам как «Абраша дер Молочник», явившись на свадьбу Шнеерсона в сопровождении целой свиты прихлебателей, ведет себя там как «ну прямо просто царь».
Смеется, глумится, издевается автор «Свадьбы Шнеерсона» над уродствами тогдашнего советского быта. Но специфический одесский жаргон, вся эта языковая вселенская смазь — смесь русских, еврейских и новых, советских словечек — рикошетом бьет и по новоязу, создавая для всех этих «советизмов» совершенно особый — глумливый, ернический фон.
* * *
Как уже было сказано, в большинстве своем эти словесные ублюдки умерли естественной смертью. Но некоторые из них как-то, с грехом пополам, прижились и до сих пор — не скажу, живут, ну, скажем так, — прозябают в недрах нашего великого, неумирающего новояза.
Вот, например, слово «терсборы». «Тер» — это значит «территориальные». В 20-е годы слова с такой приставкой были в ходу. Помимо «терсборов» были еще — «терчасть», «терармеец». А. Селищев в своей замечательной книге «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет» (М., 1928) приводит такую фразу, почерпнутую им из газеты «Известия» (1925, № 96):
► Возвращаясь с терсборов в села, терармейцы буквально будоражат деревню.
Но «терармейцы», «терчасти» и многие другие «теры» — почили в бозе еще в начале 30-х. А вот слово-уродец «терсборы» каким-то чудом уцелело, о чем свидетельствует замечательная история, рассказанная Владимиром Войновичем про нашего с ним общего друга Костю Богатырева.
Костя был человеком необыкновенной и трагической судьбы. В юные годы он был арестован и приговорен к расстрелу за то, что якобы готовил покушение на Сталина. Сидел в Лефортове, в камере смертников. Приговор к «высшей мере» (тоже, кстати, словечко из нашего новояза) был заменен двадцатью пятью годами лагеря. В лагере из этих двадцати пяти отбыл он только десять. («Ус откинул хвост», и Костя был реабилитирован.) Но по прошествии еще пятнадцати лет, как сказал у разверстой Костиной могилы тот же Войнович, этот бессмысленный и жестокий приговор был все-таки приведен в исполнение: какие-то «неизвестные злоумышленники» проломили ему череп у дверей его собственной квартиры.
История, которую я собрался тут рассказать, с этой стороной Костиной жизни (а тем более — смерти) никак не связана. Но без такого предисловия она была бы все-таки не совсем понятна.
Перед тем как наконец предоставить слово Войновичу, хочу подтвердить, что рассказанная им история правдива от начала и до конца — в ней нет ни одной выдуманной детали, ни одной присочиненной подробности. Я говорю об этом так уверенно, потому что не раз слышал ее из уст самого Кости. А привожу ее в записи Войновича, во-первых, потому, что он ее не только записал, но и опубликовал. А во-вторых, потому, что вряд ли смогу рассказать ее лучше, чем это сделал он.
Итак, вот она, эта история:
► …Ему вдруг пришла из военкомата повестка — явиться для прохождения медицинской комиссии. Костя, будучи пуганой (и сильно) вороной, от властей ничего хорошего не ожидал, а от военкомата тем более. Обычно он волновался, что его рано или поздно посадят досиживать неотбытый двадцатипятилетний срок, а тут забеспокоился, что забреют в армию. И поехал держать совет к своему другу Геннадию Снегиреву. Тот уловил проблему с полуслова и посоветовал «косить на психа»:
— Пойдешь в военкомат, возьми с собой большое блюдо. Ты придешь, они тебя спросят: «Зачем блюдо?» Ты скажи: «А просто так». Я, например, в военкомате перед стенгазетой, как перед зеркалом, причесываюсь.
Блюдо Богатырев не взял и причесываться перед газетой постеснялся. Прошел терапевта, хирурга и рентгенолога и, наконец, явился в кабинет психиатра.
— Захожу, сидит такая пышная дама, я еще дверь не успел открыть, а она уже кричит: «Только не вздумайте строить из себя психа». А я, говорю, и не думаю. Она смягчилась: «Садитесь, на что жалуетесь?» Ни на что не жалуюсь. «А почему у вас руки дрожат?» А руки, говорю, у меня потому дрожат, что меня однажды приговорили к смертной казни. «Вас? К смертной казни? За что?» За террор, говорю. «Что вы выдумываете? Какой еще террор?» Террор, объясняю, это когда кто-нибудь кого-нибудь убивает. «И вы кого-то убили?» Нет, я только собирался убить Сталина. Она как услышала слово «Сталин», сразу притихла и стала что-то писать. Написала, подняла голову и спрашивает: «Значит, вы не хотите ехать на терсборы?» — «Терсборы? — переспросил я. — Это что же? Сборы террористов?» Она посмотрела на меня, вздохнула и говорит: «Идите, вы свободны».
Троцкист, троцкистка
В 30-е годы не было в стране более страшного слова, чем это.
Это было даже зафиксировано юридически. Обвинение в антисоветской деятельности могло формулироваться тремя буквами: КРД, а могло и четырьмя — КРТД. Всего одна буква, а разница… Разница была — огромная. И каждый из сидевших и несидевших смысл этой разницы понимал.
КРД — это значило: «контрреволюционная деятельность».
А КРТД — «контрреволюционная ТРОЦКИСТСКАЯ деятельность».
Слова «троцкист», «троцкистка» в предъявленном обвинении кидали подследственного в холодный пот.
Но даже и тут случались ситуации комические.
Вот, например, такой коротенький рассказ, подслушанный Евгенией Семеновной Гинзбург. (Я слышал его в ее устном изложении, но наверняка он был ею записан и нашел свое место в ее книге «Крутой маршрут».):
► — Он (следователь. — Б. С.) мне говорит: «Ты — трактистка!» А какая я трактистка, если я этого трактора до смерти боюсь. Я к Нему, проклятому, и подойти-то близко страшусь. Какая же я трактистка?!
Трезвость — норма жизни
Этот лозунг возник и распространился в середине 80-х, когда началась очередная (на сей раз особенно грандиозная) государственная кампания по борьбе с алкоголизмом.
Структурой своей он напоминает три главных лозунга оруэлловского «Ангсоца»:
► ВОЙНА — ЭТО МИР.
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО.
НЕЗНАНИЕ — СИЛА.
Эти лозунги автор знаменитой антиутопии не высосал из пальца. Они были не чем иным, как пародией на привычные, примелькавшиеся оксюмороны советского новояза.
Напомню лишь некоторые из них.
Если в какой-нибудь советской статье речь шла о большевистской принципиальности, мы знали, что имеется в виду умение колебаться вместе с линией партии, то есть — беспринципность. Если говорилось о революционной (социалистической) законности, мы понимали, что имеется в виду не что иное, как беззаконие. Пролетарским (социалистическим) гуманизмом у нас именовалась наука ненависти.
Но какое отношение ко всем этим советским оксюморонам имеет лозунг «ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ»? Ведь ничего «оксюморонного», а тем более пародийного в нем как будто нет. Почему же в таком случае он воспринимается как злая насмешка? Даже, я бы сказал, как чистейшей воды издевательство?
Отчасти, наверное, потому, что нормой жизни в нашем благословенном отечестве исстари почиталась не трезвость, а совсем иное, противоположное состояние души. Что было отмечено еще в древних летописях:
Руси веселие есть пити, Не можем без того и быти.Применительно к нашему российскому человеку утверждать, что трезвость — норма жизни, можно только в насмешку над ним. И дело тут даже не в том, что русский человек любит выпить и вовсе не склонен от этой своей любви отказываться.
Тут, если угодно, — философия. Своего рода национальное мировоззрение.
Суть этого мировоззрения отчасти выражает такой анекдот.
► Приезжает на какой-то завод генеральный секретарь ЦК с каким-то своим высоким гостем — президентом, скажем, какой-то иностранной державы.
Подводят их к знатному токарю-рекордисту. Работает токарь, какие-то там секретные подшипники делает. Иностранный президент у него спрашивает:
— А что, господин токарь, небось выпиваете на работе?
Токарь отвечает
— Выпиваю.
— Сто? — спрашивает президент.
— Могу сто.
— А двести?
— Могу и двести.
— А пятьсот?
— Могу и пятьсот.
— А литр?
— И литр могу.
— А как же работа? — изумляется потрясенный этим ответом иностранный президент.
— Нормально, — пожимает плечами токарь. — Вы же видите — работаю.
Тут в разговор вмешался генеральный секретарь.
— А сколько, — спрашивает, — токарь, ты в месяц получаешь?
Токарь отвечает:
— Триста.
— А что, если мы возьмем, и водку по тридцать рублей сделаем? — задает генсек провокационный вопрос. — Тоже будешь пить?
— Ясное дело, буду, — не задумываясь, отвечает токарь.
— Ну, а если мы до ста рублей повысим?
— Все равно буду.
— А если мы триста рублей сделаем! — завелся генсек. — За поллитра всю твою месячную зарплату.
— Эх, Леонид Ильич, — усмехается токарь. (Или, положим, Михаил Сергеевич.) — До лампочки мне все эти ваши повышения. Видите вот этот секретный подшипник? Так вот, он как стоил пол-литра, так пол-литра и будет стоить…
Этот замечательный диалог я выписал (слегка только его изменив) из рассказа Аркадия Арканова «Дурной сон». В рассказе этом, как видно из его заглавия, дело происходит не наяву. Герою рассказа — некоему Василию Степановичу — в одночасье приснилось, что он — генеральный секретарь. И вот в этом его сне все это как раз и происходит.
Но анекдот во всех этих искусственных мотивировках не нуждается. В анекдоте (а анекдот такой был, Арканов его не выдумал) этот разговор генсека с токарем происходил не во сне, а наяву. И правда этого анекдота, бытовая, житейская его правда, заключается в том, что водка, вот эти самые «пол-литра», на протяжении всей истории советского государства, при всех происходящих в нем инфляциях, девальвациях и деноминациях оставалась единственной в стране твердой валютой, стойкой, неменяющейся мерой всех жизненных ценностей.
— Сколько возьмешь? — спрашивали вы, бывало, у сантехника, маляра, столяра, электрика, плотника или еще какого-нибудь работяги, обговаривая меру вознаграждения за его труд. И почесав в затылке, он отвечал:
— На два пол-литра надо бы, меньше — никак.
(Или три, или четыре, или пять — смотря по обстоятельствам и объему работ.)
Однако нельзя сказать, чтобы меняющаяся время от времени номинальная стоимость этого самого «пол-литра» так-таки уж совсем не имела никакого значения. Кое-какое имела. И даже не кое-какое, а весьма существенное. На всех этапах истории советского государства именно она была главной (если не единственной) мерой социальной напряженности в обществе.
В последние годы правления Брежнева, когда начались бурные волнения в соседней Польше, ходил у нас такой стишок:
Водка есть за семь и восемь. От всего народа просим, Передайте Ильичу: Нам и десять по плечу. Если будет двадцать пять — Будем Зимний брать опять. Ну, а если будет больше — Ждите, сделаем как в Польше!И даже такой крутой социальный поворот, как горбачевская перестройка, закончившийся распадом Советского Союза, и тот в народе был поначалу отмечен реакцией именно на изменившуюся цену на водку. Стоимость «пол-литра» и тут оставалась главной мерой всех национальных ценностей:
По России мчится тройка: Мишка, Райка, Перестройка. Водка — десять, мясо — семь. Охуели, блядь, совсем. (Андрей Чернов. Азбука стеба)Некоторые правители советского государства в народной памяти и остались-то только потому, что их именами на протяжении какого-то (иногда совсем недолгого) времени обозначались те самые вожделенные пол-литра: «Рыковка», «Андроповка».
Но эти самые пол-литра были для нас единицей измерения не только всех материальных жизненных благ, но и мерой духовного самостояния, интеллектуальной, умственной ценности человека. Масштаб личности определялся тем, сколько эта самая личность может выпить.
► — Василий Иванович, — спрашивает Петька Чапаева. — А сколько ты зараз можешь выпить? Пол-литра небось слабо?
— Почему это? — удивляется Чапаев.
— А два пол-литра?
— Запросто.
— Ну, а три?
— И три смогу.
— Ну, а ведро? Ведро водки выпить сможешь?
— Нет, Петька, — вздохнув, признается Василий Иванович. — Ведро не смогу. Ведро — это только Ленин сможет.
Есть и другая, не менее важная сторона нашей национальной психологии, связанная с потреблением крепких напитков. Я имею в виду свойственное не только выпившему, но и трезвому русскому человеку и даже тяжко страдающим от алкоголизма отцов, мужей и братьев русским женщинам снисходительно-добродушное, благожелательное, я бы сказал, любовное отношение к пьяницам.
Согласно нормам Уголовного кодекса состояние алкогольного опьянения является обстоятельством не только не отягчающим, но даже отягчающим вину человека, преступившего закон. Но наше сознание не в силах усвоить эту простую истину. Она противоречит всему нашему социальному опыту, всем нашим представлениям, самим основам нашей национальной психологии. Что бы ни сотворил пьяный человек, мы склонны его понять и, разумеется, простить: «Ну, выпил человек… Подумаешь… С кем не бывает…»
Отчасти это отразил даже и наш великий, могучий, правдивый и свободный. Не зря ведь среди множества слов, обозначающих человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения (поддал, кирнул, принял на грудь, нагрузился, надрался, нарезался, налакался, нализался, нажрался и т. д. и т. п.), есть и такие:
► Веселенький.
Тепленький.
Хорошенький.
Это неизменно любовное отношение к выпившему человеку нашло свое отражение и в литературе. В стихах, в прозе — и не только в художественной, но и в мемуарной:
► …Как-то под вечер, после жаркого дня вернувшись из Москвы, пошел я с семьей на реку…
Подходим — Александр Трифонович стоит один на берегу, собирается лезть в воду. Полезли вместе и поплыли по течению к острову… Тишина опускалась предвечерняя, хорошо были слышны голоса из деревни, лай собак…
— А может ли это быть, — прямо-таки с нежностью спросил Александр Трифонович, — что от вас водочкой пахнет?
— Может быть, Александр Трифонович. И даже так и есть. А еще есть дома неначатая бутылка коньяка.
И мы пошли после речки ужинать к нам домой…
Мы долго сидели в тот вечер на кухне, хорошо было…
(Григорий Бакланов. Жизнь, подаренная дважды)Александр Трифонович Твардовский был человек, как бы это помягче сказать, не очень демократического склада. Не то что, скажем, Виктор Платонович Некрасов, которого все друзья, приятели, знакомые и полузнакомые, даже те, кто был лет на двадцать его моложе, и за глаза и в глаза звали «Вика».
Валя Берестов рассказывал, как при первом знакомстве Твардовский спросил его:
— Как вас звать-величать?
Берестов ответил:
— Валя.
Твардовский поморщился. Спросил:
— А кой вам годик?
— Только что стукнуло двадцать восемь.
— Гм… Пора уже пипиську хуем называть.
Ну, а уж по отношению к себе Твардовский и вовсе никакого амикошонства бы не потерпел.
Помню, Гриша Поженян, в характере которого много от Тартарена, рассказывал:
— Вчера вечером ко мне стучался Твардовский: «Гриша, хочешь, я почитаю тебе свои новыё стихи?» А я ему: «Уходи, ты мне неинтересен!»
Со смехом пересказал я эту невероятную историю Борису Слуцкому. Тот тоже посмеялся. А потом сказал:
— Надо при этом еще знать, сколько Поженянов сидит в самом Твардовском.
Слово «Поженян» в данном случае было единицей измерения не «тартаренства» и не «фанфаронства», не хвастовства, не самомнения даже, а — самоуважения.
Самоуважения у Александра Трифоновича хватило бы на десяток Поженянов. Впрочем, не только в самоуважении было дело. Было тут еще и присущее ему чувство субординации, связанное не только с его самосознанием большого поэта, живого классика, но и — что греха таить! — и с самоощущением советского вельможи, кандидата в члены ЦК, депутата Верховного Совета, секретаря Союза писателей, главного редактора журнала, — коротко говоря, по негласно существующей советской табели о рангах, одного из маршалов советской литературы.
Конечно, маршалом его сделали не совсем по тем причинам, по которым этого звания удостоились Георгий Марков, Вадим Кожевников или какой-нибудь там Чаковский. В отличие от этих (а также многих других) советских маршалов он был поэтом. Не таким, конечно, большим, как полагалось считать в соответствии с официальной табелью о рангах (где-то между Некрасовым и Есениным), но — настоящим. Однако именно это обстоятельство как раз и усиливало его чувство субординации, внушало ему не вполне безгрешную уверенность, что все отпущенные ему блага и привилегии полагаются ему не в виде какой-то там государственной подачки, а по праву таланта.
Был, например, такой — отчасти даже комический — случай.
Молодой Войнович напечатал в «Новом мире» первую свою повесть. И на полученный гонорар купил машину, самую дешевую из всех, какие тогда были — маленький горбатый «Запорожец».
Сейчас этот автомобиль уже мало кто помнит. А в те времена он был весьма популярен. Про него ходили даже анекдоты. Вот такой, например:
► На перекрестке зажигается зеленый свет, но стоящий первым «Запорожец» не двигается с места. Все ему сигналят, фарами мигают, руками машут, гудят, а он стоит себе и стоит как вкопанный. Наконец из его окна высовывается водитель и виновато объясняет;
— Извините, мужики! Ну ничего с ним сделать не могу; на жвачку наехал!
Или вот такой:
► Едет гаишник по трассе, вдруг видит картину: на обочине стоит мужик под раскидистым дубом, а на верхушке дерева — «Запорожец».
Потрясенный гаишник тормозит, выскакивает:
— Что такое? В чем дело?
— Да вот, — отмахивается от него владелец «Запорожца». — Предупреждали меня, что машина — говно. Но что она еще и собак боится!..
О том, почему «Запорожец» боится собак, сообщал другой анекдот.
► Хозяин собаки жалуется ветеринару:
— Мой пес как увидит, что приближается «Запорожец», прямо звереет, гонится за ним и лает как сумасшедший. Это у него просто мания какая-то.
— Ну, это не страшно, — отвечает врач. — Все собаки бегают за машинами и облаивают их.
— Да, но мой хватает их, уносит в огород и закапывает.
Вот такой анекдотический автомобиль и купил себе тогда Володя Войнович.
Когда слух об этом его приобретении дошел до Твардовского, тот был искренне возмущен. Будто бы даже выразился в том духе, что вот мне говорили, что парень бедствует, надо бы заплатить ему побольше, по высшей ставке, а он себе автомобили покупает.
Но однажды заглянул Александр Трифонович к своему соседу по даче — Владимиру Федоровичу Тендрякову. И увидал там тот самый жалкий «Запорожец», который Войнович почему-то там, у Тендрякова, на время оставил.
— Что это? — спросил классик, оглядывая этот убогий экипаж.
— Это машина Войновича, — ответил Тендряков и объяснил, как и почему она тут очутилась.
— A-а, так вот какая у него машина, — молвил Твардовский. — Ну, ладно, — махнул он рукой, словно бы разрешая: пусть, мол, ездит.
Такая машина, купленная Войновичем на его первый гонорар, не нарушала его представлений о социальной гармонии. Вот если бы Войнович купил себе «Волгу» — это было бы воспринято им как почти личное оскорбление: что же это, он, маршал, будет ездить в «Волге» — и Войнович, который даже не майор, в лучшем случае лейтенант, тоже будет разъезжать в таком же точно лимузине?
Увы, я ничего не выдумываю. Именно таковы были представления этого большого человека о справедливом социальном мироустройстве. Именно таково было въевшееся в его плоть и кровь сознание своего места в официальной государственной табели о рангах.
Но за «водочкой» это самоощущение его покидало. Тут уж ему было все равно, кто полковник, кто майор, а кто лейтенант или даже прапорщик:
► Я предложил выпить за Александра Исаевича Солженицына и пожелать ему бодрости и здоровья. И пошел чокаться… Когда я подходил к нему, Твардовский сказал мне, что он тоже хотел поднять тост за Солженицына, но как-то не представился случай… Я почувствовал, что А.Т. испытывает смешанные чувства. Он рад, что вспомнили Солженицына, но ревниво относится к тому, что это сделал не он сам, проложивший ему дорогу в литературу, а другой. Я ощутил это, когда мы втроем, Дорош, Коля Воронов и я, тихо разговаривали. Дементьев и Лакшин затянули песню, которая особенно любима Твардовским — «Далеко, далеко степь за Волгу ушла». И вдруг А.Т. повернулся ко мне и сердитым голосом сказал: «Не мешай петь». Мне выпитое ударило в голову, и уж не знаю, как это у меня вышло, но я повернулся к нему и погрозил ему пальцем. Он улыбнулся и развел руками, давая понять, что к шутке надо относиться как к шутке.
(Лев Левицкий. Утешение цирюльника. Дневник 1963–1977. Санкт-Петербург. 2005. С. 158)* * *
Братство пьющих людей не знает никаких границ, никаких социальных перегородок.
У Дмитрия Дмитриевича Шостаковича однажды что-то случилось с руками. Ни ленинградские, ни московские врачи не могли вылечить. И кто-то посоветовал ему поехать в Сибирь, в город Курган, к знаменитому хирургу Гавриилу Абрамовичу Илизарову. У того была там тогда какая-то маленькая больничка.
Кормили в этой больничке бог знает какой дрянью. Но изредка больным разрешалось выходить за пределы больничной территории, чтобы купить какую-никакую еду в близлежащем ларьке.
И вот решил Дмитрий Дмитриевич наведаться в этот ларек.
Одет он был соответственно: в шлепанцах на босу ногу и застиранном больничном халате.
У входа его сразу подхватили два каких-то оборванца. Сказали: «Будешь третьим». Он безропотно вручил им червонец. Они быстро купили поллитровку, честно отдали ему сдачу, разлили водку по стаканам. И, как приличные люди, прежде чем выпить, пожелали с ним познакомиться. Один из них сказал, что он рабочий. Другой назвался инженером.
— А ты кто? — полюбопытствовал у нового знакомца «инженер».
Шостакович сказал:
— Я — композитор.
«Инженер» переглянулся с работягой и сказал:
— Ну ладно. Не хочешь, не говори.
Тут, конечно, сыграла роль затрапезная одежда, в которую был облачен композитор: шлепанцы, застиранный больничный халатик. Окажись Дмитрий Дмитриевич около того ларька при полном своем параде, выпивохи, может быть, и не отважились бы к нему обратиться.
Хотя…
Была у Галича такая песня (одна из самых его лучших) — «Вальс его величества, или Размышление о том, как пить на троих»:
Не квасом земля полита. В каких ни пытай краях: Пол-литра — всегда пол-литра, И стоят везде Трояк! Поменьше иль чуть побольше — Копейки, какой рожон?! А вот разделить по-божьи — Тут очень расчет нужон! Один — размечает тонко. Другой — на глазок берет. И ежели кто без толка, Всегда норовит — Вперед! Оплаченный процент отпит И — Вася, гуляй, беда! Но тот, кто имеет опыт, Тот крайним стоит всегда. Он — зная свою отметку — Не пялит зазря лицо. И выпьет он под конфетку, А чаще — под сукнецо. Но выпьет зато со смаком, Издаст подходящий стон И даже покажет знаком, Что выпил со смаком он! И — первому — по затылку, Он двинет, шутя, пинка. А после Он сдаст бутылку И примет еще пивка. И где-нибудь, среди досок, Блаженный, приляжет он. Поскольку — Культурный досуг Включает здоровый сон…По этому скрупулезно точному описанию видно, что обо всем вышеизложенном автор знает не понаслышке. Да что говорить! Я даже знаю тот шалман, около которого Саша Галич не раз бывал «третьим» в компании каких-нибудь забулдыг-бомжей. А одевался он и выглядел — при его гренадерском росте и импозантной внешности — так, что никакому Шостаковичу не снилось. Не зря его в каком-то там профсоюзном санатории, где ему случилось лечиться, постоянно сопровождал почтительный шепоток:
► Говорили про меня: «Академик!»
Говорили: «Генерал-иностранец!»
Но забулдыгам, искавшим «третьего» у того шалмана, было совершенно все равно, кто он, — композитор, академик, генерал-иностранец… Да хоть бы даже инопланетянин!
Слово «инопланетянин» тут не с потолка взято. Просто вспомнился такой анекдот.
► Сидят двое работяг, выпивают. Рядом с ними опускается летающая тарелка. Из нее выходит какое-то человекообразное существо. Представляется:
— Здравствуйте, земляне, я гуманоид.
Выпивохи кивают. Один говорит другому:
— Ну… налей Гуманоиду…
Выпили.
После первого стаканчика, стремясь развить так удачно начавшийся контакт, прибывший напоминает:
— Я — гуманоид.
Кивают, наливают, пьют.
И так — несколько раз. Наконец гуманоид догадывается, что собутыльники не вполне уяснили, кто он такой. И — объясняет:
— Вы, наверно, не поняли: я — инопланетянин.
На разливающего остатки водки по стаканам это сообщение не производит никакою впечатления, и он готов уже налить и инопланетянину. Но второй отводит его руку:
— Нет-нет. Ему уже хватит.
В свойственной этому жанру анекдотической — и даже фантастической — форме анекдот этот утверждает, что, в сущности, ничего худого нет в том, что трезвость не стала и скорее всего так и не станет нормой нашей жизни. Потому что не какие-нибудь там — осуществленные или неосуществленные — лозунги о всеобщем равенстве и братстве, а только водка — только она одна! — может сделать нас всех братьями. Разрушить все разделяющие нас перегородки — социальные, национальные, — любые!
Именно это, наверное, и имел в виду Михаил Аркадьевич Светлов, произнося (в подпитии, конечно) ту знаменитую свою реплику: «Что они от нас хотят? Вот мы уже пьем, как они…»
Хотя у него для этого были еще и свои, дополнительные, личные основания. Ведь не что иное, как именно эта его слабость в конечном счете спасла ему жизнь.
* * *
Давно замечено, что там, где трезвый сто раз сломает себе шею, пьяница останется цел и невредим. Именно вот так, легкой походкой беспечного пьяницы, которому море по колено, прошел Михаил Аркадьевич через самые страшные перевалы нашего жуткого века: кровавый 37-й, смутный 49-й, смертельно опасный 53-й.
Одна моя знакомая, близко знавшая Михаила Аркадьевича, рассказала мне, что, когда первую его жену вызвали в НКВД и долго ее о нем расспрашивали, она в панике позвонила бывшему мужу и сказала, что им необходимо встретиться. Встретились. Она все ему пересказала и предложила продумать и согласовать его будущие показания с тем, что показывала на допросе она: чтобы следователи не могли их уличить в каких-нибудь несовпадениях.
— Нам надо договориться, — сказала она, — о чем я могу, а о чем ни в коем случае не должна им рассказывать, если они вызовут меня снова.
Светлов беспечно махнул рукой:
— Старуха! Говори им все, что тебе вздумается. Ведь мы все равно не в силах вообразить, что они там про нас с тобой придумают!
В январе — феврале 53-го, после появления знаменитого сообщения о врачах-убийцах, в котором поминалась еврейская шпионская организация «Джойнт», завербовавшая «убийц в белых халатах», оплачивавшая и направлявшая их преступные действия, Светлов появлялся, как обычно, в коктейль-холле на Тверской. Забравшись на высокую круглую табуретку перед стойкой бара, лез в карман, доставал оттуда какие-то жалкие смятые рубли и говорил:
— Денег — кот наплакал. «Джойнт» давно не присылает…
Это была не отчаянная, совсем уже безумная смелость. И не глупая беспечность. Это была мудрость.
Просто он понимал, что дальнейшая его судьба от его поведения — беспечного или осторожного, храброго или трусливого — ни в малейшей степени не зависит. Что это тот редкий — может быть, даже уникальный — случай, когда береженого и сам Бог не убережет.
А разгадку этой его беспечной мудрости — или мудрой беспечности — я узнал совсем недавно.
Троцкий как-то сказал, что молодежь — барометр революции. Эта реплика сильно возбудила молодых (комсомольских, как их тогда называли) поэтов, и все они — до поры до времени, конечно, — кокетничали своей близостью к одному из главных вождей Октябрьского переворота. Потом они эту близость подчеркивать перестали. Но ТАМ, ГДЕ НАДО, обо всем этом, конечно, знали и помнили. И я всегда удивлялся, каким чудом в чудовищной мясорубке 30-х годов, когда, как уже было сказано, клеймо КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) было стократ страшнее, чем просто КРД (контрреволюционная деятельность), они все — Светлов, Жаров, Безыменский, Уткин — уцелели.
Насчет остальных не знаю (у каждого, наверно, был какой-то свой секрет), а про Светлова я прочел недавно (в записках Наталии Соколовой) такую историю.
Следователь, который допрашивал Михаила Аркадьевича, явно к нему благоволил (может быть, ему нравились его стихи) и постарался как-то его спасти. Прекрасно понимая, что первыми этими допросами дело не обойдется, он напоследок дал ему такой совет:
— Знаете что? Пейте побольше. Появляйтесь всюду в нетрезвом виде. Постепенно все привыкнут, что вы пьяница, никто не будет вас принимать всерьез. И, глядишь, все обойдется.
Этот следователь, как сообщает Наталья Соколова, впоследствии сам сгинул в бездонной яме ГУЛАГа. А Светлов, внявший его доброму совету, уцелел.
У
Уважаемые граждане
Это повсеместно употреблявшееся обращение, заменившее в новоязе дореволюционное «милостивые государи и милостивые государыни», Михаил Зощенко сделал названием едва ли не самой знаменитой своей книги. Вряд ли надо объяснять, что в приложении к постоянным и неизменным героям зощенковских рассказов оно звучало откровенной иронией.
Ирония, как уже было сказано в предыдущей главке, заключалась в самом слове «граждане», обращенном к персонажам, к которым оно было так же мало приложимо, как только что отмененное революцией обращение «Господа!».
Вот беда, так уж беда: Все полезли в господа. И вдобавок — ни один Сам себе не господин.Это ироническое четверостишие, сочиненное его превосходительством тайным советником Иоганном Вольфгангом Гете чуть ли не двести лет тому назад, в переложении на русский язык и в приложении к нашей российской ситуации наполнилось смыслом, о котором господин тайный советник, быть может, даже и не подозревал. Произошло это, наверно, и не без участия переводчика (Бориса Заходера), который — может быть, непроизвольно, а может быть, и вполне сознательно — внес в свой перевод этого немецкого четверостишия наш особый, российский опыт.
Вот этот особый, может быть, даже уникальный российский опыт и запечатлел в своих книгах писатель Михаил Зощенко. И ярче всего вся его особость выразилась, пожалуй, в том самом ироническом заглавии одной из самых знаменитых его книг — «Уважаемые граждане».
Зощенко любил повторять, что главную свою цель видит в том, чтобы передать, выразить, изобразить некий человеческий тип. Тип, как он выразился однажды, «который почти не фигурировал раньше в русской литературе».
► Меня всегда волновало одно обстоятельство, — писал он Горькому. — Я всегда, садясь за письменный стол, ощущал какую-то вину. Какую-то, если можно так сказать, литературную вину. Я вспоминаю прежнюю литературу. Наши поэты писали стишки о цветках и птичках, а наряду с этим ходили дикие, неграмотные и даже страшные люди. И тут что-то такое страшно запущено.
Нельзя сказать, чтобы русская литература — до Зощенко — так-таки уж совсем не заметила этих «диких и страшных людей». Ведь этот зощенковский герой, который, по словам писателя, почти не фигурировал в русской литературе, и раньше, до него, вроде бы вовсе не был обделен ее вниманием.
Но там он выступал перед нами как фигура страдательная.
Зощенко показал — и в этом и состояло его главное художественное открытие, — что тот самый человек, которого мы привыкли видеть только униженным и оскорбленным, легко может стать унижающим и оскорбляющим. В один миг из фигуры страдательной он может превратиться в фигуру, легко и даже не без удовольствия заставляющую страдать других людей, точно таких же, каким только что был он сам. Покрикивать на них, помыкать ими, измываться, глумиться над ними, ежесекундно попирать их человеческое достоинство.
Для того чтобы это мгновенное превращение произошло, нужен совершеннейший пустяк.
► Фома Крюков три года не получал от сына писем, и тут, извольте — получайте, Фома Петрович, из города Москвы, от родного сына пять целковых…
Фома Крюков попарился в бане, надел чистую рубаху, выпил полбутылки самогона и поехал на почту…
— Деньги, — сказал Фома, — деньги мне от сына дополучить.
Кассир порылся в бумагах и положил на прилавок полчервонца…
Фома взял деньги, посмотрел на них с удивлением и вдруг стукнул ладонью по прилавку.
— Эй, дядя! — закричал Фома. — Какие деньги суешь-то, гляди?!
— Какие деньги? — сказал кассир. — Новые деньги…
— Ну? — с удивлением сказал Фома. — Это кто там такое есть? Изображен-то?.. Не мужик ли? Мужик. Ей-богу, мужик. Ну? Не врут, значит, люди. Мужик изображен на деньгах-то. Неужели же не врут? Неужели же мужик в такой силе после революции?
Фома снова подошел к прилавку.
— Дядя, — сказал Фома, — изображен-то кто? Извини за слова…
— Уходи, уходи! — сказал кассир. — Получил деньги и уходи к лешему… Где изображен-то?
— Да на деньгах!
Кассир посмотрел на мужика и сказал усмехаясь:
— Мужик изображен. Ты, ваше величество, заместо царя изображен. Понял?..
(М. Зощенко. Фома неверный)Нет, словам Фома бы не поверил. Не такой он человек, чтобы верить словам. Но деньги — это ведь уже не слова: на них, скажем, самогон купить можно… И вот на деньгах, там, где раньше печатался царский портрет, изображен он, Фома Крюков. Или такой же мужик, как он. Стало быть, люди не врут…
Так Фома неверный поверил, что его не обманывали, что власть и впрямь переменилась. Что власть действительно новая. И не просто новая, а ЕГО, Фомы Крюкова, власть! Ведь если вместо портрета царя на деньгах печатают его, Фомы Крюкова, портрет, это значит, что он, Фома, теперь вместо царя!
► «Скажи, пожалуйста, — думал Фома, — портрет выводят… Неужели же мужику царский почет?»
Фома погнал лошадь, но у леса вдруг повернул назад и поехал в город.
Остановился Фома у вокзала, привязал лошадь к забору и вошел в помещение.
Было почти пусто. У дверей, положив под голову мешок, спал какой-то человек в мягкой шляпе.
Фома купил на две копейки семечек и присел на окно, но, посидев минуту, подошел к спящему и вдруг крикнул:
— Эй, шляпа. Слазь со скамьи! Мне сесть надо..
Человек в шляпе раскрыл глаза, оторопело посмотрел на Фому и сел. И, зевая и сплевывая, стал свертывать папироску. Фома присел рядом, отодвинул мешок и стал со вкусом жевать семечки, сплевывая шелуху на пол.
«Не врут, — думал Фома. — Почет все-таки заметный. Слушают. Раньше, может, в рожу бы влепили, а тут слушают, пугаются. Ишь ты, как все случилось, незаметно приключилось… Скажи на милость… Не врут».
Фома от души наслаждается своим новым положением. Но более всего он потрясен тем, что его простой резон («Эй, шляпа, слазь со скамьи! Мне сесть надо!..») возымел действие. Вот тут он уже окончательно уверился: не врали те, что обещали ему: «Кто был никем, тот станет всем!»
То, что он раньше был «никем», а теперь стал «всем», Фома понимает однозначно. Это значит, что теперь ему можно орать на человека в шляпе и на законном основании требовать, чтобы тот встал и уступил ему место. Теперь ему вообще все можно! Потому что он — имеет право.
► Фома встал со скамьи и с удовольствием прошелся по залу.
Потом подошел к кассе и заглянул в окошечко.
— Куда? — спросил кассир.
— Чего куда?
— Куда билет-то, дура-голова?
— А никуда, — равнодушно сказал Фома, разглядывая помещение кассы. — Могу я посмотреть внутре кассу ай нет?
— А никуда, — сказал кассир, — так нечего и рыло зря пялить.
— Рыло? — обиженно сказал Фома. — Кому говоришь-то?
— Ишь, пьяная морда! — сердито сказал кассир. — Тоже в окно глядит… Черт серый… Насосался…
Фома нагнулся к окошечку и вдруг плюнул в кассира.
Фому тоже надо понять. Раньше он и не подумал бы обидеться ни на «рыло», ни на «пьяную морду». Раньше (не только при царе, но и при новой власти) это все было в порядке вещей. Эти «уважаемые граждане» всегда только так и объяснялись друг с другом. И обиделся Фома на кассира не как «уважаемый гражданин», которому не оказали должного уважения, а как человек, сознающий, что он теперь — власть, и именно поэтому, а не по какой-либо другой причине никто не смеет с ним так разговаривать.
Таким образом, то, что Фома плюнул в кассира, не было просто грубой и неспровоцированной хулиганской выходкой. Фома был справедливо уязвлен тем, что кассир нахально не желает считаться с его правами нового Хозяина Земли Русской.
Денежная купюра, на которой был вместо царского напечатан его, Фомы Крюкова, портрет, представлялась Фоме чем-то вроде мандата, дающего ему право разговаривать с кассиром так, как он с ним разговаривал. И реакция его была — естественной реакцией на то, что кассир за ним это его бесспорное право не признал.
Когда Фому схватили, он и вел себя соответственно. Доказывал, что имеет право. И в доказательство совал в нос схватившим его стражам правопорядка свой мандат.
► …Фома пытался что-то объяснить, размахивал руками, вынимал из шапки деньги и предлагал агенту взглянуть на них.
Но агент, ежесекундно макая перо в пузырек, писал протокол об оскорблении действием кассира при исполнении служебных обязанностей…
Фома поставил под протоколом крестик…
Отвязал лошадь, сел в телегу, достал из шапки деньги и посмотрел на них. Потом махнул рукой и сказал:
— Врут, черти…
И погнал лошадь к дому.
Только одно твердо усвоил Фома Крюков в результате всей этой так драматически закончившейся истории: мандат оказался фальшивый.
Ну, а что было бы, окажись этот мандат настоящим?
Такую ситуацию я довольно легко могу себе представить.
Вообще-то мне даже и представлять себе ее не надо, поскольку однажды я собственными своими глазами видел этого самого Фому Крюкова, оказавшегося обладателем настоящего мандата.
Звали его — Никита Сергеевич Хрущев.
А было это в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где проходил Третий Всесоюзный съезд советских писателей.
Никита Сергеевич взошел на трибуну и, переждав причитающуюся ему дозу не слишком горячих аплодисментов, развернул текст специально написанной для него речи. Я сидел близко и очень ясно видел не только ослепительно белые крахмальные манжеты, вылезающие из рукавов его пиджака, но и руки его, каждое движение этих рук, и быстро меняющееся (об этом речь впереди) выражение его лица, неспособного утаить ни одного, даже самого мимолетного душевного движения.
Прочитав несколько строк — не более половины страницы — лежащего перед ним казенного текста, он вдруг отложил его в сторону, улыбнулся какой-то милой, застенчивой, обезоруживающей улыбкой и сказал:
— Вот что хотите со мной делайте, не могу я по бумажке читать… Без бумажки, конечно, труднее. Еще чего-нибудь не так скажешь… Особенно перед такой аудиторией, как ваша. Но не лежит у меня душа к этим бумажкам…
Это было сказано так непосредственно, так по-человечески хорошо, что зал сразу взорвался аплодисментами — на этот раз уже не прохладно-казенными, а искренними, идущими от души.
Почувствовав это, Хрущев сразу охамел. Только что он явно испытывал некоторую робость перед сидящими в зале инженерами человеческих душ. Но охамев, сразу же взял руководящий, учительский тон. Стал объяснять писателям, как и о чем им следует писать, а о чем писать не следует.
Писательская аудитория сразу поскучнела. Он, видно, это почувствовал и вдруг, снова улыбнувшись своей милой, застенчивой улыбкой, сказал:
— Ведь книги бывают разные. Над иной сидишь, зеваешь, глаза сами так и смыкаются. Булавкой надо себя колоть, чтобы не заснуть. А вот роман Дудинцева «Не хлебом единым…» — честно скажу, читал без всяких булавок. Оторваться не мог!
Зал оживился. Вновь вспыхнули незапланированные аплодисменты.
И он сразу опомнился. Выражение его лица мгновенно изменилось: стало настороженным, подозрительным.
— Но, товарищи! — поднял он вверх указательный палец. — Ведь тем она еще вреднее — такая книга! Ведь если ее заглатываешь единым духом, не отрываясь, так сказать, некритически, — вреда от нее еще больше. Потому что книга-то написана не с наших позиций. Не зря же мы ее критиковали.
Зал снова приуныл. И он снова это почувствовал.
Вновь появилась на его лице та же милая, добродушная улыбка.
— Я ведь это не к тому, — успокоил он зал, — чтобы все время напоминать товарищам, которых мы критиковали, об их ошибках. Жучить их, травить, постоянно попрекать этими ошибками, тыкать им в нос эти их ошибки. Не надо этого!
Обрадованный зал вновь взорвался радостными аплодисментами. И лицо оратора в очередной раз мгновенно преобразилось. Стало не просто подозрительным, а прямо злобным. И в этой откровенной злобности — даже уродливым.
— Но и забывать не стоит! — выкрикнул он в аплодирующий зал.
Аплодисменты сразу смолкли — как отрезало.
Вынув из кармана ослепительно белый носовой платок, Никита потряс им перед ошеломленной аудиторией и, как иллюзионист, показывающий очередной фокус, завязал угол платка узлом.
— Вот! — показал он его приунывшим писателям. — Видите? Узелок завязал… На память… Чтобы не забыть… И не надейтесь, что забуду.
Писатели, сидящие в зале, уже ни на что не надеялись. А оратора уже несло совсем в другую сторону. Он вдруг припомнил и стал декламировать стихи, сочиненные в пору его шахтерской молодости каким-то его дружком-шахтером по имени Пантелей Махиня. Из тех стихов запомнились мне лишь отдельные строчки:
Люблю вечернею порою Огни эмоций зажигать… ……………………… Гореть, гореть и не сгорать…Эти стихи Никита Сергеевич прочел с большим чувством. И с той же милой своей застенчивой улыбкой — вздохнул:
— Талантливый был человек…
И пожалел, что талантливому рабочему-самородку не удалось развить и реализовать свой поэтический дар.
Улыбка его в этот момент стала какой-то конфузливой, чуть ли не заискивающей, так что я даже подумал: уж не сам ли Никита Сергеевич в пору своей шахтерской молодости баловался стишками и не он ли и есть этот самый талантливый самородок Пантелей Махиня?
Все это было по-своему даже трогательно. Но общий смысл всех этих его метаний был уже ясен: писатели должны учиться писать вот у этого самого Пантелея Махини. И у Николая Островского, которого Никита Сергеевич, не вспомнив его настоящей фамилии, назвал Павлом Корчагиным… И любой шаг в сторону от этих вешек, намеченных первым секретарем ЦК, будет рассматриваться…
Но об этом я лучше скажу словами Александра Галича:
Мутный за тайгу Ползет закат, Строем на снегу Пятьсот зэка, Ветер мокрый хлестал мочалкою, То накатывал, то откатывал, И стоял вертухай с овчаркою И такую им речь откалывал: «Ворон, растудыть, не выклюет Глаз, растудыть, ворону, Но ежели кто закосит, — То мордой в снег. И прошу, растудыть, запомнить, Что каждый шаг в сторону Будет, растудыть, рассматриваться Как, растудыть, побег!..» …………………………. Не косят, не корчатся В снегах зэка, Разговор про творчество Идет в ЦК, Репортеры сверкали линзами, Кремом бритвенным пахла харя, Говорил вертухай прилизанный, Непохожий на вертухая: «Ворон, извиняюсь, не выклюет Глаз, извиняюсь, ворону, Но все ли сердцем усвоили Чему учит нас Имярек?! И прошу, извиняюсь, запомнить, Что каждый шаг в сторону Будет, извиняюсь, рассматриваться Как, извиняюсь, побег!»Эту свою песню Галич написал не в 59-м году, а несколькими годами позже, после знаменитых встреч руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией.
То ли по недостаточному знанию реальной обстановки тех встреч, то ли ради художественного эффекта (контраста), чиновника, излагающего на присущем ему языке то, «чему учит нас Имярек», автор изобразил «непохожим на вертухая». Непохожим не только внешне («кремом бритвенным пахла харя»), но и утонченной, изысканной, безупречно вежливой формой обращения.
На одной из тех встреч мне побывать пришлось. «Имярека» в тот раз, правда, не было, но высокопоставленных вертухаев я там повидал предостаточно и могу засвидетельствовать, что особой вежливостью они тоже не отличались. Ну, а уж как держался на тех встречах сам «Имярек» — легко могу себе представить. Тем более что информацию об этих встречах я получил тогда не из газет (хотя и газетная информация тоже была достаточно красноречива), а, что называется, из первых рук — от Василия Аксенова и Андрея Вознесенского, которым там досталось особенно круто.
Поэт, как сказала Марина Цветаева, издалека заводит речь. В точном соответствии с этой формулой, Андрюша Вознесенский, когда его позвали на трибуну, начал свое выступление так:
— Я, как и мой великий учитель Владимир Маяковский, не член партии…
Дальше он, естественно, собирался сказать, что, как и его великий учитель, он всей душой, всем сердцем… Ну, и так далее…
Замысел был хорош. Одна только была у него ахиллесова пята: он не учитывал тех свойств личности Никиты Сергеевича, которые были продемонстрированы мною выше. Не дав Андрею развернуть замысленный им элегантный ораторский прием, Никита прервал его:
— Ах, не член? Не член партии? Да?.. И ты этим гордишься, да?.. Ну, так вот, на тебе паспорт — и езжай к своим заокеанским хозяевам!..
С Аксеновым вышло примерно так же. Оказавшись на трибуне, он начал с того, что его отец, старый коммунист, был несправедливо репрессирован, отсидел семнадцать лет в сталинских лагерях… Дальше он, естественно, собирался выразить свою благодарность партии и лично Никите Сергеевичу за то, что они разоблачили культ личности Сталина, восстановили ленинские нормы партийной и государственной жизни и вернули ему отца. Но Никита Сергеевич и тут не стал дожидаться окончания этой сложной риторической фигуры. Прервав бедного Васю на полуфразе, он заорал:
— A-а! Так ты, значит, мстишь нам? Мстишь за отца?! Да?! Мстишь?!!
Вася так ошалел от этого неожиданного обвинения, что, стоя перед микрофоном, только и мог тупо повторять:
— Кто мстит-то?.. Кто мстит-то?..
Это мне рассказывал Андрей, который во время Васиного выступления еще сохранял чувство юмора. Что касается самого Васи, то он всего этого не помнил, а только, закрывая в ужасе глаза, вспоминал, каково ему было стоять на трибуне, когда не только сам «Имярек», но и весь президиум в полном составе, все ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ ГОСУДАРСТВА, налившись багровым румянцем, стали улюлюкать и материть его, продолжая травлю, начатую паханом.
* * *
Поразившее меня сходство тогдашнего главы нашего государства с зощенковским Фомой Крюковым бросилось мне в глаза еще раз, уже в иные, более поздние времена, когда я читал мемуары Никиты Сергеевича, изданные на Западе (а теперь уже и у нас, хотя у нас в несколько прилизанном, сглаженном, отредактированном виде).
Голос рассказчика в этих мемуарах (я говорю «рассказчика», а не «автора», потому что мемуары эти, как известно, были не написаны, а наговорены на магнитофон) просто неотличим от голоса постоянного зощенковского героя:
► …Бежал Сметана, президент литовский. Ульманис, латышский глава государства. Или премьер был, или он президент. Я не знаю.
…Кулик был артиллерист и как офицер старой царской армии умел стрелять из пушек…
Я уже говорил, как Сталин воспринимал этот договор. Он буквально ходил гоголем. Он ходил, задравши нос, и буквально говорил: «Надул Гитлера, надул Гитлера…»
…Сталин однажды рассердился и поставил вопрос прямо:
— Вы бросьте это. Я это вижу, и я возмущен. И я не потерплю этого…
Булганин когда-то танцевал, видимо, в молодости. Он русское что-то вытаптывал в такт. Сталин тоже танцевал. Он что-то такое ногами передвигал и руки выставлял…
Дети… Вася, значит, был. Вася хороший мальчик был. Умный мальчик. Но своенравный…
Светланка — это другая. Она была меньше. Маленькая была. Бегала, значит…
Когда мне сказали, что Светланка уехала, значит, в эту самую Индию и не захотела вернуться в Советский Союз, я не поверил…
Мне и сейчас ее жалко. Как это у Некрасова говорится: ей и теперь его жалко (о лесе она говорит), жалко до слез, сколько там было кудрявых берез…
Когда я возглавлял правительство, молодой пианист, который получил премию на Конкурсе имени Чайковского, был женат… Не был, а он и сейчас женат. Англичанка, значит. И у них ребенок был.
После окончания, после конкурса, они выехали в Англию. Там родители этой англичанки, англичане живут. Мне говорили, что она родом или, значит, родилась в Исландии. Но вот, все-таки она англичанка. Английская подданная. Паспорт у нее английский…
(Никита Хрущев. Воспоминания. Chalidze Publications. New York. 1982)Сомнений нет, это он, совершенно особый, ни на кого не похожий, только ему одному присущий, неповторимый зощенковский язык — неподражаемая речь зощенковских «уважаемых граждан».
Оказывается, этот свой язык Зощенко не изобрел, не выдумал, не сконструировал («для смеха», как не раз его в этом упрекали) — он его слышал.
Язык этот был основным средством лепки того художественного типа, который «раньше почти не фигурировал в русской литературе» и который, как я уже сказал, был главным художественным открытием писателя Михаила Зощенко.
Основным. Но — не единственным.
* * *
В середине 60-х мы втроем (Л. Лазарев, С. Рассадин и я) сочинили пьесу, предназначавшуюся для Московского театра сатиры. Главный режиссер этого театра Валентин Николаевич Плучек очень хотел поставить Зощенко. Ничего удивительного в этом его желании не было: Зощенко — признанный классик советской сатиры, и, как говорится, сам бог велел ставить его на сцене театра, именуемого Театром сатиры.
Проще всего, конечно, было бы взять для постановки какую-нибудь пьесу Зощенко. Но пьесы этого писателя не шли ни в какое сравнение с его прозой. И Плучек решился на смелый эксперимент: обратился с этой своей идеей не к профессиональному драматургу, а к трем литературным критикам, о которых ему только и было известно, что они — горячие поклонники таланта Михаила Зощенко и более или менее прилично знают все им написанное.
Мы вдохновились этим предложением театра, и пьеса была сочинена. Назвали мы ее, конечно, «Уважаемые граждане».
В финальной сцене, помню, мы использовали рассказ про старичка, который заснул летаргическим сном, а все думали, что он умер. Возникла большая суматоха, старичка никак не могли похоронить, потому что то не могли найти катафалк, то не было лошадей. Когда же наконец и катафалк и лошади нашлись, старичок «воскрес». Но в его «воскресение» никто не поверил, и приехавшие похоронщики, а также соседи по коммуналке, где все это происходило, потребовали, чтобы старичок подал голос. Не отличаясь, как пишет Зощенко, большой фантазией, старичок сказал:
— Хо-хо!
Когда мы прочли нашу пьесу на труппе и артистам предложено было высказаться, наступило долгое молчание. Мы похолодели, решив, что это — провал. Но длинная томительная пауза была наконец прервана репликой молоденькой хорошенькой актрисы, сидевшей в первом ряду. Она сказала:
— Хо-хо!
Напряжение было снято. Все рассмеялись, и пьесу в один голос стали хвалить.
Реплика актрисы оказалась, однако, пророческой.
Пьеса была одобрена, принята к постановке, вот-вот уже должны были начаться репетиции. Но тут вдруг разразилась непредвиденная катастрофа.
Как раз в это время молодой Марк Захаров поставил на сцене Театра сатиры спектакль «Доходное место». Спектакль этот оказался до такой степени злободневным, все происходившее на сцене так крепко и точно «рифмовалось» с нашей тогдашней жизнью, что старая пьеса А.Н. Островского наделала шуму куда больше, чем столетие назад, когда она впервые была представлена на сцене Александрийского театра. Пьеса игралась чуть ли не в современных костюмах. Во всяком случае, в костюмах, не слишком отличающихся от современных. И Аристарх Владимирович Вышневский в исполнении Георгия Павловича Менглета куда больше походил на какого-нибудь номенклатурного работника ЦК КПСС, нежели на русского чиновника середины прошлого века.
Скандал разразился грандиозный. Екатерина Фурцева, бывшая тогда министром культуры, просто билась в истерике. Кажется, именно тогда и стало мелькать это знаменитое слово, надолго определившее мрачную атмосферу нашей художественной жизни: «аллюзии». Было даже, если не ошибаюсь, специальное постановление, предусматривавшее, как именно следует интерпретировать творения классиков, дабы не возникало у зрителя вот этих самых «аллюзий».
О том, чтобы после такого скандала ставить на сцене того же театра нашу пьесу, само собой, не могло уже быть и речи: она вся, от начала и до конца, была — сплошная аллюзия.
Речь (в лучшем случае) могла идти только о том, чтобы заплатить ни в чем не повинным авторам причитающийся им скромный гонорар.
Но и это тоже оказалось совсем не просто.
— Понимаете, — сказал нам Плучек, — договор у вас с театром. Но деньги платит министерство. Мы вам заплатить не можем. Поэтому вы подайте на нас, то есть на театр, в суд. Театр этот судебный процесс, разумеется, проиграет, и тогда вы получите свои деньги.
Судиться с театром нам, понятное дело, не хотелось. Но Плучек убедил нас, что все это — чистейшей воды формальность. И мы согласились.
Оказалось, однако, что суд вовсе не склонен был превращаться в простую формальность. Адвокат, представлявший интересы театра, отнесся к своей миссии весьма ревностно. Он тщательно изучил не только злополучное постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой и не только знаменитый доклад Жданова, но и всю критическую литературу тех незабвенных лет, когда Зощенко именовали подонком, злопыхателем, очернителем, клеветником и другими словечками того же смыслового и стилистического ряда.
Но эти словечки мелькали только на первом этапе — когда дело слушалось в народном суде. Убедившись, что весь этот джентльменский набор в новой исторической ситуации уже не очень действует, и, потерпев в связи с этим сокрушительное поражение, к следующему акту драмы — слушанию дела в городском суде — адвокат решил изменить тактику. Теперь он уже говорил о Зощенко как о замечательном советском писателе, не скупился на комплименты не только в его, но даже и в наш адрес. Да, говорил он, Зощенко — классик советской литературы, выдающийся наш сатирик. И авторы пьесы добросовестно и даже талантливо инсценировали его рассказы. Но их постигла творческая неудача, потому что сегодняшняя наша жизнь не имеет решительно ничего общего с той, которую изображал в своих произведениях этот писатель.
— Ведь мы теперь живем совсем иначе! — то и дело повторял он. Это был как бы постоянный рефрен, пронизывающий всю сложную систему его аргументов.
Что рисовал Зощенко в своих сатирических рассказах? Какие картины он изображал? Он изображал узкий мещанский мирок, темных, невежественных и диких людей. Он был правдивым бытописателем эпохи нэпа. Но сегодня, сейчас мы живем совсем в другой действительности. И жизнь наша ничуть не похожа на ту, которую описывал Зощенко.
— Разве духовный мир современного советского человека так жалок и убог? — патетически восклицал он. — И разве наши люди говорят сегодня таким корявым, уродливым, безграмотным языком?
— Зощенко был замечательным писателем, — сказал он в заключение. — Но произведения его не выдержали испытания временем. Сегодня они имеют для нас лишь историческую ценность, как отражение быта и нравов давно минувшей эпохи. Что же касается сегодняшнего, духовно и интеллектуально выросшего советского зрителя, то для него Зощенко безнадежно устарел.
Речь адвоката несколько затянулась, и судья, извинившись перед нами, объявил, что слушание нашего дела будет продолжено несколько позже, а пока он просит нас подождать: суду предстоит заслушать другое дело, не такое сложное, как наше. Мы же, если хотим, можем не покидать зал судебного заседания.
Посовещавшись, мы сперва хотели было выйти погулять, но как-то замешкались — и остались в зале. Жалеть об этом, однако, нам не пришлось.
Суть разбираемого нового дела была такова.
Истец и ответчик жили в одном доме. Кажется, даже в одном подъезде. Но истец в отличие от ответчика был обладателем «Москвича», который за неимением гаража оставлял прямо у подъезда, как раз под окнами ответчика. Ответчика это возмущало. Как выяснилось по ходу дела, возмущало его даже не столько то обстоятельство, что автомобиль соседа ему мешал, как то, что он занял место, где ответчик мог бы ставить свой собственный автомобиль — в том случае, если бы он у него был.
— Но ведь у вас, насколько я понимаю, автомобиля нет? — спрашивал его судья.
— Пока нет. Но я стою в очереди на «Фиат», — отвечал тот. (Вошедшие позже в наш повседневный быт слова «жигуль», «Лада», «шестерка» и т. п. тогда еще не были в ходу.)
Итак, ответчик был до глубины души возмущен тем, что истец своим стареньким «Москвичом» занял то место, которое он мысленно уже запланировал для своего будущего новенького «Фиата». Возмущение это разрешилось тем, что он облил машину истца чернилами. Между соседями произошла по этому поводу небольшая перепалка. Но истец не внял этому предостережению: его «Москвич» по-прежнему стоял под окнами ответчика, всем своим гнусным непрезентабельным видом отравляя ему жизнь.
И тогда ответчик решился на крайнюю меру. Под покровом ночной темноты он старательно обмазал машину истца фекалиями. (Именно это деликатное выражение употреблял судья. Истец пользовался другим, более употребительным и общепонятным выражением, что время от времени вынуждало судью призывать его к порядку.)
Поступок ответчика был, конечно, из ряда вон выходящим. Но тут надобно принять в расчет, что совершен он был, как выражался в таких случаях писатель Зощенко, в минуту сильного душевного волнения.
Короче говоря, перед нами разыгралась драма в совершенно зощенковском духе. С той, правда, разницей, что в речи ее действующих лиц то и дело мелькали слова и понятия, зощенковским героям незнакомые:
— Я тогда как раз сдавал кандидатский минимум, — объяснял свои сложные жизненные обстоятельства истец.
— Я стою в очереди на «Фиат», — отстаивал свои позиции ответчик.
Безусловно, это был он — бессмертный зощенковский герой. Но как, однако, он вырос! Какой приобрел лоск! Как изменились его потребности и весь образ его жизни! Какие, наконец, слова он научился произносить!
Однако при всех этих разительных переменах, не только те истец с ответчиком, но и судья, и народные заседатели, и выступающий против нас адвокат, и мы сами, таким сложным и унизительным способом добивающиеся, чтобы нам заплатили причитающийся нам убогий гонорар, и художественный руководитель Театра сатиры, народный артист РСФСР В.Н. Плучек, искренне желающий нам заплатить, но связанный по рукам и ногам идиотскими инструкциями и правилами, — все мы тоже были уважаемыми гражданами в том самом, зощенковском значении этого словосочетания.
А один из перечисленных тут мною героев этой маленькой драмы оказался участником еще и другой, уже не такой маленькой, а главное, еще ярче высвечивающей затронутую нами тему.
* * *
Началось с появления на экранах телевизоров довольно большой компании уважаемых граждан. На самом деле уважаемых, без кавычек. И не только уважаемых, но и любимых народом: Аркадий Райкин, Майя Плисецкая, Элина Быстрицкая…
Это была пресс-конференция «дрессированных евреев», как сразу же стали их всех называть.
Все они на разные голоса повторяли один и тот же затверженный урок: что израильская военщина известна всему свету, а «лица еврейской национальности», уехавшие в Израиль, — предатели родины, и уезжать туда не было им никакого резона, поскольку никакого антисемитизма в нашей прекрасной стране нет и быть не может… На некоторых участниках той пресс-конференции (на Райкине, например) не было лица: яснее ясного было видно, что эта гнусная комедия далась ему нелегко. Но кое-кто из «дрессированных» врал легко и бойко, а генерал Драгунский, председатель антисионистского комитета, похоже, даже верил во всю эту произносимую им лабуду.
Особенно, помню, удивило телезрителей участие в той пресс-конференции Элины Быстрицкой. Незадолго до того она сыграла у Герасимова Аксинью в «Тихом Доне», и то обстоятельство, что «наша Аксинья» оказалась вдруг «лицом еврейской национальности», для многих явилось полной неожиданностью.
Но появления на телеэкране удостоились лишь САМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ из уважаемых граждан. Полный же список «уважаемых» появился некоторое время спустя в газетах — в виде подписей под специальным обращением. Открывал этот список В.Э. Дымшиц — тогдашний заместитель Председателя Совета Министров, последний — реликтовый — еврей, каким-то чудом уцелевший в правительственных структурах, а сейчас вдруг пригодившийся для подтверждения той неоспоримой истины, что никакого государственного антисемитизма у нас нет.
За Дымшицем следовал довольно длинный перечень (десятка три, не меньше) фамилий более или менее известных в стране людей. И среди них — без особого удивления, но с искренним огорчением — я обнаружил фамилию Плучека, отношения с которым у нас в то время были уже не только официальные. Не шибко близкие, но все-таки — личные, так сказать, приватные.
Виделись мы не так уж часто, но тут как раз случилось так, что нам предстояло встретиться в гостях у общих наших знакомых.
Общими знакомыми этими были Лиля Юрьевна Брик и Василий Абгарович Катанян. Собираясь к ним, мы уже знали, что там будут и Плучеки. И во избежание каких-нибудь неприятных сцен я — на всякий случай — предупредил жену, чтобы она в каком-нибудь там застольном разговоре не коснулась со своей женской непосредственностью той щекотливой темы. Не стоит, мол, травить оскоромившегося Валентина Николаевича, наступать ему на любимую мозоль — ему ведь небось и так тошно.
Предупредить-то я ее предупредил. А сам…
Валентин Николаевич в том застолье был очарователен. Он был весел, шутил, смеялся, сыпал анекдотами и разными забавными комическими историями «из жизни». И почему-то так вышло, что чуть ли не в каждой из этих его историй каким-то образом фигурировали яйца. Не куриные, разумеется. И в какой-то момент я не выдержал и сказал:
— Ладно уж, Валентин Николаевич. Раз пошла у нас такая пьянка, что вы все про яйца да про яйца, надо достойно завершить эту тему. Расскажите нам, что вам там делали с яйцами, чтобы вы подписали ту бумагу.
К чести Плучека надо сказать, что он на эту мою реплику ничуть не обиделся. И в той же веселой, непринужденной манере, в какой только что рассказывал свои комические байки, рассказал, как это было.
Он, конечно, предполагал, что его вызовут «на ковер». И заранее заготовил какие-то планы на этот случай, чтобы уклониться. Но позвонили ему не оттуда, откуда он ждал звонка (из ЦК или там Совмина), а из главка, где как раз решалась судьба какой-то ставившейся им в то время пьесы.
За ним прислали машину и повезли его, как он думал, в главк. А привезли — в Совмин, к Дымшицу.
Ну, дали ему в руки этот самый текст, где уже стояло десятка два подписей. Куда деваться? Надо подписывать.
И тут он (артист все-таки) — возьми да скажи:
— Нет, я не могу это подписать.
— Как это? Почему? — вскинулся Дымшиц.
— Тут написано «Народный артист СССР…». А я народный артист РСФСР…
— А-а, — улыбнулся Дымшиц. И, потрепав его по плечу, успокоил: — Будете… Будете народным СССР… Так что не смущайтесь, подписывайте…
* * *
Так Валентин Николаевич Плучек не только сохранил, но даже повысил свой статус уважаемого гражданина.
А вот писатель Григорий Бакланов чуть было не попал в неуважаемые.
► Обедали, как обычно, на кухне. И только поставила передо мной жена тарелку, помнится, кислых щей, горячих, с плиты, — звонок телефона. Звонит Ильин, секретарь по организационным вопросам…
— Слушай, приезжай сейчас в партком.
И голос дружеский, и «ты» доверительное, в нем как бы дух партийного товарищества…
— Созывают…
Сказано уже официально, строго, как говорят магическое «есть мнение»… И, уверенный, что со мной все решено, Ильин вдруг спрашивает:
— А где Слуцкий? Не знаешь, где Слуцкого найти?
Никакой беды я не ждал, ничего не подозревал, не предчувствовал, но меня вдруг как током пронзило. Созывают… Я почувствовал: затевается что-то грязное. И уже голос Ильина по-другому услышался: это был сознательно умягченный голос ловца душ. И он уверен: свистнул, и я приеду, прибегу, буду исполнять — солдат партии.
Положил я трубку телефона и с таким сожалением посмотрел на тарелку щей, к которым уже было всей душой расположился. Да что щи! На меня всем теплом обжитого нашего дома повеяло, будто пришло время и его лишиться, вот она и сюда, в самое заветное, вторглась, черная сила.
Пересказав разговор жене, я позвонил в Ленинград на киностудию «Ленфильм», где в ту пору Иосиф Ефимович Хейфиц снимал фильм по общему нашему сценарию, попросил забронировать номер в гостинице и поехал на вокзал за билетом. Ильин вскоре позвонил вновь: где я? Выехал. Потом звонки все чаще, истеричней, с угрозами…
(Григорий Бакланов. Жизнь, подаренная дважды)Казалось бы — все! Ускользнул! Ан — нет! Вскоре — грозный звонок из ЦК. Звонит сам Мелентьев — заместитель заведующего отделом культуры.
► И было спрошено, где я нахожусь, и приказано, когда объявлюсь, сразу же звонить ему в ЦК.
Мы договорились с женой заранее: домой звонить я не буду, не ровен час, прослушивается аппарат. Ей сообщат, не называя меня, номер телефона, и, если что, она позвонит мне, но не из дома. И она ходила на переговорный пункт, высиживала очередь, звонила мне.
Вот какая хитрая конспирация!
Некоторое время он тянул, не звонил. Но — деваться некуда! Позвонил все-таки:
► А на душе пакостно… Это ведь не трубку телефонную держу в руке, а конец поводка; другой конец у него на руку намотан. Но почему вообще я должен скрываться? Война? Враг вторгся?
Это хороший вопрос. Особенно он хорош тем, что, сравнивая сегодняшнее свое состояние с тем, как он ощущал себя, когда на нашу землю вторгся враг, он приходит к выводу, что тогда, перед лицом врага, — свободнее себя чувствовал.
► — Вы когда возвращаетесь? — спросил Мелентьев, заканчивая разговор.
— Мы еще в Киев поедем, там съемки…
— Когда вернетесь, попрошу зайти ко мне.
И я зашел. Офицер госбезопасности за своей конторкой при входе сличил меня с фотографией, громко произнес фамилию; солдат в такой же фуражке, за такой же конторкой, но по другую сторону прохода, нашел в ячейке выписанный пропуск, все это вручил мне — и я прошел…
— Вы свою форму участия продумайте, — сказал он. — Свое отношение вам надо высказать…
Я сидел, слушал и услышал, что, оказывается, я в литературе — генерал, что ко мне прислушиваются, потому очень было бы важно… Нет, Юрий Серафимович, я — лейтенант. Генерал, генерал, настаивал он, чувствовалось, и в маршалы произведет меня охотно, лишь бы я что-то подписал… Вдруг вырвалось у него с досадой:
— Думаете, мне доставляет удовольствие всем этим заниматься? Мне в радость?
Вот он — момент истины.
Тому, кто держит поводок, тоже тошно. Не так, конечно, не в той степени, как тому, кого он держит на этом поводке, но — все-таки тошно. На них обоих — на палача так же, как на его жертву, — давит один и тот же пресс.
Эх, Россия-матушка! Ничего-то в ней не меняется. Когда еще было сказано: сверху донизу — все рабы.
У нас, правда, все при этом — уважаемые граждане.
Истинную цену этой словесной формуле народ-языкотворец определил тем, что слово «уважаемый» стало звучать пренебрежительно — так обращались к официанту в пивной: «Эй, уважаемый!» А в прямом своем значении оно употреблялось разве только в традиционном пьяном диалоге: «Ты меня уважаешь?» Или еще вот так: «Воблу под пиво — это я уважаю».
И слова «граждане», «гражданин», тоже сохранились только в суде («Граждане судьи!»), в зоне («Гражданин начальник!») да в отделении милиции.
Это языковое смещение иронически обыграл поэт Лазарь Шерешевский, сочинив шуточное стихотвореньице на мотив некрасовского — «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»:
Жил да был один поэт, Посещать любил буфет, А в стихах чуждался тем гражданских. И, прослыв певцом берез, Синих взоров, русых кос, Был предметом нежных взоров дамских. Но однажды тот поэт, Крепкой водкой разогрет, Об искусстве споря в исступленье, Оппоненту нос разбив, Метрдотелю нагрубив, Был доставлен прямо в отделенье. Ночь он в камере провел, А наутро, протокол Слогом изложив почти былинным, Милицейский молвил чин: «Распишитесь, гражданин!» Так он стал поэтом-гражданином.Учиться, учиться, учиться
Рассказывал Толя Аграновский.
Однажды его маленький сын Антон вернулся из школы радостно возбужденный.
— Нам сегодня сочинение задали. С эпиграфом! — с порога сообщил он.
— Как это — с эпиграфом? — спросил отец.
— Ну, вот я, например, уже придумал: «Один за всех, все за одного. Д'Артаньян». Как ты думаешь, можно написать сочинение с таким эпиграфом?
— Конечно, — подтвердил Толя. — Прекрасный эпиграф. И замечательное может выйти сочинение. Садись и пиши.
Вдохновленный поддержкой отца, Антон ушел к себе и полдня пыхтел над сочинением. Вечером Толя спросил:
— Ну как? Написал?
— Написал, — ответил Антон. Но как-то уныло ответил, уже без всякого энтузиазма.
— С эпиграфом?
— С эпиграфом.
— Один на всех, все за одного? Д'Артаньян?
Антон в ответ безнадежно махнул рукой:
— Учиться, учиться, учиться. Ленин.
Рассказав эту замечательную историю, Толя вздохнул:
— Двенадцать лет мальчишке. И уже… Ну откуда это у них?
Тоже мне, бином Ньютона, подумал я. Но вслух этого не сказал. Толю я любил, и обижать его мне не хотелось.
Но так ли уж прав был я, исходя из предположения, что виной раннего смирения Толиного сына был воздух, которым с детства дышал этот мальчишка, выросший в семье профессионального литератора, твердо усвоившего, что писать надлежит не то, что хочется, а то, что надо?
Ведь этим отравленным воздухом дышала вся страна. И скорее не из семьи, а именно из школы вынес Толин сынишка эту свою готовность заменить блистательный афоризм любимого своего д'Артаньяна обязательной для всех унылой проповедью дедушки Ленина.
Эта ленинская фраза, растиражированная миллионами плакатов, лозунгов и эпиграфов к школьным сочинениям, была едва ли не главным заклинанием советского новояза. И не только для школьников, единственная обязанность которых перед государством состояла именно в том, чтобы «учиться, учиться и учиться».
Эта сконцентрированная в одном трижды повторенном слове ленинская заповедь была затвержена всей страной как непременная ежеутренняя молитва. Как «Отче наш» в старое, дореволюционное время.
Но простой и ясный, казалось бы, не поддающийся никакому двойному истолкованию смысл этого заклинания всей практикой советской жизни был извращен едва ли даже не в большей мере, чем такие классические советские оксюмороны, как «пролетарский гуманизм» или «партийная совесть».
Вот как развивал этот свой основополагающий тезис вождь мирового пролетариата:
► Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.
К этой излюбленной своей мысли Ильич возвращался постоянно. Он не уставал повторять, что именно пролетариат, только он, и никто другой, является законным наследником, хозяином и хранителем всех культурных ценностей, созданных человечеством.
Народолюбивым российским интеллигентам эта ленинская идея пришлась по душе.
Тут можно было бы привести много примеров. Но особенно запомнился мне такой эпизод из ранней повести Веры Инбер «Место под солнцем».
Героиня повести и ее маленькая дочь мерзнут в холодной, разоренной барской квартире. Стараясь согреться, они пытаются топить печку-буржуйку книгами из хозяйской библиотеки — больше топить нечем, мебель уже сожжена. (Дело происходит на исходе Гражданской войны.)
С грохотом распахивается дверь, и на пороге возникает матрос. Сразу оценив ситуацию, он цедит угрожающе:
— Книги жгете?
И — еще суровее, еще грознее:
— Жгете, значит, книги?
Останавливается, вглядываясь в золоченые корешки. Шевеля губами, читает имена и фамилии авторов.
Как буря проносится он по всей огромной пустой квартире и, уходя, уже на пороге, оборачивается и непререкаемым приказным тоном роняет:
— Вильяма Шекспира — не жечь!.. Александра Пушкина — не жечь!.. Льва Толстого — не жечь!..
Сцена эта откровенно символична: утонченные интеллигенты (недаром вождь сказал о них, что они не мозг нации, а говно) жгут книги, а малограмотный, еле-еле разбирающий по складам фамилии их авторов матрос — оберегает их, защищает, спасает.
В популярном романе В. Каверина «Исполнение желаний» интеллигент старой формации — ученый-историк академик Бауэр предстает перед нами в ином качестве.
Незадолго до смерти он читает студентам свою последнюю лекцию. И вот что он им говорит:
► Есть разные отношения к науке, есть отношение семейное, переходящее из поколения в поколение, годами живущее в академических квартирах на Васильевском острову, и есть другое отношение — жизненное, практическое, революционное… И вот я хочу предостеречь… Это для молодежи имеет особенное значение. Не берите пример с ученых, перепутавших науку со своей карьерой, со своей семьей, со своей квартирой. Помните о совести научной, о честности в науке, без которой никому не дано вздохнуть чистым воздухом вершин человеческой жизни… И еще одно. За долгие годы работы я собрал много книг, много редких рукописей, среди которых найдутся, пожалуй, и единственные экземпляры. Это все я отдаю вам. Университету или Публичной библиотеке, пускай уж там рассудят, — но вам, которые придут на наше место в науке…
В этой прекрасной речи есть одна еле заметная несообразность. Получается так, будто отношение к науке, переходящее из поколения в поколение, непременно чревато опасностью перепутать науку с карьерой, со своей квартирой.
Практически речь Бауэра означает: через голову старых интеллигентов, где интеллигентность передавалась из поколения в поколение, — новым, законным наследникам, студентам «от сохи» и «от станка» передаю я свой светильник!
Основные события романа разворачивают эту альтернативу в сюжет. И по сюжету этому получается, что есть только два пути: либо украсть ценные рукописи из архива своего учителя и бежать в Париж, либо — с советской властью. Третьего не дано! Финальная фраза романа звучит так:
► Холодный дом. Жильцы выехали… Имущество — вещи и мысли — поручено государству. Другие наследники — не по крови — въедут в этот дом, оботрут пыль, прочитают книги.
Не только книги, но и мысли (заметьте!) — все духовное имущество хозяина дома поручено государству.
Как распорядилось созданное Лениным государство этим вверенным ему наследием, выяснилось довольно скоро:
► Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рёскин, Ницше, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики, и сказано: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». Все сие — не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя».
Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?
(Из письма М. Горького В. Ходасевичу, 8 ноября 1923 года)То, что Алексей Максимович сгоряча назвал зверством, вскоре стало повседневной практикой молодого советского государства.
Наум Коржавин рассказывал мне, что в числе обвинений, предъявленных ему на следствии, было и такое: «Интересовался реакционным прошлым нашей Родины». Значило это, что он проявлял интерес не только к Белинскому, Чернышевскому и Добролюбову, но и, скажем, к Константину Леонтьеву. Или к Владимиру Соловьеву, упоминавшемуся в составленном Н. Крупской и М. Сперанским «Указателе».
Намерения — не только у Крупской и Сперанского, но и у тех, кто хотел охранить молодого поэта Н. Коржавина от вредоносного воздействия разных реакционных сочинений, — были самые хорошие. Ну, а уж какие сочинения следует считать вредоносными, это, разумеется, решали они сами. В меру своего понимания.
На известном совещании в ЦК РКП(б) «О политике РКП(б) в художественной литературе», состоявшемся 9 мая 1924 года, с докладом выступил А. Воронский. И в этом своем докладе он, между прочим, заметил:
► Считают буржуазной «Аэлиту», а недавно я беседовал с т. Зиновьевым, и он сказал, что это весьма полезное произведение и ценное.
Невинное замечание это вызвало целую бурю. Второй докладчик, И. Вардин, так возражал Воронскому:
► Такая постановка вопроса недопустима. Товарищ Воронский сообщил, что товарищ Зиновьев терпимо относится к «Аэлите» Алексея Толстого. Я тоже слышал это от товарища Зиновьева. Товарищ Каменев говорил мне как-то, что он с удовольствием читает Эренбурга. Товарищ Бухарин пишет предисловие к эренбурговскому «Хулио Хуренито».
Вопрос заключается не в том, с удовольствием или без удовольствия читает товарищ Каменев или другие товарищи Эренбурга… Суть вопроса заключается в том, как эта литература воздействует на массы… Товарищ Каменев может читать что угодно; мы все почти, здесь собравшиеся, читаем белую литературу; предполагается, что у нас есть соответствующий иммунитет, но в широкую массу всю эту литературу не пускаем, иначе у нас была бы свобода печати. Тот же герой «Аэлиты», аннексирующий Марс в пользу совреспублики без контрибуции, может доставить художественное наслаждение товарищу Зиновьеву, но для широких рабоче-крестьянских масс вся эта литература — вреднейший яд.
Это, конечно, был уже перегиб. И насчет «Аэлиты» товарища Вардина со временем поправили. Крепко поправили (расстреляли). А фантастический роман «рабоче-крестьянского графа» спустя лет пять после того совещания издал Детгиз, и его читал каждый школьник.
Но выдвинутая Вардиным идея «закрытого распределителя» и для духовной (а не только телесной) пищи — была радостно принята новой властью на вооружение. Открытый женой вождя список запрещенной литературы с каждым годом пополнялся все новыми и новыми именами. И вряд ли тут можно сказать, что правая рука не знала, что творила левая.
* * *
Сейчас любят — кстати и некстати — поминать, что Ленин терпеть не мог интеллигенцию. Как я уже упоминал, однажды даже назвал ее говном. (В письме Горькому от 15 сентября 1919 года.)
Вот полная цитата:
► Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитализма, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно.
Говном, стало быть, вождь считал не всякую интеллигенцию, не интеллигенцию вообще, а только тех «интеллигентиков», которые были «лакеями капитализма», «пособниками буржуазии». Эту интеллигенцию (за неимением другой) до поры до времени приходилось терпеть, использовать и даже подкармливать. Но конечная цель состояла в том, чтобы взамен этой — гнилой буржуазной интеллигенции — создать свою. Рабоче-крестьянскую.
Именно для этого и надо было «учиться, учиться и учиться», обогащать свою память знанием всех богатств, которые выработало человечество.
Но ученики и соратники вождя поняли это указание вождя по-своему.
Рассказывает Владислав Ходасевич:
► Я жил в Петербурге. Подголадывал. (Дело происходит — весной 1921 года. — Б. С.) Однажды вечером — стук в дверь. На пороге какая-то женщина — пришла приглашать меня читать лекции о Пушкине в клуб им. Подбельского. Поначалу я отказался. Но женщина привела доводы неопровержимые: столько-то фунтов черного хлеба и фунт повидла в неделю. Оказалось к тому же, что и клуб находится недалеко — поблизости от Мариинского театра (я жил на углу Мойки и Невского). Кончилось тем, что я согласился. Моими слушателями оказались служащие почтового ведомства, в огромном большинстве — женщины. Три раза я им рассказывал о Пушкине. Слушали хорошо, вникали, после лекции забрасывали вопросами, в большинстве случаев — очень дельными. Я уже начал даже испытывать некоторое удовольствие от этих занятий. Как вдруг, в один прекрасный день, получаю вызов к клубному комиссару, которого никогда не видел и о самом существовании которого до тех пор не подозревал. Являюсь. Обыкновенный комиссар, как все: гимнастерка, растрепанная бородка, пенсне, револьвер. Он мне сказал:
— На будущей неделе мы празднуем двухлетний юбилей курсов. Пускай кто-нибудь из ваших слушательниц прочтет доклад о Пушкине.
Я почтительно доложил, что никто из слушательниц этого сделать не может, ибо познания их еще слишком ограниченны.
— А между тем надо, — сказал комиссар. — Будет начальство, пресса.
— К сожалению, немыслимо.
— Тогда вы сочините, а она пускай прочитает. Понимаете? Вечер должен быть показательный.
Я очень спокойно объяснил ему, что есть большая разница между «показательным», когда показывают то, что есть, и «показным», когда показывают то, чего нет. Мое объяснение ему не понравилось. Он рассердился и объявил, что больше я у них не служу.
Так это начиналось.
А о том, что из этого вышло, к чему привело, можно судить по небольшому, но красноречивому отрывку из письма другого поэта Серебряного века, который я сейчас приведу.
После войны на запад хлынул новый мощный поток эмигрантов из России. Это была так называемая вторая волна. Ди-пи, как их там называли. (По-нашему — «перемещенные лица».)
Тут-то и произошла историческая встреча последних могикан старой русской культуры с интеллигентами новой России, с представителями — далеко не худшими, надо сказать, — новой русской интеллигенции, выращенной в СССР за годы советской власти.
И вот какое суждение об этих «новых» высказал уже завершавший в то время свой путь в литературе русский поэт Георгий Иванов:
►…Несколько слов «по существу», может быть, мне напишете. Пожалуйста, пооткровенней… Что Вы долго мои стихи не любили — и потом оценили так высоко — делает для меня Ваше мнение и Ваши советы важными и нужными… Вы писали, что-то вроде: «старшим нравится, новые не понимают». Мне любопытно бы знать конкретным образом — в двух словах — что слышали Вы от «новых». Только любопытно — потому что, как правило, «новые» городят, критикуя, чушь, независимо от того, хвалят или ругают… По-моему, они сплошь и рядом даровиты, часто изумительно «полны сил», но талантливость эта неотделимо слита с серостью… Они наивны и первобытно самоуверенны и как будто не поддаются органически культуре. Я к ним, то есть к этим ди-пи — питаю больше чем симпатию, я чувствую к ним влечение кожное и кровное. Но считаю, что они тоже «жертвы» большевизма, как и мы, только по-иному. Нашу духовную культуру опозорили, заплевали и уничтожили, нас выбросили в пустоту, где, в сущности, кроме как заканчивать и «подводить итоги» — «хоронить своих мертвецов» — вроде моей поэзии — ничего не остается. Их вырастили в обезьяннике пролетариата — с чучелой Пушкина вместо Пушкина, какого мы знаем, с чучелой России, с гнусной имитацией, суррогатом всего, что было истреблено дотла и с корнем вырвано. И получилась — бешеная одаренность, рвущаяся к жизни, — как если бы разорена оранжерея — весной сквозь выбитые стекла, покрывая все — и мусор разоренья, и то, что в почве еще уцелело от редкостных клеток, все глуша, ничего не соображая, торжествуют, наливаясь на солнышке, лопухи.
(Георгий Иванов — Нине Берберовой. Декабрь 1951 года)В действительности дело обстояло даже еще хуже, потому что та «бешеная одаренность», которую почувствовал в «новых» старый русский поэт, была истинным чудом. (То есть чудом было то, что она — уцелела, проявилась, хоть как-то — пусть уродливо, но реализовалась.) Ведь эти «лопухи» проросли сквозь асфальт, силой своей вот этой самой бешеной одаренности взорвав тщательно заасфальтированную, зацементированную почву.
А сколько семян этих самых «лопухов» (а может быть, и не только «лопухов») погибло там, под этим асфальтом!
Ведь самый корень зла как раз в том, что в этой самой новой России преобладала — и в конце концов восторжествовала, победила — принципиальная установка на неодаренность.
Герою романа В. Набокова «Дар», прозябающему в эмиграции, в Берлине, случайно попадает в руки какой-то советский журнальчик. Он листает его. И вдруг странное чувство его охватывает:
► Вдруг ему стало обидно — отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? Или в старом стремлении «к свету» таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот «свет» горит в окне тюремного надзирателя?..
В то самое время, когда герой набоковского «Дара» впервые задумался над тем, отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться, о том же самом — и почти теми же словами — заговорил живший в то время в Париже русский философ Г.П. Федотов:
► Недавние гастроли Художественного театра показали всему свету, что талантливейшие русские артисты разучились передавать тонкие душевные движения. Им доступно лишь резко очерченное, грубое, патетическое. Самое замечательное, что в этом нет ничего нарочитого. Они хотели бы дать психологическую драму, хотели бы сохранить наследие Станиславского, они еще учатся у старых учителей. Но жизнь сильнее школы. Выйдя из нового поколения, они приносят с собой его бесчувственность…
Наблюдение — тонкое. Но объяснение, которое тут предлагает Федотов, представляется мне по меньшей мере недостаточным.
Жизнь, окружающая реальность, конечно, тоже свое действие оказывала. Но помимо эффекта самой жизни был тут еще и другой, гораздо более мощный фактор: тщательно разработанная технология воспитания нового человека. Технология, исходящая именно вот из этой самой — ключевой для социализма — установки на неодаренность.
* * *
В середине восьмидесятых мы с женой впервые в жизни пересекли государственную границу Советского Союза. Это была туристическая поездка. Группа наша состояла из писателей (точнее — членов Союза писателей) и так называемых «жописов» (писательских жен).
Первой нашей «заграницей» стала ГДР. Кавычки в слове «заграница» тут можно было бы и убрать, хотя, конечно, это была не совсем настоящая заграница. Пределы Большой Зоны, как именовался в нашем кругу лагерь социализма, мы ведь тогда так и не пересекли. В то время наши друзья Войновичи жили уже в Германии — в настоящей Германии, в ФРГ, — и когда мы по телефону (а мы довольно регулярно перезванивались) сообщили им, что побывали в их стране, они расхохотались. Лет пять спустя, когда после десятилетней разлуки мы наконец встретились, они вспомнили этот наш телефонный разговор и объяснили причину своего тогдашнего смеха. Оттуда, из их Германии, наша Германия виделась им частью Большой Зоны, для них она была — почти то же, что Советский Союз, который они (отнюдь не добровольно) покинули и обратный путь в который для них был навсегда (так, во всяком случае, тогда нам казалось) закрыт.
Но они смотрели на ГДР оттуда, а мы — отсюда. И для нас это была — самая настоящая Германия. И уж безусловно самая настоящая — еще и потому, что (повторюсь) первая в нашей жизни — заграница. Ведь были там прелестные маленькие немецкие городки (Вернигероде) с черепичными крышами домов, горевшими на солнце, «как печатный пряник». Был дом Гете в Веймаре, и знаменитая Ута, и мост XII века в Эрфурте, и перезвон колоколов, и величественные средневековые соборы, в каждом из которых нам показывали кафедру, с которой проповедовал Лютер, и специфические немецкие народные празднества-ярмарки…
Было, конечно, и многое другое, до отвращения знакомое: походы по «ленинским местам», обязательное посещение памятника советским воинам-освободителям, Берлинская стена у Бранденбургских ворот, над которой летал американский вертолет. (На чей-то вопрос, имеет ли он право тут летать, немецкая девушка-экскурсовод с каким-то немецким значком, похожим на наш комсомольский, ответила, что, конечно, нет, не имеет, что это — «очередная американская провокация».)
Но помимо всего этого, более или менее похоже повторяющего родные наши советские реалии, были в открывшейся нашему взору жизни социалистической Германии и вовсе не знакомые нам краски и черты. Выяснилось, что кое в чем старательные, дотошные, аккуратные немцы пошли дальше, гораздо дальше нас. И не куда-нибудь там в сторону, а именно по нашему, нами для них проложенному пути к социализму.
Главным нашим гидом была разбитная русская баба, скорее всего жена какого-нибудь нашего офицера. В ГДР она жила довольно давно, но глядела на ихнюю гэдээровскую жизнь — сторонним взглядом. Это был взгляд с нашей стороны, инстинктивно выбирающий все, что отличает здешнюю жизнь от нашей.
И вот тут особенно поразил меня — прямо-таки ударил! — довольно-таки подробный ее рассказ о системе школьного образования в ГДР. (Именно из-за этого рассказа я и вспомнил сейчас об этой нашей туристской поездке.)
Она рассказала, что в гэдээровских школах существуют какие-то особые школьные советы (что-то наподобие когдатошних наших учкомов), в которые входят наравне с учителями и учащиеся. И эти советы определяют, может ли тот или иной старшеклассник, кончающий школу, поступать в высшее учебное заведение или он должен идти работать куда-нибудь на производство, набираться, так сказать, жизненного опыта, ну и, конечно, более активно участвовать в строительстве социализма.
Мало того! Если даже этот школьный совет решит, что окончившие школу юноша или девушка так замечательно проявили себя на школьном поприще (тут учитываются, конечно, не только успехи в науках, но и общественное поведение), что могут поступать в какое-нибудь высшее учебное заведение, дело на этом не кончается. Судьбу будущего абитуриента теперь будет решать другой, еще более высокий совет, наделенный совсем уже особыми полномочиями. Как я понял, этот более высокий совет заседает в какой-то уже не школьной, а партийной инстанции (что-то вроде нашего райкома). Там «старшие товарищи» взвешивают все «за» и «против» и решают, какую профессию данному абитуриенту надлежит избрать. Положим, он мечтает стать историком. Или филологом. Но стране, — решают «старшие товарищи» — сейчас больше нужны химики. Или металлурги. И «совет» выносит решение: абитуриенту такому разрешается поступить в соответствующий вуз.
— А может ли он, — спросил я, — не подчиниться этому решению? Попробовать все-таки поступить в тот институт или на тот факультет, к которому у него лежит душа?
— Нет, — последовал ответ. — Без решения совета в другой институт у него даже заявления не примут.
— Какой ужас! — сказал я стоявшему рядом пожилому ленинградскому писателю, с которым мы иногда обменивались впечатлениями об увиденном и услышанном, и эти наши впечатления, как правило, совпадали.
— Почему ужас? — фальшиво удивился он.
Удивление его показалось мне фальшивым, во-первых, потому, что я даже представить себе не мог, что оно могло быть искренним. Если уж меня, выросшего при социализме, так поразила нарисованная нашей гидшей картина, так как же должна была она поразить моего собеседника, родившегося в начале века и, значит, еще заставшего ту, дореволюционную жизнь, гораздо более нормальную, чем наша. А во-вторых, — и это, конечно, было главное, — в той поездке я впервые столкнулся с таким уровнем всеобщей, тотальной неоткровенности, который сильно зашкаливал за привычные для меня советские рамки. Причину этой всеобщей неоткровенности ясно выразила одна наша спутница: когда моя жена позволила себе высказать вслух какое-то не слишком даже крамольное, но слегка все-таки выходящее за рамки официальной идеологии замечание, эта дама, переглянувшись со мной, негромко сказала:
— Ваша супруга явно не хочет больше ездить по заграницам.
И я, поняв намек, провел в тот же день с «супругой» соответствующую политбеседу, рекомендуя ей впредь придерживать свой язычок.
Но тут я уж и сам не сдержался и, когда мой ленинградский коллега, сделав невинные глаза, спросил, почему гэдээровские порядки поступления юношей и девушек в высшие учебные заведения так меня поразили, уже не понижая голоса, громко, нарочно, чтоб слышали все, сказал:
— Прекрасно вы понимаете почему. До такого ведь и сам Оруэлл не додумался!
До смерти перепугавшийся мой собеседник стал доказывать, что ему, напротив, эта гэдээровская система очень нравится, что он сам был бы очень рад, если бы в его юные годы какие-нибудь умудренные опытом «старшие товарищи» уговорили его вместо этой мучительной, все нервы, всю душу выматывающей профессии литератора выбрать себе какую-нибудь другую, более реальную и более благодарную жизненную стезю.
Я завелся и, наверное, с гораздо большей наглядностью, чем моя жена, продемонстрировал всей нашей группе явное свое желание навсегда отрезать для себя всякую возможность участия — в будущем — в таких вот заграничных турпоездках.
Если вдуматься, на самом деле в том нашем споре я выступал как настоящий советский патриот: в защиту нашего, истинного социализма — против социализма извращенного, казарменного, опасность которого мудро предвидел еще сам Маркс.
Но оппонент мой был умнее меня: он прекрасно понимал, что стукачи, на чуткий слух которых он ориентировался в том нашем споре, Маркса не читали. А уж те, кому они напишут свои донесения, и подавно не станут разбираться в том, какой социализм следует считать истинным, а какой — казарменным.
Однако — что правда, то правда, подумал я тогда, — наш родимый российский социализм был все-таки помягче китайского и немецкого.
Мне оставалось только облегченно вздохнуть и поблагодарить судьбу за то, что в моей юности никакие старшие товарищи, наделенные властными полномочиями, не втолковывали мне, что стране сейчас нужны не литераторы, а химики и металлурги.
* * *
Вернувшись из этой первой в моей жизни заграницы домой, я поделился этими своими мыслями и чувствами со старшим своим товарищем — Александром Шаровым, «Шерой», как звали его близкие. Шера был детский писатель, сказочник, но любил размышлять (в печати) на эти вот самые темы. И размышлял всегда умно, интересно, небанально.
С грустной улыбкой выслушал он мой сбивчивый рассказ и сказал:
— По-моему, друг мой, вы слегка поспешили с этим своим выводом. Я имею в виду вашу радость по поводу того, что вы родились и росли в нашем благословенном отечестве, а не в Германии или, боже упаси, в Китае. В связи с тем, что вы мне сейчас рассказали, мне припомнился один очерк покойной Фриды Вигдоровой. Перескажу его так, как он врезался мне в память.
В университете — не в германском каком-нибудь и не в китайском, а в нашем, Московском, — учился талантливый юноша, чуть ли не с детства решивший стать биофизиком. Но обнаружилось, что будущих биофизиков в университете небольшой излишек, а на другой кафедре — допустим, кафедре физики колебаний или физики твердого тела — недобор. И курсовая воспитательница, курсовая бонна, или политрук, или куратор курса — не помню, как называется эта должность, — курсовое «твердое тело», не задумываясь перевела прирожденного биофизика на незаполненную кафедру.
Очень просто.
И сколько студент ни молил, чтобы ему разрешили заниматься любимой наукой, «твердое тело» неприступной стеной вставало перед ним.
И он покончил жизнь самоубийством.
— Но ведь это… — забормотал я, выслушав эту жуткую историю. — Ведь у нас это — единичный случай. Ужасный, но все-таки не совсем типичный. А там — система…
— У нас тоже система, — покачал головой Шера. — Несколько иная, но в своем роде не менее жуткая.
И он рассказал мне, как в годы его молодости старых профессоров вызывали «на ковер» и жучили за то, что они ставят слишком низкие оценки студентам «пролетарского происхождения». Профессора объясняли, что других оценок эти студенты не заслуживают. На что им отвечали, что молодой советской республике нужно ковать свои кадры — растить своих инженеров, своих историков, своих «красных» профессоров…
— Но ведь если мы станем на этот путь, — возражали старики, — у вас будут никудышные инженеры, полуграмотные историки, невежественные профессора…
— Есть такое слово: надо, — отвечали им, совсем как тот комиссар, про которого рассказывал Ходасевич. И поскольку далеко не все из этих старорежимных профессоров обладали твердостью и неуступчивостью Ходасевича, процесс пошел…
Выслушав этот Шерин рассказ, я стал вспоминать свою студенческую жизнь. И вот какие картинки замелькали перед моим, как принято говорить в таких случаях, умственным взором.
…Старый профессор Бочкарев, читающий нам курс русской истории «от Гостомысла», экзаменует одного из наших студентов.
— Скажите-ка мне, голубчик, — говорит он, — вокруг какого города в тринадцатом веке стали объединяться русские княжества? Ну, ну… Ведь вы же знаете… Вы не можете этого не знать… Ну?.. Мо… Мос… Правильно, Москва… Ну, давайте вашу зачетку, голубчик…
…Вчетвером — Бондарев, Бакланов, Поженян и я, — мы стоим перед профессором Шамбинаго. Мы явились к нему на дом, чтобы досрочно сдать экзамены по фольклору и древней русской литературе. В обоих этих предметах мы, что называется, ни уха ни рыла…
Профессор, выстроив нас в шеренгу, проходится перед нами и задает свой первый вопрос:
— На войне все были?
Я хочу сказать, что нет, не все, что вот я, единственный из нас четверых пришел в институт не с фронта, а со школьной скамьи. Но, не успев выговорить ни слова, получаю от кого-то из друзей сильный удар локтем в бок.
Дружно, хором, мы гаркаем:
— Все!
— Все раненые? — задает нам профессор следующий свой вопрос.
Мы снова гаркаем:
— Все!
— Раны к погоде болят? — следует новый вопрос.
Так же хором мы отвечаем:
— Болят!
— Ну, ладно. Давайте ваши зачетки, — говорит профессор. И, усевшись за стол, медленным старческим почерком выводит нам всем по пятерке…
…А вот Витя Гончаров, уже довольно известный поэт, умудрившийся проучиться в нашем Литинституте то ли восемь, то ли девять лет (никак не мог сдать госэкзамены), задумчиво говорит о Валентине Фердинандовиче Асмусе, читавшем нам логику и историю философии:
— Асмус — это философ!.. Гуманист!.. Меньше тройки никогда не поставит!..
…А вот Гриша Поженян сдает экзамен по западной литературе. Принимает у него экзамен милая и довольно молодая дама по фамилии Симонян. (Много лет спустя мы узнали, что в юности она принадлежала к кружку самых близких друзей Солженицына — в юные, студенческие его годы.) Выпало Грише отвечать про Анатоля Франса. И даже не про Анатоля Франса вообще, а про какой-то определенный период творчества знаменитого французского писателя.
Франса Гришка как раз читал. Но более или менее отчетливо помнился ему один только его рассказ — «Кренкебиль», который он почему-то называл «Керкенбиль». Изложению содержания этого рассказа он и посвятил свой ответ. Симонян терпеливо его слушает, устало сказала:
— Ну, хорошо. Это вы знаете. Но вы ничего не сказали о том периоде творчества Анатоля Франса, о котором я вас спрашивала. Не буду вас мучить, ответьте только на один вопрос: какое произведение писателя является переломным для этого периода?
Гриша, не задумываясь, отвечает.
— Рассказ «Керкенбиль».
Симонян вздыхает.
— Ну хорошо, — говорит она. — Давайте вашу зачетку. Но на всякий случай запомните, пожалуйста, что переломным для этого периода творчества Франса был роман «На белом камне».
— А я считаю, — не терпящим никаких возражений тоном парирует Поженян, — что переломным в творчестве Франса был рассказ «Керкенбиль».
Симонян понимает всю беспочвенность своих претензий, и на этом дискуссия заканчивается. Последнее слово остается за Поженяном…
…Еще одна — поистине душераздирающая сцена. Саша Межиров сдает экзамен по античной литературе Сергею Ивановичу Радцигу. Саша — уже довольно знаменитый молодой поэт, и знаменитость эта даже выплеснулась далеко за пределы нашего института. Тем не менее он еще студент, и, как всем нам, ему приходится сдавать экзамены.
Сергей Иванович — либерал из либералов, и сдать ему древнюю греческую литературу не составляло труда. Но Саша Межиров древней греческой литературой в те поры не интересовался. У него были тогда совсем иные интересы. И он, что называется, — поплыл. Сергей же Иванович, вовсе не желая его топить, а, напротив, стараясь не дать ему утонуть и даже помочь выплыть, кидает ему спасательный круг:
— Хорошо, голубчик, ответьте мне, пожалуйста, только на один вопрос, и я вас отпущу. Скажите: что было изображено на щите Ахилла?
Задавая этот вопрос, Сергей Иванович, разумеется, уверен, что уж на него-то легко ответит каждый. Но Саша, увы, и тут оказывается не на высоте. Он молчит, как убитый.
И тут Сергей Иванович не выдерживает.
— Поэт Межиров! — патетически восклицает он. — Как же вы можете жить, не зная, что было изображено на щите Ахилла?!
И он рыдает. Не как-нибудь там фигурально, а самым натуральным образом. Настоящие, взаправдашние слезы текут по его розовым щечкам и белой профессорской — клинышком — бородке…
Все эти и еще многие другие, еще недавно казавшиеся мне такими трогательными и даже милыми — картинки моей студенческой жизни сливаются в единую и цельную картину, изображающую ту самую систему, о которой говорил Шера. Коротко эту систему можно охарактеризовать двумя словами: установка на невежество.
Не стану уверять, что система эта именно вот такой и задумывалась создателем первого в мире государства рабочих и крестьян. Но именно такой она сложилась. Вряд ли ведь можно считать случайностью, что гениального Вавилова это государство сгноило в лагерях, а ставку сделало на невежественного самоучку-авантюриста Лысенко. Что талантливый и образованный Тухачевский был расстрелян, а наркомом обороны перед самой войной оказался малограмотный Тимошенко.
Можно только дивиться, что в войну, откуда ни возьмись, явилась вдруг целая плеяда талантливых военачальников: Жуков, Конев, Рокоссовский… Но объяснение этому загадочному феномену дал еще Пушкин.
Помните, в «Борисе Годунове» бродяга-чернец Варлаам, который смолоду умел читать, да потом разучился, как до петли дошло, сразу вспомнил забытую науку. Вот так же и Сталин, когда дошло до петли, поневоле вспомнил про грамоту. И вернул из лагеря Рокоссовского. И даже будто бы пошутить при этом изволил: нашел, мол, время сидеть.
А пока до петли не доходило, вполне устраивали его малограмотный Ворошилов да неграмотные Тимошенко с Буденным.
Ну, а что касается ленинского лозунга «Учиться, учиться, учиться», то на него злорадный интеллигентский фольклор тоже откликнулся анекдотом.
► — Гениально, — говорят вождю, — вы сумели, Владимир Ильич, это выразить! Так ясно, просто! И так емко! Расскажите, как это вас осенило?
— Полноте, батенька! — отвечает Ильич. — Это я новую ручку пробовал. Плохое перо попалось. Вот я его и расписывал.
Уплотнение
В старом русском языке слово это имело — в основном — одно значение.
Уплотнить — это значило сделать что-либо плотнее, тверже. Иногда — теснее.
Примеры в словарях обычно приводились такие:
► Древние осадки, как правило, сильно уплотнены и сцементированы…
У некоторых рыб так уплотнилась кожа, что она стала походить на панцирь…
Вышли сторожевые, минные катера, заградители, чтобы уплотнить и без того густые минные поля…
Но в советском новоязе слово это приобрело совершенно другое, новое значение.
Селищев, приводя его, отмечает:
► Уплотнение, самоуплотнение — стало относиться к квартирам.
Книга, из которой я выписал эту короткую фразу (А. Селищев. «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет»), вышла в свет в 1928 году. Выходит, что даже в конце 20-х такое значение этого слова было еще в новинку. Но и в более поздних и даже в современных словарях против такого значения слова «уплотнение» стоит пометка: Разг. То есть разговорное. То есть нелитературное, как бы не вполне даже законное.
На самом деле, однако, это новое значение старого русского слова не только вошло в язык на равных с прежними его значениями, но даже и потеснило эти старые значения, заслонило их, поскольку с уплотнением своего жилища, то есть с необходимостью потесниться, уступить часть своей жилплощади новым жильцам, советский человек сталкивался гораздо чаще, чем с уплотнением минных полей или рыбьей кожи.
Если верить Селищеву (а почему, собственно, мы должны ему не верить?), слова уплотнение, уплотнить, уплотниться «в квартирном, как он оговаривается, отношении» вошли в язык довольно поздно.
Но само явление, обозначаемое этими словами, стало бытом на заре советской власти, в самую раннюю, рассветную ее пору.
Злая Зинаида Гиппиус в сентябре 1919 года записывает в своем дневнике:
► Всеобщая погоня за дровами, прошения о невселении в квартиры, извороты с фунтами керосина и т. д. Блок, говорят (лично я с ним не сообщаюсь), даже болен от страха, что к нему в кабинет вселят красноармейцев. Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых «12».
(Зинаида Гиппиус. Дневники, т. 2. М., 1999. С. 241)Но тогда пришедшие к власти Швондеры еще «уплотняли» богатых (или тех, кто казался им богатыми), классово чуждых. Выселили, например, Станиславского из его родового особняка, потому что особняк этот понадобился Бонч-Бруевичу для автобазы Кремля. И напрасно Луначарский бился в истерике, доказывая всему Политбюро и Малому Совнаркому, что это варварство.
Станиславскому, правда, в конце концов выделили другой особняк (в Леонтьевском переулке, где он и дожил до смерти). Но таких, как Станиславский, были единицы. А не столь знаменитых и не столь заслуженных «буржуев» (профессоров, адвокатов, врачей) уплотняли почем зря, вселяя в их кабинеты и спальни обитателей сырых лачуг и подвалов.
Устоял под натиском Швондера (и то мы знаем, какой ценой) разве только один булгаковский профессор Преображенский. Да и он тоже, как помните, поминутно сокрушался: «Пропал Калабуховский дом!»
Но это было лишь начало.
С каждым годом положение с жилплощадью (особенно в столицах и больших городах) становилось все хуже и хуже. И страшное слово «излишки» теперь уже заставляло трепетать не только чужих, классово чуждых.
Уплотнить могли уже кого угодно. И в страхе перед насильственным вселением в их квартиру совершенно чужих людей несчастные обыватели стали самоуплотняться, то есть добровольно поселять у себя каких-нибудь дальних родственников, а то и знакомых.
Советские люди, однако, и в этих экстремальных обстоятельствах не теряли присущего им чувства юмора. Сочиняли такие, например, куплеты:
Все в Москве так уплотнились, Как в гробах покойники. Мы с женой в комод легли — Теща — в рукомойнике.Это почти не было гиперболой.
Вот, например, такая картинка с натуры:
► Он встретил ее у кино осенним вечером..
Они познакомились…
Он провожал ее на Таганку, в тихий, заброшенный переулок, в большой двор с множеством темных подъездов.
В один из этих подъездов они вошли…
Она открыла ключиком дверь и вдруг сказала: «Только тихо!» — и в темноте повела его за руку по длинному коридору, он стукался коленками о какие-то сундуки, кадки, по лицу его хлопали мокрые тряпки, лишь потом он понял, что это было развешенное на веревках белье. Пахло газом, стиральным порошком, живым цыганским табором коммунальной квартиры.
Скрипнула дверь, и они вошли в темную комнату, и она сказала: «Не шевелись», — и, пока он так стоял, обмирая, она ощупью постелила на полу…
На рассвете, когда он по привычке проснулся, чтобы выкурить сигарету, и приоткрыл глаза, он очень испугался. Он вдруг увидел в сером безжизненном свете осеннего утра, что лежит на полу в большой, населенной людьми комнате.
Какой-то парень в трусах, приседая, делал упражнения с гантелями, а за его спиной, сидя на раскладушке, другой, очень похожий на него парень брился, глядя в поставленное на табурет зеркальце, и еще кто-то третий сидел за столом и орудовал ложкой.
У окна на большой, старинной деревянной кровати лежал старик и читал газету.
Ему показалось, что старик сейчас кликнет парней и они начнут его бить гантелями и, может быть, даже полосовать бритвой, и он поспешно закрыл глаза, притворяясь спящим…
Через некоторое время он снова осторожно глянул. Парней уже не было.
Зато появился мальчик, прыгавший через веревочку, в углу в коляске плакал ребенок, и пожилая женщина сунула ему в рот соску, и сначала он захлебывался, а потом затих…
Тогда он решил: «Эх, была не была!», вскочил с постели и тоже стал приседать в физзарядке. Старик молчаливо следил за его манипуляциями. Мальчик продолжал прыгать через веревочку. Женщина убаюкивала ребенка…
Он тихонечко разбудил девушку.
— Мне в вечернюю, — не открывая глаз, прошептала она, улыбнулась и снова заснула.
Старик слез с кровати…
— Сообразим? — строго спросил он.
Гость дал деньги, и мальчик был снаряжен к какому-то «дяде Агафону». Он взял самокат и поехал из комнаты по коридору и скоро притащил откуда-то запечатанную пол-литру, женщина принесла чугун вареной картошки и селедку…
Когда они допили бутылку и съели картошку, старичишка сказал женщине:
— Ну что ж, пойдем, их дело молодое, — и, захватив газету, он вышел, женщина с ребенком тоже ушла.
Девушка продолжала спать.
Кто она им была — дочь, племянница или жиличка? Этого он не знал.
(Борис Ямпольский. Таганка)Это не фотография, а — рисунок. Пожалуй, даже — живопись. (Самые яркие краски остались «за кадром»: цитируя, я сохранил в неприкосновенности только скелет сюжета.) Так что можно, конечно, сделать поправку на некоторую долю художественного вымысла.
Но, хорошо зная натуру, могу свидетельствовать, что эта доля здесь не так уж велика.
* * *
Половину своей жизни — во всяком случае, никак не меньше трети — я прожил в такой же коммуналке.
Ну, не совсем такой же.
В нашей квартире жили всего-навсего шесть семей.
Но был такой же темный, затхлый коридор, заставленный какими-то старыми, рассохшимися шкафами и комодами. И ванная, на стенках которой висели шесть похожих на гробы цинковых корыт (у каждой семьи — свое). И кухня, где вечно било тебя по морде чье-то развешенное на веревках мокрое белье.
А на стене кухни висел разграфленный лист бумаги с фамилиями жильцов. И, ставя на газовую плиту чайник или кастрюлю с супом, каждый должен был в своей графе пометить время. Скажем: «9 ч. 56 м.». А когда чайник закипал, снимая его с плиты, так же скрупулезно отмечалось: «10 ч. 13 м». А в конце месяца какой-нибудь грамотей-доброволец (в нашей коммуналке это был мой отец) долго вел какие-то сложные подсчеты, ломал голову, вычисляя, кому сколько платить за газ.
Почти все наши соседи по коммуналке ютились — кто вчетвером, а кто и впятером — в шестиметровых и восьмиметровых комнатенках. По сравнению с ними мы жили по-царски: комната наша была площадью аж в целых восемнадцать метров, а было нас только трое.
Но и нас тоже время от времени «уплотняли» приезжавшие из других городов родственники (а приезжали они часто, поскольку из провинции все тогда тянулись в Москву). И тогда мои родители приставляли к своей тахте мой диванчик, и все мы укладывались на этом сооружении поперек — впятером, а то и вшестером.
Я был мал, и вся эта свистопляска, которой сопровождалось каждое такое «уплотнение», приводила меня в восторг. И я не понимал родителей, которые почему-то были этими родственными вторжениями недовольны. А когда гости уезжали и жизнь входила в обычную, скучную свою колею, я завидовал соседям, ютившимся впятером в крохотной комнатке при кухне: у них ведь такая веселая суматоха происходила каждый вечер. И чтобы этот праздник жизни длился вечно, не нужны им были никакие гости, никакие родственники.
Постепенно «уплотнявшие» нас время от времени родственники каким-то образом зацепились в столице, обрели в ней постоянное жилье, и эти временные «уплотнения» кончились. Но тут на головы моих родителей свалилось новое, уже не временное «уплотнение».
Когда я женился, жить нам с женой, естественно, было негде.
Отец мой по этому поводу высказался так:
— Разве я сторонник брака по расчету? Разве я против брака по любви? Но неужели нельзя было полюбить девушку с квартирой?
Никакого другого выхода, однако, не было, и мы поселились в родительской комнате. За шкафом.
В эту же комнату мы привезли из роддома и только что появившегося на свет нашего сына.
Новая жизнь, в которую мы нырнули с головой после этого события, могла бы стать сюжетом для пухлого романа. А если учесть сложные отношения между свекровью и невесткой, постоянно ведущих между собой глубоко принципиальные споры о том, кто из них лучше сумеет выкупать ребенка и правильно запеленать его, учесть также, что каждая из них апеллировала ко мне и к отцу, призывая нас стать арбитрами в этих сложных и принципиальных спорах, учитывая также некоторые особенности моего характера, из-за которых я не желал, да и не умел, занять мало-мальски твердую позицию, а неизменно стремился призвать ссорящихся к консенсусу, за что обеими воюющими сторонами был заклеймен язвительным прозвищем Адвокат, — учитывая все эти, а также многие другие психологические нюансы, роман этот, будь он написан, мог бы стать шедевром не только натуральной, но и психологической прозы, с некоторым даже уклоном в достоевщину.
Никогда нельзя было предвидеть, в какую минуту и по какому поводу вдруг вспыхнет пожар.
Начаться он мог с какой-нибудь вполне миролюбивой реплики — не важно чьей.
— Как вам нравится? — словно бы про себя роняет вдруг свекровь. — Оказывается, я плохо чищу картошку!
— Если картошку чистят хорошо, — немедленно парирует невестка, — никаких черных точек на ней не остается. Она чистая, белая.
— Миша! Ты слышишь, что она говорит? Даже ее родная мать сказала, что все, кто ее знает, говорят, что с ней жить нельзя. А меня на старости лет лишили собственного угла, и я должна все это выносить!
— Вы из меня дуру не делайте! — вспыхивает невестка. — Не делайте из меня дуру! Это вы первая затеяли этот разговор!
— Да! Потому что нечего меня учить, как чистить картошку. Картошку я, слава богу, чищу хорошо! Вот, смотрите, я ее почистила, и она белая, а сейчас она будет вариться и на ней появятся черные глазки.
— Не могут появиться эти глазки, если вы картошку почистили хорошо. Вот, смотрите, я беру картошку. Вот она, картошка. Вот! Чищу ее. Видите? Никаких глазков, никаких черных точек. И вот я ставлю ее варить. Сейчас вы увидите, появятся на ней глазки или не появятся. Ставим физический эксперимент. Сейчас вы все увидите!
— Ну, так чистить картошку! Конечно, когда от картофелины остается ровно половина!.. Не-ет! Я так не делаю… Я сказала сыну, как только он привел ее в мой дом. Я сразу ему сказала: она тебя разорит!..
Из каждой такой схватки они выходили бодрые, обновленные, помолодевшие, что дало повод моему отцу однажды заметить: «Они обе останутся живы!» — намекая тем самым, что нам с ним это вряд ли удастся.
Чтобы хоть немного разрядить обстановку, мы с отцом пошли на отчаянный шаг: решили купить телевизор. Это было для нас тогда совершенно непозволительной роскошью, но мы надеялись, что столь мощное отвлекающее средство хотя бы по вечерам внесет в наш дом покой и умиротворение.
Но — не тут-то было.
Сидим мы, бывало, у крохотного экранчика, слегка увеличенного линзой (было тогда такое кошмарное устройство, о котором сейчас даже и вспомнить страшно), и с интересом следим, как грибоедовская Софья с невинным видом морочит голову отцу, отводя его подозрения от Молчалина, с которым только что рассталась.
— Вот мерзавка! — страстно осуждает ее моя мать.
— Почему мерзавка? — немедленно вступает в дискуссию моя жена — Она борется за свое счастье!
Слово за слово, и — пошло-поехало.
Сложный подтекст этих дискуссий был очевиден. «Такая же мерзавка, как ты, которая вот такими же лживыми приемчиками женила на себе моего мальчика», — давала понять невестке свекровь. И невестке не оставалось ничего другого, как тут же кинуться в бой, защищая совсем ей не симпатичную Софью. Плевать ей было на эту Софью. Не в Софье тут совсем было дело!
С каждым днем наша жизнь становилась все невыносимее.
И тогда мы решили эту нашу (общую с родителями) комнату — менять.
Формально мы имели право «улучшить свои жилищные условия», поскольку имеющаяся у вас жилплощадь не соответствовала даже сильно заниженным тогдашним нормам. Но практически это было невозможно. Можно было только поменяться с кем-нибудь — с соответствующей, конечно, доплатой. (Вообще-то это было незаконно: считалось, что, получая или предлагая доплату, вы спекулируете государственной жилплощадью. Но государственные органы закрывали на это глаза. В не совсем легальной, а потому вполне ублюдочной форме тут как бы начинали уже действовать законы рынка.)
Попытку такого обмена и решили мы предпринять.
* * *
Комната наша — до того, как я «уплотнил» родителей нашей новой молодой семьей, — как я уже говорил, представлялась нам царскими палатами.
Во всяком случае, для обмена она представляла очень даже неплохой вариант. В самом центре Москвы, около Елисеевского магазина. Как нам тогда казалось, — большая, прямо-таки гигантская (18 квадратных метров!).
Но был у нее один существенный недостаток. Она была продолговатая, вытянутая в длину. А окна, как на грех, располагались в торцовой, короткой стене. Поэтому перегородить ее было невозможно: получилось бы два длинных узких коридора.
О том, чтобы сменять нашу комнату на две, хоть и небольшие, мы, разумеется, не смели даже и мечтать. Мечта наша была гораздо скромнее: найти более или менее равноценную, но такую, которую можно было бы перегородить, сделав из нее две.
Пересмотрев тьму разнообразных вариантов (описание их могло бы стать основой для еще более пухлого романа), мы, наконец, набрели на тот, который показался нам прямо-таки идеальным. Это было как раз то, о чем мы мечтали. Комната того же размера, что и наша, в том же районе, и не в развалюхе какой-нибудь, а в хорошем доходном доме, с внушительным подъездом, высокими потолками, просторной кухней. И соседей вроде не так уж много: всего шесть семей. Главное же ее достоинство заключалось в том, что окна (такие же два окна, как у нас) располагались в ней по длинной стене. Так что, если бы ее перегородить, получились бы две — хоть и маленькие — но уютненькие, квадратненькие, светленькие комнатки.
Счастливые, мы с женой объявили, что комната эта нам подходит. Уходя, уже в дверях, я сказал:
— Смешно, конечно, спрашивать, есть ли в вашей квартире ванная. В таком доме, как ваш…
И вдруг я вижу, что владельцы комнаты как-то замялись.
— Ванная у нас, конечно, есть, — после долгой паузы ответил, наконец, глава семьи. — Но во время войны нас уплотнили. В нашу ванную вселился прокурор. С семьей. И так до сих пор там и живет.
— Но вы не волнуйтесь, — перебила его жена. — Он — прокурор! Ему обязательно что-нибудь дадут. Как только они выедут, ванная будет!
Мы, конечно, не сомневались, что рано или поздно прокурору наверняка предоставят какую-нибудь другую жилплощадь, более достойную его высокого чина и звания. Но перспектива иметь в квартире вместо ванной прокурора, да еще с семьей, нас не прельстила. Обмен не состоялся, и мы с женой и нашим маленьким сыном так и остались жить в родительской комнате — за шкафом.
Ф
Формалистические выверты
Это выражение (как и многие другие — похожие: «формалистические выкрутасы», «формалистические фокусы», «формалистическое штукарство» и проч.) вошло в советский новояз после появления на страницах «Правды» (28 января 1936 года) статьи «Сумбур вместо музыки», разгромившей оперу Д. Шостаковича «Катерина Измайлова». Именно с этой статьи началась очередная охота «на ведьм». На этот раз главной опасностью, угрожающей чуть ли не самому существованию Советского государства, был объявлен формализм.
Формализму (пока еще только в музыке) была объявлена беспощадная война.
Как всякая идеологическая кампания в Советском Союзе, она распространялась с быстротой лесного пожара и охватила все необъятные просторы нашей родины. Докатилась и до самых дальних аулов горного Кавказа. И то ли в Махачкале, то ли в Нальчике, то ли в еще какой-то столице одной из кавказских автономий собрали всех местных ашугов, чтобы и их просветить насчет этой страшной идеологической заразы, наверняка им тоже угрожающей.
Был, как водится, сперва доклад. Потом — прения. И тут один из ашугов, как видно, лучше других понимавший, в каком царстве-государстве он живет, сообразил, что сейчас кого-нибудь из них, согласно разнарядке, выдернут из толпы и — для примера — объявят формалистом. Ну, а потом, как говорится, — ходи доказывай, что ты не верблюд.
Он встал и, прижав руку к сердцу, обратился к приехавшему из центра докладчику:
— Слушай, дорогой, какой формализм?.. Нотов не знаем!
Покончив с формализмом в музыке, партия и правительство взялись за формализм в других — смежных искусствах: в театре, в поэзии, в литературе. Формалистическим вывертом, формалистическим фокусничаньем, формалистическим штукарством объявлялось любое — даже самое робкое — отклонение от уровня посредственности.
В отличие от многих других идеологических кампаний эта растянулась на долгие годы. Стала, как любил выражаться Сталин, постоянно действующим фактором в непрекращающейся идеологической борьбе передового учения с силами реакции.
Однажды случилось и мне принять посильное участие в этой борьбе с формалистическими вывертами.
Вот как это вышло.
* * *
Первый — учредительный — съезд советских писателей был, как известно, в 1934 году. И на нем, как полагается, был принят устав, согласно которому «высшим руководящим органом Союза советских писателей СССР является Всесоюзный съезд советских писателей, созываемый один раз в три года». Но — устав уставом, а жизнь, как говорил Остап Бендер, диктует свои суровые законы. И вышло так, что следующий, Второй съезд собрался не через три, а через двадцать лет после первого. Отцу народов все эти годы, видно, было не до писательских съездов, он был занят более важными делами. Но в 1953-м отец народов умер, или, как говорили об этом старые лагерники, «ус откинул хвост», и писатели решили наконец (лучше поздно, чем никогда) собраться на свой Второй съезд.
Я тогда членом Союза писателей еще не был, но в дом на улице Воровского время от времени заглядывал. Была там тогда такая Комиссия по теории и литературной критике, которая пестовала молодых критиков. Как там она нас пестовала, я, честно сказать, уже не помню. Помню только, что подкидывали нам иногда какую-нибудь халтуру. Какую-нибудь графоманскую рукопись, которую надо было срочно отрецензировать. Платили за это не щедро, но, как говорится, всякое даяние — благо, а поскольку на штатную работу я тогда, как ни старался, устроиться не мог, каждая такая халтура становилась для меня неожиданным и исключительно ценным подарком судьбы.
И вот однажды позвонил мне из этой Комиссии нещедрый мой работодатель и сказал:
— Хочешь заработать кучу денег?
Я сказал, что, конечно, хочу. Цифра, которую он мне назвал, меня ошеломила: две тысячи рублей. Конечно, дореформенных — тех, что шесть лет спустя превратились в двести. Но для меня эта сумма тогда была весьма и весьма значительной.
Чтобы заработать эти деньги, мне предстояло войти в бригаду, готовящую для съезда доклад о поэзии. Делать этот доклад было поручено маститому азербайджанскому поэту Самеду Вургуну. Бригада же должна была помочь классику — как бы подготовить ему материалы для доклада. На самом деле, конечно, мы (а было нас, не помню, трое или четверо) этот доклад написали целиком — от начала и до конца. Не знаю, как обстояло дело с текстами моих коллег, но в раздел доклада, написанный мною, докладчик не внес никаких изменений. Моему тексту разве только придали чуть более казенный вид, переписав некоторые особенно вольные фразы и выражения суконным канцелярским языком. Это, разумеется, тоже проделал не сам докладчик. Его роль свелась к тому, что он этот «свой» доклад, как теперь говорят, озвучил, то есть, поминутно спотыкаясь и делая разные причудливые ударения, прочел с трибуны.
Мой раздел был посвящен недостаткам современной поэзии. Тема эта была близка моему сердцу, и я не пощадил никого из тогдашних корифеев, выбрав для демонстрации самые жалкие и убогие их строфы. Все эти примеры, как ни странно, в докладе остались. Но при этом мне было указано, что, перечисляя грехи современной поэзии, я начисто забыл о самом страшном грехе — формализме.
Примеров серости, шаблонности поэтической формы и бедности мысли у меня было хоть отбавляй. С этим никаких трудностей не возникало. С формализмом же дело обстояло не так просто. Со времен той самой правдинской статьи об опере Шостаковича никто из поэтов в ту сторону даже и не глядел.
Но я не растерялся. Взял первую попавшуюся книгу стихов Семена Кирсанова и тут же нашел там ярчайший пример самого что ни есть матерого формализма:
У реки Кубань, Где коней купань, Где дудел чабан в дуду, Где в хлеву кабан, — У реки Кубань Я по злакам комбайн веду.С легким сердцем я вставил в свой раздел доклада этот стишок и припечатал его соответствующими фразами о формалистических вывертах и бессмысленной звуковой игре, подменяющей… и т. д. и т. п.
Совесть моя при этом была чиста: кто скажет, что «коней купань» и «в хлеву кабан» — не формалистические выверты, пусть первый бросит в меня камень.
Камень, однако, бросили. Не в меня, конечно, а в невинного, как новорожденный младенец, Самеда Вургуна. И бросил этот — весьма, надо сказать, увесистый камешек — не кто иной, как сам Кирсанов.
Выступая в прениях, он ехидно поблагодарил докладчика за внимание к его работе. Но заметил при этом, что раскритикованные Самедом формалистические стихи были написаны им — Кирсановым — в 1933 году. И тогда же были и опубликованы. И что критиковать их вообще-то следовало бы не на Втором, а на Первом съезде писателей, который, как известно, происходил ровно двадцать лет тому назад. Целых двадцать лет ждали мы этого съезда. Целых двадцать лет не встречались друг с другом и не обсуждали нашу работу с такой высокой трибуны. И вот, наконец, дождались…
Кирсанов был мастером эстрадного жанра (Как-никак ученик Маяковского.) Несколько минут (мне показалось, что минут десять, не меньше) он полоскал несчастного Самеда и веселил зал. Зал радостно отвечал ему смехом и аплодисментами.
Самед сидел в президиуме — красный как рак.
А истинный виновник этого скандального происшествия сидел на галерке и смеялся вместе со всеми. И хотя смеялся скорее над собою, над собственной своей промашкой, никаких угрызений совести при этом не испытывал.
Ц
ЦК и ЧК
Моего приятеля Камила Икрамова посадили очень рано. Ему, кажется, даже и шестнадцати еще не стукнуло. Причина ареста была проста: он был сыном Акмаля Икрамова — секретаря ЦК Узбекистана, расстрелянного вместе с Бухариным и Рыковым. По тюрьмам и лагерям Камил мыкался много лет, и мыкался бы всю жизнь, если бы не смерть Сталина и последовавшая за ней хрущевская «оттепель». Много страшного довелось ему повидать и пережить за те годы. Но почти все его лагерные и тюремные рассказы (а рассказчик, надо сказать, он был блистательный) прямо-таки искрились юмором и вообще тяготели скорее к жанру комическому.
Вот, например, такая история.
Довольно быстро сообразив, что никакие отрицания своей мнимой вины ему все равно не помогут, Камил почти сразу принял условия игры, предложенные ему следователем. А условия были такие. Следователь вызывал его для очередного допроса, отправлял конвоиров, после чего они с подследственным играли в шахматы. А к концу сеанса Камил без колебаний подписывал всю ту ерунду, которую его следователь излагал в заранее заготовленном протоколе.
Время от времени, прислушавшись к каким-то звукам, доносившимся из коридора, следователь, быстро смахнув шахматную доску и фигуры в ящик стола, начинал орать:
— Колись, гад! Колись, вражина!..
И — четырехэтажный мат.
Дверь отворялась, и на пороге возникал какой-то чин, — судя по всему, начальник.
Ширинка при этом у него всегда была расстегнута: очевидно, неподалеку от комнаты, где проходил допрос, был туалет, и, направляясь туда — или возвращаясь оттуда, — начальник Камилова следователя и осуществлял попутно свои начальственные, инспекторские функции.
— Что, не колется? — спрашивал он. И поощрительно кидал на прощанье: — Давай, давай, так его, падлу!.. Ничего, расколется! Куда он, сука, денется!
После чего удалялся, а следователь и подследственный возвращались к шахматам.
Но шахматы следователю вскоре надоедали. И тогда он требовал, чтобы Камил рассказал ему какой-нибудь анекдот.
Камил рассказывал.
Посмеявшись, следователь говорил:
— Хороший анекдот. Смешной. И не ловится… Но все-таки он тебя характеризует… А вот, послушай, я тебе расскажу…
Собственный его репертуар был крайне узок: он, как правило, сводился ко всякого рода непристойностям.
— Ну что? Ведь верно, смешной? — спрашивал он, рассказав очередной затасканный анекдот из цикла — муж, жена, любовник.
— Смешной, — соглашался Камил.
— И заметь, — удовлетворенно говорил следователь. — Не ловится — и никак меня не характеризует.
Это, сообразил Камил, была их профессиональная терминология. Может быть, даже был у них какой-нибудь спецкурс, какой-нибудь такой семинар или практические занятия, на которых их специально натаскивали, как различать и сортировать анекдоты по признаку: «ловится — не ловится», «характеризует — не характеризует», «не ловится, но — характеризует».
В истории этой, как вы могли заметить, участвуют оба учреждения, названия которых фигурируют в заголовке этой главы. Но вспомнил я ее тут не поэтому, а в связи с таким пришедшим мне на ум анекдотом.
► Еврей, приехавший из провинции, спрашивает у более насвистанного, столичного еврея:
— Что такое ЧК?
Тот отвечает:
— Чентральный комитет.
— А ЦК?
— Церезвыцайная комиссия.
По терминологии героя Камиловой истории анекдот этот вроде не ловится. Разве что — характеризует. (Как-никак насмешкой тут затронуты два главных политических института советской партийно-государственной системы.)
Но на первый взгляд — вроде вполне аполитичный анекдот. Смеемся ведь мы тут не над ЦК или ЧК, а всего лишь над произношением одного из участников этого диалога. Ну, может быть, над его еврейским акцентом. Но это ведь тоже не возбранялось. (В иные периоды нашей истории даже поощрялось.)
На самом деле, однако, анекдот этот ловится. И еще как ловится!
Ведь в нем, помимо чисто фонетических проблем, с которыми следует обращаться к логопеду, ясно просматривается еще и другой смысл: довольно-таки прозрачный намек на то, что два эти учреждения (ЦК и ЧК) не просто родственные, а как бы даже взаимозаменяемые.
На самом деле это было не совсем так. У каждого из этих двух учреждений была своя роль в карательной советской системе, что нашло отражение в известном анекдоте из цикла: «Вопросы и ответы армянского радио»:
► Вопрос:
— Какая разница между ЦК и ЧК?
Ответ:
— В ЦК цыкают, а в ЧК — чикают.
Ответ этот — при всем своем остроумии и даже известной точности — плох тем, что из него нельзя понять, которое из этих двух ведомств — главное.
Тут мне вспомнился знаменитый детский вопрос из старой повести Льва Кассиля: «Если кит на слона влезет, кто кого сборет?»
Все взрослые, к которым дети в той повести обращались с этим вопросом, затруднялись с ответом. Что же касается взаимоотношений ЦК и ЧК, то на первых порах существования советского государства особых затруднений тут не возникало: главным в этой иерархии был безусловно ЦК, а ЧК играла роль инструмента в руках правящей партии.
Затруднения начались примерно к середине 30-х годов.
В это время уже довольно трудно было понять, «кто кого сборет»:
► РАДЕК. Мы окружены доносчиками со всех сторон, и пока мы уберем Сталина, он десять раз приберет нас к рукам! Ведь в его руках весь аппарат власти!
БУХАРИН. Вздор!.. Ягода с нами, а ГПУ — это все!
РАДЕК. А со Сталиным — Ежов, который метит на место Ягоды!
БУХАРИН. Мало ли что метит. Руки коротки!
Во время последних реплик слева слышится щелканье замка и шум отворяемой двери; одновременно же с последними словами Бухарина из передней входит Ягода.
► РЫКОВ (и другие, обступая Ягоду). Ну, Генрих, не томи: говори начистоту, почему они сознались на суде и сами присудили себя к расстрелу?..
БУХАРИН. Что, вы их и вправду там пытаете, на Лубянке?..
ЯГОДА. Ох, братцы! Подождите, не галдите все разом! Дайте сперва очухаться!..
БУХАРИН. Нет, серьезно! Каким способом добиваются в ваших подвалах признания даже в том, в чем люди не виноваты?
РЫКОВ. Ясное дело — пытают. Иначе не объяснишь!
ЯГОДА. Ах, товарищи, о каких пытках вы говорите? Смешно прямо слушать!.. Если человек, скажем, курит по сто папирос в день или (смотрит на Рыкова) неравнодушен к алкоголю, то оставьте их на сутки без табаку и «Рыковки» и увидите, на что они будут способны! (Общий смех.)
БУХАРИН. Но что же тогда называть пытками, хотел бы я знать?
ЯГОДА. Ну, это особая статья. Не хочу разбазаривать профессиональные тайны. Работа чекиста — это тоже искусство. И нам, извиняюсь, как и настоящим артистам, дороги наши профессиональные тайны. КРОВНО дороги, можно сказать.
РАДЕК (выразительно). КРОВНО! (Снова смех.)
ЯГОДА (шутливо). Будьте покойнички…
(Н. Евреинов. Шаги Немезиды. Драматическая хроника в шести картинах, из партийной жизни СССР. 1936–1938 гг.)Эту свою пьесу старый русский театровед и театральный деятель Николай Николаевич Евреинов написал в 1939 году. Жил он тогда в эмиграции, в Париже, и о том, что происходило в Советском Союзе, знал лишь по слухам да по газетам. И пьеса, по правде говоря, получилась у него довольно слабенькая. Много в ней было и всякой неправдоподобной чепухи. Но приведенный выше эпизод, как мне кажется, довольно верно отражает сложившиеся к тому времени взаимоотношения между ЦК и ЧК.
Заметьте: все действующие лица этой сцены — члены ЦК. И по партийной иерархии многие из них — выше Ягоды (хоть и он тоже — член высшего партийного ареопага). Но он разговаривает с ними как власть имеющий. А все их надежды на то, что они уцелеют и, бог даст, даже возьмут верх над Сталиным, связаны не с теми должностями, какие они занимают в партийной иерархии, а только лишь с тем, что с ними — он, председатель ГПУ Ягода. Потому что, как зерно замечает один из них, «ГПУ — это все».
Грубая шутка Ягоды («Будьте покойнички…») оказалась пророческой.
Впрочем, покойником оказался и он тоже (проходил по тому же процессу, что Бухарин и Рыков, и, как и они, был приговорен к расстрелу). Но случилось это совсем не потому, что ЦК возобладал над ЧК.
Да, конечно, Сталин, скрутивший их всех, был генеральным секретарем ЦК, то есть в тогдашней партийной иерархии занимал самую высшую должность. Но отнюдь не только эта его должность и даже, пожалуй, совсем не она обеспечила ему торжество над всеми его противниками.
► Сталин, будучи абсолютным диктатором, одной рукой держал за горло партию, другой — чекистов. Микоян, выступая с докладом на 20-летнем юбилее ВЧК — ОГПУ — НКВД, заявил: «Каждый гражданин СССР — сотрудник НКВД». В то время чекисты душили партию. А когда уничтожили большевиков «ленинского призыва», Сталин, убрав Ежова, руками Берии разгромил старую гвардию чекистов.
Советское государство дня не могло просуществовать без карательных служб. Такова его природа. А коль так, то партии постоянно приходилось делиться властью с политической полицией. Так и шло по заведенному порядку. Шла непрерывная «нанайская борьба». То партработников арестуют и расстреляют тысяч так сорок — пятьдесят. То работников спецслужб в том же примерно количестве поставят к стенке. Вослед этому быстренько соорудят какой-нибудь антисоветский блок. Понятно, его мифических «участников» тоже расстреляют. Но сразу же уничтожат очередного главу охранки. И так десятилетиями.
(Александр Яковлев. Омут памяти. М., 2000. С. 358)Автор книги, из которой взята эта цитата, много лет проработал в аппарате ЦК. О взаимоотношениях, сложившихся между «цекистами» и «чекистами», стало быть, знает не понаслышке, а — изнутри. И вот как он их описывает:
► Немного огрубляя ситуацию, скажу так: мы в партийном аппарате, постоянно надували щеки и делали вид, что решаем наиболее серьезные вопросы, возвышаемся над всеми другими аппаратами. Проводили разные съезды, другие политические спектакли и парады, заседания партийных бюро сверху донизу, а в действительности без КГБ ни одной важной проблему не решалось.
В партийный и государственный аппарат можно было взять людей только после проверки в КГБ… Я убежден, что продвижение на самый верх, вплоть до Политбюро, шло при самом внимательном наблюдении со стороны КГБ и при его определяющей рекомендации. Загородные дачи членов Политбюро принадлежали КГБ, обслуживающий персонал, включая водителей, поваров, уборщиц, — штатные сотрудники КГБ. Военные разработки ученых проходили экспертизу в институтах КГБ. Не говоря уже о регулярном подслушивании верхушки партии и государства вплоть, я убежден, до Генерального секретаря ЦК… Тайная полиция использовала любой случай, чтобы «приручить» того или иного «небожителя». Арестовали жен Калинина и Молотова, посадили брата Кагановича. На других «сподвижников» хранились объемистые досье, которые можно было пустить в ход в любой момент. Когда, скажем, Брежнева избрали Первым секретарем ЦК, Аристов — другой секретарь, курировавший силовые структуры, принес ему объемистое досье на него, Брежнева. Они сожгли его в камине.
(Там же. С. 359)Все это дало А.Н. Яковлеву основания назвать главу своей книги, посвященную анализу той роли, которую играли в устройстве советской политической системы ЦК и ЧК, одним коротким словом: «Двоевластие».
Слово это и в самом деле объясняет тут многое. Но — не все.
* * *
Самый тонкий и проницательный аналитик созданной Сталиным системы власти — А. Авторханов в одной из своих книг приводит такой эпизод биографии Сталина.
В семинарии, где учился юный Сосо Джугашвили, преподаватель истории задал ученикам написать сочинение о причинах падения Юлия Цезаря. Сочинение, представленное будущим вождем КПСС, поразило учителя своей обстоятельностью и глубиной. Там были даже какие-то схемы, таблицы, рисунки.
— Если я вас правильно понял, — сказал автору, прочитав это его сочинение учитель, — главная ошибка Цезаря, по-вашему, состояла в том, что он не сумел создать достаточно сильный аппарат государственной власти?
— Нет, — возразил будущий Сталин. — Главная его ошибка состояла в том, что он не смог, а вернее, не догадался создать аппарат личной власти, стоящий НАД аппаратом государственной власти.
Если даже это и апокриф, он отражает самую суть созданной Сталиным системы власти.
Ленин созданную им систему, которую он с присущей ему откровенностью именовал диктатурой, характеризовал так:
► Партией руководит ЦК… Оргбюро и Политбюро… Выходит, самая настоящая «олигархия»… Ни один важный политический вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний ЦК партии… Таков общий механизм пролетарской государственной власти, рассматриваемый «сверху» с точки зрения практики осуществления диктатуры… Вырастал этот механизм из маленьких, нелегальных подпольных кружков в течение 25 лет.
(В. И. Ленин. Собр. соч., т. XXV, с. 193–194)Что говорить, система была хороша. Но Сталин внес в нее кардинальные изменения, сильно ее улучшив.
► …Уже в 1929 году реорганизация аппарата ЦК закончилась созданием в самом ЦК, как тогда говорили, «нелегального Кабинета Сталина»… Этот нелегальный «Кабинет Сталина» впоследствии получил официально-легальное наименование: «Секретариат т. Сталина» (не смешивать с «секретариатом ЦК»!)…
Будущий биограф Сталина, которому будут доступны документы сталинскою «Кабинета», с величайшим изумлением установит тот простейший факт, что не Политбюро, состоящее из старых большевиков, а технический кабинет, состоящий из молодых, внешне скромных, в партии и стране неизвестных, но способнейших исполнителей воли своего хозяина, направлял мировую и внутреннюю политику СССР-
«Кабинет» подбирал «кадры» партии, армии, государства… Но, чтобы назначать новых, надо было убирать старых… Об этом заботился «Особый сектор», руководимый Поскребышевым…
В чем же были его функции? В официальной партийной литературе вы будете тщетно искать ответа на этот вопрос. Неофициально же о нем было известно следующее. «Особый сектор» должен был быть органом надзора за верхушками партии, армии, правительства и, конечно, самого НКВД. Для этого у него была собственная агентурная сеть и специальный подсектор «персональных дел» на всех вельмож без различия ранга… «Особый сектор» освобождал места, которые немедленно заполнял «сектор кадров» сначала Ежова, а потом Маленкова. Удивительно ли после всего этого, что наркомы дрожали перед Товстухой и Поскребышевым, а члены ЦК ползали перед Ежовым и Маленковым. А эти лица числились в списке аппарата ЦК лишь «техническими сотрудниками» ЦК.
(А. Авторханов. Технология власти)Этот аппарат личной власти, созданный Сталиным, играл главенствующую роль на протяжении всех тридцати лет сталинского правления. И именно людей из этого аппарата выдвигал он и на ведущие партийные и государственные посты. Кого — в ЦК, а кого — в ЧК. А иногда — то туда, то сюда. (Ежов, например, прежде, чем возглавил ЧК, был секретарем ЦК.)
Сказав, что Ежов возглавил ЧК, я не оговорился, хотя в то время, когда он встал во главе этого ведомства, оно уже называлось иначе.
ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия), созданная в декабре 1917 года, просуществовала недолго. В 1922-м она была преобразована в Государственное Политическое Управление (ГПУ), которое с 1923 года стало называться Объединенным Государственным Управлением (ОГПУ). Потом названия этого ведомства менялись неоднократно (НКВД, НКГБ, МВД, МГБ, КГБ, ФСБ). Но как бы оно ни называлось, сотрудники его неизменно именовали себя (и именуют до сего дня) — чекистами.
Кое-что эта смена названий все-таки означала (об этом — ниже). Но ни одна из названных аббревиатур не располагала к юмору.
Юмор тем не менее не иссякал.
Неунывающие советские граждане посмеивались даже над собственным страхом перед этим всесильным ведомством.
При переезде из Питера в Москву ВЧК разместилась в здании Страхового общества «Россия». В связи с этим родился такой анекдот:
► — Скажите, какое учреждение помещается в этом доме?
— Раньше тут был «ГОССТРАХ». А теперь — «ГОСУЖАС».
Анекдоты сопровождали всю историю ведомства, и в них отразились если не все, то, во всяком случае, многие из многократно сменявшихся его названий.
Иногда в анекдотах, шутках и остротах более поздних времен вдруг всплывали прежние и даже самые давние названия «конторы».
Вот, например, такая история.
В 60-е годы выходила у нас девятитомная «Литературная энциклопедия». Авторы и редакторы этого издания любили пошутить. И некоторые из их шуток не только вылетали за пределы редакционных стен, но даже и выплескивались на страницы выпускавшихся ими томов. И в томе восьмом, под статьей о широко известном в литературных кругах кагэбэшном провокаторе Эльсберге, красовалась подпись — «Г.П. Уткин», прозрачно намекавшая на кровную связь героя статьи с нашими славными органами.
* * *
Аббревиатура ГПУ, уже давно замененная на новую (НКВД, НКГБ и т. д.), почему-то особенно полюбилась юмористам. Была, например, такая — ставшая потом знаменитой — басня, сочиненная то ли Николаем Эрдманом, то ли Владимиром Массом, то ли ими обоими:
Раз ГПУ, придя к Эзопу, Схватило старика за жопу. Смысл этой басни прост и ясен: НЕ НАДО БАСЕН!То, что басен «не надо», они узнали на собственной шкуре.
На каком-то правительственном приеме Василий Иванович Качалов, слегка подвыпив, прочел несколько басен, сочиненных Эрдманом и Массом. «Вожди» возмутились. И тут же было задействовано ГПУ.
У Эрдмана и Масса был еще и третий соавтор — Михаил Давыдович Вольпин. В сочинении этой басни он участия, кажется, не принимал. Но в сочинении других — принимал. Во всяком случае, за то место, за которое ГПУ схватило Эзопа, были схвачены все трое.
Василий Иванович тяжело переживал случившееся. Он искренне считал себя чуть ли не главным виновником несчастья. (Кстати сказать, не он один.) Но Николай Робертович вину Качалова решительно отрицал. Да, по правде говоря, Василий Иванович и предположить не мог, что дело примет такой оборот. Стихи и басни, читанные им на том банкете, были, в общем-то, довольно невинные.
Едва ли не самой крамольной из них была такая:
Вороне где-то Бог послал кусочек сыра.. — Но Бога нет! — Не будь придира: Ведь нет и сыра.Или вот такая:
Мы любим подмечать у недругов изъяны И направлять на них насмешки острие. Однажды Молоко спросило у Сметаны: — Скажите, вы еда или питье? Сметана молвила: — Оставьте ваши шутки! Действительно, я где-то в промежутке, Но ведь важна не эта сторона Всего важнее то, что я вкусна, И то, что многие бывают мною сыты… Вот так порою и гермафродиты: Тот, кто на свет их произвел, Конечно, допустил ужасную небрежность, Но ведь в конце концов существенен не пол, А классовая принадлежность.Тоже не бог весть какая крамола.
Была, правда, как рассказывают, прочитана там Качаловым, помимо басен, еще и шуточная эрдмановская «Колыбельная»:
Видишь, слон заснул у стула, Танк забился под кровать, Мама штепсель повернула, Ты спокойно можешь спать…Далее шло описание разных знаменитых людей, в том числе и героев-полярников во главе со Шмидтом, которые, чтобы набраться сил для будущих подвигов, тоже «ложатся на кровать», чтобы отойти ко сну.
А кончалась эта «Колыбельная» так:
Спят герои, с ними Шмидт На медвежьей шкуре спит. В миллионах разных спален Спят все люди на земле… Лишь один товарищ Сталин Никогда не спит в Кремле!Шутка, как можно догадаться, метила не в «товарища Сталина» и даже не в раздражавший своими пошлыми формами безвкусный культ вождя — скорее в служителей этого культа. Но в таких тонкостях, естественно, никто разбираться не стал. Все разворачивалось в точности по ходившему тогда анекдоту:
► В один прекрасный день высоким начальством было объявлено, что всех верблюдов будут кастрировать.
Среди верблюдов, понятное дело, началась паника. И вдруг видят, что вместе с убегающими со всех ног верблюдами — улепетывает и заяц.
— А ты-то чего, косой?
— Как — чего? Не слыхали разве, какое распоряжение вышло насчет верблюдов?
— Да ты-то тут при чем?
— Вот поймают, кастрируют, а потом ходи доказывай, что ты не верблюд.
Анекдот этот довольно быстро забылся. Но финальная реплика зайца жила долго и со временем даже стала чем-то вроде пословицы.
Но это случилось позже, в иные, уже не такие «вегетарианские» времена. Хотя история, приключившаяся с Эрдманом и его друзьями-соавторами, свидетельствует, что и тогда (дело было в 1933 году) времена были не вполне вегетарианские.
Сам Николай Робертович в заявлении в Комиссию по частным амнистиям при Верховном Совете Союза ССР, поданном по отбытии ссылки — в 1938 году, дело свое объяснял так:
► В 1933 году я был присужден к ссылке на 3 года в гор. Енисейск за сочинение нескольких басен, носивших антисоветский характер.
Вот как, стало быть, это официально квалифицировалось.
Да так оно, в сущности, и было. «Антисоветским» (если уж пользоваться этим дурацким словом) был не смысл эрдмановских басен, а именно их «характер». А если совсем точно, так даже и не характер, а — то свободное дыхание, которое отличало их от всей тогдашней печатной советской продукции, насквозь пропитанной, как выразился Владимир Набоков, «запахом тюремных библиотек». Этим неистребимым запахом были отравлены даже талантливые и честные книги, чудом прорывавшиеся сквозь все мыслимые и немыслимые цензурные и редакторские заслоны.
Их было не так уж мало, этих честных и талантливых книг. Но, проникая в печать, они словно бы вываривались в общем котле советской пропаганды и тоже приобретали этот неуловимый запах, отличавший их от подлинно свободных сочинений, как отличается белье, полученное из прачечной, от выстиранного в речной воде и высушенного солнцем и ветром на вольном воздухе.
Вот поэтому-то неподцензурный куплет какой-нибудь шуточной песенки, озорная строка, непочтительностью своей по отношению к каким-нибудь официально узаконенным государственным святыням граничившая с хулиганством, воспринимались как глоток свежего воздуха. Это, в сущности, и был тот ворованный воздух, о котором говорил Мандельштам:
► Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Дом Герцена, поставив перед каждым на стол стакан полицейского чаю…
Этим писателям я бы запретил вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей? Ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед…
Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека…
(О. Мандельштам. Четвертая проза)У Михаила Михайловича Зощенко был не такой взрывной, бешеный темперамент, как у Осипа Эмильевича. Да он тогда еще и не был доведен до такого отчания. Поэтому о том же явлении он отзывался в другой тональности. Прочитав какой-нибудь унылый советский роман, спокойно констатировал:
— Ну, это диктант…
Шуточные басни и стишки Эрдмана, Вольпина и Масса раздразнили услышавших их «вождей» уже одним тем, что это был не диктант. Даже какая-нибудь совсем пустяковая, не несущая в себе и тени политического намека побасенка, весело повествующая о том, как «однажды ехали на гичке четыре гинекологички», — и та резко выбивалась из общего советского тона как раз вот тем, что была не диктантом, а — вольным сочинением на вольную тему.
Эту ауру вольности, исходившую от всех их шуток и острот — не только письменных, но и устных, — не смогла разрушить даже разразившаяся над ними катастрофа.
Сосланный в Сибирь (в Енисейск) Николай Робертович свои письма к матери неизменно подписывал — «Мамин сибиряк». И шутку эту со смехом повторяла вся Москва.
Переведенный из Енисейска в Томск, он долго не мог найти там для себя какое-нибудь пристанище. Об этих своих мытарствах он сообщал так:
► …Плачусь у парикмахеров, останавливаю на улицах прохожих, изучаю бумажки на столбах — все тщетно. Вчера дал объявление в газету, боялся, пропустит ли цензура. Опасения оказались напрасными — поместили целиком. Как видишь, все идет к лучшему, меня уже стали печатать.
А просьбу прислать каких-нибудь книг сопроводил такой сентенцией:
► В здешних магазинах, кроме портретов вождей, ничем не торгуют. А томская библиотека похожа на томскую столовую — меню большое, а получить можно одни пельмени или Шолохова.
Это — из писем Николая Робертовича Ангелине Иосифовне Степановой, с которой у него в те годы был долгий и бурный… чуть было не написал «роман». Но это определение их отношений (хоть сама Ангелина Иосифовна в своих воспоминаниях о тех временах порой тоже к нему прибегает) здесь решительно не годится. Тут нужно совсем другое слово. И в нужный момент оно у нее нашлось:
► В те годы МХАТ курировал, как тогда говорили, «от ЦК партии», Авель Софронович Енукидзе. Он был в курсе всех мхатовских дел, знал актеров, и великих, и нас, молодых, — одним словом, считался в театре своим человеком. Меня он опекал с отеческой нежностью: я была молода и внешней хрупкостью походила на подростка.
Шли дни, недели — ждали решения судьбы Эрдмана, и наконец стало известно о его высылке в Сибирь. Я решила обратиться к Авелю Софроновичу. Он принял меня в своем рабочем кабинете. Я просила о свидании и разрешении навестить Эрдмана в ссылке. Енукидзе всячески отговаривал меня от поездки в Сибирь, даже пригрозил, что я рискую остаться там, но я была тверда в своем намерении. Тогда он спросил меня: что заставляет меня так неверно и необдуманно поступать? Я ответила: «Любовь». Возникла долгая пауза: верно, стены этого кабинета такого прежде не слыхали.
(Воспоминания А.И. Степановой)Дело было — частное, сугубо личное, можно даже сказать, интимное. Но решиться оно могло только тут, вот в этом самом цековском кабинете, стены которого ничего похожего прежде не слыхали.
Поездка Ангелины Иосифовны в Енисейск в конце концов состоялась. Но очень не скоро. А в ожидании, когда это наконец решится, она засыпала Николая Робертовича открытками, письмами и посылками.
Поскольку в Енисейске с электричеством дело обстояло не больно хорошо, в одной из посылок она отправила ему какой-то самодельный, по специальному ее заказу сделанный фонарь, работающий на батарейках. Очень волновалась: дойдет или не дойдет, а если и дойдет, будет ли работать?
Затея удалась, о чем от Николая Робертовича в тот же день полетела в Москву телеграмма:
► Енисейск. 26. 24 часа.
(Молния от ваш. кор.)
Пуск первой мощной электростанции в условиях Севера прошел образцово. Все обслуживающие механизмы работают отлично.
Начальнику Строительства
А. О. Степановой.
Постройка енисейской электростанции — новый вклад в дело дальнейшего подъема нашей страны и Вашего в моих глазах. ЦК.
Последние две буквы были подписью и расшифровывались (в той же телеграмме, в скобках) — так: «Целую Коля».
Это была уже вторая (после басни про ГПУ и Эзопа) десакрализация священной аббревиатуры.
Арестованные соавторы (Эрдман, Вольпин и Масс) были сосланы в разные места, и встретиться им было суждено не скоро.
Но спустя годы, уже во время войны, Эрдман и Вольпин, волею судеб, оказались в ансамбле НКВД — вместе, кстати, с будущим создателем Театра на Таганке Юрием Любимовым.
Там их приодели, приобули, подкормили. Вот только Эрдману никак не могли подобрать приличную шинель. Наконец подобрали — и не просто приличную, а по тем временам просто великолепную, только что не генеральскую. А они с Вольпиным жили тогда в какой-то мансарде, и у них там было большое зеркало. И вот подходит Николай Робертович в этой новой своей — офицерской, энкавэдэшной — шинели к зеркалу, смотрит на себя и говорит:
— Миша, мне кажется, за мною опять пришли.
Из чего тоже можно заключить, что суровый урок, который ГПУ преподало Эзопу, так и не пошел ему впрок: неисправимый шутник продолжал шутить.
* * *
А теперь — о причинах смены всех этих священных аббревиатур и о том, что стояло за этими переменами.
«НКВД» лревратилось в «МВД», а «НКГБ» в «МГБ» по той простой причине, что все наркоматы у нас стали министерствами.
А вот с последующими изменениями дело обстояло несколько сложнее.
После смерти Сталина МВД и МГБ на короткое время слилось в одно общее министерство под эгидой Лаврентия Берии. Но после того как Берия был разоблачен как «английский шпион» (на эту тему тоже были анекдоты, но тут невольно вспоминается замечательная фраза О. Мандельштама: «Зачем острить? Ведь и так все смешно»), — так вот, после ареста Берии слившееся воедино ведомство вновь распалось на две составляющие. Но бывшее Министерство государственной безопасности стало теперь называться Комитетом. И не просто Комитетом, а Комитетом при Совете Министров СССР.
Это означало, что вновь образованное ведомство по статусу своему не вполне дотягивает до министерства. Тем самым партия как бы подтверждала свое обещание, что отныне и навсегда будет покончено не только с былыми злоупотреблениями, но и с тем ненормальным положением, при котором «органы» сумели встать над партией. Отныне эти самые «органы» будут находиться под постоянным контролем партии и государства. И вообще зря сажать никого не будут.
Не следует, однако, думать, что в годы хрущевского правления наши славные органы так-таки уж совсем бездействовали.
Вот анекдот — как раз на эту тему:
► Встречается Хрущев со школьниками, и один школьник спрашивает:
— Никита Сергеевич, а правда, что вы запустили не только спутник в космос, но и сельское хозяйство?
— А кто тебе это сказал?
— Папа.
— Скажи своему папе, что мы не только кукурузу сажаем.
После снятия Хрущева слегка (все-таки) захиревший Комитет снова воспрял, что сразу же отразилось на его названии: он стал называться Комитетом государственной безопасности СССР. Без всякого «при». И это было не просто сменой вывески. Изменение названия отражало повышение статуса Комитета: теперь он был уже как бы приравнен к министерству, что влекло за собой другие оклады для сотрудников и другие персональные машины для начальства (не «Волги», а «Чайки»), И — главное — большую власть, совсем иные возможности.
А еще позже (уже при Андропове) «контора», как ласково называли свое ведомство его сотрудники, обрела еще более высокий статус: не просто одного из министерств, пусть даже и наиглавнейших, как теперь у нас говорят, «силовых», а совершенно особого, уникального государственного монстра, целой империи внутри империи.
Всесилие Комитета в эту, андроповскую пору его существования почти приблизилось к тому положению, какое «контора» занимала в стране в середине 30-х, когда она стояла над партией.
В те времена, когда один из самых близких к Сталину людей — Серго Орджоникидзе — пожаловался вождю, что ему грозят обыском, Хозяин со свойственным ему юмором ответил:
— Что ты нервничаешь? Это такое учреждение. Они и у меня могут обыск сделать.
Именно тогда, в те самые незабвенные 30-е, возник такой анекдот:
► Военный парад на Красной площади. Маршал на коне объезжает и приветствует войска:
— Здравствуйте, товарищи артиллеристы!
— Здравия желаем, товарищ Маршал Советского Союза! — несется в ответ.
— Здравствуйте, товарищи краснофлотцы!
— Здра… жла… варищ… маршал… ветского… юза!
— Здравствуйте, товарищи танкисты!
— Здра… жла… арищ… аршал… етского… юза!
Но вот маршал приближается к чекистам.
— Здравствуйте, товарищи чекисты! — так же бодро возглашает он.
Но вместо положенного «здра… жла…» из чекистских рядов раздается негромкое, многообещающее, зловещее:
— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ маршал…
При всем всесилии андроповского монстра, в новые, андроповские времена не только маршалы, но и более мелкие партийные и государственные функционеры за свою жизнь и свободу могли не беспокоиться. И вообще «контора» не только на словах, но и на деле превратилась в инструмент, в орудие высших партийных органов власти.
Так, например, когда Василий Семенович Гроссман отнес рукопись своего крамольного романа «Жизнь и судьба» в журнал «Знамя» и главный редактор этого журнала Вадим Кожевников от прочитанного пришел в ужас, свой донос на писателя он отправил не в КГБ, а в ЦК. И уж там нашли соответствующее решение, после принятия которого на квартире у Василия Семеновича появились чекисты и арестовали — нет, не автора, а только его рукопись. (Это называлось — «уберечь писателя от ошибки».)
Сама операция, впрочем, была проделана с чисто чекистской тщательностью: изъяли не только все экземпляры машинописи, но явились и к машинистке, перепечатывавшей роман, и забрали у нее — на всякий случай — все сохранившиеся после перепечатки листки копировальной бумаги.
Не было уже и массовых посадок. И даже для того, чтобы выслать за границу какого-нибудь не слишком опасного писателя-диссидента (не Солженицына, а, допустим, Григория Свирского), требовалось специальное решение аж самого Политбюро.
Но по количеству стукачей на душу населения «контора», пожалуй, уже могла сравниться с ежовскими и бериевскими временами, что тоже нашло отражение в анекдоте.
Была такая знаменитая детская считалочка:
«А» и «Б» Сидели на трубе. «А» упало, «Б» пропало. Что осталось на трубе?Не каждый мог догадаться, что, помимо «А» и «Б» на трубе сидело еще «И», которое и осталось.
Так вот, эта считалочка была переиначена — и в результате возник такой анекдотический ее перифраз:
«А» и «Б» Сидели на трубе. «А» упало, «Б» пропало: «И» служило в КГБ.Дело, однако, было не только в количестве стукачей.
Несмотря на все высказанные выше оговорки, в некоторых отношениях положение «конторы» и лично товарища Андропова было даже прочнее, чем во времена Ежова или Ягоды. Ведь аппарат личной власти вождя, стоящий над всеми институтами власти государственной, был уже упразднен. А с тех пор как Андропов стал членом Политбюро, не стало уже и угроз для ослабления ведомства, идущих от высших партийных инстанций.
Это прочное, стабильное положение КГБ и его шефа в системе партийной и государственной власти нашло отражение в таком анекдоте:
► Из интервью товарища Андропова армянскому радио.
Вопрос:
— Какие перемены предвидятся во внешней и внутренней политике Советского Союза?
Ответ:
— Кагебыло-кагебудет.
Так между ЦК и ЧК утвердилась наконец полная гармония, завершившаяся избранием Ю.В. Андропова на пост Генерального секретаря ЦК.
Это обстоятельство тоже нашло свое отражение в устном народном творчестве.
Анекдот на эту тему был краток, но — выразителен:
► — Члены Политбюро, проголосовавшие за товарища Андропова, могут опустить руки и отойти от стенки.
Х
Хрущоба
В 1956 году, с последней волной реабилитации, вышел из лагеря сын Ахматовой — Лев Николаевич Гумилев. И с этого времени Анна Андреевна стала говорить о себе: «Я — хрущевка». В том смысле, что она — сторонница Хрущева, распахнувшего ворота лагерей и выпустившего на волю миллионы зэков.
Я не знаю, употреблял ли кто-нибудь еще это слово в таком значении. Но в язык оно вошло, став не только общеупотребительным, разговорным, но и чуть ли даже не полуофициальным.
Обозначало оно, правда, не принадлежность к «партии Хрущева», как объясняла это Ахматова, а нечто совсем иное: так называлась малогабаритная квартира в типовом пятиэтажном доме. Такие дома в огромном количестве стали строиться в 50—60-х годах. Это была личная инициативам Н.С. Хрущева. Отсюда — и название, звучавшее не только на бытовом, разговорном уровне, но иной раз даже и по радио, и по телику:
Под окном твоей хрущевки, Без обеда и ночевки Жду тебя я неустанно, Но в окне твоем темно…«Хрущевка», стало быть, — это квартирка в пятиэтажном блочном доме без лифта. А сам такой дом народ-языкотворец тотчас же окрестил хрущобой, иронически соединив имя благодетеля с исконным русским словом «трущоба».
Повод для иронии, конечно, был. Но у вселившихся в эти самые «хрущобы» не меньше было оснований и для радости.
Андрей Амальрик, известный наш правозащитник, автор знаменитой в те годы книги «Доживет ли Советский Союз до 1984 года?», в своих «Записках диссидента», опубликованных на Западе, вспоминает.
В 1975 году А.Д. Сахарову была присуждена Нобелевская премия мира. И на следующий же день после опубликования решения Норвежского стортинга в советских газетах стали публиковаться «письма трудящихся», в которых Нобелевская премия сравнивалась с знаменитыми Иудиными тридцатью сребрениками. А затем появилось и заявление семидесяти двух советских академиков, в котором присуждение премии Сахарову расценивалось как акция, носящая «недостойный и провокационный характер».
Прочитав это «заявление», Амальрик подумал, что хорошо было бы ответить на него неким «контрзаявлением», под которым поставили бы свои подписи пусть немногие, но действительно достойные, уважаемые люди, известные и у нас и на Западе.
С этой идеей он обратился к генералу Григоренко, скульптору Эрнсту Неизвестному, историку Рою Медведеву, а также к своим друзьям-писателям Владимиру Войновичу и Владимиру Корнилову. Все они охотно поставили свои подписи под этим амальриковским «контрзаявлением».
Но с одной подписью, в получении которой Андрей не сомневался, неожиданно вышла осечка:
► С Надеждой Яковлевной Мандельштам, вдовой поэта, я познакомился лет пятнадцать назад — у нее был вид серой мышки, которая незаметней хочет юркнуть в норку… Увидев ее в московской квартире, я просто не узнал ее — передо мной был генерал на белом коне, за эти годы на Западе вышли два тома ее воспоминаний, поставившие ее в ряд выдающихся русских писателей…
Надежда Яковлевна встретила меня любезно, долго мы говорили — о власти, о художниках, — проявляла она живой ум, но и пристрастность царицы маленького кружка. Подписывать заявление она не стала, сказав, что полностью согласна с ним, но просто боится. Провожая меня, она кивнула на дверь в прихожей: «Первый раз в жизни у меня отдельная уборная». После гибели мужа она скиталась всю жизнь по небольшим городам, проблему сортиров там я уже описал.
Проблеме российских сортиров Амальрик в своих «Записках» и в самом деле уделил довольно много места. Но я приведу только одну небольшую цитату:
► Из Магадана через Гижигу мы полетели осматривать АЭС в Билибино, центр золотодобычи на Чукотке. После долгой дороги я спросил в райотделе КГБ, где у них уборная. С улыбкой понимания к человеческим слабостям начальник вывел меня из дома, мы перешли улицу, прошли два или три квартала, свернули, и он указал мне на стоящий посреди площади полуразрушенный домик, им же мы пользовались, когда поселились в гостинице, внутри он был пострашнее нашего лагерного сортира. Полковник Тарасов сказал мне, что Чукотку называют «край вечного недосирания» — люди годами оправляются на морозе, и число заболеваний велико, особенно у женщин. Приятель мой сибирякам рассказывал, что в Москве-де дома по десять, а то и по тридцать этажей, колхозники слушали, развесив уши, пока какой-то рассудительный мужик не сказал: «Чтой-то ты врешь, парень, как же они с тридцатого-то этажа на двор срать бегают?!» Действует, что ли, инерция, что надо «бегать на двор», но для КолымаГЭС запроектировали восьмиквартирные дома, обогреваемые электричеством, но без уборных…
Цитату эту привожу исключительно для тех, кто родился на свет сравнительно недавно. Людям старшего поколения никаких таких цитат не надо, они хорошо все это знают по опыту прожитой жизни. Даже я, коренной москвич, проживший всю жизнь в сравнительно цивилизованных городских условиях, помню (по эвакуации) горы обледеневшего дерьма, на которые приходилось влезать при сорокаградусном морозе (Северный Урал, город Серов). Но мне было тогда четырнадцать лет, и я все это принимал сравнительно легко, не задумываясь о том, каково было выносить такую жизнь старикам и не слишком молодым женщинам.
Я уж не говорю о том, как решались эти проблемы по пути в эту нашу эвакуацию, когда во время остановки поезда, добиравшегося до Урала чуть ли не семь суток, нимало не стесняясь друг друга, прямо в поле высаживались все пассажиры — без различия пола и возраста.
Вот как высказался на эту тему один западный человек, волею обстоятельств оказавшийся в наших широтах:
► Нам открылось, что в ряду европейских демократических свобод, которые мы не ценили, не последнее место занимает свобода и легкость отправления физических потребностей.
(Юлий Марголин. Путешествие в страну зе-ка)Так вот, благодаря тем самым «хрущобам», не только у Надежды Яковлевны Мандельштам, но у миллионов людей впервые в жизни появилась своя уборная.
Уже одно это дорогого стоило.
А ведь помимо своей уборной у всех, переселившихся в те «хрущобы» из подвалов, бараков, общаг, гнусных коммуналок, появилась — тоже впервые в жизни! — отдельная, пусть крохотная, но своя — кухонька. И горячая вода в ванне. Да и сама ванна. Прямо как в знаменитом стихотворении Маяковского:
Можешь холодной мыть хохол, горячей — пот пор. На кране одном написано: «Хол», на кране другом — «Гор.»… Себя разглядевши в зеркало вправленное, в рубаху в чистую — влазь. Влажу и думаю: «Очень правильная эта, наша, советская власть».Но неблагодарный народ-языкотворец (словечко, кстати, пущенное тем же Маяковским), вместо того чтобы славить советскую власть и лично товарища Хрущева, продолжал выражать свое недовольство не только этим глумливым словечком — хрущобы, но и множеством не менее глумливых анекдотов.
► Спрашивают, например, у одного счастливого новосела:
— У тебя санузел совмещенный или раздельный?
— Зачем совмещенный. Раздельный, конечно. Отдельно — унитаз, отдельно — ванна.
А то еще — вот такой, похлеще:
► Первая брачная ночь. Молодые легли в постель. И вдруг — настойчивый, тревожный, неумолкающий звонок в дверь. Молодой супруг, матерясь, идет открывать. В квартиру, ни слова не говоря, входят два мужика с гробом на плечах. Молча обходят супружеское ложе, на котором лежит трясущаяся от страха полуодетая невеста. И так же молча движутся к выходу.
— Вы что, мужики! Охренели? — недоумевает и негодует жених.
— Извини, браток! В подъезде не развернуться!
Ч
Человек человеку друг, товарищ и брат
При Хрущеве, на XXII партийном съезде, была принята новая — третья по счету — Программа партии. Называлась она «Программа построения коммунизма». Не последнее место в ней занимал раздел: «Воспитание человека коммунистического общества» и входящий в него «Моральный кодекс строителя коммунизма». Это был, как писали тогда во всех газетах, «свод нравственных принципов, норм коммунистической морали, правил поведения…».
Почти все эти «принципы» повторяли давно уже навязшую в зубах партийную жвачку: «Преданность делу коммунизма», «Любовь к социалистической Родине», «Добросовестный труд на благо общества…» И так далее в том же духе.
Все это автоматом отскакивало от барабанных перепонок и никакой особой реакции у народа не вызывало.
А вот на формулу «Человек человеку друг, товарищ и брат» наш народ-языкотворец откликнулся. И это как раз понятно.
Во-первых, с этой формулой как-то особенно носились. Был даже фильм (Григория Александрова), который так прямо и назывался «Человек человеку…».
Ну, а кроме того, в отличие от безликого партийного мертвословья других пунктов «Кодекса» формула эта — худо-бедно — все-таки несла в себе какую-то живинку. Хотя бы потому, что перефразировала старинное — «Человек человеку волк». В самом этом перифразе уже притаилось зерно пародии: у них, мол, волк, а у нас — ягненок: все по той же известной присказке насчет буржуазного и советского онанизма.
И пародийное это зернышко сразу же дало всходы.
В народе стали хохмить:
► — Человек человеку сестра…
— Человек человеку теща…
— Человек человеку — мать…
В последней реплике, естественно, уже содержался прямой намек на то, что человек человека у нас при случае легко пошлет «по матери».
А недавно мне попался на глаза такой иронической перифраз этой — ныне уже почти забытой — формулы советского новояза:
► Человек человеку друг, товарищ и враг народа.
(Алексей Смирнов. Инсинуации и эволюции. «Вопросы литературы», 2000, № 5. С. 362)Чувство глубокого удовлетворения
С этим чувством советский народ встречал каждое очередное мудрое решение партии и правительства, каждый очередной провал коварных замыслов империалистов.
Это — в газетах.
А истинное свое отношение к этому языковому штампу советский народ выразил в таком анекдоте.
► До Великой Октябрьской социалистической революции народы Севера испытывали два чувства: чувство холода и чувство голода. А сейчас, после победы Великого Октября, они испытывают три чувства: чувство холода, чувство голода и чувство глубокого удовлетворения.
Ш
Шпион
Ироническое отношение к шпиономании, охватившей страну в 30-е годы, отразилось в множестве анекдотов. Вот некоторые из них:
► — Здесь продается славянский шкаф с тумбочкой?
— Шпион живет выше этажом.
► В китайскую прачечную (их много было тогда в Москве) врывается разъяренный клиент с то ли плохо постиранной, то ли безнадежно испорченной в стирке рубахой.
Китаец, которому он сует ее под нос, испуганно:
— Не бей, не бей! Я не прачка. Я — шапиёна!
Не исключено, что анекдот этот возник после того, как все китайские прачечные в одночасье исчезли. Говорили, что все работавшие в них китайцы оказались шпионами.
А вот это уже не анекдот, а подлинная история. Я слышал ее от Наума Коржавина в числе разных других рассказов из его тюремного (лубянского) опыта.
► Старуха-украинка, которую следователь обвиняет в том, что она шпионка, яростно это отрицает:
— Да ты подывысь на меня! Ну яка ж я шпинярка!..
В кабинет следователя входит другой энкавэдист, судя по всему, начальник первого. Несчастная «шпионка» кидается к нему:
— Гражданин начальник! Вин кажет, что я шпинярка! А яка я шпинярка?
Начальник:
— Молчать! Ты — говно!
— Ну вот! — просияла старуха. — Пришел умный человек, тильки глянул на меня и сразу увидал, кто я!.. А этот — надо же, чего удумал! — кажет, что я шпинярка!
А вот анекдот уже более поздних времен. Из эпохи холодной войны.
► Американский шпион, убедившийся в полной бесперспективности своей шпионской работы, приходит в КГБ сдаваться.
— Шпион, — говорят ему в кабинете, в котором он сперва оказался, — это не к нам. Это в другом здании. Сейчас я вам выпишу специальный пропуск. Третий этаж, комната триста двадцать семь.
Со специальным пропуском, зажатым в потной руке, шпион направляется в соседнее здание и, найдя нужную комнату, докладывает; так, мол, и так, я американский шпион, пришел сдаваться.
— Так, американский, значит. А из какой Америки? Южной? Или Северной?
— Северной. Из Соединенных Штатов.
— О! Из Соединенных Штатов!.. Это вам надо подняться на шестой этаж, комната шестьсот восемьдесят.
Шпион послушно отправляется на шестой этаж, находит шестьсот восьмидесятую комнату, где его ждет следующий вопрос:
— Как вы оказались на территории Советского Союза? Вас сбросили с самолета?
— Нет, — отвечает шпион. — Я самостоятельно перешел границу.
— В таком случае вам надо на седьмой этаж. Комната семьсот одиннадцать.
— Я американский шпион. Из Соединенных Штатов. Государственную границу Советского Союза перешел самостоятельно, — бодро докладывает он в семьсот одиннадцатой комнате, уверенный, что здесь за него, наконец, уже возьмутся всерьез. Но — не тут-то было!
— Какую границу? Морскую? Или сухопутную?
Узнав, что сухопутную, его направляют на другой этаж, в другую комнату, где выясняют, пересек он западную нашу границу или восточную. Узнав, что западную, гонят дальше; на другой этаж, в другую комнату, где его ждет следующий вопрос: через какую страну пробирался он к нашим границам? Через Польшу? Или, может быть, через Румынию? Шпион отвечает, что через Финляндию.
— Финляндия, Финляндия, — задумчиво говорит обитатель нового кабинета. — Кто же у нас занимается Финляндией?
Припомнив, гонит зайца дальше.
В общем, пройдя несколько десятков кабинетов, несчастный американский шпион попадает в последний, где его мытарства, наконец, кончаются.
— Значит, так, дорогой товарищ, — говорят ему там. — Не суетитесь. Идите и спокойно работайте. Когда будет надо, за вами придут.
— Уважаю я вашу контору! — говорит персонаж одного из романов Юлиана Семенова действующему в том же романе сотруднику Комитета государственной безопасности.
Если судить по только что рассказанному анекдоту, в народе эту нашу «Контору Глубокого Бурения» (одно из прозвищ славного Комитета) давно уже не уважали. Во всяком случае, в способность ее выполнять свои прямые обязанности решительно не верили.
Ширпотреб
В четырехтомном (академическом) «Словаре русского языка» слово это объясняется так:
► Потребление, использование чего-либо в значительном количестве широкими слоями населения. Производство предметов ширпотреба. // собир. Товары широкого потребления.
Объяснению этому предшествует обозначение: Разг. То есть — разговорное.
На самом деле, однако, в разговорный язык это слово вошло в несколько ином значении. И даже не несколько, а, я бы сказал, в совершенно ином.
Очень быстро, едва ли не сразу это сокращенное обозначение товаров широкого потребления приобрело уничижительный, пренебрежительный оттенок, а затем и откровенно иронический смысл.
Окончательно оторвавшись от первоначального своего значения, слово это зажило новой, самостоятельной жизнью, стало постоянным обозначением всякого примитивизма и безвкусицы. Ширпотребом стали называть самые различные явления общественной и социальной жизни. И не только в разговорном языке, но даже и в печати. Появились выражения: «Поэтический ширпотреб», «Нравственный ширпотреб», «Идейный ширпотреб». В конце концов слово обрело настолько устойчивую негативную, отрицательную окраску, что в официальной советской печати его стали употреблять для характеристики явлений западной масскультуры. В критической и искусствоведческой советской литературе стало мелькать даже и такое выражение: «буржуазный ширпотреб».
Причина этой смысловой трансформации очевидна. Товары этого самого ширпотреба, то есть как бы изначально предназначенные для широкого потребления, были такого низкого качества, настолько не отвечали своему назначению, что даже в условиях постоянно действовавшего дефицита не пользовались спросом. То есть пользовались, конечно, — по старой русской пословице: «За неимением гербовой, пишут на простой». Но пренебрежительное, ироническое отношение к ним, особенно у тех, кто — по возрасту — помнил еще качество аналогичных дореволюционных («довоенных», как тогда говорили, имея в виду еще Первую мировую войну) товаров, — преобладало.
Кое-кто — даже из принадлежавших к этому, «довоенному» поколению — стал уже подзабывать, какими качествами должен обладать настоящий, не «ширпотребовский» товар. Отсюда — реакция булгаковского Воланда на сообщение буфетчика, что «осетрину прислали второй свежести»:
► — Голубчик, это вздор!.. Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
— Я извиняюсь… — начал было опять буфетчик, не зная, как отделаться от придирающегося к нему артиста.
— Извинить не могу, — твердо сказал тот.
Но то, чего не мог извинить избалованный булгаковский «артист», легко извиняли рядовые советские граждане. А если и не извиняли, то мирились (что им оставалось делать!) со всеми этими приметами новой жизни: и с осетриной второй свежести, и с брынзой, цвет которой так возмутил того же Воланда («Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой»), и с чаем, похожим не на чай, а на помои, и с башмаками, от которых на другой же день после покупки отваливается подметка…
Были отдельные энтузиасты, которые не только мирились со всеми этими приметами новой социалистической реальности, но готовы были даже искренне восхищаться ими.
Мой приятель Дмитрий Сеземан родился и до семнадцати лет жил в Париже. Его мать и отчим (фамилия их была — Клепинины) были эмигрантами. Вместе с Сергеем Яковлевичем Эфроном (мужем Цветаевой) они сотрудничали с советской разведкой и, как и он, покинули Францию и вернулись на родину, где их, естественно, постигла та же судьба (арест, а потом и расстрел). Вместе с родителями приехал в Советский Союз и семнадцатилетний Митя. И вот какую историю о самом первом и самом сильном своем впечатлении по приезде в страну победившего социализма он мне рассказал.
Когда поезд пересек государственную границу СССР, они оказались в каком-то станционном буфете, и на столике Митя увидел дешевенькую грязновато-черную эбонитовую пепельницу. Повертев ее в руках, он обнаружил выбитую на ее донышке надпись «2-й сорт». Никто из местных жителей на эту деталь, конечно, не обратил бы никакого внимания. Но молодого парижанина эта надпись привела в неописуемый восторг.
— Вот! — ликуя, орал он. — Вот что такое социализм! Здесь нет этой отвратительной буржуазной рекламы, этого гнусного коммерческого обмана. Даже на таком вот дешевом изделии ширпотреба (слова этого он, конечно, не знал, но смысл был именно этот) они прямо, честно, открыто пишут: второй сорт! Потому что принципиально не желают ничего скрывать, не хотят никого обманывать!
А вот — еще одна история в том же духе.
В гостях у Паустовских были только что приехавшие из Парижа Натали Соррот с мужем. Они возбужденно делились своими впечатлениями о Москве, а мы (хозяева дома и пришедшие чуть раньше мой друг Борис Балтер и я) с интересом их слушали.
Особенно восторгался новой для него и не очень ему понятной советской жизнью муж знаменитой писательницы. Он впервые оказался в Советском Союзе, и восторг его был беспределен.
Но мы слушали эти его излияния с довольно кислыми минами.
«Интересно, — неприязненно думал я, — что же ему здесь так могло понравиться?»
И тут раздался голос моего друга Бориса.
— Объясните все-таки, — не очень вежливо перебил он знатного иностранца, — что именно, что конкретно вам здесь, у нас, так уж понравилось?
— О! — радостно объяснил тот. — Я почувствовал сразу, что попал в совершенно иной мир… Из аэропорта приехали мы в отель. Вошли. И никто не кинулся к нам, не подхватил наши вещи… Не было даже и тени этого гнусного лакейства, этой отвратительной угодливости! — Лицо его сияло. — Мы сами втащили свои чемоданы в лифт, сами нашли свой номер… Это было прекрасно!
Конечно, этот ненавязчивый, как у нас шутили, советский сервис мог восхитить только иностранца. А надпись «2-й сорт» на ширпотребовском изделии могла привести в восторг только семнадцатилетнего парижанина.
Но и среди соотечественников наших тоже попадались романтики, гордящиеся тем, что хоть по части ширпотреба и всяких иных жизненных благ нам далеко до Европы, а тем более до Америки, но зато у нас есть нечто иное, неизмеримо более ценное.
Об этом нам трубили наши любимые поэты:
Мы — голодные, мы — нищие, с Лениным в башке и с наганом в руке. (Маяковский)Это изо дня в день нам внушали самые наши знаменитые писатели:
► В Москве, на Свердловской площади, стоит фантастическая очередь — очередь перед пустым местом: люди ждут такси. В Париже стоит длинная очередь такси — они часами ждут пассажиров. В школах Свердловска и Сталинска стараются писать мелким, бисерным почерком — у них еще неуклюжие пальцы, и у них нет тетрадей. На парижских складах гниют тонны и тонны бумаги. Писать на ней нечего: векселя давно предъявлены к протесту, любовные записки известны наизусть, и никакими рекламами нельзя заставить обывателя купить «наилучший кабриолет Ситроена».
В московских издательствах сидят завороженные писатели — они ждут бумаги. С равной жадностью расхватывает страна сочинения Гегеля и стихи Пастернака. В парижских лавках высятся груды книг — их тщательно обходят. Если десять почтенных литераторов за изысканным завтраком присудят такому-то роману «премию Гонкура», то роман-счастливчик подпояшется соответствующим пояском, и, кряхтя, станут его покупать недоверчивые читатели, боясь отстать от моды и от традиции.
(Илья Эренбург. Затянувшаяся развязка)Эта статья Эренбурга была написана в 1932 году. Отсутствие тетрадей для студентов и школьников, нехватка бумаги для книг, очереди на стоянках такси (и не только в ожидании такси, а в тщетной надежде, что может быть «выбросят» и какие-нибудь другие, более насущные предметы — питания или ширпотреба) — все это именовалось тогда временными трудностями. Тем самым как бы предполагалось, что по мере дальнейшего нашего продвижения к социализму (а потом и к коммунизму) все эти трудности повседневного нашего бытия будут постепенно исчезать, уходить в прошлое.
Но время шло, а «трудности» все не исчезали, и как-то так вышло, что чередование этих разнообразных трудностей (по принципу: нос вытащишь — хвост воткнется) все уже привыкли считать такой же неизбежностью, как смену времен года. Именно так это тогда и называлось: «Четыре трудности социализма: зима, весна, лето и осень».
Где-то в начале 60-х был у меня на эту тему разговор с одним очень даже неглупым человеком — писателем. И он, что называется, на полном серьезе и даже с некоторой горячностью доказывал мне, что по мере дальнейшего нашего продвижения по намеченному пути жить мы будем все беднее и труднее. Предметов самой первой необходимости будет становиться все меньше и меньше, а бытовых трудностей — все больше и больше. И это очень хорошо, потому что ничего нет на свете страшнее буржуазной сытости и бездуховности: недаром одна из самых богатых стран буржуазного Запада — Швеция — занимает первое место в мире по количеству самоубийств.
В то, что нехватка и даже отсутствие предметов первой необходимости — такое уж благо, мне верить как-то не хотелось. А вот в первую половину его концепции — то есть в то, что предметов первой необходимости по мере нашего движения к коммунизму у нас в стране будет становиться все меньше и меньше, поверить было уже совсем не трудно. Потому что именно так оно все и происходило.
Окончательно я в этом убедился, когда в нашей «Молочной», куда я ходил за кефиром, исчез не только кефир и не только сыр, творог и другие молочные продукты, но и вообще все, хоть отдаленно напоминающее о продуктах питания: на прилавках лежали только мясорубки и почему-то детские куклы.
Примерно тогда же привелось мне услышать такой стишок:
В магазине «Молоко» нету молока. В магазине «Колбаса» нету колбасы. Ах, наступят ли когда светлые часы, Чтоб под вывеской «ЦК» не было ЦК. (Серго Ломинадзе)Стишок этот был сочинен в 70-е годы. Прямая причинная зависимость исчезновения предметов первой необходимости от существования ЦК КПСС была, таким образом, уже тогда не только осознана, но и зафиксирована.
А в 1987-м Владимир Войнович уже опубликовал (правда, еще не у нас, а в тамиздате) свой роман «Москва 2042», в котором из всех реалий, впечатливших рассказчика, посетившего в две тысячи сорок втором году коммунистическую Москву, более всего меня восхитила такая:
► Я достал из-под кровати свой «дипломат», бросил на тумбочку и, отвернувшись от Искры, стал в нем ковыряться. Бритва была где-то на дне. Я торопился, нервничал и начал швырять прямо на пол трусы, майки. Носки…
— А что это у тебя? — спросила Искра.
— Где?
— Ну вот это, то, что ты держишь в руках.
— Это?
В руке у меня был кусок туалетного мыла «Нивея».
— Это просто мыло, — сказал я. — Туалетное мыло.
— Да? — Мне показалось, что она чем-то смущена — А почему оно твердое? Заморожено?
— Почему заморожено? — не понял я. — Обыкновенное твердое мыло.
— Интересно, — сказала она, смущаясь все больше. — А можно понюхать?
— Пожалуйста.
Я бросил ей мыло через кровать.
Она ловко поймала его, поднесла к лицу и вдруг вскрикнула:
— Ах!
— Что с тобой? — испугался я.
Словно оцепенев, она прижимала мыло к лицу, внюхивалась в него и не открывала глаз.
— Искра! — встревожился я. — Искрина! Искрина Романовна, да что это с вами случилось?
Медленно она открыла глаза, посмотрела на меня внимательно, словно не сразу узнавая.
— Так пахла моя мама! — тихо сказала она и застенчиво улыбнулась.
Сочиняя эту антиутопию, автор дал волю своей фантазии. И надо признать, что многие картины коммунистического будущего, порожденные этой самой его разнузданной фантазией, реализовались гораздо раньше, чем это случилось в его романе. То есть — уже при социализме. Кое-какие совпадения этих его фантастических пророчеств с реальностью недавней, а отчасти даже и сегодняшней нашей жизни просто поразительны. Но то, что жители выдуманного им Москорепа уже не помнят, как выглядело, и лишь смутно помнят, как пахло самое обыкновенное туалетное мыло, — это, между нами говоря, никакое не пророчество и даже не такая уж смелая фантазия. Скорее это можно назвать экстраполяцией.
В полной мере это относится и к описанию коммунистической столовой, в которой герой романа изучает такое меню:
► 1. Щи питательные «Лебедушка» на рисовом бульоне.
2. Свинина вегетарианская витаминизированная «Прогресс» с гарниром из тушеной капусты.
3. Кисель овсяный заварной «Гвардейский».
4. Вода натуральная «Свежесть».
Автор и не скрывает, что тут особой воли своей фантазии он не давал. А насчет первого блюда, обозначенного в этом меню, откровенно сообщает:
► Отведав щей, я сразу догадался, что их гордое имя произведено не от длинношеей птицы, а от лебеды, которую в период расцвета колхозной системы мне приходилось вкушать и раньше.
Примерно так же обстояло дело и с той вонючей жидкостью, которая обитателям Москорепа заменила туалетное мыло. Вот герой романа отправляется в баню, которая при коммунизме, правда, именуется уже не баней, а пунктом санитарной обработки (слово, кстати, хорошо знакомое всем, кто помнит войну):
► …шофер мне сказал, что мыльные потребности удовлетворяются здесь же, и указал на какую-то будку в углу, где голая толстуха выдавала подходившим стаканчики. Мы с моим новым знакомым подошли, я получил свой стаканчик, понюхал и отдал шоферу. Уж как он меня благодарил!
Эта реалия коммунистического быта тоже не выдумана автором: она перекочевала в его роман из времен его военного детства. По поводу этого тогдашнего «мыла», помню, рассказывали в те времена такой — не совсем приличный (потому, наверно, он мне и запомнился) — анекдот:
► Приехавший в военную Москву Черчилль решил сходить в баню. И там выдали ему вот это самое так называемое мыло.
— Это что? — спрашивает он, брезгливо разглядывая то, что ему вручили.
— Это, — объясняют ему, — яичное мыло.
— Гм, — озадаченно говорит сэр Уинстон. — Но я ведь хотел ВЕСЬ помыться.
Из анекдота этого явствует, что москвичей более всего угнетало тогда ничтожное количество выдаваемого им продукта. К качеству его они, как видно, уже притерпелись. Так что анекдот этот относится скорее к проблеме дефицита. Слово же «ширпотреб» в его разговорном, бытовом варианте, злая ирония этого словоупотребления была нацелена именно на качество производимой продукции, на. полную ее непригодность для жизни.
Наверняка были какие-то анекдоты и на эту тему. Но почему-то ни одного такого сейчас припомнить я не могу. Наверно, потому, что никакие анекдоты тут, в сущности, даже и не нужны, поскольку язык сам зафиксировал то, что могли бы выразить такие анекдоты, переменив официально-нейтральное и даже как бы положительное значение этого слова на иронически пренебрежительное.
Это новое значение слова «ширпотреб» так решительно оттеснило прежнее, победа разговорного словоупотребления над официальным была до такой степени окончательной и бесповоротной, что официальный язык признал свое поражение. Скомпрометированное выражение было заменено новым: начиная с 50-х годов в официальных документах и газетных статьях вместо формулы «товары широкого потребления» утвердилась другая, более благопристойная: «товары народного потребления».
На качестве товаров это, разумеется, никак не отразилось.
Э
Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гете
Это Сталин сказал (даже не сказал, а собственноручно написал) на титульном листе ранней и, по правде говоря, ничем не примечательной поэмы Горького «Девушка и смерть». Как и многие другие — такие же глубокомысленные — высказывания вождя, эта сталинская реплика, разумеется, тут же была объявлена новым откровением марксистско-ленинской эстетики, подхвачена всей мощной машиной советской пропаганды и надолго (тогда казалось, что навсегда) вошла в тезаурус советского новояза.
Поэма Горького немедленно была включена в школьные программы, и факсимильное воспроизведение сталинского отзыва красовалось в наших школьных учебниках. Слово «любовь» сталинской рукой было написано там без мягкого знака: «любов». В школе, где я учился, ходили слухи, что кто-то из озорников-старшеклассников нарочно сделал в этом слове такую же ошибку, а когда ему хотели снизить за это оценку, сослался на то, что «так у Сталина». И никто из учителей не посмел ему намекнуть, что, мол, квод лицет Йови, нон лицет корове. Хорошо еще, что не внесли соответствующее изменение в орфографию, объявив, что отныне слово это надлежит писать именно так, как начертал его Сталин.
Помню еще, что какой-то известный советский художник написал картину, на которой был изображен А.М. Горький, читающий эту свою «штуку» Сталину, Ворошилову, Молотову и кому-то еще из тогдашних наших «тонкошеих вождей».
«Тонкошеими» их назвал О.Э. Мандельштам в том самом, знаменитом своем антисталинском стихотворении:
А вокруг его сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей. Кто мяучит, кто плачет, кто хнычет, Лишь один он бабачит и тычет.С историей создания этого стихотворения, за которое автор его заплатил, как известно, тюрьмой, ссылкой, а потом и гибелью, связано (если не прямо, так косвенно) и сталинское высказывание о «штуке», которая посильнее, чем «Фауст» Гете.
Н.Я. Мандельштам в первой книге своих воспоминаний рассказывает, что, прочитав отзыв Сталина на сказку Горького «Девушка и смерть», Осип Эмильевич сказал; «Мы погибли…»
Она замечает при этом, что слова эти он повторял потом часто. Увидав, например, на обложке какого-то иллюстрированного журнала, как Сталин протягивает руку Ежову.
Да и мало ли их было тогда, куда более зловещих и жутких сигналов, предвещающих неизбежную гибель — не только его собственную, гибель всей русской интеллигенции, всей русской культуры, гибель самой России.
Но впервые, свидетельствует Надежда Яковлевна, он произнес эти слова именно вот тогда, когда прочитал знаменитую реплику Сталина о горьковской сказке.
Странная вещь, непонятная вещь! Да что, в конце концов, такого уж страшного было в этом дурацком сталинском замечании? В особенности если сравнить его с другими — откровенно людоедскими — высказываниями, а тем более деяниями «отца народов»!
Но слова Сталина о горьковской сказке не зря наполнили душу Мандельштама таким леденящим ужасом.
Черт с ним, пусть дружески протягивает руку Ежову. В конце концов, это его дело. И ничего такого уж особенно нового нет в этом трогательном рукопожатии властителя и палача. Чего там! «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Но тут эти «руки брадобрея» потянулись к Гете, прикоснулись к «Фаусту»…
Ладно бы еще, если б эта дурацкая сталинская реплика была просто личным, частным мнением Иосифа Виссарионовича Сталина. Но вылетевшая из этих уст, она, как и все, что из них вылетало, мгновенно обретала силу закона, высочайшего указа отныне всем и каждому предписывается считать, что эта штука посильнее, чем «Фауст» Гете.
Дело было серьезное. Что, однако, не помешало возникновению и разного рода юмористических откликов на эту сталинскую реплику. Вот, например, такой глумливый перифраз:
► Эта штука посильнее, чем фаллос Гете.
Услышал я ее сравнительно недавно — в докладе Гасана Гусейнова на научной конференции в Ноттингаме: «200 лет русского юмора и сатиры». Доклад был посвящен проблемам так называемого стеба. Стеб — явление сравнительно новое, из чего можно заключить, что и комический перифраз старой сталинской формулы, приведенный докладчиком, родился в недавнее, уже постсоветское время.
А вот еще одна острота, переводящая многомудрое высказывание вождя в область, как теперь принято выражаться, телесного низа. Родилась эта острота еще в эпоху социализма, когда на 16-й полосе «Литературной газеты» действовал изобретенный наподобие Козьмы Пруткова писатель Евгений Сазонов, автор бесконечного романа-эпопеи «Бурный поток». Однажды «Литературка» устроила в Большом зале Центрального дома литераторов устный выпуск 16-й полосы. И там прозвучала такая новость:
► Писатель Евгений Сазонов начал новый роман с секретаршей. Как заявила она нашему корреспонденту: «Эта штука у него посильнее „Фауста“ Гете».
Однако и при жизни «отца народов» были попытки комической десакрализации этого священного текста.
Помню, например, такое пародийное объявление:
► Такого-то числа в Институте мировой литературы имени А. М. Горького состоится защита диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук: «Штука — как литературный жанр».
В качестве примера, удостоверяющего, что эта сталинская формула вошла и в обиходную, бытовую речь, никак не связанную со специальной литературоведческой тематикой и проблематикой, может служить такая, например, цитата:
► — Мой тебе совет — не возникай. Культурно выражаясь — не чирикай. Органы воспитывают, воспитывают, но могут сдуру и покарать. А досье у тебя посильнее, чем «Фауст» Гете.
Эту реплику в повести С. Довлатова «Заповедник» произносит майор КГБ, проводящий воспитательную беседу с главным ее героем — писателем-диссидентом. То есть человек, в какой-то мере (по долгу службы) обязанный быть в курсе литературоведческой терминологии и фразеологии. Так что, строго говоря, пример этот не может считаться вполне надежным свидетельством, подтверждающим, что эта сталинская фраза действительно вошла в повседневную бытовую речь рядового советского обывателя. Майор КГБ — это все-таки не обыватель. А если даже и обыватель, то, во всяком случае, — не рядовой.
Но вот еще одна такая же реплика:
► — Ох и напьемся… Это будет посильнее, чем «Фауст» Гете…
(Сергей Довлатов. Зона)На этот раз ее произносит уже не майор ГБ, а — зэк, бывший летчик. Так что, может быть, сталинская формула и в самом деле пошла в народ.
Вряд ли Довлатов все это выдумал. Что-то такое все-таки слышал, наверно. Уж. больно натурально звучат эти реплики в живой речи его невыдуманных героев.
Ю
Юбилейный год
«Славный юбилей», «славная годовщина», «славная дата» — эти слитные словосочетания были в ходу и раньше, даже в сталинские времена. Но тогда они еще не играли той особой роли, которая была уготована им в годы так называемого застоя, то есть при Брежневе. Именно при нем они обрели истинное свое значение и даже наполнились новым смыслом. Тогда же возникло еще одно такое же словосочетание, совсем уже новое, — «юбилейный год».
Относилось оно к «славной годовщине» — столетию со дня рождения В.И. Ленина. Именно тогда само это слово — «юбилей» — обрело в народе новое звучание, а отчасти и новую семантику:
► ЕБИЛЕЙ — юбилей. Когда в 1970 году праздновали столетие со дня рождения В.И. Ленина, народ шутил, что в продаже появились духи «Запах Ильича», мочалка «По ленинским местам» и трехспальная кровать «Ленин всегда с тобой».
(Андрей Чернов. Азбука стеба)О том же, до какой степени нам тогда запудрили мозги этим самым «юбилейным годом», можно судить по такому анекдоту:
► Приводят в отделение милиции задержанного на улице человека — то ли алкаша, то ли какого-то старого склеротика. А может быть, дело даже происходит и не в милиции. Может быть, это рассказывалось о пациенте какой-нибудь психбольницы. Не важно. А важно то, что допрашиваемый не может толком ответить ни на один вопрос.
— Ваше имя?
В ответ какое-то невнятное мычание.
— Фамилия?
Тоже никакого ответа.
— Где живете?
Тот же результат.
— Ну, хорошо. А какой у нас нынче год? Тоже не помните?
И тут лицо допрашиваемого озаряет радостная улыбка.
Нет, это он как раз помнит:
— Юбилейный!
Не только анекдот, но и сами эти словесные формулы не случайно вошли в язык и в массовое сознание именно в годы застоя. Причины для этого были самые серьезные.
* * *
При Сталине страна жила бурной идеологической жизнью. Что ни год — то новая идеологическая веха. Только-только разгромили «левых», как партия уже нацеливает нас на борьбу с «правыми». Коллективизация, индустриализация. Только-только расстреляли Каменева и Зиновьева, и уже — новый политический процесс: судят Бухарина, Рыкова, Ягоду.
А потом началась бурная смена идеологических вех — интернациональные лозунги спешно стали менять на национальные: постановление о «Богатырях» Демьяна Бедного, пакт с Гитлером, роспуск Коминтерна, новый гимн, армия надевает погоны…
Резкая смена идеологических вех стала основой всей идеологической жизни страны при Хрущеве: разоблачение культа Сталина, восстановление «ленинских норм», «коллективного руководства»…
И вот — застой!
Страна, привыкшая жить бурной идеологической жизнью, вдруг осталась без идеологии. «Малая земля» Леонида Ильича Брежнева даже дискуссию о языкознании заменить не могла, не говоря уже о более крупных событиях былой нашей идеологической жизни. И вот тут-то и начались все эти славные годовщины и юбилеи. Сначала крупные, а потом и помельче. Славная годовщина разгрома немцев под Москвой. Славный юбилей Ленинского комсомола. Славный юбилей советской милиции…
Мы просто не вылезали из юбилеев. Одна славная годовщина плавно перетекала в другую, следующую.
Ну, а когда все политические «славные даты» — даже не очень крупные — были отпразднованы, когда пришлось идти уже по второму и даже по третьему кругу, в промежутках между 50-летием, 60-летием и 70-летием главной даты справляли юбилеи помельче. И тут даже возник такой анекдот:
► — Слыхал, какой юбилей будем отмечать в будущем году?
— Нет, не слыхал. А какой?
— Сто лет со дня рождения лошади Буденного.
Иногда на государственном уровне отмечались и годовщины со дня рождения или смерти разных деятелей культуры.
Юбилей Лермонтова, например, чуть было не отметили по первому разряду.
Был создан юбилейный комитет во главе с К.Е. Ворошиловым. А одним из членов комитета — кажется, даже заместителем председателя — был Николай Николаевич Асеев.
И вот собрался комитет на свое первое заседание, и Климент Ефремович предложил свой план проведения торжеств. План этот он придумал сам и, судя по тому, как он его излагал, очень был им доволен.
Согласно этому плану праздноваться юбилей должен был в Большом театре. Первое отделение — торжественная часть: доклад и все такое. Второе отделение — опера «Демон».
Все молча выслушали это предложение и, наверно, приняли бы его. Если бы не Асеев.
Николай Николаевич, никогда особой храбростью не отличавшийся, вдруг возьми да и скажи, что оперу «Демон» все-таки написал не Лермонтов, а композитор Рубинштейн. Поэтому не лучше ли будет провести торжественный вечер в «Ленкоме» (Театре Ленинского комсомола). Первое отделение — торжественная часть, доклад и все такое, а второе отделение — с успехом идущий на подмостках этого театра спектакль «Маскарад». В отличие от «Демона» пьесу эту сам Лермонтов написал.
Обиженный Ворошилов пытался настоять на своем, но членам комитета план Асеева показался более резонным. После недолгих прений его и утвердили.
Когда, отзаседав, все уже расходились, Ворошилов, прощаясь, сказал Асееву:
— Не любите вы нас, Николай Николаевич!
— Кого вас? — удивился и даже слегка испугался Асеев.
— Вождей.
Юбилей Лермонтова, впрочем, так и не состоялся. И вовсе не из-за этого мелкого инцидента.
Отмечать-то собирались столетие со дня гибели поэта. А дата эта пришлась на 1941 год: началась война.
Однако и без такой важной причины юбилеи писателей, поэтов, композиторов, художников редко дотягивались до государственного уровня. Исключение составляли разве только Горький и Маяковский.
Но было еще одно, главное исключение из этого общего правила — Пушкин.
* * *
В сталинские времена круглая пушкинская дата приравнивалась к главным событиям политической жизни страны.
Вот что говорит по этому поводу управдом, герой фельетона М. Зощенко «В пушкинские дни» (дело происходит в 1937 году):
► Откровенно говоря, наш жакт не ожидал, что будет такая шумиха. Мы думали, ну, как обыкновенно, отметит в печати: дескать, гениальный поэт, жил в суровую николаевскую эпоху. Ну, там на эстраде начнется всякое художественное чтение отрывков или там споют что-нибудь из «Евгения Онегина».
Но то, что происходит в наши дни, — это, откровенно говоря, заставляет наш жакт насторожиться и пересмотреть свои позиции в области художественной литературы, чтобы нам потом не бросили обвинение в недооценке стихотворений и так далее.
Кроме этого — вполне обоснованного, кстати сказать, — беспокойства герой этого зощенковского фельетона тут же пытается использовать пушкинский юбилей в сугубо прагматических целях:
► Гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе жакта, что, в свою очередь, пусть напоминает неаккуратным плательщикам о невзносе квартплаты.
Такая попытка использовать Пушкина в общественных и даже государственных интересах может вызвать только улыбку. Но в другом рассказе Зощенко стремление «огосударствить» пушкинский юбилей выглядит уже не так невинно:
► Девяносто лет назад убили на дуэли Александра Сергеевича Пушкина.
Вся Россия, можно сказать, горюет и слезы льет в эту прискорбную годовщину. Но, между прочим, больше всех горюет и убивается — Иван Федорович Головкин.
Этот милый человек при одном только слове — Пушкин — ужасно вздрагивает и глядит в пространство.
В чем же дело? Почему Иван Федорович Головкин горюет и убивается по поводу безвременной кончины великого национального поэта больше, чем все остальное население России?
А потому, что у Ивана Федоровича с Пушкиным сложились свои, особые, можно даже сказать — личные отношения.
Началась эта история примерно так году в 1921-м. В это время Иван Федорович вернулся из армии в свой родной город. И тут выяснилось, что жить ему совершенно негде. Чуть не полгода он спал у знакомых на собачьей подстилке.
Не буду пересказывать всю одиссею, которую пришлось пережить Ивану Федоровичу, пока он наконец нашел себе помещение. Важно, что он его все-таки нашел:
► Комната маленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Это все есть. Ничего против не скажешь.
А очень любовно устроился там Головкин. На шпалеры разорился — оклеил. Гвозди куда надо приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет. Как падишах.
А время, конечно, идет. Вот уже восемьдесят седьмая годовщина ударяет со дня смерти нашего дорогого поэта Пушкина. Потом восемьдесят восьмая.
На восемьдесят девятой годовщине разговоры, конечно, поднялись в квартире. Пушкин, дескать. Писатель. Жил, дескать, в свое время в этом помещении. Осчастливил, дескать, жилплощадь своим нестерпимым гением. Нехудо бы в силу этого какую ни на есть досточку приклепать с полным обозначением в назидание потомству…
Сперва известие, что он живет в помещении, в некотором смысле унаследованном от Александра Сергеевича Пушкина, не слишком обескуражило Ивана Федоровича Головкина. Может быть, оно ему даже польстило. Во всяком случае, как говорит рассказчик, Иван Федорович сдуру тоже «участие принял в этой дощечке, на свою голову».
Но потом события приняли совершенно неожиданный оборот.
► Только, вдруг, в квартире ропот происходит. Дамы мечутся. Кастрюльки чистят. Углы подметают.
Комиссия приходит из пяти человек. Помещение осматривает.
Увидела комиссия разную домашнюю требуху в квартире — кастрюли и пиджаки — и горько так вздохнула.
— Тут, — говорит, — когда-то Александр Сергеевич Пушкин жил. А тут наряду с этим форменное безобразие наблюдается. Вон метла стоит. Вот брюки висят — подтяжки по стене развеваются. Ведь это прямо оскорбительно для памяти гения!
Ну, одним словом, через три недели выселили всех жильцов из этого помещения.
Головкин, это верно, очень ругался. Крыл. Выражал свое особое мнение открыто, не боясь никаких последствий.
— Что ж, — говорит, — это такое? Ну, пущай он гений. Ну пущай стишки сочинил: «Птичка прыгает на ветке». Но зачем средних людей выселять?
Тут особенно интересна фраза насчет того, что свое нелицеприятное мнение о Пушкине Иван Федорович выражал «открыто, не боясь никаких последствий». Стало быть, уже тогда выражать это «особое мнение» было не вполне безопасно. А дело происходило еще только в 1927 году.
Десять лет спустя, в 1937-м, когда отмечалось уже не девяностолетие, а столетие со дня гибели великого поэта, Иван Федорович, надо думать, уже не посмел бы так открыто выражать это свое «особое мнение».
Культ Пушкина в те дни достиг такого высокого градуса, что чуть было даже не сравнялся с культом самого Сталина. Во всяком случае, я хорошо помню постоянно повторявшуюся тогда — не такую уж безобидную по тем временам — шутку:
► — Слыхали последнюю политическую новость? Пушкин стал членом Политбюро.
За такие фразочки шутникам могло крепко достаться. Но несмотря на то, что за анекдоты тогда можно было схлопотать солидный срок, остряки не унимались.
Вот самый знаменитый тогдашний — юбилейный — пушкинский анекдот:
► Объявлен конкурс на лучший памятник Пушкину. Премий удостоились три проекта.
Первый из них был такой: на постаменте сидит Пушкин и читает книгу Сталина «Вопросы ленинизма».
Второй проект выглядел уже иначе: на постаменте сидит Сталин и читает том Пушкина.
Но ни тот, ни другой не удостоились высшей награды. Первую премию получил третий проект: на постаменте сидит Сталин и читает книгу Сталина «Вопросы ленинизма».
Анекдот этот красноречиво свидетельствует о том, что хоть Пушкин и стал тогда членом Политбюро, до Генерального секретаря ЦК ему было все-таки далеко. Но смысл его отнюдь не сводился к глумлению над достигшим тогда высшей своей точки культом Сталина.
Этот старый анекдот самим построением своим, всей логикой своего нехитрого сюжета обнажил самую суть интересующей нас проблемы. А суть эта состоит в том, что пышные и громогласные юбилеи (все равно чьи — Пушкина, Толстого, Иисуса Христа) власть устраивает для себя. Преследуя только свою выгоду, свои политические (а то и просто личные) цели.
* * *
Сто пятьдесят лет со дня рождения Пушкина (в 1949 году) страна отмечала не так громко, как столетие со дня его смерти, но все-таки достаточно помпезно.
Было, как водится, торжественное заседание в Большом театре. В президиуме сидели члены Политбюро и другие, как принято тогда было говорить, «знатные люди нашей Родины».
Доклад о жизни и творчестве великого поэта делал Константин Симонов.
Само собой, и весь ход этого торжественного заседания, и симоновский доклад транслировались по радио на всю страну.
Но широкие народные массы — особенно где-нибудь там, в глубинке, — большого интереса к этому мероприятию не проявляли.
Во всяком случае, в маленьком казахском городке, на центральной площади которого был установлен репродуктор, никто — в том числе и местное начальство — не ожидал, что доклад Симонова вдруг вызовет у населения такой жгучий интерес.
Репродуктор хрипел что-то свое, не слишком разборчивое. Площадь, по обыкновению, была пуста. Но к началу торжественного заседания, транслировавшегося из Большого театра, вернее, к началу симоновского доклада — вся площадь вдруг заполнилась толпой всадников, прискакавших неведомо откуда. Всадники спешились и молча застыли у репродуктора.
Менее всего были они похожи на тонких ценителей изящной словесности. Это были совсем простые люди, худо одетые, с усталыми, изможденными лицами. Но в казенные слова симоновского доклада они вслушивались так, словно от того, что сейчас скажет там, в Большом театре, знаменитый поэт, зависела вся их жизнь.
Но в какой-то момент, где-то примерно в середине доклада, они вдруг потеряли к нему всякий интерес. Вскочили на своих лошадок и ускакали — так же неожиданно и так же стремительно, как появились.
Это были сосланные в Казахстан калмыки. И примчались они из дальних мест своего поселения в этот городок, на эту площадь, с одной-единственной целью: услышать, произнесет ли московский докладчик, когда он будет цитировать текст пушкинского «Памятника» (а он ведь непременно будет его цитировать! Как же без этого?), слова: «И друг степей калмык».
Если бы он их произнес, это означало бы, что мрачная судьба сосланного народа вдруг озарилась слабым лучом надежды.
Но вопреки их робким ожиданиям Симонов этих слов так и не произнес.
«Памятник» он, конечно, процитировал. И даже соответствующую строфу прочел. Но — не всю. Не до конца:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий Тунгус…И — все. На «тунгусе» цитата была оборвана.
Я тоже слушал тогда (по радио, конечно) этот доклад. И тоже обратил внимание на то, как странно и неожиданно переполовинил докладчик пушкинскую строку. Но о том, что стоит за этой оборванной цитатой, узнал гораздо позже. И историю эту про калмыков, примчавшихся из дальних мест, чтобы послушать симоновский доклад, мне тоже рассказали потом, много лет спустя. А тогда я только с удивлением отметил, что при цитировании пушкинского «Памятника» у докладчика почему-то пропала рифма. И очень удивился, что Симонов (поэт все-таки!) ни с того ни с сего вдруг изувечил прекрасную пушкинскую строку.
Пропавшую рифму Пушкину вернули лишь восемь лет спустя. Только в 57-м (после смерти Сталина, после XX съезда) сосланный народ возвратился в родные калмыцкие степи, и текст пушкинского «Памятника» мог наконец цитироваться в своем первозданном виде. Даже со сцены Большого театра.
* * *
Подводя итоги всей этой советской пушкиниане, можно сказать, что каждый из трех припомнившихся мне славных пушкинских юбилеев был своего рода мандатом.
Юбилей 27-го года был мандатом на выселение из квартиры Ивана Федоровича Головкина.
Юбилей 37-го — мандатом на кровавую Большую Чистку, вошедшую в народное сознание под именем ежовщины.
В 49-м, казалось бы, можно было уже обойтись и без такого мандата. Но Пушкин все еще продолжал оставаться членом Политбюро. И подобно тому как на арест Бабеля или Артема Веселого нужна была виза (санкция) генерального секретаря Союза писателей Фадеева, так и на то, чтобы калмыки оставались в своей ссылке, необходима была виза (санкция) Александра Сергеевича.
Инерция этих «славных юбилеев» продолжается и сейчас, в новое, уже постсоветское время. (Совсем недавно с помпой отмечалась двухсотлетняя пушкинская годовщина.) Причина — та же: старая идеология окончательно скомпрометирована, новая пока так и не сложилось. Вот и приходится по-прежнему пробавляться юбилеями. И даже — полуюбилеями (850-летие Москвы). Не ждать же еще 50 лет до новой круглой даты. Пришлось довольствоваться полукруглой.
Я
Язвы и родимые пятна
К слову «Запад» (не в географическом, а в политическом его значении) в советском новоязе было два постоянных эпитета — «буржуазный» и «растленный»:
И в моральном, говорю, моем облике Есть растленное влияние Запада… (Александр Галич)Эпитет «буржуазный» был вроде как поприличнее. В нем как бы присутствовал оттенок некоторого наукообразия. Беспристрастная научная констатация: у нас, мол, уже социалистический строй, а у них — пока еще! — капиталистический, буржуазный.
Но в контексте обычных советских инвектив это квазинаучное определение звучало такой же руганью, как и более эмоционально окрашенное «растленный». Тем более что почти всегда со словами «буржуазный», «капиталистический» соседствовало слово язвы.
Все известные нам человеческие (общественные, социальные) пороки — такие, как проституция, нищета, безработица, алкоголизм, наркомания, коррупция, взяточничество, — именовались у нас язвами капитализма.
Те же явления — если вдруг заходила о них речь применительно к советской действительности — именовались уже иначе: пережитками прошлого, родимыми пятнами капитализма.
За этими лицемерными эвфемизмами (как и за уже рассматривавшимся на этих страницах выражением «отдельные недостатки») стояла вся целостная система мировоззрения советского человека, вся внушаемая ему картина вселенной.
Буржуазный Запад — это мир неизлечимо больной, до основания прогнивший, исторически обреченный. Поэтому все его болезни — это язвы. Они — в принципе — неизлечимы.
В нашем же — день ото дня все более крепнущем, цветущем общественном организме, — если и случаются какие-то недомогания, то они не просто излечимы, а сами собой излечатся, отомрут по мере дальнейшего нашего продвижения вперед, к светлому будущему. Во всяком случае, для нормальной жизнедеятельности нашего здорового организма они так же неопасны, как какие-нибудь родимые пятна.
Это разделение соблюдалось строго, на всех уровнях советского общественного бытия.
Вот была, например, в репертуаре Александра Вертинского такая песенка — «Испано-сюиза». И были в ней, между прочим, такие слова:
Измельчал современный мужчина Стал таким заурядным и пресным…Артисту дали понять, что такое обобщение неуместно. У них — там, на Западе, где происходили события, о которых сообщал он нам в своей песенке, — мужчина, может быть, и в самом деле измельчал. И даже наверняка. Но к нашему, советскому мужчине это ни в коей мере не относится. Не может относиться.
И бедняга Вертинский внес в свой текст соответствующее исправление. Вместо «современный» стал петь — «буржуазный»: «Измельчал буржуазный мужчина…» — Ну, и так далее…
В этой забавной истории в комической форме отразился давний философский спор, который вели между собой российские интеллигенты: следует ли считать пороки, от сотворения мира свойственные человечеству, социальными язвами, которые исчезнут, если общество будет перестроено на новой, здоровой основе, или же язвы эти исходят из самой природы человека.
Федор Михайлович Достоевский, как известно, придерживался последней точки зрения.
► …Так как общество устроено ненормально, — излагал он взгляд своих противников, — то и нельзя спрашивать ответа с единиц людских… Надо покончить с ненормальностью общества и склада его. Так как лечить существующий порядок вещей долго и безнадежно, да и лекарств не оказалось, то следует разрушить все общество и смести старый порядок как бы метлой. Затем начать все новое, на иных началах, еще неизвестных, но которые все же не могут быть хуже теперешнего порядка, напротив, заключают в себе много шансов успеха. Главная надежда на науку.
Изложив, — горестно заметил:
…Ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью.
И заключил:
Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой.
(Ф.М. Достоевский. Дневник писателя)Как мы теперь уже знаем, мрачное пророчество Достоевского насчет лекарей-социалистов, которые «зальют мир кровью», сбылось полностью. Но по поводу различных способов лечения «социальных язв» в его времена все-таки еще можно было дискутировать: вопрос оставался открытым.
После победы социализма в одной отдельно взятой стране почвы для таких дискуссий уже не осталось. Над различием между «язвами капитализма» и нашими безобидными, безвредными «родимыми пятнами» теперь можно было только смеяться. Что мы и делали, сочиняя и повторяя такие стишки:
Буржуазный онанизм — Разрушает организм Наш советский онанизм — Укрепляет организмЯвка обязательна
Этой формулой неизменно заключалась повестка, приглашающая на собрание.
Собрание — слово старое. Но в советские времена оно стало значить совсем не то, что обозначалось этим словом раньше.
► Собрание — совокупленье чего-либо однородного в одно место, с какою-либо особою целью. Собранье ископаемых, оружия, древностей, музей, кабинет, хранилище. // Сходбище людей с разною целью. Собрание сената, суда, собора, бытность налицо членов для совещаний и решения дел. Благородное собрание, городское собрание, клуб, съезд для беседы или увеселений.
(Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка)Одно из толкований Даля («бытность налицо членов для совещания и решения дел») вроде и к нашим, советским — и даже партийным — собраниям вполне приложимо.
Но у Даля — да и много позже Даля — не веяло от этого слова той жутью, тем зловещим смыслом, который обрело это старое русское слово в нашем советском новоязе.
► Выуженная из щели коммунального почтового ящика узкая серая ленточка, напечатанная на старой раздерганной машинке сквозь рваную ленту слепым, линялым, лиловым шрифтом, будто пьяными, зловещими, вкривь и вкось разбежавшимися буквами «Ваша явка обязательна», — была как сирена тревоги.
Сколько я себя помню, «Явка обязательна». Всю жизнь «Явка обязательна».
Собрания. На них решалась жизнь и смерть. Они заменили нам молитвы, исповеди, книги, цирк, оперетту. О, это было важнее и страшнее консилиума. Это было лобное место…
Удивительное сочетание, когда все или почти все понимают, ощущают если не умом, так сердцем, душой, что происходит что-то нелепое, нелогичное, бессмысленное, никому не нужное, лживое и неправедное, с глупыми словами, словами-шелухой, словами-пиявками. И все-таки страхом спаяны, страхом, ставшим уже привычным, натурой, принимают это как должное, обязательное, само собой разумеющееся, и в голову не приходит никому встать, поднять руки, крикнуть: что вы делаете?..
Что за странность эти собрания? Откуда они взялись? Что сделало их самым главным, самым важным средоточием современной жизни, явлением более опасным, более страшным, чем землетрясение, наводнение, чума? Это помесь суда, панихиды и плахи…
Это сборище разнородных, часто враждебных, непримиримых друг к другу людей, которые вот так встречаются раз в месяц или меньше, и встречаются не по каким-то важным, мучающим их причинам, для выяснения каких-то важных вопросов, решения каких-то необходимых срочных дел, а только потому, что нужно собраться, чтобы где-то там, в руководящей, надзирающей, контролирующей инстанции поставили галочку…
(Борис Ямпольский. Баша явка обязательна)Да это и был пустой ритуал — «для галочки», для отчета. Унылая бюрократическая скука со всеми этими непременными «Слушали — постановили», «Кто за? Кто против? Кто воздержался?..», «Позвольте ваши аплодисменты считать…» и прочей словесной шелухой, из которой давным-давно уже выветрились последние остатки некогда заключавшегося в них смысла.
Однако внутри, в глубине этого пустого и бездушного ритуала всегда таилась угроза. В любой момент ритуал мог превратиться в изощреннейшую камеру пыток и — более того! — в Голгофу, в место казни — сплошь и рядом не только гражданской, но и физической.
► Жизнь проходила от собрания к собранию, от кампании к кампании, и каждая последующая была тотальнее, всеобъемлющее, беспощаднее и нелепее, чем все предыдущие, вместе взятые. И все время нагнетали атмосферу виновности всеобщей и каждого в отдельности, виноватости, которую ничем никогда не искупить. Надо все время чувствовать себя виноватым и покорно принимать все наказания, все проработки, все приговоры.
…Вот и выходит, что это не просто галочка для отчета, формальность, выходит так, что эта пустая, нудная литургия есть величайшее изобретение, камера, в которой тебя лишают слова, мнения, личности, сопротивления, унижают тебя, доводят до состояния муравья, комара, мухи.
(Там же)Одно из главных свойств этого ритуала — унылого и в то же время жуткого — заключалось в том, что собрание было не только высшим, верховным судьей, от которого зависели твоя жизнь или смерть, но и твоим коллективным исповедником, имеющим право на вторжение в твою личную жизнь, в самое твое святая святых, тайное тайных.
Перед собранием, — если уж вызывали тебя, как это тогда говорилось, «на ковер», — ты должен был разоблачиться до исподнего, заголиться до самой последней наготы. И именно в этом и состояла главная пытка, главное твое наказание:
Я к ней, в ВЦСПС, в ноги падаю, Говорю, что все во мне переломано, Не серчай, что я гулял с этой падлою, Ты прости меня, товарищ Парамонова!Дело сугубо личное. И вина его — отнюдь не общественная, а тоже личная. И жена его, «товарищ Парамонова», перед которой он виноват, обладает огромным арсеналом средств, с помощью которых может наказать провинившегося супруга: ведь она ему не только жена, но и начальница. Но из всех видов казни она выбирает именно вот эту, самую страшную, самую мучительную:
А она как закричит, вся стала черная: «Я на слезы на твои — ноль внимания, И ты мне лазаря не пой, я ученая, Ты людям все расскажи на собрании!»И вот он начинается, этот привычный, хорошо всем нам знакомый ритуал.
Начинается вполне буднично и вроде как даже безобидно:
…У них первый был вопрос — свободу Африке! — А потом уж про меня — в части «разное». Ну, как про Гану — все в буфет за сардельками, Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами, А как вызвали меня, я свял от робости, А из зала мне кричат: «Давай подробности!»Деваться некуда, и герой, верный правилам этой жестокой игры, начинает заголяться:
«Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою я перед вами, словно голенький, Да, я с племянницей гулял с тети-Пашиной, И в „Пекин“ ее водил, и в Сокольники, И в моральном, говорю, моем облике Есть растленное влияние Запада, Но живем ведь, говорю, не на облаке, Это ж только, говорю, соль без запаха!» И на жалость я их брал, и испытывал, И бумажку, что я псих, им зачитывал, Ну, поздравили меня с воскресением, Залепили строгача с занесением!Человек, далекий от понимания тогдашней жизни (иностранец какой-нибудь или совсем молоденький наш компатриот), может и не понять, почему со «строгачом», то есть со строгим выговором, да еще «с занесением» (то есть с занесением в личное дело), человека надо было поздравлять.
Но поздравлять стоило, потому что «строгачом» он отделался. Могли ведь и исключить. А исключение — это смерть. Дело, стало быть, было нешуточное.
Гораздо труднее объяснить — тому же иностранцу или совсем молоденькому нашему компатриоту, — кто они были, эти люди, которые поздравляли его с воскресением.
Неужели те же, что только что кричали ему из зала: «Давай подробности!» — и сладострастно смаковали все эти интимные подробности его грехопадения?
Да, это были именно они. Те же самые люди, которые только что втаптывали его в грязь, клеймили, навешивали политические ярлыки, заставляли заголяться, выворачиваться перед ними наизнанку.
Конечно, они от всего этого получали некоторое удовольствие. И конечно, роль их в этом аутодафе была палаческая. Но при этом они (во всяком случае, многие из них) явно не желали своей жертве зла и даже хотели его выручить, спасти, вытащить из беды, в которую он попал. И когда это спасение (воскресение) состоялось, поздравляли его вполне искренне, от всей души.
Скорее всего они даже и не ощущали ни постыдной жестокости своей роли палачей, ни мучительной унизительности роли жертвы: ведь это был ритуал. Привычный, ничего не значащий, пустой ритуал, совершающийся «для порядка», для протокола, для галочки.
► Я пошел к Григорию Михайловичу Скульскому. Бывший космополит, ветеран эстонской литературы мог дать полезный совет.
Григорий Михайлович сказал:
— Вам надо покаяться.
— В чем?
— Это не важно. Главное — в чем-то покаяться. Что-то признать. Не такой уж вы ангел.
— Я совсем не ангел.
— Вот и покайтесь. У каждого есть в чем покаяться.
— Я не чувствую себя виноватым.
— Вы курите?
— Курю, а что?
— Этого достаточно. Курение есть вредная, легкомысленная привычка. Согласны? Вот и напишите… Покайтесь в туманной, загадочной форме…
(Сергей Довлатов. Невидимая книга)Бывший космополит и ветеран эстонской литературы в отличие от активистов собрания, описанного Галичем, конечно, понимает, что человеку, которому не в чем каяться, не так-то просто заставить себя принять участие в этом мерзком ритуальном действе. И некоторую бессовестность своего совета (искреннего и вполне серьезного, ведь это — единственный выход из положения, который он видит и может предложить) маскирует юмором.
Да, противно. Но что поделаешь? Плетью обуха не перешибешь. К тому же мы ведь с вами понимаем, что все это — не более чем пустая формальность. И в конце концов игра стоит свеч…
Вот так же, наверно, убеждали, уговаривали себя и те, кому выпадало играть в таком ритуальном действе роль не жертвы, а палача.
А может быть, им и уговаривать себя не приходилось, так привыкли они к совершению этого необходимого ритуала.
* * *
В 1947 году — я был тогда студентом-первокурсником Литературного института — меня исключали из комсомола.
Началось это так.
Вдруг, ни с того ни с сего, меня срочно вызвали к директору.
Постучавшись и приоткрыв двери директорского кабинета, я сразу увидал, что директора нашего — Федора Васильевича Гладкова — в кабинете нету. А за длинным его столом восседает целый синклит хорошо и не очень хорошо известных мне лиц.
Сидящий во главе стола хорошо мне знакомый профессор Леонтьев объявил мне, что в партком института (все сидящие за тем столом как раз и входили в этот — до сего дня неведомый мне партком) поступило заявление, которое они мне сейчас зачитают.
То, что они называли заявлением, было самым обыкновенным доносом. Начинался он с описания очень тревожащей автора «заявления» обстановки в нашем институте. Обстановка была — из рук вон. Среди студентов царили упаднические настроения. Многие из них проявляли аполитичность, безыдейность. Имели место даже отдельные антисоветские высказывания. Особые опасения вызывало у автора распространенное среди некоторой части студентов пренебрежительное и даже негативное отношение к изучению основ марксизма-ленинизма.
Эту чудовищную атмосферу идейного застоя и даже гниения ярче всего может характеризовать поведение студента Сарнова, выразившееся в акте чудовищного и наглого политического хулиганства.
Провалив зачет по основам науки наук, Сарнов назвал марксизм-ленинизм схоластикой. Позже, готовясь к новому зачету, в присутствии нескольких студентов, которые могут это подтвердить (шел перечень фамилий), указывая на книги Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, Сарнов произнес такую, кощунственную в устах советского студента фразу: «Я ненавижу классиков марксизма-ленинизма за то, что они понаписали всю эту муру, которую я вынужден теперь учить!»
Сарнов и раньше неоднократно проявлял свои гнилые, антипартийные и антисоветские взгляды. Так, например, он резко критиковал основополагающие постановления Центрального Комитета нашей партии о литературе и искусстве: «О журнале „Звезда“ и „Ленинград“», «Об опере Мурадели „Великая дружба“».
Много там приводилось и других ужасающих фактов, свидетельствующих о том, что обстановка в Литературном институте сложилась совершенно нетерпимая для советского вуза. А тем более для учебного заведения, готовящего кадры работников идеологического фронта. Обстановку эту необходимо было срочно оздоровить, очистив здоровое ядро коллектива от идеологически чуждого элемента, каковым безусловно является студент первого курса Бенедикт Сарнов.
В заключение мне было сообщено, что члены парткома уже побеседовали с теми студентами, которые были свидетелями моего политического хулиганства, и все факты, изложенные в прочитанном мне письме, полностью подтвердились.
Небо обрушилось на меня, когда я все это услышал.
Я даже не догадался спросить, чья подпись стоит под этим «Заявлением». (Впоследствии выяснилось, что оно было анонимным.) Я только жалко лепетал, что постановления ЦК никогда не критиковал (и в самом деле не критиковал, разве только говорил о них без придыхания, без полагающегося в этих случаях трепета), что марксизм-ленинизм схоластикой никогда не называл, а всего лишь назвал профессора Леонтьева схоластом, за что готов немедленно перед ним извиниться, что о ненависти к классикам марксизма даже и не заикался, а просто неудачно пошутил: вот, мол, сколько они понаписали, а мне, бедному, приходится все это учить. Шутка, конечно, глупая, это я признаю, но ни в коем случае не согласен, что эту дурацкую мою выходку можно назвать политическим хулиганством.
Выслушав эти мои жалкие объяснения, члены парткома сурово объявили, что будут разбираться, и меня отпустили.
В тот же день меня с треском вышибли из комитета комсомола, членом которого я был. А на другой день срочно было созвано общеинститутское комсомольское собрание, на котором рассматривался только один вопрос: мое, как это у них называлось, персональное дело.
Сперва зачитали уже знакомое мне «Заявление». Потом предложили высказаться поименованным в нем свидетелям главного моего преступления. Моя сокурсница Люда Шлейман, рыдая, подтвердила, что все было в точности так, как это излагалось в доносе. Женя Винокуров, с которым мы сидели за одной партой, повел себя мужественнее. Он сказал, что ничего такого не помнит. Он вообще никогда ничего не запоминает. (Говоря это, он словно бы сам удивлялся такому странному устройству своей памяти.) Поэтому он не может ни подтвердить, ни опровергнуть выдвинутых против меня обвинений.
После Винокурова слово взял мой лучший друг Гриша Поженян. Он произнес яркую и даже, я бы сказал, высокохудожественную речь. На правах близкого друга, общавшегося со мной не только в институте, но и дома, он начал с рассказа о моих родителях. Главным образом об отце, которого он охарактеризовал как человека отсталого, сформировавшегося в дореволюционное время, да к тому же еще в мещанской, отчасти даже мелкобуржуазной среде. Вот этими своими мелкобуржуазными, несоветскими настроениями он якобы заразил и меня.
Это заявление поразило меня до глубины души.
Да, конечно, кое-какие основания для таких выводов у Гришки действительно были. От отца я и в самом деле унаследовал, а вернее сказать — перенял манеру, как выразился наш великий поэт, «свободно и раскованно» болтать о предметах, о которых в таком тоне говорить давно уже не полагалось. Но, во-первых, тот же стиль был свойствен, и, может быть, даже в большей мере, чем мне, и самому Поженяну. А кроме того, с отцом моим у Гришки отношения были самые дружественные. Они сразу понравились друг другу и очень быстро нашли общий язык. Если я иногда — и даже нередко — еще спорил с отцом на политические темы, то он, Поженян, — никогда. В их отношении к жизни было много общего. Особенно сближала их пронизывающая все их разговоры стихия юмора. У отца — слегка приправленного еврейским скепсисом, у Поженяна — хохлацкой лукавинкой.
Однажды в каком-то таком разговоре, ведущемся, по обыкновению, «в тоне юмора», отец сказал:
— И все-таки вы должны быть благодарны нам. Ведь это мы с оружием в руках завоевали для вас советскую власть.
Лично он, насколько мне известно, ни с каким оружием в руках советскую власть не завоевывал. Разве только, приехав в 17-м году с фронта в родное местечко, нацепил красный бант и слегка покуролесил там с такими же, как он, молодыми ребятами. О чем потом горько сожалел, вспоминая пророческую реплику своего отца — моего деда:
— Вы тут наломаете дров и уедете. А нам с ними жить, — сказал ему тогда дед.
И жизнь показала, что он был прав. В сорок втором деда и бабку убили. Считалось, — что немцы. Но на самом деле скорее всего те самые мужички — «богоносные, Достоевские», как злобно называет их персонаж знаменитой пьесы Булгакова, которые отомстили таким образом еврейским старикам и старухам за давние подвиги их сыновей с красными бантами, одним из которых был и мой отец.
Нет, отец, конечно, не всерьез сказал тогда, что он с оружием в руках завоевывал для нас советскую власть, за что мы должны быть ему благодарны. Это был такой, что ли, иронический пас — нам с Гришкой. И Гришка не ударил лицом в грязь. Реакция его была мгновенна. Он встал, медленно подошел к отцу, взял его руку, торжественно ее потряс и с чувством произнес:
— Огромное вам спасибо!
И надо было видеть, как оба были они при этом довольны друг другом, а главное — полным своим взаимопониманием.
Представьте теперь, каково мне было слышать грозные Гришкины инвективы, гневно разоблачающие с трибуны отсталые, мелкобуржуазные взгляды бедного моего родителя.
Но разоблачением политической отсталости отца Гришка не ограничился. Разделавшись с отцом, он приступил к такому же живописному изображению моей мещанки-матери, а затем уже добрался и до меня. Обо мне он сказал, что я сопляк, не нюхавший жизни, капризный маменькин сынок, которого мама кормит чуть ли не с ложечки. Все это он щедро иллюстрировал разными бытовыми подробностями из наблюдавшейся им жизни нашей семьи. Иногда окарикатуренными до неузнаваемости, а нередко и просто выдуманными. Так, например, он сообщил, что каждый день после обеда мать выдавливает мне сок из двух апельсинов, которые я, морщась, с недовольной миной выпиваю. Правдой тут было только то, что в буфете у нас еще с довоенных времен сохранилась маленькая стеклянная соковыжималка, специально предназначенная для выдавливания (вручную) сока из апельсинов, и мать рассказывала, что, когда я был маленький, она действительно заставляла меня пить этот сок. Не исключено даже, что сообщила при этом, как я — пятилетний или шестилетний — при этом морщился, а может быть, даже и плевался.
Раздавленный всеми этими жуткими разоблачениями, я не мог поднять глаз. Я прямо сгорал от стыда. Но больнее, чем стыд, жгло меня черное предательство Поженяна. Я просто не знал, что мне теперь о нем думать, как я теперь, после этой чудовищной его речи, погляжу ему в глаза.
Но тут же выяснилось, что эта раздавившая меня его речь вовсе не была предательством. Это был тонкий, весьма хитроумный, даже, я бы сказал, изощренный тактический ход.
Импровизируя эту свою замечательную речь, он исходил из того, что в сложившейся ситуации мне уж лучше выглядеть сопляком и маменькиным сынком, чем злостным антисоветчиком и политическим хулиганом.
Все это я усек в самом конце Поженяновой речи, финал которой сводился к тому, что только наш здоровый комсомольский коллектив способен сделать из меня человека. Если меня исключат, я буду катиться все дальше и дальше по наклонной плоскости и в конце концов погибну. И что поэтому меня надо не отторгать от коллектива, не исключать, а — воспитывать.
Вывод этот произвел на собравшихся именно то впечатление, на которое Поженян рассчитывал. Ухватившись за эту брошенную им спасительную соломинку, почти все выступавшие после него в один голос твердили, что меня нельзя отторгать, а надо воспитывать и даже, если понадобится, и перевоспитывать.
В результате я получил строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело. С ужасной, конечно, формулировкой: «За политическое хулиганство и неправильное отношение к марксизму-ленинизму», — но все-таки всего лишь выговор.
Окружившие меня после собрания ребята хлопали меня по плечу, поздравляли. Слова, которые они при этом произносили, не отличались разнообразием — все они, в общем, сводились к знаменитой реплике из той самой, написанной уже в другую эпоху песни Галича: «Схлопотал строгача, ну и ладушки…» И только Людка Шлейман выдала несколько иной текст, шепнув мне на ухо: «Ты даже не понял, от чего мы тебя спасли!»
Но я — понял.
Сам, может быть, и не догадался бы, но мне помогли. Помогли на том же собрании. В самом его конце, когда решение по моему персональному делу было уже вынесено, поднялся наш комсомольский секретарь Игорь Кобзев. Он был бледен. Губы его исказила трагическая гримаса.
— Органами государственной безопасности, — медленно, с трудом, словно бы через силу выговаривая эти ужасные слова, заговорил он в мгновенно наступившей мертвой тишине, — арестован студент нашего института Наум Мандель. Есть предложение: исключить гражданина Манделя из рядов ВЛКСМ. Кто за, прошу поднять руки.
Руки подняли все. И я, конечно, тоже. И чувство у меня при этом было такое, будто я, только что висевший над той же бездной, в которую провалился арестованный органами государственной безопасности Мандель, каким-то чудом не рухнул туда же, хотя и продолжаю удерживаться на самом ее краю.
После Людкиных слов меня снова бросило в холодный пот пронзившее меня сознание, что я все еще — «у бездны на краю». И возникло острое желание как можно скорее отползти хоть на шаг от этого смертельно опасного края.
Но отползти не удалось.
На следующий день было объявлено, что состоится второе, на этот раз уже не комсомольское, а — партийно-комсомольское собрание. И оно состоялось. И тут уж ничье доброжелательство и никакие хитрости Поженяна не могли меня спасти.
Все было решено заранее.
Как оказалось (не помню, тогда же мне кто-то об этом шепнул на ухо или я узнал это потом), то письмо, которое зачитывали мне члены парткома, было адресовано самому Жданову. В этом, впрочем, ничего такого уж удивительного не было. Миллионы таких писем чуть ли не ежедневно посылались не только Жданову, но и самому Сталину. Удивительно было, что это письмо дошло до адресата. И главный идеолог страны (Сталин не был «главным», он был Богом) прочел его и собственноручно на нем начертал: «Разобраться!»
Можно себе представить, какой мандраж охватил все руководство нашего института, когда с самого верха, с тех недосягаемых заоблачных высот, спустили им эту августейшую резолюцию. Тут уж было не до какого-то там Сарнова: надо было спасать себя. Институт могли просто-напросто разогнать к чертям собачьим.
Участникам будущего собрания именно так это и объяснили.
Коммунистов поодиночке вызывали на партком. А комсомольцев приехал уговаривать секретарь райкома ВЛКСМ Ковалев. Собрав самых активных, в числе которых был, конечно, и Поженян (который все мне потом рассказал), он объяснил им, что, не исключив меня, они не только себя подвели под монастырь, но даже и мне оказали медвежью услугу.
— Сейчас у вас остался последний шанс, — сказал он. — Если вы Сарнова исключите, вы тем самым покажете, что коллектив у вас здоровый. А мы на бюро райкома это исключение не утвердим. И Сарнову будет хорошо, и вам. Ну, а если вы и во второй раз его не исключите, комсомольскую организацию вашу придется укреплять.
Укреплять — это значило разгонять.
Меня исключили, и райком, конечно, это исключение утвердил. Как миленький.
А лет пять спустя заглянул к нам с женой в гости старый мой институтский товарищ Макс Бременер: он тоже был в числе активистов, с которыми Ковалев проводил тогда эту свою душеспасительную беседу. И он рассказал, что вскоре после того, как выяснилось, что райком все-таки утвердил решение о моем исключении, он (Макс) встретил Ковалева случайно на улице и сказал ему:
— Что же вы нас обманули? Обещали, что, если мы исключим Сарнова, райком это решение не утвердит, а потом взяли и утвердили.
— Все это сейчас не имеет уже никакого значения, — сказал Ковалев, — поскольку Сарнов, как мне стало известно, недолго будет гулять на свободе.
Моя жена, которая слушала этот наш разговор вполуха (она была погружена в разучивание на нашем старом «бехштейне» какого-то шопеновского вальса) на этой фразе вдруг резко оборвала свою музыку и с ужасом уставилась на Макса.
— Наконец-то я все-таки вынудил вас прервать ваши музыкальные экзерсисы, — усмехнулся Макс. И продолжил свой рассказ.
Уж не знаю, сам ли он до этого додумался или кто-то знающий ему всю эту кухню открыл, но в его изложении эта моя — тогда уже давнишняя — история выглядела так.
Институт, как и всякое советское учреждение, а в особенности идеологическое, был битком набит стукачами. Ежедневными их доносами была насквозь прошита вся наша студенческая жизнь. Фиксировались все наши разговоры, отдельные высказывания, реплики. Я со своей склонностью болтать «свободно и раскованно» на любые, в том числе и табуированные, темы был для них особенно легкой поживой. Доносы на меня по разным мелким поводам все копились и копились, пока количество их наконец не перешло в качество. Критической точкой оказалась моя злополучная фраза про классиков марксизма.
Сотрудники органов, день ото дня пополнявшие мое досье, посовещались с начальством, и там пришли к выводу, что на посадку все эти мои глупости все-таки не тянут. И тогда было принято компромиссное решение: доносчика заставили сочинить то самое письмо, а уж они (органы) обеспечили доставку этого письма самому Жданову в собственные его руки. Делу, таким образом, был дан ход. И поначалу предполагалось, что институт лишь слегка полихорадит и на том все и кончится. Но потом, видимо, возникли какие-то колебания. Кое-кто склонялся все-таки к более жесткому решению моей судьбы, что и стало известно Ковалеву к моменту вышеописанной его встречи с Максом. Не исключено, что Ковалев вовсе даже и не врал, убеждая ребят, что райком мое исключение не утвердит. Может быть, он искренне не хотел, не собирался это решение утверждать, но его вызвали КУДА НАДО, объяснили ситуацию и посоветовали проявить более высокую партийную принципиальность.
Вот, оказывается, как близка была тогда ко мне разинутая страшная пасть ГУЛАГа. И хотя я всего этого, конечно, не знал, но словно бы чуял уже ее зловонное дыхание, спинным мозгом ощущал грозящую мне смертельную опасность.
Но дело не во мне, не в моем, рассказанном здесь «случае».
Все это я рассказал только лишь для того, чтобы показать, как рано привелось всем нам — даже людям моего поколения, а уж о тех, кто был старше и говорить нечего, — как рано пришлось нам узнать, что от собрания (даже не партийного, а комсомольского) до ГУЛАГа — только один шаг. И даже не шаг — полшага.
* * *
В 1937 году приехавший в Советский Союз знаменитый немецкий писатель Лион Фейхтвангер написал книгу «Москва 1937». Книга эта была стремительно издана — гигантским тиражом и сразу же стала у нас бестселлером. Но спустя довольно короткое время она была изъята из всех библиотек, а те, у кого она оказалась в их домашних библиотеках, тотчас же смекнули, что хранить ее у себя дома небезопасно. И быстро поспешили тем или иным способом от нее избавиться.
Такой поворот событий никого удивить не мог: это случалось тогда со многими книгами. Но в одном отношении такая судьба этой фейхтвангеровской книги была все-таки удивительна. Фейхтвангер был единственным влиятельным и, как тогда казалось, безусловно честным и неангажированным представителем западной интеллигенции, кому удалось побывать на одном из знаменитых московских процессов. И этот процесс, о котором весь мир орал как о чудовищной фальсификации, он описал в высшей степени сочувственно и доброжелательно, с абсолютной, ничем не замутненной верой в правдивость официальной советской версии.
Казалось бы, таким свидетелем надо бесконечно дорожить, а не изымать его книгу из обращения.
Судите сами:
► По общему виду это походило больше на дискуссию, чем на уголовный процесс, дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло… Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга…
Невероятной, жуткой казалась деловитость, обнаженность, с которой эти люди непосредственно перед своей почти верной смертью рассказывали о своих действиях и давали объяснения своим преступлениям…
Признавались они все, но каждый на свой собственный манер… Но тон, выражение лица, жесты у всех были правдивы.
Я никогда не забуду, как Георгий Пятаков, господин среднего роста, средних лет, с небольшой лысиной, с рыжеватой, старомодной, трясущейся острой бородой, стоял перед микрофоном и как он говорил — будто читал лекцию. Спокойно и старательно он повествовал о том, как он вредил в вверенной ему промышленности. Он объяснял, указывал вытянутым пальцем, напоминая преподавателя высшей школы, историка, выступающего с докладом о жизни и деяниях давно умершего человека по имени Пятаков и стремящегося разъяснить все обстоятельства до мельчайших подробностей, охваченный одним желанием, чтобы слушатели и студенты все правильно поняли и усвоили.
(Лион Фейхтвангер. Москва 1937)Тайной подоплеки этого жуткого спектакля, зрителем которого он стал, Фейхтвангер, конечно, не знал.
Не знал (а вернее — предпочел не знать), что это была грандиозная инсценировка. И был у нее Автор. И был Режиссер. И за кулисами были пытки, долгие ночные допросы, угрозы расстрелять не только самих обвиняемых, из которых вымогали ложные признания, но и их жен, детей, и лживые обещания, если публично во всем признаются, сохранить им жизнь…
Но было тут и другое. И это другое Фейхтвангер как раз уловил.
За всем этим жутким спектаклем стоял долгий опыт, в плоть и кровь, в каждую нервную клетку каждого из обвиняемых въевшийся ритуал партийных собраний, партийных дискуссий, давно уже ставших привычными для них партийных покаяний.
Георгий Леонидович Пятаков, поведение которого на процессе произвело такое сильное впечатление на Фейхтвангера, был внутренне готов к тому, чтобы именно так повести себя в тот роковой час своего земного пути, задолго до того, как его к этому вынудили.
Сохранился совершенно поразительный человеческий документ — письмо, которое он однажды написал разочаровавшемуся в большевизме и отошедшему от большевиков Николаю Владиславовичу Валентинову (Вольскому). Вот как он объяснял в том письме, на что должен быть способен человек, связавший себя с большевистской (коммунистической) партией:
► Большевизм — есть партия, несущая идею претворения в жизнь того, что считается невозможным, неосуществимым и недопустимым… Ради чести и счастья быть в ее рядах мы должны действительно пожертвовать и гордостью, и самолюбием, и всем прочим. Возвращаясь в партию, мы выбрасываем из головы все ею осужденные убеждения… Небольшевики и вообще категория обыкновенных людей не могут сделать мгновенного изменения, переворота, ампутации своих убеждений… Мы — партия, состоящая из людей, делающих невозможное возможным: проникаясь мыслью о насилии, мы направляем его на самих себя, а если партия этого требует, если для нее нужно и важно, актом воли сумеем в 24 часа выкинуть из головы идеи, с которыми носились годами… Подавляя свои убеждения, выбрасывая их, — нужно в кратчайший срок перестроиться так, чтобы внутренне, всем мозгом, всем существом быть согласным с тем или иным решением, постановлением партии. Легко ли насильственное выкидывание из головы того, что вчера еще считал правым, а сегодня, чтобы быть в полном согласии с партией, считать ложным? Разумеется, нет. Тем не менее насилием над собой нужный результат достигается… Я слышал следующего вида рассуждения: она (партия) может жестоко ошибаться, например, считать черным то, что в действительности явно и бесспорно белое… Всем, кто подсовывает мне этот пример, я скажу: да, я буду считать черным то, что считал и что могло казаться белым, так как для меня нет жизни вне партии, вне согласия с ней.
(Н. Валентинов. Пятаков и большевизм. Новый Журнал. N.Y., 1958, № 52. С. 148)Случись Фейхтвангеру прочесть это письмо, он бы, наверно, лучше понял, что происходило на том Московском процессе и почему это жуткое судилище, приговорившее почти всех обвиняемых к расстрелу (те немногие, что получили более мягкий приговор, тоже были расстреляны или погибли в сталинских лагерях), показалось ему похожим скорее на партийную дискуссию, чем на суд.
Письма Пятакова, правда, он знать тогда не мог, поскольку опубликовано оно было спустя двадцать лет после того процесса, да и появилось на страницах малотиражного эмигрантского журнала. Но побывать на каком-нибудь советском (или даже открытом партийном) собрании Фейхтвангер, наверно, мог. И тогда кое-что тоже, я думаю, для него прояснилось бы в загадочном поведении обвиняемых на том Большом московском процессе.
Тут, правда, надо взять в расчет то, что Пятаков и его подельники принадлежали к поколению так называемых «старых большевиков». Это были, как сказал о них Сталин, люди особого склада. Они были скроены (по словам того же мыслителя) из особого материала.
В их отношении к партийным решениям, каковы бы они ни были (лучше всех суть этого отношения сформулировал Троцкий, сказавший, что партия всегда права), — проявилось особое свойство их душевной, психической структуры, объясняя которое не обойтись без слова достоевщина. (Чем, как не чистой воды достоевщиной было все то, о чем писал Пятаков Валентинову в процитированном выше письме.)
Коммунистам сталинского призыва эта достоевщина уже не была свойственна.
Да, они тоже исходили из того, что партия всегда права. И тоже всегда готовы были признать, что черное — это белое, а белое — черное. Но им для этого уже не надо было совершать над собой никакого насилия.
То, что для тех было мучительнейшей и сложной психологической процедурой (как-никак они были люди идейные, и отрекаться от своих идей им было нелегко), для этих превратилось в обыденный, будничный, мертвый, ничего не значащий ритуал. Из чего, однако, вовсе не следует, что все это не было для их душ так же разрушительно, как и для их старших товарищей.
Это душевное растление не было — и не могло быть — безобидным.
Оно не могло пройти для них (для всех нас) бесследно.
В конце концов именно это ведь и привело к тому, что мои друзья, которые только что поливали меня грязью, «клеймили позором», называли политическим хулиганом, как только собрание кончилось, стали хлопать меня по плечам, искренне, от души радуясь, что вытащили меня из беды, отстояли, спасли.
Главный смысл того, что происходило на тех собраниях, заключался в том, что люди переставали быть людьми.
И это происходило повсеместно, «от края и до края», на всем громадном пространстве нашей необъятной страны.
► Ах, эти конференц-залы, тысяча тысяч конференц-залов, специальные, парадные, с мраморными колоннами, хрустальными люстрами и глубокой сценой с вертящимся кругом, на котором смонтированы декорации средневекового замка или великой стройки, а когда нужно, выставляется длинный стол президиума, которому вертеться уже совсем ни к чему, потому что стол президиума должен стоять твердо, незыблемо, на одном месте, и за кулисами комнаты с «вертушкой», спецбуфетом и будуаром для президиума и почетных гостей; а залы самодеятельные, сотворенные из нескольких канцелярских комнатушек или монастырских камер, протянувшихся кишкой, с низкими сводчатыми потолками и узкими, еле пропускающими свет окошками; или совсем крохотные, загнанные в закуток учреждения, даже без окон, с рядами разностильных стульев; и вовсе не залы и даже не красные уголки, а длинный деревянный барак, где все двери открыты настежь, президиум и докладчик в коридоре, а народ в клетушках, лежа на нарах, слушал докладчика, подавал реплики или дремал, а в конце собрания чохом принимал резолюцию.
Но какие бы они ни были, эти конференц-залы, со сценой или подмостками, изображавшими сцену, там всегда стоял накрытый красным кумачом стол, висел лозунг, подходящий или совсем неподходящий к случаю, а в самом центре, в яблочке, в десятке — портрет вождя, без единой крапинки, без единой оспинки, единой уродинки, неуступчивый, суровый, отвлеченно глядевший в зал и, казалось, все видевший, все угадывавший, все помнящий и никому ничего не прощающий.
И в огромных, сияющих бархатом и позолотой залах, и в замызганных, пахнущих мышиными норками и прахом напрасных бумаг, мелкими доносами и апелляциями красных уголках происходило одно и то же, и произносились одни и те же слова, давно уже обветшавшие, но все продолжавшие приносить беспокойство и муку.
(Борис Ямпольский. Баша явка обязательна)Ненависть уже во второй раз цитируемого мною здесь автора к описываемому им жуткому ритуалу так велика, что всех его участников он видит лишь в пределах той социальной роли, которую они тут вынуждены играть.
► Стоило только поглядеть, как кто входит. Один толкнет дверь прямо в грудь, распахнет ее навылет, так что звенят стекла, словно должна пройти целая демонстрация, и входит тяжело, в шубе, в ботах, в боярской шапке с фиолетовым верхом, отдуваясь, еще из дверей подает голос и идет, как бы возвышаясь над толпой, раздает улыбки, возбуждая, электризуя, магнетизируя толпу, направо и налево сует руку: «Как дела, старик?» Другой в дверь и не проходит, проскользнет, даже не смея, даже не считая возможным обременять собой тяжелую парадную дверь, проскользнет, просочится в щелку, оставленную предыдущим, и еще и оглянется, как бы скажет двери «спасибо», и чувствует себя в открытом просторном фойе как-то виновато, стараясь незаметно просочиться, тихо зарегистрироваться и бочком, бочком пробраться в зал, в задние ряды, в тень, в непростреливаемое пространство, стараясь ничем себя не выдать, а там, в зале, даже когда все хохочут, он только улыбался, а когда аплодировали, и он тихонько похлопывал, покорно выслушивая все речи, все справки, все возражения и контрвозражения, не выражая ни словом, ни видом, ни взглядом своего мнения, до смерти боясь оглашения, и, кажется, умер был тут же на месте от разрыва сердца, если бы вдруг со сцены, от стола президиума, где мощно, молодо работал мотор собрания, если бы оттуда его заметили и громко назвали его фамилию, вызвали стать перед всеми и спросили: «А ваше мнение?»
Их так долго ни о чем не спрашивали, не интересовались их мнением, что они привыкли его не иметь, свое мнение, а только слушали, голосовали, подымая руку вместе со всеми, ни на минуту раньше, ни на минуту позже других, а только вместе в лесе рук, и, когда говорили: «Прошу опустить руку», — первые опускали. Они никогда не воздерживались, они голосовали только «за» вместе со всеми и вместе со всеми «против». Они были масса, большинство, болото.
Заметьте: собрание даже еще и не началось, а они уже не люди. Мертвые, безжизненные детали бездушного и беспощадного механизма. Винтики, как сказал о них вождь.
У Ямпольского они перестали быть людьми уже давно. Они расчеловечены, уничтожены, раздавлены тяжестью всех предыдущих собраний, на которых пришлось им побывать, играя всегда одну и ту же, заранее им определенную роль.
Другой автор увидел — и изобразил — эту коллизию иначе:
► Вечером в правлении колхоза, как всегда, горела керосиновая лампа и потрескивал батарейный радиоприемник. Передавались марши, но их почти не было слышно. За сосновым квадратным столом сидели четыре собеседника, а табачного дыму было столько, что огонек в лампе еле-еле дышал, как в часы большого собрания. Казалось, что и приемник потрескивает потому, что дыму в избе было много. На столе для окурков стоял глиняный горшок, он был уже полон…
Сидели долго, разговаривали неторопливо — обо всем понемногу и доверительно, без всяких оглядок, как старые добрые товарищи.
Так начинается рассказ Александра Яшина «Рычаги», явившийся на свет в 1956 году («Литературная Москва», сборник второй) и наделавший тогда много шуму.
Четверо, разместившиеся за сосновым квадратным столом в тесной избе правления колхоза, сидели и разговаривали в ожидании пятого. Вернее, пятой — учительницы. Ждали, чтобы, когда она явится и все коммунисты села будут в сборе, провести партийное собрание.
Разговоры, которые они вели, дожидаясь ее прихода, и впрямь были доверительные:
► — А ведь сахар-то в сельпо на днях опять привозили, — сказал кладовщик Щукин, самый молодой из собеседников, в одежде которого замечалась уже городская школа: на нем была рубашка с галстуком, из нагрудного кармана торчали авторучка и расческа.
— Донес, что ли, кто? — лукаво спросил его третий из сидевших за столом, человек без левой руки, полный, рыхловатый, в затасканном, чуть ли еще не фронтовом брезентовом плаще внакидку.
— Никто не доносил, а сам Микола с бабой послал мне на дом килограмма два, сказал — после рассчитаемся.
— И ты взял?
— Взял. Не брать, так всю жизнь без сахару просидишь. И ты бы взял.
С бытовых тем разговор постепенно переходит на общие. Иногда не вполне даже безопасные. Но остается при этом таким же доверительным, откровенным:
► — Взял-то я взял, — сказал Щукин после некоторого раздумья, — но где же все-таки правда? Куда уходит сахар, где мыло, где все?..
Тогда дал о себе знать четвертый собеседник:
— Зачем тебе правда, ты сейчас — кладовщик…
А однорукий, которого все называли по имени и отчеству, Петром Кузьмичем, возразил:
— Ну, правда — она нужна. На ней все держимся. Только я, мужики, чего-то опять не понимаю. Не могу понять, что у нас в районе делается! Вот ведь сказали — планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утверждают… А районный план дают сверху… От нашего плана опять ничего не осталось. Вот тебе и правда!..
— Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся: сами все понимают, а прыгнуть боязно… Дома заколоченные в деревне видят, а сказать об этом вслух не хотят. Только и заботы, чтобы в сводках все цифры были круглые…
Но вот появляется, наконец, учительница, которую они так долго дожидались, и начинается собрание.
► …Ципишев встал и произнес те самые слова, которые в подобных случаях произносил секретарь райкома партии, и даже тем же сухим и словно бы заговорщическим голосом, каким говорил перед началом собраний секретарь райкома:
— Начнем, товарищи! Все в сборе?
Сказал он это и будто щелкнул выключателем какого-то чудодейственного механизма: все в избе начало преображаться до неузнаваемости — люди, и вещи, и, кажется, даже воздух… Лица у всех стали сосредоточенными, напряженными и скучными, будто люди приготовились к чему-то очень давно знакомому, но все же торжественному и важному. Все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир, в обстановку сложную и не совсем еще привычную и понятную для этих простых, сердечных людей.
— Все в сборе? — повторил Ципишев, оглядывая присутствующих, словно их было по крайней мере не один десяток.
А было их сейчас, как мы уже знаем, всего-навсего пятеро…
Партийное собрание началось…
— Товарищи! — сказал председатель колхоза. — Райком и райисполком не утвердили нашего производственного плана. Я считаю, что мы кое-что не предусмотрели и пустили на самотек. Это не к лицу нам. Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее. А людей убеждать надо, товарищи. Мы с вами являемся рычагами партии в колхозной деревне — на это нам указали в райкоме и в райисполкоме…
И в самом деле — будто щелкнул выключатель какого-то невидимого механизма, и перед нами в тот же миг — совсем другие люди. Они говорят уже не то, что думают, а то, что полагается говорить на таких собраниях. И ведут себя не как живые люди, а как автоматы, манекены, марионетки. Они уже не люди, а — рычаги. И вскоре становится ясно, что действия этих «рычагов», когда они предстают в этом своем качестве, — не так уж безобидны. И для их односельчан (в том числе и для них самих), и вообще для дальнейшего течения жизни. Не то что не безобидны, а в полном смысле этого слова злокачественны. Становится ясно, что именно действиями вот таких рычагов, управляемых откуда-то сверху, и совершается все то темное, тупое и страшное, из-за чего жизнь в стране день ото дня становится все гнуснее и невыносимее.
Но вот собрание кончается. И сельские коммунисты расходятся по домам.
► Когда председатель колхоза Кудрявцев и полевод Иван Коноплев шли из конторы по темной грязной улице, возобновился разговор о жизни, о быте, о работе — тот самый, который шел до собрания… И снова это были чистые, сердечные, прямые люди, люди, а не рычаги.
Борис Ямпольский свою книгу «Ваша явка обязательна» писал (так и не дописал) — в стол. Писал украдкой, прятал, уносил из дома, отдельные исписанные листки оставлял у друзей. Уже в новое, «перестроечное» время друг покойного писателя Илья Константиновский собрал эти разрозненные листки, как-то — по собственному разумению — соединил их и опубликовал, перемежая своими «связками» и сопроводив своим комментарием.
Яшину — на волне хрущевской «оттепели» — свой рассказ удалось опубликовать. И при всей, скажем так, скромности его художественных красок, он произвел тогда впечатление разорвавшейся бомбы.
Этим непритязательным своим рассказом Яшин попал в самый нерв, в самую острую болевую точку.
Московские писатели, помню, посвятили тогда обсуждению этого короткого рассказа (случай небывалый!) специальное заседание. И все выступавшие говорили там именно вот об этом — самом больном в прожитой ими жизни.
Атмосфера накалялась, и накал этот уже давно перехлестнул ту невидимую черту, за которой начиналось недозволенное и даже опасное.
И вот в этой-то накаленной атмосфере один из участников обсуждения — не слишком известный детский писатель, «проваренный в чистках, как соль», — напуганный (хоть и не партийное, а все-таки собрание!) тем оборотом, который принял этот, уже вовсе не литературный разговор, начал свое выступление так.
— Я различаю, — задумчиво сказал он, — понятия «рассказ» и «новелла»…
Сидящий рядом со мной и Юрой Трифоновым Борис Бедный шумно вздохнул:
— Счастливый человек!
Союз нерушимый (Как бы эпилог)
Первая строка советского — сталинского — гимна («Союз нерушимый республик свободных») вошла в официальный новояз как патетический синоним понятия «Советский Союз». В школах практиковался даже специальный урок русского языка, тема которого обозначалась этой формулой.
Сейчас, когда «нерушимый» так стремительно и сравнительно легко — без всякого вмешательства извне — развалился, этот эпитет звучит откровенно иронически.
Впрочем, в иронии, нацеленной в эту мишень, и раньше не было недостатка. Бытовал, например, такой перифраз: Союз нерушимый республик голодных.
Или такая незатейливая острота: Шило и шина — союз нерушимый.
А мальчишки-школьники распевали: Союз нерушимый голодных и вшивых…
* * *
Первый советский гимн — «Интернационал» — тоже порой становился мишенью разного рода иронических острот и анекдотов.
Был, например, такой анекдот:
► В маленькой грузинской деревушке жена постоянно окликает мужа каким-то странным, никому не ведомым в здешних местах именем: «Заклемони!»
— Заклемони! Иди ужинать!
— Слушай, что за имя такое? — спрашивают у нее. — Никогда не слыхал!
— Да нет, — отвечает она. — Это не имя. Это — прозвище. Сидит, поет все время: «Вставай, проклятьем заклемони…» Вот его так и прозвали…
Или вот еще такой. Это уже — чисто московский.
В начале 30-х милиционеры в Москве носили не фуражку, а такой белый шлем с шишаком наподобие буденновского. И вот будто бы подходит к стражу порядка в этом «буденновском» шлеме любопытный прохожий и спрашивает:
► — А там, в этой штуке, что у тебя на шапке торчит, дырочка есть?
— Вроде нет, — отвечает он. — А зачем она мне?
— А чтобы, когда кипит твой разум возмущенный, оттуда пар выходил.
Был даже и иронический перифраз слов пролетарского гимна, который частично использовал Булгаков:
► Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо… В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:
— Короче повод.
Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках…
По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:
…Ни туз, ни дама, ни валет, Побьем мы гадов, без сомненья, Четыре сбоку — ваших нет… (М. Булгаков. Роковые яйца)Но все эти шутки были скорее добродушные. И мишенью острот и анекдотов было не лицемерие и ложь этого государственного гимна (как позже это случилось с новым, сталинским), а скорее некоторая его непонятность. Непонятность не только отдельных слов и выражений, недоступных разумению простого человека, но и всей его, так сказать, образной системы.
► Из всех недетских песен ребята нашей страны чаще всего слышат, конечно, «Интернационал». Эта песня ими чрезвычайно любима, хотя многое в ней они понимают по-своему. Я знаю, например, трехлетнего младенца, который, услышав строку «Воспрянет род людской», воспроизвел ее так:
«Воз пряников в рот людской».
(Корней Чуковский. От двух до пяти)С трехлетнего младенца, конечно, какой спрос! Но и многие взрослые — из тех, кому приходилось слышать и даже петь «Интернационал», — весьма смутно представляли себе, что значит «воспрянет род людской» или «кипит наш разум возмущенный».
Но в целом к «Интернационалу» население относилось скорее уважительно. И пели его — истово, с просветленными лицами, как молитву. И слова — хоть и не всегда понятные — знали. Вот ведь даже Булгаков в сатирическом, издевательском своем сочинении мимоходом обронил про пение этого странного гимна, что было оно — «щиплющее сердце». В самом деле щипало, значит…
А вот свидетельство еще одного автора, не менее, чем Булгаков, далекого от истового, молитвенного, романтического отношения к пролетарскому гимну. Да и дело происходит в таких местах, где на это самое романтическое отношение рассчитывать не приходится ни при какой погоде:
► …Замполит поправил ремень, дождался тишины и выкрикнул:
— Революционная пьеса «Кремлевские звезды». Роли исполняют заключенные Усть-Вымского лагпункта. Владимир Ильич Ленин — заключенный Гурин. Феликс Эдмундович Дзержинский — заключенный Цуриков. Красноармеец Тимофей — заключенный Чмыхалов. Купеческая дочь Полина — работница АХЧ Лебедева, Тамара Евгеньевна… Итак, Москва, тысяча девятьсот восемнадцатый год…
Хуриев, пятясь, удалился. На просцениум вынесли стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену поднялся Цуриков в диагоналевой гимнастерке. Он почесал ногу, сел и глубоко задумался…
Тут появился Ленин с огромным желтым чемоданом в руке.
— Здравствуйте, Феликс Эдмундович.
— Здрасьте, — не вставая, ответил Дзержинский.
Гурин опустил чемодан и, хитро прищурившись, спросил:
— Знаете, Феликс Эдмундович, что это такое?..
— Понятия не имею.
Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя полное равнодушие.
Из зала крикнули:
— Встань, Мотылина! Как с паханом базаришь?
— Ша! — ответил Цуриков. — Разберемся… Много вас тут шибко грамотных…
Представление шло к финальной сцене…
Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем лицо его озарилось светом исторического предвидения.
— Кто это?! — воскликнул Гурин. — Кто это?!
Из темноты глядели на вождя худые, бледные физиономии.
— Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?..
В голосе артиста зазвенели романтические нотки… Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо.
— Неужели это те, ради кого мы возводили баррикады? Неужели это славные внуки революции?..
Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду. Через секунду хохотали все. В общем зале слышался бас майора Амосова. Тонко вскрикивала Лебедева. Хлопал себя руками по бедрам Геша Чмыхалов. Цуриков на сцене отклеил бородку и застенчиво положил ее возле телефона.
Владимир Ильич пытался говорить:
— Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас… Дослушайте же, псы! Осталось с гулькин хер!..
Зал ответил Гурину страшным неутихающим воем:
— Замри, картавый, перед беспредельщиной!..
Хуриев притиснулся к сцене и дернул вождя за брюки:
— Пойте!
— Уже? — спросил Гурин. — Там осталось буквально два предложения. Насчет буржуазии и про звезды.
— Буржуазию отставить. Переходите к звездам. И сразу запевайте «Интернационал»…
Гурин, надсаживаясь, выкрикнул:
— Кончайте базарить!
И мстительным тоном добавил:
— Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды!..
— Поехали! — скомандовал Хуриев.
Взмахнув ружейным шомполом, он начал дирижировать.
Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел:
…Вставай, проклятьем заклейменный…И дальше, в наступившей тишине:
…Весь мир голодных и рабов…Он вдруг странно преобразился… Лицо его казалось отрешенным и грубым. Глаза были полузакрыты. Сначала один неуверенный голос, потом второй и третий. И вот я уже слышу нестройный распадающийся хор:
…Кипит наш разум возмущенный, На смертный бой идти готов…Множество лиц слились в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли. Лебедева сжимала руками виски. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя революции застыла странная мечтательная улыбка..
…Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем…Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы… От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил…
А потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие, смущенные голоса.
— Представление окончено, — сказал Хуриев.
Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу.
(Сергей Довлатов. Зона)Кое у кого тут, наверно, возникнет соблазн повторить знаменитую реплику Станиславского: «Не верю!» Но я почему-то верю в эту немыслимую, фантастическую ситуацию.
С этой гротескной довлатовской сценой крепко «рифмуются» такие стихотворные строки одного моего сверстника:
Тому вовек рассудком не понять Страну мою, Как строилась, страдала, Кого ни разу не смогли пронять До слез слова «Интернационала». (Евгений Винокуров)Нелишним, наверно, тут будет напомнить, что и государственным гимном «Интернационал» стал в 1918 году не по какому-нибудь там специальному правительственному декрету, а как бы волеизъявлением масс. Это вышло вроде как само собой, что тоже, конечно, говорит о многом.
Но в 1942 году Сталин принял решение отказаться от «Интернационала» (сохранив его лишь в качестве партийного гимна), а для государственного гимна заказать новый текст и новую музыку.
Этот заказанный, принятый и утвержденный вождем новый гимн по смыслу был прямо противоположен старому.
В старом говорилось:
Никто не даст нам избавленья. Ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья Своею собственной рукой.Из нового явно вытекало, что избавленья, освобожденья и всех прочих благ мы добьемся не сами. Что есть у нас свой Бог, он же и Царь, и Герой, который вел, ведет и приведет нас к долгожданной счастливой жизни:
Нас вырастил Сталин — на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил.Было бы, однако, наивно думать, что Сталину приспичило заменить старый гимн на новый только лишь для того, чтобы еще раз утвердить и восславить свои личные заслуги в создании государства, которое он тогда возглавлял.
* * *
Главная причина перемены гимна заключалась в том, что на мировую революцию, на которую надеялся Ленин, захватывая власть в России, рассчитывать больше не приходилось. Да и не очень-то лежала у Сталина душа к этой мировой революции. Он хотел воссоздать мощную Российскую империю — продолжить дело Ивана Грозного и Петра Великого. И вот по-этому-то и надо было распустить Коминтерн и заменить «Интернационал» новым государственным гимном. Ну, и о своей роли в создании могучей советской державы тоже, конечно, напомнить не мешало.
Вот по этой-то причине Сталин не только заказал новый гимн, но и сам принял в его создании весьма деятельное участие.
Поначалу, впрочем, все было очень демократично.
Был объявлен конкурс поэтов и композиторов, в котором приняли участие едва ли не все тогдашние звезды. Из стихотворцев, разумеется, прежде всего — самые известные тогдашние поэты-песенники: Исаковский, Лебедев-Кумач, Долматовский. Но захотели попробовать свои силы и многие другие — не менее знаменитые — поэты, никогда в песенном жанре специально не работавшие: Демьян Бедный, Николай Тихонов, Павел Антокольский, Михаил Светлов, Николай Асеев, Михаил Голодный, Константин Симонов. (Называю только самые громкие имена.)
Из соображений высшего политеса были задействованы и нацинальные кадры: Сулейман Стальский, Павло Тычина, Максим Рыльский, Самед Вургун…
Список композиторов, принявших — или изъявивших желание принять — участие в конкурсе, тоже являет блистательную плеяду звезд самой первой величины: Шостакович, Шапорин, Хачатурян, Мурадели, Юровский… Ну и, конечно, самые знаменитые творцы популярных в народе песен: Соловьев-Седой, Хренников, Блантер…
«Заказуха», как известно, не слишком способствует выявлению творческой мощи. И уж тем более — выплеску яркой художественной индивидуальности. А тут была не просто «заказуха», а — госзаказ. Заранее, так сказать, по определению исключавший какое бы то ни было проявление этой самой индивидуальности.
Немудрено поэтому, что у самых разных поэтов, отнюдь не лишенных дарования, а значит, и художественной индивидуальности, тексты вышли утомительно однообразные, похожие друг на друга, как однояйцовые близнецы:
Славься великая, Многоязыкая, Братских советских Народов семья. (Николай Асеев) Сомкнитесь, граждане и воины, Под небом родины большим. (Михаил Светлов) Вовеки да будет свободной Земля, на которой живет Воинственный и благородный Трудящийся русский народ.(Константин Симонов)
Из всех предложенных вариантов Сталин выбрал текст, сочиненный молодым Сергеем Михалковым в соавторстве с журналистом Габриэлем Эль-Регистаном. Но выбрал не для того, чтобы тут же, сразу и утвердить, а чтобы, приняв его за основу, начать над ним работать.
* * *
В работе над окончательной шлифовкой текста нового гимна Сталин принял самое деятельное участие.
Он был не только придирчивым его редактором, но в некотором смысле даже и соавтором.
С.В. Михалков, правда, это отрицал. (Свое авторство он не хотел уступать даже Сталину.) Он утверждал, что Иосиф Виссарионович никогда не позволял себе вторгаться в их с Регистаном авторский текст. В крайнем случае ставил на полях вопросительный знак и присовокуплял к нему какое-то замечание, объясняющее смысл этого вопросительного знака.
Так, например, в одном из первых вариантов гимн начинался так:
Свободных народов Союз благородный Сплотила навеки великая Русь. Да здравствует созданный волей народной Единый, могучий Советский Союз.Слова «Союз благородный» Сталин подчеркнул, поставил против них знак вопроса и написал: «Ваше благородие?»
Против слов «волей народной» тоже стоял вопросительный знак и такая же ироническая реплика: «Народная воля?»
Авторы, разумеется, тут же учли волю вождя. В исправленном виде четверостишие выглядело так:
Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки великая Русь. Да здравствует созданный волей народов Великий, могучий советский Союз.Рифма, конечно, пострадала («Свободных — народной» хуже, чем «благородный — народный»). Зато исчезла покоробившая вождя ассоциация с «вашим благородием» и еще более неприятное напоминание о террористах-народниках.
Но далеко не всегда «заказчик» был так деликатен. В некоторых случаях он предлагал свой вариант. Авторы — понятное дело — не возражали.
В Государственном архиве сохранился седьмой вариант гимна с собственноручными поправками вождя.
Вот — одна из них.
У Михалкова и Регистана было:
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы. Нам Ленин в грядущее путь озарил. Нас вырастил Сталин — избранник народа, На труд и на подвиги нас вдохновил.Первую и последнюю строчку Сталин не тронул. А две средние исправил. После его поправок они стали выглядеть так:
И Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин — на верность народу.Последние три слова вписаны собственной его, Сталина, рукой.
Надо признать, что, выкинув громоздкое и не слишком понятное простому человеку слово «грядущее», строку про Ленина Сталин явно улучшил. О следующей за ней строке этого уже не скажешь.
Слова «избранник народа» вождь выкинул правильно: в самом деле — какой он избранник?
Но после его правки строка приобрела несколько загадочный смысл.
«Нас вырастил Сталин…» Возникает вопрос: кого — «нас»? Не Регистана же с Михалковым.
Гимн поется как бы от имени всего советского народа. «Мы армию нашу растили в сраженьях…» Совершенно очевидно, что «мы» — это мы все, весь советский народ. Стало быть, и слова «нас вырастил Сталин» тоже относятся ко всем нам, ко всему советскому народу. Но тогда получается, что Сталин вырастил «нас» (то есть народ) — на верность тому же народу, то есть на верность самим себе.
Можно, впрочем, умозаключить, что в первом случае народ («мы») — это, так сказать, конкретный, эмпирический, сегодняшний народ — «население». А народ, на верность которому нас вырастил Сталин, — это уже некое обобщенное, сакральное понятие — тот народ, который был и пребудет во веки веков.
* * *
О том, как проходила работа над текстом нового гимна, помимо документальных свидетельств сохранились и воспоминания участников этого процесса:
► Иосиф Виссарионович сказал Сергею, что вот прослушивание его убедило, что текст коротковат («куцый»), — нужно добавить один куплет с припевом. В этом куплете, который по духу и смыслу должен быть воинственным, надо сказать: 1) о Красной Армии, ее мощи, силе; 2) о том, что мы бьем фашизм и будем его бить («фашистские полчища» — так он выразился). На то, чтобы это сделать, Сталин дал несколько дней…
(Воспоминания Эль-Регистана)Распоряжение вождя, разумеется, тотчас же было выполнено. И не в каком-нибудь там вольном изложении, а — буквально.
Но первый блин вышел комом.
Соавторы прочли одному из сотрудников Ворошилова наспех сочиненные строки:
Фашистские полчища мы побеждали. Мы били и бьем их и будем их бить.Тот заметил, что «и бьем их» при чтении сливается: получается — «ебем их».
Ворошилов хохотал до слез.
Впрочем, это был скорее всего экспромт. Первая, так сказать, прикидка.
Но в целом процесс сочинения главного государственного текста, описанный в этих мемуарах, как две капли воды похож на сцену из знаменитого романа Владимира Войновича, из его бессмертного «Чонкина»:
► Держа в левой руке блокнот и размахивая кулаком правой, Бутылко завыл:
Стелился туман над оврагом, Был воздух прозрачен и чист. Шел в бой Афанасий Миляга, Романтик, чекист, коммунист. Сражаться ты шел за свободу, Покинув родимый свой кров, Как сын трудового народа, Ты бил беспощадно врагов. Был взгляд твой орлиный хрустален… Вдруг пуля чужая — ба-бах! И возглас «Да здравствует Сталин!» Застыл на холодных губах. Ты стал недопетою песней И ярким примером другим. Ты слышишь, сам Феликс железный Склонился над гробом твоим…— Ну что ж, — сказал Фигурин, — по-моему, ничего антисоветского нет. И вообще, — он сделал неопределенное движение руками, — кажется, неплохо. А вы как считаете? — обернулся он к Борисову.
— Хорошее стихотворение, — сказал Борисов. — С наших позиций.
— Там, правда, в начале неувязочка, — вмешался Ермолкин. — Стелился туман и в то же время воздух был как?
— Прозрачен и чист, — заглянув в блокнот, сказал Бутылко.
— Так здесь как-то не того. Туман — и одновременно прозрачен и чист.
— Так это ж над оврагом туман. А в остальных местах он прозрачен и, тык-скыть, чист.
— Да, так может быть, — авторитетно сказал Фигурин. — Овраг внизу, там туман, а чуть повыше… Но мне лично как раз концовка не совсем. Железный Феликс — это хорошо, образно, но желательно как-нибудь… ну, я бы сказал, пооптимистичнее.
— Побольше, тык-скыть, мажора? — спросил Бутылко.
— Вот именно, мажора побольше… Ну там, конечно, в начале и еще больше в середине, когда вы пишете, что погиб герой, грусть нужна, не без этого. Но в то же время нужно, чтобы в целом стихотворение не наводило уныния, а звало в бой, к новым победам. Ну, можно как-нибудь так сказать, что он сам погиб, но своим подвигом вдохновил других и на его место встанут тысячи новых бойцов.
— Очень хорошо! — с чувством сказал Бутылко, записывая. — Можно, тык-скыть, как-нибудь вот в таком духе:
Погиб Афанасий Миляга, Но та-та в каком-то бою, Я тоже когда-нибудь лягу За Родину, тык-скыть, свою.Так?
— Вот-вот… Как-нибудь в этом духе, но не лягу — у вас в стихотворении уже один лежит, а как-нибудь отомщу, мол, твоим врагам.
— Принимаю к сведению, — сказал Бутылко.
— Очень ценное замечание, — вставил Борисов.
(В. Войнович. Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга вторая: Претендент на престол)Сочиняя эту сцену, Войнович, конечно, и думать не думал о том, чтобы пародировать историю создания сталинского гимна. Да и вряд ли он эту историю так уж хорошо знал. Сходство возникло непроизвольно.
Поскольку текст нового гимна получился, как говорят в таких случаях герои Зощенко, «маловысокохудожественный», да и сама задача, стоявшая перед теми, кто выполнял и выполнил этот государственный заказ, была скорее ремесленная, нежели художественная, удачливых соавторов злые языки тут же прозвали «гимнюками».
С.В. Михалков на эту остроту откликнулся так:
— Гимнюки не гимнюки, а петь будете стоя.
И он был прав[5].
При живом Сталине лучше было на эту тему не шутить. Хотя, как уже было сказано, — шутили и даже глумились. А в некоторых случаях прибегали даже и к ненормативной лексике.
Об этом свидетельствует стихотворение Бориса Слуцкого, в котором поэт описал первое исполнение нового гимна на передовой, перед солдатами. Завершил это свое описание он такими строчками:
А мат, который прозвучал, Неясно, что обозначал.* * *
Основоположник научного коммунизма говорил, что история повторяется дважды: первый раз как трагедия, второй раз — как фарс. Но история создания советского гимна замечательна тем, что она уже и в первый раз, как мы это только что видели, носила откровенно фарсовый характер.
Однако настоящий фарс разыгрался уже после смерти гения всех времен и народов.
Сталин умер, культ его личности был осужден, и высокое начальство объявило конкурс на создание нового государственного гимна.
Опять собрали самых известных тогдашних поэтов и композиторов, поселили их в композиторском Доме творчества (близ Старой Рузы), создали им, как говорится, все условия для плодотворной творческой работы. Но дело не заладилось.
От всех тех трудов осталось только ироническое двустишие, сочиненное кем-то из участников того конкурса:
Нынче знает только Руза Гимн Советского Союза.И тогда высокое начальство приняло соломоново решение: вернуться к старой мелодии Александрова, обновив только слова.
Композиторы, таким образом, из игры выбыли. А из поэтов оставили только самых известных.
Читая опубликованные недавно (в журнале «Знамя») «Рабочие тетради» А.Т. Твардовского, можно — краешком глаза — заглянуть, так сказать, в творческую лабораторию коллектива поэтов, старавшихся выполнить этот новый наиважнейший госзаказ:
► 16 февраля 1961
Поездка в Москву, для гимнической встречи (Исаковский, Грибачев, Смирнов, Бровка), как и следовало знать, ничего, кроме неприятного чувства, не принесла. Накануне они уже встречались у Михваса. Сосредоточились на «варианте № 1» Исаковского, который стал даже частично хуже. Меня сперва похвалили маленько (Грибачев успел и на мой вариант сделать вариант). Огромная жажда любой ценой уцелеть в составе авторского «коллектива». Особо жалок Бровка. Грибачев нахален (ко мне): «Ты не умеешь работать коллективно, а я умею и люблю. Мы втроем книжку написали, успех имела». И т. п. Я повторил свой старый девиз: «водку пить вместе, работать врозь». Оставил компанию мирно, но не без неловкости. Во мне они видят только ту же жажду, что томит их. Подпишут что угодно, только бы это прошло.
Работать коллективно Твардовский действительно не умел. И не хотел. Грибачев же на такой — халтурной, лакейской — коллективной работе съел собаку.
Коллективная книга, которой он хвастался перед Твардовским, называлась «Лицом к лицу с Америкой». Грибачев, Аджубей и кто-то еще из «сопровождающих лиц», которых Хрущев взял с собой в поездку по Америке, состряпали потом эту книгу, которая и в самом деле имела большой успех — была удостоена Ленинской премии. Но это был успех — официальный. Что же касается успеха читательского, то он у этой книги, сколько мне помнится, был — нулевой. Если не считать того, что народ сразу же перефразировал название этого коллективного труда, метко озаглавив его: «Лицом к жопе». (Разумеется, имея при этом в виду означенную часть тела отнюдь не американской статуи Свободы, а лично Никиты Сергеевича Хрущева.)
Вернемся, однако, к истории создания нового варианта советского гимна. Вернее, к тому, как она отразилась в «Рабочих тетрадях» Твардовского:
► 18–20 февраля 1961.
Гимн нужно докрутить безотносительно к тому, кем он будет подписан, и даже к тому, будет ли он осуществлен. Я буду испытывать огромное удовлетворение, если удастся не допустить в этом произведении-документе, рассчитанном по крайней мере на годы, стыдных строк и слов.
28 февраля 1961.
Днями становилось похоже, что дело с Гимном идет к концу. Поликарпов собрался докладывать, что «нужно утверждать». В воскресенье он приезжал уже с тем, что докладывал Михаилу Андреевичу. Новых требований нет как будто, кроме малостилистических, но нет и «утверждения», одно вовсе не воодушевляющее пожелание «поработать» и предложение взять «содержательную» часть из «коллективного» варианта. Последнее я недвусмысленно отклонил, заметив, что брать оттуда нечего. Однако это предложение само по себе означает, что центр интереса переместился на мой вариант… Между прочим, если бы Исаковский смог «упростить» мой вариант, я был бы только рад вопреки «мелкому бесу» авторства — ведь я же говорил (и эти слова переданы Поликарповым на «предвысшем уровне»), что, мол, пусть хоть С. Островой подписывает и числится автором, только бы дело было сделано достойно.
Оскорбленный развернувшейся вокруг ярмаркой тщеславия и не желая в ней участвовать, Твардовский все-таки готов был согласиться на некий коллективный вариант, при условии что за основу будет принят все-таки его текст, который он считал наиболее пристойным.
Но, между нами говоря, его текст тоже представлял собой набор безжизненных, мертворожденных, казенных славословий:
Часов кремлевских бой державный Доносит вдаль во все края До всех сердец твой подвиг славный, Твой клич, Советская земля. Неодолимы наши силы, И с каждым годом, с каждым днем Все ярче свет неугасимый, Зажженный нашим Октябрем. Все горячей в наш век суровый Мы любим родину свою, С ней до конца идти готовы И отстоять ее в бою.За каждым таким куплетом, как полагается, следовал припев:
Взвивайся, ленинское знамя, Всегда зовущее вперед Уже идет полмира с нами. Настанет день — весь мир пойдет!Как выразились однажды — совсем, правда, по другому поводу — Ильф и Петров: «Как-то не очаровывал этот стих. Не дул от него ветер вдохновения».
Но высокое начальство забраковало его (а оно его все-таки забраковало), конечно, не по этой причине.
Скорее всего, я думаю, новых властителей Кремля отвратила в этом тексте явная попытка автора вернуться к уже устаревшим идеям мировой революции («Все ярче свет неугасимый, зажженный нашим Октябрем», «Уже идет полмира с нами. Настанет день — весь мир пойдет»). Им уже нужно было что-то другое, окрашенное в национальные и державные тона: «Великая Русь…», «Великий, могучий Советский Союз…» и т. п.
Так или иначе, когда работа над текстом была наконец завершена, всех участников этого нового конкурса пригласили на Старую площадь и сообщили им, что ни один из предложенных вариантов не принят. И поэтому начальство склоняется к идее коллективного авторства. Один куплет взять у Твардовского, другой у Суркова, третий у Грибачева, а припев — еще у кого-то, сейчас уже не помню, у кого именно.
Растерянные поэты молчали, не зная, как реагировать на эту смелую идею. И тут поднялся Твардовский.
— В Библии, — сказал он, — пророком Ездрой, если не ошибаюсь, было предсказано: «…И до того ослабеют люди, что не смогут всемером зарезать одного петуха». Как видим, пророчество это сбывается. Вы — как хотите, но я от участия в этом коллективном мероприятии решительно отказываюсь.
На этот раз тем дело и кончилось.
* * *
Позже Михалков как-то там подлатал, заштопал дыры, проделанные в сталинском гимне хрущевскими разоблачениями. И в обращение вновь был пущен его старый текст с заменой имени Сталина на Ленина и партию: «Партия Ленина, сила народная нас от победы к победе ведет».
Но, до того как это произошло, на протяжении довольно долгого времени, когда должен был исполняться наш государственный гимн, звучала только его мелодия.
Слушая эту «Песню без слов», как сразу же окрестили наш бессловесный гимн некоторые циники и охальники, многие испытывали некоторую тайную сладость. Те, у кого была ностальгия по сталинским временам, черпали эту сладость в воспоминании о словах («Нас вырастил Сталин…»), хотя и непроизносимых, но подразумеваемых. Те же, кто никакой ностальгии по сталинским временам не испытывал, напротив, получали удовольствие от сознания, что те слова отменены и даже как бы запрещены. Впрочем, не только от этого. На самом деле природа этого удовольствия была сложнее.
Эту ее сложность тонко подметил и отразил Фазиль Искандер в своем знаменитом сатирическом романе:
► Прозвенел звонок, и мы прошли в зал…
Первым номером выступали танцоры Пата Патарая. Как всегда, ловкие, легкие исполнители кавказских танцев были встречены шумным одобрением.
Их несколько раз вызывали на «бис», и вместе с ними выходил сам Пата Патарая…
После сильного разгона он вылетал на сцену и, рухнув на колени, скользил по диагонали в сторону правительственной ложи, свободно раскинув руки и гордо вскинув голову. В последнее мгновенье, когда зал, замирая, ждал, что он вот-вот вывалится в оркестр, Пата Патарая вскакивал, как подброшенный пружиной, и кружился, как черный смерч.
Зрители приходили в неистовство.
— Трио чонгуристок исполняет песню без слов, — объявила ведущая.
На ярко освещенную сцену вышли три девушки в длинных белых платьях и в белых косынках. Они застенчиво уселись на стульях и стали настраивать свои чонгури, прислушиваясь и отрешенно поглядывая друг на друга. Потом по знаку одной из них они ударили по струнам — и полилась мелодия…
Мелодия мне показалась чем-то знакомой. И вдруг я догадался, что это бывшая песня о козлотуре…
По залу пробежал шелест узнавания…
Трио чонгуристок аплодировали еще больше, чем Пата Патарая. Их дважды заставили повторить песню без слов, потому что все почувствовали в ней сладость запретного плода.
И хотя сам плод был горек и никто об этом так хорошо не знал, как сидящие в этом зале, и хотя все были рады его запрету, но вкушать сладость даже его запретности было приятно — видимо, такова природа человека, и с этим ничего не поделаешь.
(Фазиль Искандер. Созвездие Козлотура)Помимо тех, кто не прочь был бы вернуть прежние, отмененные слова сталинского гимна, и тех, кто черпал особую сладость в сознании их запретности, была еще одна категория слушателей этой нашей «Песни без слов».
Эти — пожалуй, наиболее чуткие наши сограждане, — испытывали некоторый моральный (лучше, наверно, сказать — гражданский) дискомфорт от сознания, что вот уже сколько лет наша страна живет, в сущности, без гимна. В этом ими ощущался какой-то не просто непорядок, а некий знак нашей государственной (национальной) неполноценности.
Особенно остро это ими ощущалось, когда спортсмены разных других стран и народов, победившие на какой-нибудь там Олимпиаде, пели свои национальные гимны, а наши победители, когда исполняли нашу «Песню без слов», только хлопали ушами да стыдливо переминались с ноги на ногу.
Горькие чувства ущемленных этой государственной прорехой самых сознательных наших сограждан выразил поэт Константин Ваншенкин в таком грустном четверостишии:
Оглушены… Оркестров гром — И гимн плывет над отчим краем. Но только сами не поем И слов по-прежнему не знаем.Не будучи спортивным болельщиком, я таких чувств никогда не испытывал, и вообще об этом особенно не задумывался. Ну, не поем — и не поем. Подумаешь, эка важность!
В этом, пожалуй, обнаружилось у меня легкое сходство с одной зощенковской героиней, симферопольской жительницей, «вдовой по происхождению», как назвал ее автор. У этой вдовы умер муж, и она сначала довольно легко отнеслась к этому событию: а-а, думает, ерунда!.. А потом видит — нет, далеко не ерунда!..
Мысль, что комическая, фарсовая ситуация, сложившаяся с нашим государственным гимном, не такая уж ерунда, впервые открылась мне в таком, казалось бы, мелком и незначительном эпизоде.
* * *
Было это в конце 70-х. В Москве с большой, как это тогда бывало, помпой проходил очередной международный кинофестиваль.
В один из фестивальных дней я оказался на «Мосфильме», и друзья-киношники уговорили меня поехать с ними в Лужники, поглядеть выдвинутые на конкурс детские фильмы.
Гигантский зал был битком набит детворой, в основном подростками. В центре зала восседали Сергей Михалков, Радж Капур, другие знаменитости. Но юные кинозрители жили своей жизнью, не обращая на знаменитостей никакого внимания. Мальчишки, как водится, щипали девчонок и дергали их за косички. Девчонки тоже не оставались в долгу, и то в одном, то в другом конце зала вспыхивали маленькие потасовки.
Показали два фильма. А в промежутке между ними, в антракте, и разыгралась та, до глубины поразившая меня коллизия.
На сцене вдруг появился какой-то потрепанный субъект с аккордеоном. Бережно положив аккордеон на стул, он ушел за кулисы и тотчас же вернулся обратно, таща за собой какие-то высокие фанерные щиты, обклеенные то ли плакатами, то ли афишами. Щиты эти он расставил по сцене гармошкой, и тут стало видно, что никакие это не афиши, а крупными плакатными буквами выведенный стихотворный текст. Щитов было не меньше пяти, и, приглядевшись к ним, я понял, что на каждом из них красуется отдельное четверостишие. Точнее — куплет.
Так оно и оказалось.
— Ребята! — обратился к беснующимся подросткам аккордеонист. — Сейчас мы с вами разучим новую пионерскую песню!.. Внимание! Все вместе! Разучиваем первый куплет!
Обернувшись к первому щиту, он с пафосом, громко прочел вслух выведенный на нем текст. Никто его не слушал. Зал продолжал жить своей жизнью.
Но аккордеониста это не смутило. Он вел себя так, словно все у него шло как надо, по плану.
— А теперь! — покончив с текстом, начал он. — Разучиваем мотив.
И, усевшись на стул, проиграл на аккордеоне мелодию.
Я внимательно оглядел аудиторию, и во всем этом огромном зале не нашел ни одного — ни одного! — зрителя, который проявил бы к деятельности человека на сцене хоть какой-нибудь, хоть крошечный интерес.
Текст новой пионерской песни был, надо сказать, так себе. И мелодия тоже — какая-то неяркая, невзрачная, незапоминающаяся. Но мне было совершенно ясно, что если бы даже слова этой новой пионерской песни сочинил — в лучшие свои годы! — Лебедев-Кумач, а музыку — Дунаевский или хоть сам Иоганн Штраус, реакция зала была бы точно такой же. Дело тут явно было не в сомнительных качествах текста и музыки, а в чем-то другом.
Человек на сцене тем временем громко объявил:
— Итак — вместе! Дружно! Поют — все!
И он запел.
В зале стоял такой шум, что голос его был почти не слышен. Но он пел, отбивая ногой такт, встряхивая головой и старательно аккомпанируя мимикой лицевых мышц тем чувствам, которые, как ему, вероятно, казалось, должны были выражать текст и мелодия исполняемой им песни: улыбался, подмигивал, — в общем, вел себя так, словно и в самом деле вместе с ним эту новую пионерскую песню дружно подхватили все.
— А теперь — припев! — радостно провозгласил он, покончив с первым куплетом.
Вся церемония была повторена в той же последовательности. Сперва был прочитан вслух текст припева. Потом проиграна на аккордеоне мелодия. А потом — с теми же ужимками и с тем же притопыванием — вот так же, в полном одиночестве, он исполнил припев.
«Вот бедняга! — подумал я. — Ну и работенка!»
Положение его мне казалось ужасным. Но сам он свое положение ужасным как будто не ощущал. Не первый уже раз, наверно, проигрывал эту свою пластинку. Привык.
Я внимательно глядел на этого несчастного — несчастного, кажется, только в моих глазах — человека и пытался влезть в его шкуру, почувствовать, понять: что он чувствует, привычно играя в эту свою странную игру. И тут вдруг — по странной филиации идей, как сказано у Льва Николаевича Толстого, — передо мной возникла совсем другая картина, увиденная однажды на телеэкране. Огромный — почти такой же огромный, как этот, — зал Кремлевского Дворца съездов. Торжественно завершается какой-то — уж не помню сейчас, какой по счету — съезд КПСС. На трибуне — главный идеолог партии, член Политбюро, секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов.
Уставившись в лежащий перед ним лист бумаги, он говорит:
— Кто — за? Кто против?.. Воздержался?
И подытоживает:
— Единогласно.
При этом он не отрывает глаз от бумажки. В зал не глядит. Не считает нужным даже сделать вид, что пытается разглядеть, не поднялась ли там, в зале, хоть одна рука проголосовавшего против или воздержавшегося.
О чем думают, чего хотят, согласны или не согласны с ним люди, сидящие в зале, идеолога не интересует. Совершается некий ритуал, и не может быть никаких сомнений в том, что священный ритуал этот ни единым жестом, ни даже случайным каким-нибудь вздохом не будет нарушен.
Человек с аккордеоном на сцене гигантского кинозала в Лужниках совершал такой же ритуал. С тем, правда, немалым различием, что Суслову и в самом деле незачем было глядеть в зал, чтобы произнести это свое: «Единогласно». Он точно знал, что никакой осечки тут не может быть. И не будет. Все, как один, проголосуют «за». Куда денутся!
А тут ситуация была совсем другая. Тут была — сплошная осечка. Тут от голосования воздержался не какой-нибудь там одинокий смельчак, а весь зал. И воздержался самым наглядным, самым убедительным образом.
Мальчишки щипали девочек. Девчонки взвизгивали, шлепали мальчишек по рукам, увертывались. Кто-то норовил выстрелить в сидящего впереди жеваной бумагой. Кто-то перебрасывался записками…
«Не поют! — с восторгом думал я об этой беснующейся, живущей своей жизнью ребятне. — Хоть стреляй, не хотят больше петь эту казенную муть. И ничего они уже с ними не сделают!»
Сформулировав это таким образом, я вдруг понял, что присутствую при событии не просто знаменательном, а в своем роде символическом. Этот певец на сцене и этот не замечающий его битком набитый зал — да ведь это же символ всей нашей жизни, всего нашего разладившегося, давно уже вхолостую работающего государственного механизма.
Не только ведь эти дети, а миллионы людей, населяющих необъятную нашу страну, больше НЕ ПОЮТ. Не то что не поют, — как встарь, когда вся страна, дружным хором, бодро исполняла «Марш энтузиастов», — а даже и подпевать не хотят. Живут своей отдельной жизнью, как вот этот зал…
Так — или примерно так — думал я тогда, глядя на кривляющегося на сцене несчастного певца.
На это у меня ума хватило.
Будь я чуть поумнее, я, конечно, мог бы сообразить, что все это не может длиться долго, что однажды, — быть может, время это даже и не за горами? — наш «Союз нерушимый», вся эта наша химерическая жизнь вдруг возьмет да и развалится, рассыплется как карточный домик.
Но к таким фантастическим гипотезам я тогда был еще не готов.
На каком языке он поет? (Что-то вроде послесловия)
Осенью 1956 года Константин Георгиевич Паустовский впервые в жизни оказался в Париже. Вспоминая об этих нескольких незабываемых днях, он с какой-то особой нежностью говорил об одной русской женщине, с которой он там познакомился. Она принадлежала к так называемой первой эмиграции: родители увезли ее в Париж, когда ей было три года. Рассказывая о знакомстве с ней, Константин Георгиевич все время повторял, что он испытывал прямо-таки физическое наслаждение, слушая ее русскую речь — необыкновенно чистую и какую-то по-особенному певучую. Он сказал, что сперва даже стеснялся говорить с нею. Он выразился так:
— Мы отвыкли от такого языка. Мы говорить на нем уже не умеем.
А вот что рассказали мне про такую же русскую даму мои друзья уже из новой, третьей эмигрантской волны.
На концерте Галича, напряженно вслушиваясь в его песни, в эти привычные, такие естественные для нас галичевские словечки и выражения («Я возил его, падлу, на чаечке…», «Ты, бля, думаешь, напал на дикаря, а я сделаю культурно, втихаря…», «Схлопотал строгача — ну и ладушки…», «Тут его цап-царап — и на партком!..», «Индпошив — фасончик на-ка выкуси!..»), она обернулась к человеку, сидящему в соседнем кресле, и с искренним недоумением спросила:
— На каком языке он поет?
Об этом новом языке, на котором сочинял и пел свои песни Галич, эмигранты (разумеется, первой волны) обычно говорят с пренебрежением, как о почти даже уже и не русском, и ностальгически вздыхают о благоуханной, совсем уже забытой нынешними поколениями русских людей дореволюционной русской речи. Для них — это тот же новояз, такой же отвратительный, вульгарный, оскорбляющий слух, как и ненавистный им (и нам тоже) советский политический жаргон.
► Когда-то Маяковский писал о высокой поэтической лексике и устаревшей литературной традиции, что в этом словаре «соловей» — можно, а «форсунка» — нельзя, «конь» — можно, а «лошадь» — нельзя. То есть можно употреблять в поэзии лишь апробированную многократным употреблением, авторитетную, возвышенно-красивую лексику.
Мы здесь, в эмиграции, столкнулись с более интересным и широким явлением, которое касается не только поэтического, литературного, но и общенародного, разговорного русского языка. Какие слова употреблять можно, а какие нельзя…
Какие слова, посмотрим, выносятся в русской эмигрантской прессе во главу угла? В загадки, в шарады, в кроссворды, то бишь по-здешнему, по-старославянски, так сказать, — в «крестословицы»?.. — «Визит», «Портшэз», «Портмоне»…
И здесь же, рядом с этими крестословицами, в русской эмигрантской газете читаем письмо-протест — против ужасного, вульгарного, нарушающего все законы русского языка нового слова «раскладушка», занесенного на Запад советскими диссидентами. Необходимо говорить, поясняют нам, — не «раскладушка», а «раскладная кровать»…
Итак, по-старому: «портшэз» — можно, «раскладушка» — нельзя. И в литературе, и вообще в языке.
И мы, бывшие советские люди, всю жизнь спавшие на этих самых «раскладушках» и не видавшие в глаза никакого «портшэза», вступаем в спор, в диалог. Звучит он примерно так: мы говорим «раскладушка», а слышим в ответ, как эхо, — «портшэз».
— Раскладушка!
— Портшэз!
— Раскладушка!
— Портшэз!
— Раскладу…
Но все тише, все неувереннее звучит наша протестующая «раскладушка», и медленно, торжественно, как трон на колесиках, въезжает «портшэз» и становится на место действительности, как норма языка. Как мечта о милой, доброй дворянской России, которой давным-давно уже нет. России — нет, а портшэз остался и царствует.
Вот в чем проблема, и вот в чем разрыв.
(М. Розанова. На разных языках. «Синтаксис». Париж, 1980, № 8)Такой разрыв образовался всего лишь за каких-нибудь полвека, что люди, как-никак принадлежащие к одной нации и даже к одному социальному слою, говорят — буквально! — на разных языках.
Строптивая М. Розанова еще сопротивляется, храбро защищает наш новояз. Она позволяет себе даже слегка глумиться над законсервированным языком эмигрантов первой волны, язвительно именуя его то древнерусским, то старославянским. Но некоторые из «бывших советских людей», тоже всю жизнь спавших, как и все мы, вот на этих самых «раскладушках», как будто уже готовы капитулировать, признав полную несостоятельность этого новояза:
► …Мы приехали оттуда, мы только что из этой страны, подарившей миру слово «советский»; мы еще помним ее запахи, вкус ее хлеба, синюю кромку леса на дальнем горизонте, дожди, чмоканье луж и сосущую сердце дорогу… Мы еще не забыли русский язык, не те кудрявые словеса, вычитанные из Даля, а ржавый, царапающий уши и горло язык подворотен, язык бюрократии и уголовного мира, язык, в который ушли, как в трясину, десять веков русской литературы и который точно позавчера появился на свет; язык людей, о которых трудно сказать, кто они: ни рабочие, ни крестьяне, ни интеллигенция, ни народ — ни то ни се.
(Борис Хазанов. Миф Россия)Хотя автор и говорит об этом «царапающем горло» языке не без некоторой ностальгической нежности, возможности этого языка он, судя по всему, оценивает крайне низко. Во всяком случае, трудно представить себе, чтобы он мог рассматривать этот язык как материал, хоть сколько-нибудь пригодный для художественной литературы. (Тем более — поэзии.) И в самом деле: можно ли создать нечто художественное на уродливом псевдоязыке, который «точно вчера появился на свет» и в который «ушли, как в трясину, десять веков русской литературы»?
Что может художник извлечь их него, кроме глумления над его худосочием, над его убожеством, над его мертворожденностью, как, например, это сделал однажды один замечательный наш поэт-сатирик:
Уходя, выключайте электроприборы, Соблюдайте… Догнать и перегнать… Позор поджигателям. Слава шахтерам Ты меня уважаешь? Мать-перемать… Храните деньги в сберегательной кассе. Московское время двадцать два часа. Послушайте песенку «Мой Вася». Да здравствует… Кто последний?.. Я за… Не сорить! Не курить! Курите сигареты. Все как один включимся в борьбу… Ты меня уважаешь? Читайте газеты. Слава строителям светлого бу… Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю. Вход воспрещен. Вступайте в ДОСААФ! Братский привет народам Китая… Да здравствует… За нарушение штраф. (Вл. Бахнов. Современная песня в стихе поп-арт)Но Галич именно вот этот новояз, состоящий из дикой смеси языка газет, языка подворотен, языка бюрократии и уголовного мира, сумел претворить в подлинно художественную речь, достигающую необычайной пластической выразительности:
— Он не то чтобы достиг, — он подлез… — А он ей в ЦУМе — пылесос и палас… — А она ему: «Подлец ты, подлец!..» — И как раз у них годичный баланс… А на дворе — то дождь, то снег. То дождь, то снег — то плач, то смех. И чей забой — того казна… А кто — в запой, а кто — в «козла». «Пользуйтесь услугами Аэрофлота, Экономьте время», и тра-ля-ля! — В общежитии замок на двери… — В нос шибает то пивком, то потком… — Отвори, — она кричит, — отвори!.. — Тут его и цап-царап на партком!.. «Покупайте к завтраку рыбные палочки, Вкусно и питательно», и тра-ля-ля! — Говорят, уже не первый сигнал… — А он им в чай и подмешай нембутал… — А им к празднику давали сига… — По-советски, а не как-нибудь там!.. «Граждане, подписку на газеты и журналы Оформляйте вовремя», и тра-ля-ля! — В общем, вышло у него так на так… — А она опять: «Подлец ты, подлец!..» — Подождите, не бросайте пятак!.. — Ну, поставили на вид и конец!.. «Предъявляйте пропуск в развернутом виде При входе и выходе», и тра-ля-ля!Помню, собрались мы однажды компанией друзей и весь вечер пели песни Булата. И каким-то образом (по соседству, забежала на огонек) оказалась среди нас жена Галича — Ангелина (Нюша).
Она сидела рядом со мной и на протяжении всего вечера сокрушенно повторяла:
— Поют Булата. А Сашу не поют…
Я, как мог, утешал ее. Объяснял, что собрались старые друзья Булата, что все эти его песни рождались с ними и при них, что все это ровным счетом ничего не значит, что ее Саша в своем роде ничуть не хуже Булата. Говорил что-то еще, столь же невнятное и маловразумительное.
А совсем недавно я вспомнил тот вечер, прочитав у Андрея Синявского:
► Эти песни — песни Галича, его друзей и соперников-соревнователей по песенному дару — мы не поем. Мы оживаем под эти песни и в этих песнях.
(Абрам Терц. Путешествие на Черную речку. М., 1999)Как же могло случиться, что «мы оживаем» под песни, сочиненные и поющиеся на этом убогом, ублюдочном, уродливом новоязе?
Объясняется это разными причинами, но главная из них та, что, назвав язык этих песен новоязом, я совершил некоторую подтасовку, подменил одно понятие другим, совершенно с ним несхожим.
Толкнуло меня к этой подмене приведенное выше рассуждение Бориса Хазанова.
Для него язык бюрократии и язык уголовного мира, язык советских газет и язык подворотен — это один и тот же, одинаково омерзительный ему новояз. Между тем как на самом деле это — два разных новояза. И не просто разных, а противоположных, противостоящих друг другу. И материалом для песен Галича (равно как и для других художественных текстов) стал не столько тот новояз, о котором шла речь на всем протяжении этой моей книги, сколько — тот, другой, этому новоязу противостоящий.
Не могу не вспомнить тут одного современного писателя, книги которого почти сплошь написаны именно вот на этом, другом новоязе.
Герой одной из них пишет письма своим родственникам в Америку. Пишет, как говорится, на присущем ему языке. И поскольку сам сознает, что этот язык, мягко говоря, несколько необычен для слуха его американской родни — необычен настолько, что они могут, подобно пожилой русской даме на концерте Галича, спросить: «На каком языке это написано?» — он то и дело считает необходимым перевести какое-нибудь совсем уж недоступное их пониманию словечко на старый, общепонятный русский язык.
Цитирую наугад, раскрыв книгу на первой попавшейся странице:
► Он для пущего понта (притворства) завыламывался…
Федору вломили (дали) двадцать пять лет…
Я сидел в кузове со своими сидорами (манатками)…
В здании должна находиться прорабская хавирка (комната), где Федор кемарит (спит)…
Федор подошел к моему загашнику (тайнику)…
Все это было бы, так сказать, художественно оправданно, если бы пристрастие героя к «блатной музыке» объяснялось причудами его биографии, как это происходит в другой книге того же автора, где повествование ведется от лица международного урки.
Но тут — ничего похожего. Герой романа — добропорядочный человек, почетный потомственный пролетарий, ни одной ночи не проведший на тюремных нарах.
И вот как он сам объясняет это свое странное, казалось бы, ни на чем не основанное влечение к блатной фене:
► Вы имели глупость поинтересоваться, где это я набрал таких «словечек»… Словечек я не набирал. Они въедаются в язык, как железная пыль и стружка в ладони. Если бы вы могли вообразить, сколько людей за шестьдесят героических лет политруки от имени нашей родины продержали в тюрьмах и лагерях, где коверкается все нормальное людское — язык, совесть, душа, половые органы, мозг, желудок, руки, кожа, кровь, цвет глаз, зубы и многое другое, то вы не задавали бы дурацких вопросов. Да! Хранил меня Бог и хранит. Сам я сиживал только на губе, специально не объясняю, что это такое, поищите в словарях, но и на фронте, дружа со штрафниками-уголовниками, и после войны, общаясь с работягами, побывавшими по пустяковым делам в лагерях, я привык разговаривать с ними, извините, трекать и ботать на их языке. Или вы полагаете в своей безмятежно демократической Америке, что если лагерная жизнь миллионов людей стала частью общей страдальческой жизни России, то ее язык должен был остаться прежним: мастеровой — мастеровым, крестьянский — крестьянским, пижонский — пижонским, гешефтерский — гешефтерским, а целомудренно девичий — целомудренно девичьим и так далее? Вы ошибаетесь. Язык лагерей и тюрем, в которых соседствовали судьбы святых и убийц, гениев и растлителей малолетних существ, рабочих и грязных мошенников, крестьян и скотоложцев, балерин и форменных каннибалок, священнослужителей и хулиганов, философов и карманников, язык невинных душ и неимоверных злодеев не мог не смешаться, не мог делать вид, что судьба людей не имеет к его судьбе никакого отношения. Но и приняв в себя то, без чего он вполне сумел бы обойтись, то, что даже безобразно выражало мытарства страны и народа, он не вымер, не утратил своей сущности, считая для себя более приемлемым и безобидным явлением живой воровской жаргон и самый грязный мат, чем мертвую фразеологию партийных придурков… И сколько бы десятилетий подряд они ему ее ни навязывали, как бы ни втесывали в самую душу с помощью всех средств своей взмыленной пропаганды, мой родной русский язык отторгает от себя ложь партийного мертвословья.
(Юз Алешковский. Карусель)В сущности, тут не одно объяснение, а — два. И если первому автор романа (точнее — его герой) отдал щедрую дань, высказавшись на эту тему не только подробно, но и со страстью, то о втором он сказал как-то вскользь, чуть ли не скороговоркой. А между тем как раз второе объяснение представляется мне тут гораздо более важным.
Из этого, конечно, совсем не следует, что первым объяснением следует пренебречь.
Но с ним нам уже приходилось сталкиваться. И не однажды.
Где-то в начале 60-х Евгений Евтушенко с высот своей революционной гражданственности констатировал с горечью и укоризной:
Интеллигенция поет блатные песни. Она поет не песни Красной Пресни!На крылатые эти строки тотчас откликнулся ироническим парафразом Наум Коржавин:
Интеллигенция поет блатные песни: Вот результаты песен Красной Пресни.Смысл этого саркастического отклика был в том, что интеллигенты, распевавшие некогда песни Красной Пресни, получили за это в награду сталинские лагеря, где им пришлось делить нары с блатарями и заимствовать у них их песенный репертуар. За что, дескать, боролись, на то и напоролись.
В сущности, о том же говорит и герой Юза Алешковского. И в таком понимании природы этого явления есть немалый резон.
Но не шибко образованный и совсем не понаторевший в филологии герой этого романа высказал соображение, которое, сколько мне помнится, не пришло в голову ни одному филологу, ни одному языковеду. Соображение простое до очевидности. И столь же очевидно бесспорное.
Живой язык сегодняшнего российского человека, вобравший, впитавший в себя и переваривший, усвоивший элементы блатной фени, молодежного сленга, «царапающего ухо и горло» языка подворотен, а также множество других речевых слоев и пластов, еще недавно в устах интеллигента совершенно немыслимых, а сейчас давно уже прочно вошедших в его повседневную речь, — этот второй новояз возник и сложился как язык сопротивления, как способ противостояния «партийному мертвословью».
Словарный состав этого второго новояза можно разбить (конечно, условно и очень приблизительно) на несколько групп.
Первая группа. Слова, обозначающие реалии советского быта, а потому хорошо знакомые каждому советскому человеку, но при этом совершенно непонятные человеку, никогда не жившему советской жизнью.
► Декрет. (Ушла в декрет.)
Уплотнение, уплотнить, уплотниться.
Излишки. (О жилплощади.)
Лимитчик, лимитчица.
Прописка.
Записаться, расписаться. (В смысле: «Зарегистрировать брак». Слово это очень выразительно отражало легкость и простоту брачных отношений, в сущности, ни к чему не обязывающих, для тех, кто вступал в эти отношения в 20-е и 30-е годы. «Но тут он вдруг объясняется ей в своих чувствах. И он предлагает ей записаться», — читаем мы у Зощенко.
Или: «На третий день пошли они в гражданский подотдел и записались».)
Перегиб.
Подъемные.
Суточные.
Частник.
Толкач.
Чтобы растолковать иностранцу (или эмигранту первой волны) значение хотя бы одного только последнего слова, пришлось бы довольно долго объяснять суть социалистической системы хозяйствования, при которой нормальные экономические стимулы не действуют, почему и возникает потребность в «толкачах».
Впрочем, иностранцу пришлось бы растолковывать и не столь экзотические, а куда более простые, постоянно мелькавшие в нашей речи и давно уже ставшие для нас обыденными слова.
Отсюда — дополнительные, почти непреодолимые трудности, возникающие при переводе с «советского» на любой из европейских языков:
► Когда американец переводит, например, француза, он имеет дело с реальностью, более или менее ему знакомой. А как, например, перевести: «Иванову дали жилплощадь»? Или, скажем: «Петрову удалось достать банку растворимого кофе»? Или, допустим: «Сидоров лишился московской прописки»? Что все это значит?
(Сергей Довлатов. Переводные картинки)Вот — лишь некоторые из таких слов, отразивших привычные для советского человека уродства советского быта:
► Авоська.
Дают. (Знаменитый советский вопрос: «Что дают?»)
Выбросили. (Тоже про какой-нибудь товар.)
Галочка («Поставить галочку», «для галочки» — то есть для проформы.)
Невозвращенец.
Невыездной.
Коммуналка.
Подселёнка (комната жильца коммунальной квартиры, не являющегося основным квартиросъемщиком: «Себе однокомнатную, а мужу — подселенку»).
Отгул.
Отказник.
И такие — тоже только советскому человеку понятные — глаголы, как:
► Пробить.
Выбить («Я выбил тебе путевку в Крым»).
Сюда же можно отнести и вошедшие в общенародный язык тюремные и лагерные словечки:
► Зэк.
Вохра.
Вертухай.
К другой (второй) группе можно отнести слова «советского говорка», сознательно или бессознательно снижающие пафос и велеречивость официального новояза.
Официальный советский язык тяготел к «высокому штилю», к разного рода патетическим оборотам, к славянизмам, к напыщенным словесным формам.
Вот, например, такое слово — в повседневной речи давным-давно уже умершее, а в официальном языке — одно из самых употребительных: горнило.
Помню, как мы издевались над ним, передразнивая речь одного поэта, которому особенно полюбилось это красивое словечко. А он не выговаривал «р», и потому получалось у него так:
— Мы, поэты, пвошедшие говнило Великой Отечественной войны!..
И это, конечно, несколько снижало пафос его высказывания.
Велеречивость официального советского новояза особенно ярко проявлялась в множестве однотипных гиперболических эпитетов. Тут было что ни слово, то гипербола:
► Небывалый.
Неслыханный.
Невиданный.
Недосягаемый.
Незыблемый.
Неисчерпаемый.
Необозримый.
Неодолимый.
Непоколебимый.
Несокрушимый.
Нерасторжимый.
Неуклонно.
Неустанно.
Самоотверженный.
Победоносный.
Всепобеждающий.
Беспримерный.
Беззаветный.
Могучий.
Животворный.
Бытовая же советская речь, напротив, изобиловала «обратными гиперболами» (литотами). Уменьшительный суффикс в нашем «советском говорке» был едва ли не самым распространенным. М. Розанова недаром так встала грудью за нашу советскую раскладушку. Заменив «раскладушку» на «раскладную кровать», пришлось бы вычеркнуть чуть ли не половину нашего словарного запаса. Вспоминаю лишь самые ходовые, повседневные слова:
► Сберкнижка.
Платежка.
Оперативка.
Планерка.
Летучка.
Первичка (первичная партийная или комсомольская организация).
Текучка.
Кремлевка (Кремлевская больница).
Столовка.
Продленка.
Десятилетка.
Комиссионка.
Многотиражка.
Гражданка (гражданская жизнь, не военная: «Ушел на гражданку», «Отвык от гражданки»).
Шарашка.
Вертушка (телефон правительственной связи).
Времянка.
Объективка.
Бегунок.
Ленинка (Государственная библиотека имени В.И. Ленина).
Загранка (заграничная командировка).
Накачка (внушение, выговор).
Аморалка.
* * *
К третьей группе словарного запаса второго новояза я бы отнес наиболее выразительные словечки и словесные обороты, уже не подспудно, не «подсознательно», а вполне откровенно, осознанно противостоящие официальному новоязу. И даже не только новоязу, но и самим основам официальной советской жизни:
► Принудиловка (обязательная явка на субботник или на демонстрацию).
Показуха.
Гертруда (о Героях Социалистического Труда).
Засрак (заслуженный работник культуры).
«За боевые услуги». (Так во время войны называли медаль «За боевые заслуги», которой часто награждали совсем не тех и не за то, кого и за что ею надо было бы награждать.)
Заграбительные отряды. (Так в годы военного коммунизма и позже, во время коллективизации, в народе звали «заградительные отряды», посылавшиеся в деревню для изъятия «хлебных излишков».)
Скоммуниздить (украсть).
Сюда же, вероятно, надо отнести такие прочно вошедшие в общенародный язык уничижительно-пренебрежительные словечки, как:
► Мент.
Гэбэшник.
Стукач.
Топтун.
Ну и, разумеется, такие «расшифровки» официальных советских аббревиатур, как «Комитет Глубокого Бурения» или «Кодла Государственных Бандитов» (о КГБ). И даже частушки, глумливо использующие официальные советские обороты типа «не оправдал доверия»:
Лаврентий Палыч Берия Не оправдал доверия, И от министра Берия Остались пух и перья.Особенно «повезло» в этом смысле главному советскому идолу. Для него в народном советском новоязе был (и остался) целый букет «снижающих пафос» обозначений:
► Вова.
Вовчик.
Лысый.
Картавый.
Картавенький.
Лукич.
А для ленинской мумии в Мавзолее — специальное определение:
► Дохлый Вова.
К этой же группе, по-видимому, надо отнести и выражения типа начала депутата корчить (в смысле — важничать). И такое словечко, как Кирзавод (первоначально — сокращенное название Кировского завода, то есть завода имени Кирова), иронически переосмысленное обозначение любого ликерно-водочного предприятия (от слова «кир», «кирять»),
И иронически переосмысленные советские идеологические жупелы:
Сегодня он играет джаз, А завтра родину продаст.Коль скоро речь зашла уже не об отдельных словечках, а о целых словесных конструкциях, нельзя тут не вспомнить одно из самых блистательных выражений такого рода.
Но тут не обойтись без небольшой исторической справки.
В начале 60-х известный советский режиссер Марлен Хуциев снял фильм «Застава Ильича», вызвавший весьма бурную реакцию тогдашнего — самого высокого — советского начальства. Кому-то из них — чуть ли не самому Хрущеву — померещилось, что авторы фильма, рассказывая о проблемах современной молодежи, столкнули два поколения, противопоставили сегодняшних молодых людей поколению их отцов, у которых в отличие от нынешних были высокие гражданские идеалы.
Фильм был запрещен. (Потом он был коренным образом переработан и некоторое время спустя вышел на экран под другим названием.) Но скандал на этом не кончился. Началась длительная (растянувшаяся чуть ли не на годы) идеологическая кампания, смысл которой сводился к постоянно повторявшимся (с пеной у рта) заклинаниям, на разные лады варьирующим один и тот же тезис: «В нашей стране никогда не было, нет и не будет конфликта отцов и детей», «Наши дети несут знамя отцов…», «Советская молодежь присягает на верность своим отцам, отстоявшим…» и т. д.
Появились плакаты, стихи и песни, в которых тезис этот проговаривался устами то «детей», то «отцов», а иногда даже и «дедов». Например, вот так:
Наши внуки росли И учились совсем не напрасно. Им водить корабли Суждено по космическим трассам И в таежном краю Возводить города и заводы. Но, как прежде, в строю Комсомольцы двадцатого года.Но у народа была на это другая точка зрения. Между комсомольцами двадцатых годов и нынешними членами ВЛКСМ он все-таки углядел некоторое — и не такое уж пустяковое — различие. И выразил это на присущем ему языке и со свойственной народу-языкотворцу меткостью:
► То, что комсомольцам 20-х годов было по плечу, комсомольцам 60-х — по хую.
* * *
Начиная эту книгу, в предисловии к ней я говорил, что самым надежным средством защиты от разлагающего, вредоносного действия официального советского новояза наряду с анекдотом, частушкой, эпиграммой, глумливым пародийным перифразом какого-нибудь казенного лозунга был благословенный русский мат — самое мощное наше оружие, универсальное наше национальное лекарство от всех болезней.
Сегодня мат уже почти не несет в себе привкуса грубости, вульгарности и — давно уже — не является языковой приметой определенной социальной среды,
Нина Берберова в замечательной своей книге «Курсив мой» говорит, что так называемые «непечатные слова» на всех европейских языках — кроме русского — давно уже стали печатными.
Теперь этот процесс докатился и до нас.
Не думаю, чтобы это было так уж хорошо, потому что при таком обороте мат теряет главное — совершенно изумительное свое свойство. Перестает быть особым, поистине уникальным средством словесной — художественной — выразительности.
Во втором, народном советском новоязе эти уникальные возможности различных матерных оборотов и выражений достигали таких вершин художественной (да и смысловой) выразительности, до каких посредством других, более обыденных языковых средств ни при какой погоде было бы не дотянуться.
Скажите, каким, например, другим способом можно было бы так лаконично и емко объяснить, чем отличаются в советском обществе по роду занятий и умению снискивать себе пропитание интеллигенты от представителей трудового народа:
Народ пиздит, а интеллигенция пиздит.
Перестановкой ударения в одном-единственном слове дана исчерпывающая и ясная картина устройства всего — уникального — нашего советского общества.
Это не только похлеще, но и поглубже, чем знаменитая формула Карамзина: «Воруют».
Я так подробно остановился на двух последних (матерных) примерах, потому что на них особенно ясно видно, что ироническое отталкивание от советской официальщины заложено в самом языке, в самой природе этого второго, народного новояза.
На казенное, партийное «мертвословье» народ отвечал не только частушками, анекдотами, остротами и эпиграммами, но и САМИМ ЯЗЫКОМ. Он создал СВОЙ НОВОЯЗ, противостоящий казенному.
И тут нельзя не сказать, что в этом народном новоязе более, чем в чем-либо ином, проявилась необычайная талантливость создавшего его народа.
Талантливость эта была так несомненна, она так разительно отличалась от бездарной советской казенщины, что это было отмечено даже теми, у кого этот новый русский язык, казалось бы, мог вызвать лишь самое резкое неприятие.
Я имею в виду тех, с кого начал это свое послесловие, — русских эмигрантов первой волны. (Самых чутких из них, конечно.)
Белла Ахмадулина рассказала однажды о своей встрече с Владимиром Набоковым. Беседуя с ним, она выразила ему свое беспредельное восхищение его прозрачно чистым, кристальным, изумительным русским языком. (Примерно так, как Паустовский двум повстречавшимся ему в Париже дамам-эмигранткам, — разве только, наверное, с большей экспрессией.)
Набоков горько усмехнулся в ответ:
— Что вы! Это же — замороженная клубника.
А другой русский эмигрант первой волны (я уже приводил эти его слова) выразился на этот счет даже еще определеннее:
► …получилась — бешеная одаренность, рвущаяся к жизни, — как если бы разорена оранжерея — весной сквозь выбитые стекла, покрывая все, и мусор разоренья, и то, что в почве еще уцелело от редкостных клеток, все глуша, ничего не соображая, торжествуют, наливаясь соками, на солнышке лопухи.
(Георгий Иванов. Из письма Нине Берберовой)Пусть не оранжерейная «классическая роза», а дичок. В конце концов — пусть даже лопухи. (У лопухов тоже есть одно важное качество: они живые.)
Но главное в этом признании старого русского поэта — вот эти два ключевых словечка — «бешеная одаренность».
Эта бешеная одаренность ярче всего выразилась в давно уже ставших для нас привычными, общеупотребительными «сленговых» оборотах и выражениях:
► Свалить, отвалить. (Чаще всего в сочетании с другим, таким
же выразительным словосочетанием: «за бугор», то есть за границу.)
Слинять.
Менингитка (зимняя вязаная шапочка).
Засветиться.
Матюгальник.
Бормотуха.
Лопухнуться.
Отстегнуть (о деньгах).
Накрыться.
Засветиться.
Толкнуть (в смысле — продать).
Загреметь.
Залететь.
Горбатить.
Ишачить.
Язык метафоричен по самой своей природе. Живой язык постоянно рождает все новые и новые метафоры. Внимательно вглядываясь в смысловую направленность, в смысловой подтекст этих ежедневно рождающихся языковых метафор, нельзя не увидеть в них (во всяком случае, во многих из них) ту же тенденцию яростного отталкивания от официальщины, презрительного недоверия ко всем пропагандистским штампам:
► Вешать лапшу на уши.
Шлифовать уши.
Пудрить мозги.
Компостировать мозги.
Среди выражений и оборотов этого типа немало и других, которые, казалось бы, не укладываются в мою схему: никакого — ни осознанного, ни бессознательного противостояния «партийному мертвословью» в них вроде бы нет.
► Откинуть копыта.
Перекрыть кислород.
Обштопать.
Отбарабанить (срок).
Крутить динаму.
Динамить.
Стрельнуть (о деньгах).
Купить («он меня купил»).
Но по самой сути своей все эти — и им подобные — языковые метафоры были едва ли не главной и, быть может, самой действенной формой отторжения от официальной, казенной лжи. В этот живой и как бы «беззаконный» слой языка человек уходил как в некое подполье, в котором он только и мог чувствовать себя свободным.
Именно там, в этом «языковом подполье», возникли, родились, чтобы затем прочно войти в повседневную нашу живую речь, такие — поражающие своей «бешеной талантливостью» — речевые обороты:
► Крыша поехала.
Покатить бочку.
Делать козью морду.
Когда слышишь нечто подобное, хочется повторить вслед за Тургеневым: «Не может быть, чтобы такой язык не был дан великому народу».
Но это уже тема другой книги.
Эта книга была светлым пятном на фоне других книг аналогичного жанра, которые мне приходилось читать в последнее время.
Виталий Гинзбург Академик Лауреат Нобелевской премииЭта книга и впрямь энциклопедия нашей советской жизни. Далеко не полная, конечно, но вместившая в себя многое. Ведь за каждым языковым клише минувшей эпохи, которое вспоминает и исследует Сарнов, встает целый пласт тогдашнего нашего бытия.
Григорий БаклановКнига замечательного исследователя литературы не ограничивается одной лишь сферой лингвистики. Живая история развития языка красноречиво свидетельствует о том, каков вектор развития всего общества, какой культурный этап его эволюции мы переживаем. Книга Бенедикта Сарнова органично сочетает в себе блеск и остроумие с глубиной постижения предмета исследования.
Леонид ЗоринДо тошноты знакомые нам словесные обороты «советского новояза», собранные вместе и образовавшие эту «Маленькую энциклопедию реального социализма», с необычайной яркостью передают смрадный дух сталинщины. Одного этого было бы довольно, чтобы привлечь к книге внимание читателя, интересующегося «историей болезни» нашего больного общества. На создание этой книги Сарнова — он сам говорит об этом — натолкнул опыт немецкого филолога Виктора Клемперера, автора знаменитой на Западе книги «Язык Третьего Рейха». Но автора «Нашего советского новояза», в отличие от Клемперера, занимает не только тот яд, который источал и которым заражал нас официальный политический язык советской эпохи. Гораздо в большей мере его интересует то, что служило нам противоядием, защитой от этого яда И в этом — не только своеобразие, но и, я бы сказал, художественное обаяние его книги.
Наум КоржавинКритик, литературовед, публицист, а в последние годы и мемуарист, Бенедикт Сарнов родился в 1927 г. в Москве, где живет и поныне. В 1951 г. закончил Литературный институт имени А.М. Горького. Впервые выступил в печати в 1948 г. («Литературная газета»). В последующие годы публиковал статьи и рецензии в «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Юность», «Вопросы литературы», «Театр», «Искусство кино», «Литературное обозрение» и др. Многие статьи Сарнова о современной русской поэзии и прозе вызывали резкую полемику, а некоторые — суровые начальственные окрики. Первая книга Сарнова («Л. Пантелеев. Критико-биографический очерк», 1959 г.) была встречена доброжелательными отзывами К. Чуковского, С. Маршака, В. Шкловского. За нею последовали другие: «Страна нашего детства» (1965 г.), «Рифмуется с правдой» (1967 г.), «Самуил Маршак» (1968 г.), «Бремя таланта, Портреты и памфлеты» (1987 г.), «Опрокинутая купель» (1997 г.).
Последние книги Сарнова — «Заложник вечности. Случай Мандельштама» (1990 г.), «Смотрите, кто пришел. Новый человек на арене истории» (1992 г.), «Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко» (1993 г.) — писались в годы застоя, но пришли к читателю уже в постсоветский период нашей истории. Они посвящены не историко-литературным проблемам. Драматические судьбы писателей, о которых в них идет речь, и мир их художественных созданий рассматриваются автором этих книг как уникальный опыт постижения уникальной российской действительности. И уже прямо об этом — три самые последние книги Сарнова «Перестаньте удивляться» (1998 г.), «Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма» (2002 г.) и «Скуки не было. Первая книга воспоминаний» (2005 г.).
Примечания
1
Слово дано разрядкой (прим. верстальщика).
(обратно)2
ФИО — фамилия, имя, отчество.
(обратно)3
В книге рубрики В МИРЕ ТРУДА и В МИРЕ КАПИТАЛА даны параллельными колонками (прим. верстальщика).
(обратно)4
В мае 1960 года наши ракеты сбили самолет-разведчик «У-2», пилотируемый американским летчиком Пауэрсом Хрущев раздул этот инцидент до масштабов мирового скандала.
(обратно)5
Сейчас, более чем полвека спустя, сочинив новые слова на ту, старую музыку, он уже не мог бы повторить эту свою лихую фразу. Хотя вставать при исполнении этого нового-старого гимна предписано специальным указом Президента, у начальства нет никакой уверенности, что предписание это будет исполняться. (Кое-кто — Ростропович, Плисецкая, — объявили заранее, что вставать не будут.) На торжественном приеме в Кремле по случаю встречи нового, 2001 года, — а также нового столетия и тысячелетия, — впервые вместо праздничного застолья был устроен фуршет. Все приглашенные сразу смекнули, что сделано это было для того, чтобы избежать неловкости, если при исполнении государственного гимна некоторые из гостей демонстративно останутся сидеть.
(обратно)



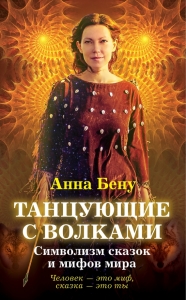
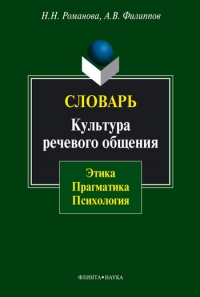
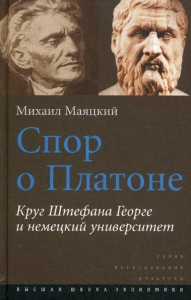

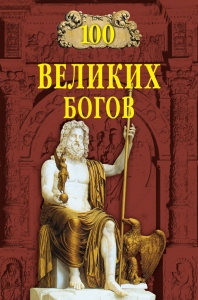
Комментарии к книге «Наш советский новояз», Бенедикт Михайлович Сарнов
Всего 0 комментариев