Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве XX века – начала XXI века. 1917–2017: Том 1. 1917–1934 Вступительная статья и составление А. Л. Козина
Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фондом Грант РГНФ № 15-04-00093
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»
Предисловие
История вообще – в том числе и история культуры – обладает, как известно, своего рода «хитростью». Немного, вероятно, было людей, видевших, как вооруженные красноармейцы в январе 1918 года входили в Александро-Невскую Лавру, и надеявшихся при этом, что христианство когда-либо возродится в России. Да и читатели журнала «Безбожник», редактируемого Губельманом-Ярославским (полумиллионный тираж), вряд ли рассчитывали на это. Правда, ещё в январе того же боевого 1918 года Александр Блок написал свою поэму «Двенадцать»-своего рода «русский апокалипсис», где во главе красногвардейского отряда шел сам Иисус Христос. Многие не поняли его тогда, не понимали и позже. Не понимал, например, Никита Хрущев (да вряд ли он и читал «Двенадцать»), обещавший в начале 1960-х годов показать по телевизору последнего попа. Однако уже в 1988 году – ещё при советской власти – 1000-летие Крещения Руси отмечалось как государственный праздник. Так или иначе, в сентябре 2013 года Президент России В. В. Путин заявил на Валдайском форуме, что Россия всегда развивалась как «цветущая сложность», как государство-цивилизация, скрепленная русским народом, русским языком, русской культурой, Русской Православной Церковью и другими традиционными религиями России.
Бог, как известно, поругаем не бывает. Дух дышит, где хочет, и это происходит независимо от воли политических партий, и тем более отдельных людей, даже самых безбожных. История слишком серьёзное дело, чтобы доверять её только человеку. Вопреки радикалам разного толка – от ультралевых до ультраправых – отечственная религиозная и художественно-культурная жизнь не закончилась ни в 1917, ни в 1937 году. Более того, она продолжается и сейчас, чего, по сути, нельзя сказать о некоторых весьма цивилизованных странах, где ставится на один уровень вера в Бога и вера в сатану.
Основная мысль данного коллективного труда заключается в том, что православная христианская вера не исчезла из русской культуры после 1917 года, но продолжала жить в ней на всем протяжении советского периода отечественной истории (как в СССР, так и в русском Зарубежье), и продолжает жить в ней до сих пор. Вопреки жестоким репрессиям и запретам в Отечестве в 1917–1991 годах, вопреки инославной и иноязычной культуре в странах рассеяния, вопреки враждебным по отношению к христианству тенденциям современной постмодернистской цивилизации – те или иные формы христианской духовной энергетики неизменно служили источником творческого вдохновения многих крупнейших русских писателей, композиторов, художников, режиссеров театра и кино. Часто это происходило в превращенных формах, скрытно, в подтексте, в символике, в иносказании. Более того, порой это происходило бессознательно для самого художника, так что исследователю стоит немалого труда обнаружить вероисповедную подоплеку вполне светского, на первый взгляд, романа или кинофильма, и квалифицировать её так, как она того заслуживает.
При изучении заявленной темы исследователя подстерегают две главные опасности, и следует сразу же указать на них, чтобы в дальнейшем избежать обеих, не вводя в заблуждение читателя. Первая из возможных ошибок заключается в непомерном расширении привлекаемого материала, когда христианской тематикой охватываются произведения и лица, по существу не имеющие к ней никакого отношения. Вторая, противоположная крайность сводится к тому, чтобы, наоборот, исключить из рассмотрения артефакты, прикровенно содержащие в себе реальную христианскую составляющую. Религия и культура – не одно и то же, хотя они теснейшим образом взаимосвязаны. Авторы предлагаемого труда не ставят своей целью дать строго догматическую религиозную оценку творений музыкантов, живописцев и литераторов, – это задача богословской науки (богословия культуры). Как искусствоведы и культурологи, авторы стремятся учесть специфику художественного преломления вероисповедного начала в светской культуре, которая может совпадать с академической богословской догматикой, но может и отличаться от неё. Более того, в поле внимания авторов настоящей книги попадают и прямо противные вере, антихристианские по своей духовной природе художественно-культурные явления, которые, так или иначе, принадлежат к религиозному пространству искусства – в данном случае, к отрицательному (и даже демоническому) его наполнению. Это относится, например, к открытому богоборчеству многих художественных явлений 1920-1930-х годов, или к антихристианским мотивам в литературе, живописи и театре постмодерна начала XXI века.
Таким образом, впервые в научной литературе авторы настоящего издания ставят своей целью концептуальное эстетико-искусствоведческое исследование судеб русской религиозной традиции в отечественной литературе и искусстве за столетие 1917–2017 годов – советского и постсоветского периода. История искусства рассматривается как история духа. Речь идет о пяти традиционных для России видах профессионального художественного творчества – литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре и кино. Необходимо подчеркнуть при этом авторский характер предпринятого труда. Предлагаемая книга не претендует на энциклопедическую системность и исчерпанность заявленной темы. Каждый из её авторов избирает наиболее существенный, с его точки зрения, материал для изучения – тех или иных художников, определенные произведения, предпочтительные ракурсы рассмотрения и т. п. Нельзя, как известно, объять необъятного – однако можно выделить ключевые идеи, образы и имена, позволяющие ответить на вопросы о символе веры русской культуры (культур) последнего столетия.
Несколько слов о построении книги. Она состоит из трех томов, каждый из которых посвящен изучению определенного периода истории отечественной литературы и искусства, включая современность. Границы между периодами, разумеется, условны.
Первый том охватывает некоторые существенные художественно-культурные феномены, начиная от Февраля и Октября 1917 года (вместе с их предысторией серебряного века) до 1934 года – первого Съезда советских писателей.
Второй том – годы от 1935 до 1964, то есть период национал-большевизма, Великой Отечественной войны и т. н. «оттепели».
Третий, последний том, в свою очередь, складывается из двух частей, в первой из которой анализируются характерные художественные события последних десятилетий существования СССР, вплоть до 1991 года. Наконец заключительная часть третьего тома отведена недавним процессам нашей культурной истории – постсоветской литературе и искусству 1990-х годов и начала XXI столетия.
Наряду с этим, авторы предлагаемого труда – в целях большей полноты и всесторонности создаваемой картины – выборочно привлекают к рассмотрению материал культуры русского Зарубежья соответствующих периодов. Наша национальная история и культура, как известно, склонна к противоречиям и крайностям, однако в ней присутствует глубинное метаисторическое единство – «тайная свобода», о которой писал Александр Блок. Прояснение этого единства и борьбы противоположностей – религиозных, эстетических, собственно художественных – и составляет главную цель этой книги.
А. Л. Козин
Введение
Религия и культура в русской православной цивилизации А. Л. Казин
Исходные определения
Прежде чем непосредственно говорить об отечественном искусстве XX – начала XXI века, следует очертить его место в русской духовной культуре – разумеется, применительно к теме настоящей работы.
Наряду с разумом (логосом) и волей (этосом), человек осуществляет себя в эстезисе – в достигнутом совершенстве сущего. Под совершенством мы будем понимать энергию духа, явленную как вещь (произведение), а под искусством – деятельность человека, направленную к такому произведению. Совершенство обнаруживается в любых личных и социокультурных практиках, где имеет место предметная встреча реальности с идеалом. Чистого искусства, вообще говоря, не бывает. Даже так называемое «рамочное» (музейное) художество не существует само по себе – есть нечто справа и слева, вверху и внизу. Религия, философия, нравственность, искусство – лишь грани единого по существу ценностно-познавательного акта. Такова исходная постановка вопроса о судьбах русской духовной традиции в отечественном искусстве XX– начала XXI веков.
Христианская религия – это соборная и одновременно персональная вера в личного Бога-Творца, трансцендентного по отношению к человеку, но любящего его и дающего себя знать в откровении Бога-Сына, богочеловека Иисуса Христа. Как и всякая традиционная религия, христианство имеет свое вероучение (догматику), свою метаисторическую идеологию, свою мистическую и нравственно-эстетическую практику (образ жизни), реализуемую прежде всего в Церкви, главой которой является сам Христос.
Культура-это область присутствия человека в мире, это произведенная человеком (имманентная ему) область существования. В духовном плане культура включает в себя миросозерцание (философию), искусство (эстетику), нравственность (этику) и науку (познание и знание). Наряду с ценностно-смысловыми практиками, культура определяется также технологически-коммуникативной деятельностью человека, которую иногда (в отличие от духовной культуры) называют цивилизацией.
Искусство – это символическое воплощение духовного творческого дара человека в предметном материале мира.
Из сказанного вытекает, что основные уровни и коммуникативные практики культуры являются полем противостояния между восходящими и нисходящими энергиями религиозного происхождения. Выражаясь языком философии, бес-предпосылочного искусства (как и науки) не существует. Художники – даже в случае подчеркнутого равнодушия к Богу – объективно исповедуют и утверждают (сознательно или бессознательно) в своем творчестве определенный духовный идеал. Иными словами, религиозно-ценностный акт является неустранимой предпосылкой любого художественного (равно и антихудожественного) творения. Одни художники верят, что Бог есть, другие – что Его нет, и осуществляют эту веру/неверие в своих произведениях. Третьего не дано.
Классика и проект модерна
Любое искусство имеет свою классику- общезначимые и общепризнанные его достижения. Иными словами, классикой считается совершенство в своем роде, наиболее полно выражающее соответствующую исходную парадигму (порождающую модель) данного типа художественного сознания. Классика, в религиозно-философском смысле слова-это искусство под знаком вечности, sub specie aeternitatis. Это искусство перед лицом Бога. Естественно, что с христианской точки зрения классической литературой следует признать Библию, классической архитектурой – храм, классической живописью – икону, классической музыкой – церковную стихиру или хорал. В христианском духовном поле во главу угла ставится именно энергийное взаимораскрытие Творца и твари, духа и символа, – их доверительный диалог («я и Ты»). В отличие от язычества, христианство есть усыновление твари небесным Отцом, и потому мерой единства всеобщего и уникального здесь оказывается любовь (она же истина и красота). На рисунке принципиальная схема классической – молитвенно восходящей к Богу – цивилизации выглядит так:
1. Духовное ядро: вера в Бога, богочеловек.
2. Культура: религиозный этико-эстетический идеал.
3. Общество: сакральная государственность, священное царство.
4. Технология: централизованная производительная практика.
Рис. 1. Строение классической цивилизации
Наиболее полного своего осуществления классическая христианская цивилизация достигает в европейском и русском Средневековье – от константинопольской Софии и «Божественной комедии» Данте до «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона и «Троицы» Андрея Рублева. Искусство здесь понимается как род молитвы, а подлинным автором храма или иконы считается сам Господь. Художник (часто безымянный) в средневековой классике выступает не более чем подмастерьем Творца. Храмовый синтез искусств, в сущности, не нуждается в светской культуре, роль которой исполняет фольклор.
Решительные изменения в эту ситуацию вносит эпоха Возрождения – начало проекта модерна. Культура европейского Ренессанса решала ту же кардинальную для искусства проблему божественного и человеческого, однако решала её уже с гуманистической точки зрения, когда ценностную меру их соотношения определяет сам человек. Прямая (зрительная) перспектива Ренессанса – это именно стратегия превращения теоцентрической культуры в антропоцентрическую. Собор святого Петра в Риме или «Мона Лиза» Леонардо – это титанические автопортреты победившего гуманизма: безмерное определено мерным. Мистическая вертикаль «я – Ты» переведена в антропологическую горизонталь почти равных собеседников. Бог-художник в барокко, художник-бог в романтизме, чувственная ткань творения в реализме – все это псевдонимы конечного как ключа к бесконечному. Человек как мера вещей, к радости древнего софиста, утверждает себя и в картезианском «cogito», и в фаустовских играх с Мефистофелем, и в гегелевской абсолютной идее. Трактовка божественного как проекции человеческого (а потом уже «слишком человеческого») – такова субстанция новоевропейского века разума, закономерно явившего в 1883 году танцующего над пропастью Заратустру.
Рис. 2. Строение модернистской цивилизации
С указанной точки зрения, авангард начала XX века не внес ничего принципиально нового в культурную практику Европы. Собственно, модернистский проект антропоцентрической цивилизации уже был представлен гением Возрождения, Просвещения и романтизма во всех видах творчества и мышления – авангарду осталось лишь довести эту установку до атеистического финала. Проблематика авангарда в искусстве – это именно проблематика смертного гения-«бога», занятого абсолютным монологом – строительством личного космоса. Режущий себе ухо Ван Гог, пишущий «субъективный эпос» в темной комнате Марсель Пруст, созерцающий «Закат Европы» Освальд Шпеглер – таковы некоторые характерные фигуры духовного ландшафта Старого света рубежа XIX–XX веков. Зрелый модерн – это удел человеко-бога, погруженного в свое отражение. Отсюда тоска великих модернистов, от Бодлера и Мунка до Бунюэля и Бергмана. Предельно расширив рамки культурного горизонта, поздний модерн включил в культуру всё – и землю, и небо, но именно по причине своей абсолютной власти над миром получил искомое право и землю и небо отвергнуть («сбросить с парохода современности»). Европейский «бог» умер – его место занял самодостаточный человек, символическим знаменем которого явился черный квадрат-эмблема войн и революций XX века.
1. Духовное ядро: человекобог (сверхчеловек).
2. Культура: личный или групповой этико-эстетический проект.
3. Общество: социальное соревнование партийных проектов.
4. Технология: рыночная конкуренция товаров.
Искусство и пост-искусство
Отсюда остается один шаг до постмодерна. Если классика и высокий модерн в Европе – это, несомненно, искусство, хотя и онтологически разное, то постмодерн оказывается уже пост-искусством, «после-искусством». В таком плане постмодернистская семиодинамика странно напоминает древний восточный пантеизм, согласно которому «Ты есть тот» («таттвам аси»), а противоположность любой истины-тоже истина. Так или иначе, как художественно-философская практика постмодерн есть совершенный инструмент уничтожения (приведения к ничто) «бога» и человека. Фуко, Деррида, Делез и другие отцы постмодерна теоретически обосновали коммуникацию без общения, смысл поверх (помимо) смыслоразличения, чтение и письмо как операции с «телефонной линией», абоненты которой слышат не голоса друг друга, но только собственное эхо. «Другой» в постмодернизме заменил ближнего, но с «другим» мы как раз не в состоянии общаться именно потому, что он другой. Бесконечная перекодировка в иномыслие, перманентная игра несчетного множества текстов (интертекст, гипертекст, борхесовская библиотека-лабиринт) – такова стратегия поставангарда. В духовно-онтологическом плане происходящая на наших глазах драма западной цивилизации есть духовная революция, действительно отменяющая различие между верхом и низом, правым и левым, белым и черным, мужским и женским, просветлением и наваждением, жизнью и смертью, Богом и сатаной. Как полагают теоретики постмодерна, в нынешней культуре присутствует императив горизонтальности; символические структуры типа «высшее/низшее» заведомо обозначены как скомпрометировавшие себя, как не работающие, апелляция к ним расценивается как дурной вкус и обречена на поражение.
Особое место в центре «свободной семиодинамики» занимает информационно-концептуальная власть, принадлежащая в начале XXI века СМИ, и прежде всего телевидению и интернету. Виртуальная реальность электроники – это жесткое дисциплинарное производство социальной массы (глобального «человейника»), управляющее подсознанием миллионов. Медиакратия является сегодня универсальным инструментом анонимной власти, выстраивающей «общество спектакля», где любая жизненная и культурная ситуация подается как материал для зрелища. Культура XXI века стала культурой призраков (фальшаков, симулякров).
Рис. 4. Строение постмодернистской цивилизации
С религиозно-философской точки зрения, описанное состояние «открытого общества» представляет собой пародийное воспроизведение абсолютной всевозможности при утрате божественной природы последнего. «Будете как боги» [Быт. 3; 51] – на эту полуправду хитрого змея поддалась «фаустовская» евроатлантическая цивилизация, владеющая в эпоху тотальной коммуникации полом, возрастом, мыслями человека – всем, кроме смерти.
Правда, неверующих людей не существует: не верующие в Бога верят в смерть. Такова цена люциферианского нарциссизма сознания, заменяющего сущности отношениями и очарованного игрой с собственными двойниками. Здесь нет другого, потому что нет и человека как образа Божия.
1. Духовное ядро: ничто, перекодировка небытия.
2. Культура: смысловая игра, означающее без означаемого.
3. Общество: анонимно-информационное управление социальной массой.
4. Технология: универсальный сетевой гипертекст.
Русский путь
Своеобразие русского пути в большом времени определяется тем, что Россия – не просто христианская страна, а единственная, после падения Восточной Римской империи, суперэтническая православная страна-цивилизация, занимающая более трети материка Евразии. Стран-цивилизаций в современном мире вообще немного: Россия, Китай, Индия, США, Израиль. Мы не Европа и не Азия – мы Россия. Это всегда понимали наиболее чуткие русские люди. Русский европеец А. С. Пушкин отчетливо сознавал, что «Россия никогда не имела ничего общего с остальною Европою; история ее требует другой мысли, другой формулы»1. При всей резкости этого утверждения, его, так или иначе, поддерживали почти все выдающиеся художники и мыслители России, составившие её славу в мире – Пушкин, Гоголь, Чаадаев, Киреевский, Хомяков, Тютчев, Данилевский, Достоевский, Толстой, Леонтьев, Розанов, Бердяев, Булгаков, Тихомиров, Ильин, Франк, Флоренский, Флоровский, Савицкий, Трубецкой, Лосев, Гумилев, Панарин и многие другие. По слову великого поэта, дипломата и геополитика Федора Ивановича Тютчева, «Россия прежде всего христианская империя. Русский народ-христианин не только в силу православия своих убеждений, но ещё благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения. Он – христианин в силу той способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция – прежде всего враг христианства!»2. Под революцией Тютчев понимал генеральную линию новоевропейской (модернистской) истории вообще, покидающей Бога ради человека.
Восточная Церковь и культура никогда не доверяли уединенному (единственному в своем роде) человеческому опыту. В центре религиозного переживания и творческой практики православия находится собор. Согласно определению А. С. Хомякова, истина недоступна отдельному сознанию. Для этого нужна Церковь, которая «не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати»3. С тех пор как послы князя Владимира побывали в царьградской Софии и донесли о красоте православной литургии (общего дела), христианская Русь оказывала сопротивление римско-католической, а затем и протестантской дифференциации духовного акта по «точкам зрения», «дискурсам» и т. п. Апофатика и исихия – божественная тайна и говорящее молчание – оказались для русского монаха, иконописца, мыслителя и художника важнее самых очевидных (логически вынужденных) доказательств богоприсутствия на уровне наличного бытия. Золотая «луковка-свеча» православного храма есть архитектурная эмблема общения в свете Пресвятой Троицы – тихого согласия в любви, в отличие от антропоцентрической воли романо-готических остроугольных шпилей. «Троица» Андрея Рублева – это безмолвная беседа трех ангелов, где слово тождественно тишине как вечное совершение правды: «уже-но-еще-не».
Вся история Киевской, Московской, Петербургской и отчасти даже советской Руси наполнена желанием удержать это единство от распада, сохранить вертикальную напряженность культуры, избежать любой симуляции – подчас даже ценой отказа от культуры как таковой. Культура (в том числе художественная) – это, как было отмечено выше, всего лишь одна из оболочек цивилизации, ядро которой составляют вера и язык – в нашем случае православная вера и русский язык церковнославянского корня.
В свое время Петр Чаадаев и маркиз де Кюстин заметили искусственность европейского обличья петербургской России, назвав ее империей фасадов. Как мастера критики исторических масок, они были правы: православное сознание уповает на то, что лучше утратить свою свободу в Боге, чем сохранить ее для сатаны. Пожалуй, ярче всего это проявилось у Пушкина, чье творчество стало как бы вызовом собственному грешному гению. Вся поэтическая и личная судьба Пушкина может быть прочитана как путь к истине вместе с его героями и читателями – через общение с ними в любви.
Вообще, явление Пушкина – наряду с явлением Серафима Саровского и Победой 1812 года над коронованной буржуазной революцией в лице Наполеона – по меньшей мере, на целый век уберегло Россию от западнической рационально-юридической деструкции человека. Императорский Петербург, с его регулярными перспективами и фасадами, расчерченными по лекалам Леблона, разумеется, брал свое – но даже на берегах пленительной Невы Медный Всадник гонялся за маленьким человеком вопреки, а не благодаря светским приличиям, а Нос гулял по Невскому так, как будто всю жизнь только это и делал. Хваленый реализм классической русской литературы на самом деле есть общение с духами – то самое, где параллельные линии, по слову Достоевского, сходятся (хотя для близорукого человеческого взгляда это только обман зрения). Как бы то ни было, свою третью столицу – после Киева и Москвы – Святая Русь построила на тех же самых сакральных основаниях, что и прежде: Петр Великий со своими всепьянейшими ассамблеями не смог тут ничего изменить. Конечно, в социологическом плане Россия оставалась строго иерархическим социумом, где не только какой-нибудь станционный смотритель, но и, скажем, писатель (к примеру, камер-юнкер Пушкин) был юридически ничтожен перед Царем – однако в отношении мистической вертикали и тот, и другой, и третий оказывались совершенно равными – более того, они соборно общались друг с другом у святой чаши.
Истоки русского коммунизма
Не будет большой ошибкой сказать, что и катаклизм 1917 года в конечном счете был вызван народной потребностью правды, которая под напором капитала («желтого дьявола») лишалась своего метафизического места на земле. Речь идет, разумеется, не о марксистско-ленинско-троцкистской идеологии как таковой, и не о потугах масонских подмастерьев, а о радости-страданьи (по формуле А. Блока), которые суть одно, и без которых жизнь на Руси никому не мила, будь она хоть трижды свободной и комфортабельной. Собор православной русской цивилизации дал трещину раньше, чем был взорван московский храм Спасителя – но все же лет на пятьсот позже, чем Европа водрузила на своих священных камнях учение гуманизма. Предстояние перед Всевышним стоит дорого – за одного битого двух небитых дают. Слово «товарищ» ближе христианскому «брату», чем почтительный «господин», куртуазный «сударь» или постмодернистский «другой». Во всяком случае, у нас не образовалось нейтрального пространства между человеком и Богом, где удобно помещаются антропоцентрические («фаустовские») технологии, и где так приятно жить. Отсутствие в России цивилизованной «буферной зоны» – ее главное отличие как от западного «открытого общества» с его культом экономического человека, так и от восточной «роевой» традиции, для которой сохранение канона, ритуала является главной упорядочивающей заботой. В этом смысле Россия – действительно Последнее Царство4.
Так или иначе, наша христианская история не кончилась с Петром. Забегая вперед, заметим, что не кончилась она и с Лениным. Однако после Петра
Русь как бы раздвоилась: Восток и Запад, Богочеловек и человекобог встретились друг с другом на туманных улицах невской столицы. За два столетия в петербургской России накопилось большое напряжение между содержанием и формой, между тем, «что» и «как» делалось в стране. Начиная с судьбоносной игры слов в названии5 и кончая «последними днями императорской власти»6, Санкт-Петербург вел свой трагический империализм к революционной развязке, в которой уже очевидно проступали эсхатологические черты.
Не буду повторять здесь известные мыслительные ходы авторов сборника «Вехи» (1909), проследивших тайну превращения социал-демократического европейского учения о благоустройстве земного бытия (т. е. фактически о приспособлении к греху как норме существования) в русскую мечту о мировом спасении. «Русский дух насквозь религиозен. Он не знает, собственно, других ценностей, кроме религиозных», – писал один из авторов «Вех» С. Л. Франк в 1930-х годах, уже обладая опытом революционных и послереволюционных событий. На всем протяжении петербургской истории России стремление жить «не так, как хочется, а так, как Бог велит» объединяло у нас славянофилов и западников, материалистов и идеалистов, монархистов и народников. От трактовки крестьянской общины как зародыша отечественного социализма через призывы к народному восстанию под руководством «критически мыслящих личностей» до культа матери-сырой земли и мужика-богоносца – все это входило в поле сознания (и еще больше подсознания) русской интеллигенции на правах, так сказать, его естественных элементов.
Таким образом, соответственно своей истории и своему духовному строю, Россия испытала, осуществила то, что на Западе в лучшем случае было предметом умозрительных построений и салонных бесед. В русской культуре серебряного века произошло парадоксальное сращение базовых религиозно-исторических ценностей – и прежде всего идеи праведного бытия (в его народном и интеллигентском вариантах) – с пришедшими с Запада претензиями прагматического использования этого бытия, вплоть до его радикальной переделки. Именно в точке подобного сращения «русский Христос» сблизился с петербургским мифом, образ избранного народа – с пролетариатом-мессией, Карл Маркс – с ветхозаветными пророками и Фридрихом Ницше. Как сказал, уже в преддверии революции, святой Иоанн Кронштадский, «Россию куют беды и напасти. Не напрасно Тот, кто правит всеми народами, искусно, метко кладет на свою наковальню всех подвергаемых Его сильному молоту. Крепись, Россия! Но кайся, молись, плачь горькими слезами перед твоим Небесным Отцом, Которого ты безмерно прогневала!…»7.
Так или иначе, классическая христианская культура преобладала в России вплоть до 1917 года, и серебряный век с его декадентским либерализмом и эстетизмом этого судьбоносного положения в целом не изменил. Вместе с тем после Февраля и Октября мы вступили в период активного социалистического эксперимента, когда в смысловой центр культуры методами революционного насилия вместо Бога был поставлен коллективный человек (партия, класс). Собственно, исследованию противоречивой религиозно-ценностной структуры пяти основных видов искусства советского и постсоветского периода (включая русское Зарубежье) и посвящен первый том предлагаемого издания. Не опережая поэтому последующего изложения, заметим только, что указанная фундаментальная антиномия – тайное религиозное ядро и богоборческая идеологическая трактовка – пронизывает всю культуру советского периода снизу доверху, с 1917 года до 1991. Начиная с великой поэмы Александра Блока «Двенадцать» (этого русского апокалипсиса) и вплоть до романов Валентина Распутина, музыки Георгия Свиридова и фильмов Андрея Тарковского, внимательному наблюдателю открывается постоянная – хотя большей частью и углубленная в подтекст – борьба за Христа в светской русской культуре. Наряду с нею, столь же упорной в советское время была борьба и против Христа – от «Черного квадрата» (этой иконы небытия) «комиссара по делам искусств» Казимира Малевича до «некрореализма» некоторых опусов позднесоветского авторского кино.
Выделим – достаточно условно, разумеется – несколько главных этапов этой борьбы.
От красного террора к «красному императору»
Советская власть, началась, как известно, с красного террора против религии, государственности, истории и культуры русского народа. Уже в январе 1917 года был издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Что касается непосредственно духовенства, то хорошо известны указания Ленина о том, что чем больше представителей реакционного духовенства расстрелять, тем лучше. Ещё в 1913 году Ленин писал Горькому, что всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость и труположество. После победоносной революции, в 1923 году, супруга вождя Крупская, руководившая народным «просвещением», распорядилась изъять из библиотек сочинения многих крупнейших отечественных писателей. Было запрещено преподавание национальной истории в школах, а всё, что было на Руси до «исторического материализма» (и уж тем более до Петра), объявлено мракобесием и темным царством. Большинство представителей классического русского искусства (в отличие от модернистов) эмигрировали тогда за границу (Бунин, Шмелев, Рахманинов, Шаляпин и др.), а православных философов и ученых выслали на «философском пароходе» в Германию. Интернационал-коммунисты нашли страну, которую им было не жалко, рассматривая её как вязанку хвороста для мировой революции.
Однако примерно с 1935 года положение стало меняться. Отказавшись от утопии «без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем», пламенные революционеры – разрушители Империи – постепенно превращались в национал-большевиков (или заменялись ими). Ещё в начале 1920-х годов сменовеховцы и евразийцы отмечали национальный аспект большевизма. К двадцатилетию советской власти о национальном коммунизме как превращенной форме идеи соборной правды написал Н. А. Бердяев в своей известной книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Со своей стороны, поэт-старообрядец Николай Клюев прямо утверждал:
Есть в Ленине керженский дух, Игуменский окрик в декрете…Именно эту сторону большевизма выдвинул на первый план Сталин. Сталинский переворот в советской идеологии и культуре в некоторых отношениях сопоставим с цивилизационной революцией Петра, хотя Петр смотрел на Запад, а Сталин, наоборот, на Восток. Случайно или нет молодой Иосиф Джугашвили учился в духовной семинарии – Бог ведает, однако его мышление оказалось иным, чем у ленинистов-троцкистов. Будучи таким же «демоном революции», как и они, Сталин начал оперировать другими – государственными категориями. Террор, разумеется, продолжался, и даже усиливался, но уже под державными знаменами. Бывший революционный боевик к концу 1930-х годов стал единоличным диктатором, а несколько позже – генералиссимусом и «красным императором». «Хитрость истории» проявилась здесь очевиднейшим образом: как вождь революционного авангарда (партия – орден меченосцев), Сталин, несомненно, осуществлял модернистский социальный проект, однако вольно или невольно он актуализировал одну из скрытых движущих сил этого проекта – классическую русскую соборно-монархическую традицию8. В этом, между прочим, отличие Сталина от Наполеона – этого коронованного генерала французской буржуазной революции.
Как бы то ни было, в 1934 году были возобновлены занятия по истории в школах, а также восстановлены исторические факультеты в университетах. Вульгарно-социологическую «школу Покровского» отодвинули в сторону. Литература, музыка, театр, живопись, кино начали приобретать более традиционный вид. Была закрыта, например, постановка кощунственных «Богатырей» Д. Бедного, тогда как на представлениях «белогвардейских» «Дней Турбиных» М. Булгакова Сталин лично побывал более десяти раз. Жестоко пострадали театр Мейерхольда и сам Мейерхольд, Клюев, Пильняк, Мандельштам, многие другие. Однако творили Прокофьев и Шостакович, Шолохов и Пастернак, Корин и Пластов. Знаковым событием в изменении идеологического ландшафта явилось празднование в 1937 году столетнего юбилея Пушкина, и выход вслед за тем на экраны «Александра Невского» Эйзенштейна, с его генеральной темой русского патриотизма. Журнал «Безбожник» прекратил своё существование в 1941 году (вместе с одноименным обществом). В сентябре 1943-го Сталин собрал в Кремле немногих оставшихся в живых церковных иерархов. Результатом этой встречи явилось восстановление в СССР православного патриаршества в полном объеме. Примерно тогда же вместо Интернационала советским гимном стала песня, славившая Великую Русь.
Делалось всё это во многом из конъюнктурно-политических и военных соображений, однако из песни слова не выкинешь. Нравится это кому-либо или нет, национал-большевики вытянули Россию из болота, в которую её загнали в феврале 1917 года взбунтовавшиеся либералы и социалисты («фармацевты», по ироническому замечанию Блока). Причем у новой власти не было колоний и волшебных источников нефти, все приходилось делать на энтузиазме, страхе и рабском труде. При осмыслении советской истории 30-50-х годов XX столетия следует решительно отвергнуть как тупой сталинизм в стиле «культа личности», так и патологический антисталинизм в кругозоре кухонного диссидентства. К несчастью, в России не нашлось других исторических и культурных сил, которые осуществили бы воссоздание страны после февральского революционного погрома другими, более гуманными – не говоря уже о христианских – средствами. Надо ясно понимать, что своим сегодняшним существованием мы, живущие в XXI веке, обязаны тем самым «советским» людям, которые в 1936 году голосовали за сталинскую конституцию, а в 1945 ценой своей жизни спасали буржуазную Европу от окончательного решения еврейского, славянского и других расовых вопросов. Это были одни и те же люди, один и тот же народ. Это ими восхищался автор контрреволюционных «Окаянных дней» Иван Бунин, публично приветствуя в парижском театре советского офицера. А «философ свободы и неравенства» Бердяев вообще поднял над своим домом в Кламаре красный флаг. Правда, на Родину они не вернулись…
Русское чудо XX века заключается в том, что мировоззренческий и политический революционный модерн в православной стране оказался, в конечном счете, идеологической оболочкой (превращенной формой) совсем иного ценностного содержания. Вопреки сатанинской политике интернационал-коммунистов и обосновывающей её марксистско-ленинско-троцкистской теории мировой революции, драгоценное христианское ядро отечественной литературы, музыки, живописи, театра не было утеряно, но сохранило себя, подобно граду Китежу при приближении монголов. Третий Рим не весь стал Третьим Интернационалом, хотя и поднял его знамена. Наряду с колоссальным антихристианским/антирусским напором (надо ли цитировать кощунственные строки некоего Джека Алтаузена о Минине и Пожарском или пассажи из книги М. Покровского «История России»?), русские писатели и художники советского периода улавливали в шуме и ярости своей эпохи отнюдь не только классовые ноты. Официально атеистическая, и поначалу даже воинственно безбожная, советская культура граничила на своей духовно-онтологической глубине стайной христианской надеждой, часто не осознаваемой в качестве таковой ни властью, ни читателями/зрителями/слушателями, ни даже самими художниками. О советской истории и культуре не удается судить по формальному принципу «черное – белое»9. «Красная Совдепия», к изумлению интернационал-коммунистов, в 1945 году стала советской Россией и одержала победу над самой страшной антихристианской и антинациональной силой, когда-либо надвигавшейся на Русь – оккультным нордическим рейхом. А в 1961 году смоленский паренек Юрий Гагарин первым вышел в космос. Советская культура – и вся цивилизация под названием СССР – оказалась во многом русифицирована, и в 1960-1980-х годах вполне могла стать национальной цивилизацией и культурой.
Мифология «оттепели» и «застоя»
К сожалению, этого не случилось. Более того, в конце 1950 – начале 1960-х годов устами «пламенного ленинца» (а на самом деле троцкиста и кровавого палача сталинских времен) Никиты Хрущева была провозглашена политика «возврата к ленинским нормам партийно-общественной и культурной жизни», что на деле означало возврат к эпохе крайнего национального нигилизма и безбожия троцкистского типа. Вернув узников ГУЛАГа из лагерей и предоставив творческой интеллигенции некоторую свободу, Хрущев в то же время воздвиг такие гонения на русскую православную Церковь, которые по масштабам приближались к ленинским. Священников, правда, физически уже не убивали. По приказу «Никиты кукурузного», как называли партийного генсека, на рубеже 50-60-х годов были закрыты тысячи церквей по всей стране, почти прекращено церковное образование. На фоне успехов в космосе Хрущев обещал показать по телевидению последнего попа…
Одновременно в официальных советских изданиях ругали модернизм, а Хрущев устраивал свои знаменитые скандалы по поводу модернистских живописных выставок и стихов («бульдозерные» разгоны и т. п.). Имели место и более серьёзные акции. В 1960-годах появились манифесты заслуженного марксиста М. А. Лифшица под названиями «Почему я не модернист?» и «Кризис безобразия». В этих выступлениях содержалось немало верного, за исключением главного – отказа признать марксизм-ленинизм одним из ключевых направлений модерна как типа сознания. Модерн, как мы видели выше, есть принцип конструирования мира из человека, сведение первого ко второму. Модерн – это человекоцентризм: человек = Бог. И если «нет объекта без субъекта», то не всё ли равно, кто этим субъектом является – отдельное человеческое сознание или, например, сознание классовое, групповое, субкультурное и т. п? Марксизм-ленинизм-троцкизм и порожденная им «пролетарская» мифология явились, по сути, таким же порождением модерна, как, скажем, либерализм или крайний национализм – только субъекты тут разные. Русская революция и вся последующая история советской власти – это история социально-культурного модерна, точно так же, как история американского буржуазного мифа или мифа европейско-националистического (итальянского, германского, испанского, португальского). Иосиф Сталин пытался, правда, опереться в своей политике на другие силы – в том числе религиозные – но у него это неизбежно принимало половинчатый и лукавый характер.
Указанных духовных связей категорически не понимали (а если понимали, то отвергали) господствовавшие во времена «оттепели» в культуре т. н. «шестидесятники». Они искренне полагали себя передовыми интеллигентами, противостоящими чудовищу тоталитарной власти, не допуская при этом мысли о собственном генетическом родстве с ней. Они пели песни Окуджавы о «комиссарах в пыльных шлемах», как будто забывая о том, к чему привела Россию деятельность этих самых комиссаров, превративших национальную войну в классовый геноцид народа. Они превозносили творчество авангардистов начала XX столетия, не обращая внимания на то, что и Маяковский, и Мейерхольд, и Малевич, и вообще весь модерн первой трети XX века был не только сторонником революции, но её активным проводником и «тайным агентом» в русской культуре («ваше слово, товарищ маузер»). Разрушив скрепы традиционной русской православной монархии, авангардисты пошли в деструкции до конца, породив в реальности такие «мутные лики», какие не представлялись даже во сне (разве что Достоевский в «Бесах» увидел). Как писал в своё время мудрый Г. П. Федотов, Пикассо и Стравинский в искусстве – то же самое, что Ленин и Муссолини в политике10.
Конечно, к 70-80-м годам XX века острота этих определений несколько стерлась. Советская сверхдержава, поставившая устами генсека своей целью «догнать и перегнать Америку по производству продукции на душу населения», стремительно обуржуазивалась. Бывшие «инженеры человеческих душ» вопрошали в романах и на экране о том, «что с нами происходит?» и воспевали бескорыстных идеалистов, однако на практике дилемма «искусство или совесть» неуклонно смещалась в сторону искусства. Гению позволено всё – вот типично модернистские лозунги советской «образованщины» 1960-х годов. Фигура тогдашнего «короля эстрадной поэзии» (а позднее обитателя США) Евтушенко в этом плане весьма характерна. Лауреат Государственной премии и любимый баловень московского начальства, он всю жизнь разоблачал «наследников Сталина». Примерно тем же занимался Вознесенский, начав с поэмы о Ленине и кончив признанием, что в нем «живет семь я». Это были отнюдь не бездарные люди, но их социокультурный горизонт, как правило, не выходил за пределы либеральных штампов. Уже в следующем поколении они получили в качестве расплаты тотальный постмодернистский перформанс, в котором сделался предметом пародирования сам модерн («папино кино»).
Вместе с тем именно 1960-1980-е годы остались в истории русской культуры как один из наиболее плодотворных её периодов. Именно тогда были опубликованы «За далью – даль» А. Твардовского и написан «Доктор Живаго» Б. Пастернака («лирический эпос» верующего поэта), созданы лучшие произведения Г. Свиридова, В. Гаврилина, А. Шнитке, сняты великие фильмы Г. Чухрая, A. Тарковского, С. Бондарчука, В. Шукшина. Напряженно работал А. Солженицын – при всей спорности его концепций. Расцвела т. н. «деревенская» (а на самом деле православная) проза и поэзия – В. Астафьева, В. Белова, Е. Носова,
B. Распутина, Н. Рубцова. В лице «деревенщиков» за перо – и какое перо! – взялся уже уничтоженный, казалось бы, в XX веке русский крестьянин (христианин)…
Борьба за Христа и против Христа велась и ведется в русском искусстве при всех образах правления – и царском, и советском, и постсоветском. Поэт у нас действительно больше, чем поэт.
«Перестройка» и постмодерн
«Крот истории» как известно, роет глубоко. В 1970-х – начале 1980-х годов СССР находился на вершине своего глобального военно-политического могущества, будучи одной из двух сверхдержав. Без его позволения действительно ни одна пушка не стреляла. Однако внутри страны – прежде всего в пространстве её национального духа и культуры – происходили сложные процессы.
Во Введении к настоящей книге нет места для системного анализа этих процессов, тем более, что в последующем изложении они будут рассмотрены на соответствующем художественно-культурном материале. Скажем кратко, что во второй половине 1980-х годов Советский Союз потерпел не хозяйственный, а прежде всего идейный крах. Это была идеократическая держава, стоявшая не столько на экономике (вопреки «основоположнику» Марксу), сколько именно на идеологии и политике. Однако со временем напряженность идейного принципа – веры в земной рай-коммунизм как превращенная форма народной религиозности – стала ослабевать. Властвующая элита (партноменклатура) не желала больше ждать всеобщего счастья, и просто конвертировала своё политическое господство в капитал. И первой жертвой этого «символического обмена» оказалась многовековая отечественная государственность вместе с традиционной (и отчасти модернистской) национальной культурой. Ещё в начале 1960-х годов Хрущёв обещал догнать и перегнать Америку по производству продукции на душу населения. Это было соревнование по правилам противника, которое заведомо не могло быть выиграно. В середине 1980-годов последний генсек КПСС Михаил Горбачёв провозгласил «перестройку», в результате которой СССР был разрушен, крупная промышленность и стратегические ресурсы стали частной собственностью компрадорской буржуазии (из той же номенклатуры), а русский народ в результате «шоковой терапии» начал вымирать со скоростью примерно 1 000 000 человек в год. Конечно, для подобного переворота потребовалась соответствующая (под знаком глобализма) «перестройка мозгов», которую и взяла на себя либеральная интеллигенция – прежде всего творческая.
Не будем здесь останавливаться на всех «соц-артах» и «концептуализмах», которыми художники и поэты конца 1980– начала 1990-х годов мостили идеологическую дорогу новой власти. Об этом будет сказано ниже. Отметим только, что для решения этой задачи понадобился постмодерн как тип сознания и постмодернизм как метод/направление/стиль художественной практики.
Выше мы видели, что постмодерн есть прежде всего утрата духовной вертикали культуры. Классическое русское искусство (даже в самых мрачных своих творениях) видело свет бытия, искало и находило его религиозную истину. Модернизм отвернулся от соборной истины и красоты, утвердившись на антропоцентрической («гениальной») позиции, согласно которой истина/красота не существует, а конструируется руками и разумом человека. В постмодерне этот круг замкнулся на использовании искусства в «жизни-после-смерти». Бытие и творчество в постмодерне мертвы, их не воскресить, но можно воспользоваться их остатками – поставить, например, иронический детектив в декорациях XVIII века, или построить из стекла и стали дом в стиле рококо. Постмодернизм смеется там, где модернизм был серьезен: идеями – даже нигилистическими и тем более революционными – можно жить, тогда как смыслами можно только играть. Мышление художника-постмодерниста включает в себя любую ценность – от фольклорной до абсурдистской, но только путем снижающего ее отношения к иному. Здесь встречаются все направления и имена, от псевдохристианской апофатики до древнекитайской «Книги перемен». Комедия приравнивается к трагедии, трагедия – к комедии, красота – к уродству, реальность – ко сну.
Нечто вроде манифеста российского постмодерна опубликовал в разгар «перестройки» (конец 1980-х годов) критик М. Эпштейн под названием «Теоретические фантазии»11. Две главные мишени выбрал автор: идею истины и русскую хандру. Что касается первой, то критик вместо устаревшей истины предложил некую «софиосферу», где примиряются любые идейные противники: «Никакой моноязык, никакой метод уже не могут всерьез претендовать на полное овладение реальностью, на вытеснение других метод, им предшествовавших… Никому не придет в голову утверждать, что одна клавиша рояля лучше („прогрессивнее“, „истиннее“) другой – все они равно необходимы для того, чтобы могла звучать музыка».
Попросту говоря, это означает, что одинаково правы страстотерпец и эстет, богослов и безбожник, герой и злодей. Что нет смысла различать утверждение и отрицание, Бога и сатану. Более того, их надо «уравнять», то есть поместить под одну обложку или представить на одной выставке в духе «кристального дворца», который когда-то привиделся Достоевскому в качестве символа мертвого будущего. Тогда наступит постмодернистский рай, прилетит птица Каган. Тогда некрореализм объединится с виртуальной магией, и они вместе отпразднуют победу над историей и ее смыслом.
Вторая цель критики такого рода – тоскующая русская душа. Автор видит в ней национальный недуг, проблему этнической патопсихологии. «Русская литература, как, пожалуй, ни одна другая литература мира, дает разнообразнейший материал для углубленного изучения этих состояний, на каких бы социальных и культурных уровнях они не проявлялись». Долгие песни ямщика, Пушкин со своим скучающим Онегиным, Гоголь с его бесконечной ширью, Блок с «тоской безбрежной», наконец, Платонов с его «Котлованом» и «Чевенгуром»… Во всем этом, по мнению критика, проглядывают черты какой-то «метафизической лишности», и не победить ее ничем – хотя бы тем же разгульем удалым. Более того, они неотрывны друг от друга: хандра переходит в богатырство, разгул – в тоску. «Так они и переливаются, жутко сказать, из пустого в порожнее, из раздолья в запустение – на всем протяжении русской тоскующей и гордящейся мысли»12. Не отсюда ли берутся войны? Революции? Самоуничтожение?
Это уже серьезно. В 1920-х годах сбрасывали Пушкина с корабля современности, потом – милостиво согласились взять его в «попутчики» под видом «критического реалиста», обличителя дворян и «лишних людей». Постмодернисты 1990-х просто записали его в метафизический расход (в Петербурге, например, начал выходит журнал «Дантес»). Ничего, кроме тоски и разгула, не усмотрели постмодернисты на Руси – ни в ее фольклоре, ни в ее высокой поэзии, ни в православной вере. «Чего мне ждать? Тоска, тоска!…»
Таким образом, именно в конце 1980-х – начале 1990-х годов часть либеральной интеллигенции («креативного класса», как теперь выражаются) перьями своих идеологов расписалась в том, что она не понимает и не ценит духовных оснований России. Логика постмодерна привела её не только к отрицанию русской истории, но и к сомнению в самом праве России на участие в глобальном «символическом обмене». Что, в самом деле, может родиться от сочетания тоски с разгулом?
Современный этап русской культуры
Сказанное, разумеется, не означает, что христианская энергетика в русском искусстве иссякла. Бог поругаем не бывает. Действительная, а не мифическая особенность России состоит в том, что у нас три фундаментальные религиозно-культурные установки – классическая, модернистская и постмодернистская – сосуществуют в ХХ-начале XXI века в рамках одной страны-цивилизации. В католическо-протестантской Европе указанные типы сознания/ творчества достаточно отчетливо (хотя, конечно, не абсолютно) разнесены по времени: христианская классика приходится на Средние века, модерн – на Новое время, постмодерн – на вторую половину прошлого столетия и начало нынешнего. Что касается России, то она оставалась своего рода «новой Византией» вплоть до начала XX века, с трудом переваривая насильственную петровскую модернизацию и создавая в споре с ней свою национальную культуру. Более того, мы оставались «новой Византией» в некотором отношении и после февраля-октября 1917-го, когда еще более жестокий коммунистический модерн поначалу чуть не убил страну, но затем был русифицирован до такой степени, что переродился в некое подобие Империи. Чтобы разрушить этот парадоксальный религиозно-культурный синтез, понадобились все нигилистические ресурсы постмодерна, где любая мысль воспринимается со стороны чужой и пародирующей её амбивалентности. Так под знаком «свободной семиодинамики» в 2000-е годы в российской культуре сформировался мощный неолиберальный сегмент, тоталитарная стратегия которого покоится именно на подчеркнутой относительности слов, выдаваемых за вещи.
Результатом, конечно, стало фактическое и юридическое размежевание отечественной художественной культуры, пришедшееся на первое десятилетие нового века. Разделились творческие союзы, театры, киностудии, газеты, толстые журналы. Читатели (и сами писатели, конечно) ныне хорошо знают, каких произведений ждать, например, от «Нового мира», а каких от «Москвы», что печатают в «Звезде», а что в «Родной Ладоге». От театра под руководством Юрия Соломина не требуют того, чего от труппы Кирилла Серебренникова, а в Союзе писателей России господствуют совсем иные нравы, чем, например, в Союзе писателей Санкт-Петербурга, хотя располагаются они в одном здании.
Выражаясь более категориально, приходится констатировать, что содержательное – и прежде всего религиозно-мировоззренческое – разделение национальной культурной практики в России последних двух десятилетий произошло именно по линии классика – модерн – постмодерн, хотя происходило оно в общем цивилизационном пространстве, среди людей, говорящих на едином русском языке. Сегодня на отечественной арт-территории представлены и радикальные панк-группы, и брутальный модерн т. н. «новой драмы», и скандальные «перформансы» с кровью, и много ещё чего в этом роде.
Вместе с тем сущностная – по промыслу Божию – основа русской цивилизации проявляется в том, что в современной России, вопреки жесткому давлению авангарда/поставангарда, продолжают существовать и развиваться православные по своим истокам литература, кино, живопись, музыка, искусствоведческая и философская мысль. Приведем пока только для примера несколько имен – композитора Владимира Мартынова, кинорежиссера Никиты Михалкова, художника Ильи Глазунова. Большой вклад в национальную культуру внесли в последнее время выдающиеся служители Церкви – митрополит Волоколамский Илларион со своей ораторией «Страсти по Матфею» и архимандрит Тихон (Шевкунов), документальный роман которого «Несвятые святые» стал едва ли не самой читаемой книгой 2011 года. Вопреки холодному рационализму (не говоря уже о постмодернизме), для которого юридически равнозначны молитвы Богу и камлание сатане, и нет различия между церковным браком и гомосексуальным союзом, в России продолжается борьба духов. Не случайно в сторону нашей страны в последнее время обращаются надежды многих христиан Европы. На протяжении почти всей своей истории Россия была – и в XXI веке имеет шанс стать вновь-альтернативным религиозным и цивилизационным центром мира.
Что касается русского Зарубежья XX века, то описанные процессы протекали там, разумеется, иначе. Русская культура в эмиграции «унесла Родину на подошвах своих сапог» (по выражению Романа Гуля), но, конечно, она не оставалась в стороне от судьбоносных изменений, происходивших в Отечестве и во всем мире. В эмиграции была своя христианская классика (Шмелев, Зайцев), работали Бунин и Мережковский, сочинял музыку Рахманинов, пел Шаляпин. Однако в творчестве Владимира Набокова, например, отчетливо проступили постмодернистские черты. Ниже мы по возможности проследим единство и различие христианской тематики русской культуры в Отечестве и в Зарубежье. Главное, чего не знала заграничная Россия – это террора богоборческой власти, равно как и навязчивого идеологического диктата более позднего периода. Однако борьба христианских и антихристианских сил и там проходила – и проходит – красной нитью сквозь ядро культуры вплоть до настоящего времени. В огне, как говорится, брода нет.
Заключая Введение, отметим главное. В современном мире на глазах падает духовный уровень человека и человечества. Не будем перечислять нравственно-эстетические признаки этого падения: они очевидны. Достаточно сказать, что современные дети почти не читают книг – они «сидят в виртуале». В некотором смысле конец культуры уже произошел, только не все это заметили. Видеть творение в Божьем луче, а не в сатанинской иронии или злобе – это подвиг художника, особенно в наше апокалиптическое время. Напротив, постмодернистская игра со злом – вплоть до танцев в храме Христа Спасителя – это духовное оборотничество, переворачивание ценностной иерархии. Свобода обращается здесь в «веселую относительность» – тревожный знак небытия. Русскую культуру ждут трудные времена, если она своё законное стремление к вольномыслию не сумеет соотнести с различением духов, если она свободу предпочтет истине.
История – слишком серьёзное дело, чтобы доверять её только человеку. Человек предполагает, а Бог располагает. Правильно заметил в своё время Федор Тютчев: «Апология России… Боже мой! Эту задачу принял на себя Мастер, который выше нас всех и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор вполне успешно»13. Он выполняет её и поныне.
Примечания
1 Пушнин А. С. О втором томе «Истории русского народа» Н. А. Полевого // Пушнин А. С. Собрание сочинений в десяти томах. М., 1982. Т. 6. С. 415–416.
2 Тютчев Ф. И. Россия и революция // Сочинения Тютчева Ф. И. Стихотворения и политические статьи. СПб., 1900. С. 475.
3 Хомянов А. С. Церковь одна // Хомянов А. С. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 5.
4 Подробнее см.: Козин А. Л. Последнее Царство. Русская православная цивилизация. СПб., «Наука», 1998. Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.
5 См. об этом: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Художественный язык средневековья. М., 1982.
6 См.: Блок А. Последние дни императорской власти // Собр. соч.: В 8 т. М.-Л., 1962. Т. 6.
7 Цит. по: Россия перед Вторым Пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. М., 1993. С. 255.
8 См.: Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 1991.
9 Подробнее см.: Козин А. Л. Антиномии русской судьбы // Козин А. Л. Русские чудеса. СПб.: Петрополис, 2010.
10 Федотов Г. П. Четверодневный Лазарь // Вопросы литературы. 1990. № 2. С. 226.
11 Эпштейн М. Теоретические фантазии // Искусство кино. 1988. № 7. С. 70–71.
12 Там же. С. 76.
13 Тютчев Ф. И. Сочинения. Стихотворения и политические статьи. – СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1886. – С. 419.
Литература
Наследники серебряного века
Поэма А. Блока «Двенадцать» и путь России О. Б. Сокурова
Размышления о судьбе России, о ее духовном и историческом предназначении заставляют обращаться к «знаковым» произведениям отечественной словесности, в которых нашли максимально глубокое и ёмкое отражение важнейшие вехи этой судьбы. Среди таких произведений, безусловно, должна быть названа знаменитая и загадочная поэма А. А. Блока «Двенадцать». В русской литературе эта поэма занимает совершенно особое место. По сути, именно с нее начинается масштабное обозрение и осмысление новейшего, революционного периода нашей истории, и ее можно считать произведением, заложенным в фундамент советской литературы. В то же время поэма «Двенадцать» во многом подытожила русский серебряный век и, как будет показано ниже, вобрала в себя некоторые важнейшие темы и традиции века золотого. Таким образом, она исполнила роль узла, связующего нити исторической, художественной и метафизической судьбы Руси уходящей и Руси советской. Но и это не все. Будучи произведением пророческого уровня, она содержит видение дальней, грядущей перспективы русского пути.
Как известно, поэма вызвала острые споры и выявила подчас непримиримые позиции по отношению к себе и своему автору с момента первой публикации в эсеровской газете «Знамя труда» от 3 марта 1918 г., и затем, в мае того же года, после выхода отдельной книжкой вместе с поэмой «Скифы». В том же году в «Алконосте» были выпущены еще два издания «Двенадцати» с талантливыми иллюстрациями Ю. П. Анненкова. Споры о поэме, особенно о тайне ее финала, где появляется образ Христа, вспыхнув тогда, не завершились до настоящего времени.
Немало видных представителей художественной интеллигенции, причем из числа хорошо знакомых Блоку, восприняли его новую поэму резко негативно. Особенно непримиримую позицию заняли 3. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский. Анна Ахматова и Владимир Пяст не стали принимать участие в вечере, на котором Л. Д. Менделеева-Блок должна была читать «Двенадцать». Критически отнеслись к содержанию поэмы Ф. К. Сологуб и А. Чеботаревская. Н. С. Гумилев в близком себе кругу утверждал, что в своей поэме Блок послужил делу Антихриста, и многие вслед за ним увидели духовную подмену в финале «Двенадцати»: под видом Христа, вроде бы обоснованно считали они, идет впереди отряда красноармейцев Его зловещий антагонист: «С какой стати Христу вести эту банду?»
Самое замечательное, что и сам автор не мог объяснить появление Христа в финале и впоследствии нередко недоумевал: действительно, с какой стати?..
Так, в дневниковой записи от 20 февраля 1918 года (поэма уже была написана, но еще не опубликована) Блок признается: «Страшная мысль этих дней – не в том дело, что красноармейцы "не достойны" Иисуса, который идет с ними сейчас, а в том, что именно Он идет с ними» [1, с. 326]. В варианте из записных книжек сказано еще определеннее, почти в согласии с Гумилевым: «Опять Он с ними…. а надо Другого» [2, с. 388–389].
А когда в одном из публичных выступлений Н. С. Гумилев в присутствии Блока сказал, что конец «Двенадцати» кажется ему искусственно приклеенным и что внезапное появление Христа в поэме – чисто литературный эффект, автор поэмы отреагировал на это замечание неожиданным образом. Приводим свидетельство К. И. Чуковского: «Блок слушал, как всегда, не меняя лица, но по окончании лекции сказал задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушиваясь:: – Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда же я записал у себя: к сожалению, Христос» [30, с. 27–28]. (Здесь и далее выделения в цитатах мои. – О. С.)
Нина Ивановна Гаген-Торн, которая присутствовала на чтении «Двенадцати» в Вольфиле на Фонтанке1, обрисовала похожий эпизод. В конце вечера Блока спросили, что значит финал поэмы. «Не знаю, – сказал Блок, высоко поднимая голову, – так мне привиделось. Я разъяснить не умею. Вижу так» [14, с. 446].
Блок был в то время, и это признавали все, первым поэтом России, и ему на долю выпало осуществлять в родной стране обозначенную еще Пушкиным пророческую миссию. Поэт-пророк обладает исключительной способностью вслушиваться и вглядываться в происходящее (достаточно вспомнить, как в пушкинском программном стихотворении «Пророк» происходит преображение зрения обычного смертного человека в «вещие зеницы» и дарована способность новым, беспредел ьно обостренным слухом «внимать» тому, что недоступно для других людей). Для пророческого служения необходимо полное самоотречение («как труп, в пустыне я лежал»). Отказываясь от своих субъективных мыслей и пристрастий, Поэт-пророк говорит то, что дано ему свыше («исполнись волею Моей»). И, надо особо оговориться, это происходит даже в том случае, если открывшееся зрению и слуху непонятно или не нравится ему по его человеческим меркам. Отношение Блока к финалу «Двенадцати» в этом смысле очень показательно: ему не хотелось, чтобы было так, но он так видел.
Хорошо знавшие его люди отмечали, что он никогда не лгал даже в бытовых мелочах. Тем более в творческих вопросах первый поэт эпохи, обладавший даром духовного зрения, был ответственно правдив.
В самом деле, одна из загадок творчества состоит в том, что художественное произведение, если оно настоящее, может с какого-то момента перестать подчиняться своему создателю и изнутри диктовать ход событий, часто неожиданный для автора. В случае с поэмой «Двенадцать» мы имеем дело с чем-то особенно таинственным и значительным: образ Христа в финале становится тем более непреложным, что автор, насколько мог, сопротивлялся ему и не мог его объяснить. «Александр Блок не мог разгадать своих "Двенадцати", – подтверждал В. Шкловский. – С некоторым удивлением он сам относился к концу этой поэмы, но всегда настаивал, что именно так получилось» [31, с. 213].
«Видение» Христа в поэме Блока смущало не только тех представителей интеллигенции, которые категорически не приняли октябрьский переворот, – еще более оно вводило в недоумение и даже пугало их политических антагонистов. По словам Луначарского, большевиков «шокировало появление Христа во главе двенадцати…» [23, с. 491]. «Вы понимаете? Объясните», – потребовал от
В. Шульгина «гений всех времен и народов», иронически процитировав последнюю строчку поэмы, явно раздражавшую его. И, не дав собеседнику ответить, категорически заявил: «Не понимаю» [32, с. 124]. А комиссар Театрального отдела Наркомпроса О. Д. Каменева призналась Любови Дмитриевне Блок: «Стихи Александра Александровича ("Двенадцать") – очень талантливое, почти гениальное изображение действительности. Анатолий Васильевич (Луначарский) будет о них писать, но читать их не надо (вслух), потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, больше всего боимся». Блок зафиксировал этот отзыв 9 марта 1918 г. в записной книжке, и в дневниковой записи следующего дня, 10 марта 1918 г., от себя добавил, что «…большевики правы, опасаясь „Двенадцати“» [1, с. 329].
Тем самым он показал, что его поэма вовсе не несла в себе соглашательства с новой властью и даже содержала некую существенную для нее опасность. Какую именно – нам еще предстоит разобраться, а пока приведем еще одно ценное свидетельство современника. Корнелий Зелинский, поначалу с молодым энтузиазмом воспринявший революционные преобразования в стране, впоследствии вспоминал, что как-то раз в те давние и бурные времена встретил А. А. Блока на Невском проспекте. Поэт задумчиво стоял перед витриной магазина, на стекле которой были приклеены две бумажные полосы. На одной красовался лозунг: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», а на другой – «Революционный держите шаг». Под каждым лозунгом стояла подпись: А. Блок.
Зелинский обратился к поэту с восторженным приветствием – как к соратнику по революционной борьбе. «Да, – смутился Блок, – но в поэме эти слова произносят или думают красноармейцы. Эти призывы не прямо же от моего имени написаны, – и поэт будто с укоризной посмотрел на меня» [12, с. 398].
Думается, этот укоризненный взгляд мог бы и в наше время предназначаться тем, кто допускает прямолинейный политизированный подход к поэме и отождествляет те или иные голоса, звучащие в ее сложной полифонии, с авторской позицией. При этом можно обнаружить два крайних (и идеологически заостренных) взгляда на содержание поэмы. Один, наиболее распространенный, трактует появление Христа с флагом впереди отряда красноармейцев как подтверждение большевистских симпатий автора (так считал, например, В. Г. Короленко); другой, впервые выраженный М. А. Волошиным, напротив, усматривает тайну финала в том, что на самом деле красные бандиты ведут Христа на расстрел.
Аналогичную версию совсем недавно (и независимо от Волошина) высказал в статье «Загадка А. Блока» литературный критик М. Блехман, ныне живущий в Канаде. В статье поэма представлена и пересказана как черно-белый фильм, чем-то похожий на знаменитую ленту С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». По мнению Блехмана, ключ к разгадке «фильма» состоит в том, что перед отрядом головорезов-«Иванушек», выходцев из криминального мира, поставлена некая стратегическая Цель: они выполняют тайное задание убить Иисуса. «Белый венчик из роз» издевательски надет на Него, по мнению критика, вместо тернового венца. Вместо Креста в руки Пленника вложено кровавое знамя.
Автор этой темпераментной и по-своему неординарной статьи предупреждает: «Не зовите революцию. Если она стрясется, то уничтожит призывавших ее. И народ она уничтожит тоже. Но уничтожить, победить Его, невредимого от пули, не удастся – никому и никогда» [11, с. 58].
Согласившись с процитированной мыслью в целом, все же заметим: именно потому, что Христос в поэме «от пули невредим», да еще и «за вьюгой невидим», и именно потому, что Он не узнан красноармейцами, которые преследуют Его вслепую, эффектная «расстрельная» версия финала не выдерживает критики. Не менее сомнительно утверждение, что поэма якобы противоположна по своему смыслу написанной в те же январские дни 1918 г. статье Блока «Интеллигенция и революция», иронично, если не издевательски прокомментированной автором указанной статьи. И это не случайно, поскольку М. Блехман, очевидно, не разделяет и не одобряет критическое отношение поэта к интеллигенции, точнее, к той преобладающей ее части, которой Блок отказывал в объемном и беспристрастном понимании событий с их масштабом и сложностью, а также в способности увидеть их духовные причины и дальнюю перспективу. Блок предупреждал своих собратий: «Надменное политиканство – великий грех. Чем дольше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом…» [5, с. 406].
Следует обратить внимание на признание, сделанное Блоком в письме к отцу еще во время революции 1905 года: «Никогда я не стану ни революционером, ни "строителем жизни", и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто, по природе, качеству и теме душевных переживаний» [3, с. 144].
О себе – не как участнике, а как правдивом свидетеле событий 1917–1918 гг., Блок писал в апреле 1920 года: «Оттого я не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией… например, во время и после окончания „Двенадцати“ я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг– шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в „Двенадцати“ политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят в политической грязи, или одержимы большой злобой – будь они враги или друзья моей поэмы» [12, с. 357–358].
Между тем, о «Двенадцати» судили и до сих пор продолжают судить со стороны политических пристрастий и душевных предпочтений, оставляя без должного внимания духовные вопросы. Поэт в статье «Интеллигенция и революция» занял противоположную позицию: он призывал вырабатывать взгляд на происходящее в России не под воздействием «снисходительной душевности, порождающей кровь», а в ракурсе духовного видения событий: «Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности?» [5, с. 406].
Именно избранный поэтом духовный вектор в осмыслении и переживании событий побуждал его напоминать представителям интеллигенции о необходимости покаяния и сознания своей ответственности за прошлое и настоящее: «Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать "лучшие"» [5, с. 402]. Однако, с горечью отмечал поэт, «лучшие люди говорят: мы разочаровались в своем народе; лучшие люди ехидничают, надмеваются, злобствуют, не видят вокруг ничего, кроме хамства и зверства (а человек – тут рядом)» [5, с. 403].
Уже в самом конце жизни, выступая в Доме литераторов на вечере, посвященном 84-й годовщине со дня смерти Пушкина, Блок подчеркивал, что великий поэт никогда не считал «чернью» простой народ. Пушкин разумел под этим словом «светскую чернь» – родовую дворянскую знать, «у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники, – отмечал Блок в своей речи, – и есть наша чернь… люди – дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно прочно заслонена «заботами суетного света»» [7, с. 522]. Меткое определение – и на все времена…
А в уже упоминавшейся статье «Интеллигенция и революция», созданной в одно время с «Двенадцатью», Блок особо отметил, что наши великие художники не боялись погружаться во мрак окружающей жизни и темные бездны народной души, «но они верили в свет. Они знали свет». Блок при этом назвал имена Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого. Подобно им, знавшим народ не понаслышке, он верил, что в народе русском «есть великая творческая сила». Для того чтобы высказывать подобную мысль среди кровавых ужасов, повсеместной разрухи и безудержного, безобразного разбоя 1918 года, нужны были стоицизм любви к России и русскому человеку («Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне»). Нужно было мужество личного покаяния, очень нелегкий жизненный опыт, вплоть до беспощадного к себе сознания близости к погибели собственной души. Нужно было чувство тесного переплетения личной судьбы с судьбой родной страны и пророческий дар. Все это имеет прямое отношение к работе человеческого духа.
Таким образом, правильное понимание отношения Блока к происходившим в России событиям, которое получило адекватное художественное воплощение в «Двенадцати», должно осуществляться, прежде всего, на духовном уровне.
Одним из первых и немногих, кто подошел к итоговой поэме именно с такой позиции, был В. М. Жирмунский. В речи, прочитанной совсем вскоре после смерти Блока, он с сожалением отмечал: «В партийных спорах наших дней эта поэма слишком часто цитировалась: одни поспешили причислить автора к своим, другие – грозили ему отлучением, как отступнику. Между тем, поэма "Двенадцать" дает лишь последнее завершение самых существенных элементов творчества Блока <…> ее проблема – не политическая, а религиозно-нравственная <…>. И здесь, как это ни покажется странным на первый взгляд, речь идет, прежде всего, не о политической системе, а о спасении души – во-первых, красноармейца Петрухи, так неожиданно поставленного поэтом в художественный центр событий поэмы, затем, одиннадцати товарищей его, наконец – многих тысяч им подобных, всей бунтарской России, ее «разбойной красы»» [15, с. 34–35].
При этом Жирмунский отмечал, что в поэме, как и во всем творчестве Блока, «сверхисторический план не отменяет, а сохраняет глубокое своеобразие исторического момента». Он сумел увидеть родственность судьбы Блока, его «религиозного бунта», «попиранья заветных святынь», характерных для периода жизненной и творческой «антитезы», с бунтарским призывом красноармейцев из поэмы: «Пальнем-ка пулей в Святую Русь»… А ведь изначальное переживание жизни было у Блока, напоминал Жирмунский, совсем другим: оно определялось присутствием в мире «бесконечного, божественного, чудесного», и именно это придавало его поэзии «таинственную глубину». Последующий путь поэта ученый считал «религиозной трагедией, в которой каждый новый виток приближает или отдаляет от божественной цели, где за „падением“ следует „возмездие“ и силы небесные борются с силами демоническими за спасение души человека» [15, с. б]. В этом отношении, считал Жирмунский, явление Блока как личности было предугадано в романах Достоевского.
В период бунтарского разгула стихии в судьбе и творчестве Блока названная трагедия конкретизировалась ученым как «трагедия отречения». Глубина трагедии определялась тем, что даже в период сознательного, холодного и жесткого отречения от «заветных святынь» поэта не оставляла память об этих святынях. В данном отношении внутренняя биография первого русского поэта XX столетия и путь современной ему России, отрекшейся от призвания быть Русью Святой, но в тайниках души сохранившей памятные знаки этого призвания и тоску по нему, действительно содержали в себе немало общего.
Поэтому представляется необходимым, прежде чем приступить к истолкованию итоговой поэмы Блока, проследить предшествующий духовный путь поэта, осмыслить христологическую тему в его творчестве и понять, в чем именно состояла «трагедия отречения», с какими внутренними событиями, воплощенными в стихах, она связана.
* * *
Вернемся от итогов к истокам – к тем благословенным временам, когда поэт находился на вершине счастья и творческой окрыленности, и «его Офелия», «розовая девушка» с инициалами ЛДМ, давшая ему 7 ноября 1902 года свой «царственный ответ», была наречена его невестой. Вскоре в судьбе Блока произошло еще одно значительное событие: у него, можно сказать, появился свой Горацио – человек исключительной верности, духовной чистоты и благородства, правдивый свидетель всей дальнейшей биографии поэта, внутренней и внешней. Это был Евгений Павлович Иванов2.
Блок и Иванов познакомились 3 марта 1903 года на редакционном вечере журнала «Новый путь» и дружили до конца жизни Блока. К Евгению Павловичу очень тепло относились все члены семьи поэта. «Всеобщим нашим любимцем стал этот добрый, умный, всепонимающий Женя», – писала М. А. Бекетова [10, с. 107]. Сергей Соловьев, поэт из числа младших символистов, племянник знаменитого философа, считал Е. П. Иванова самым замечательным петербургским мистиком.
Евгений Павлович происходил из старообрядческой семьи и никогда не расставался с Евангелием, которое носил во внутреннем кармане, у сердца. Новый завет он знал наизусть. Учился на юридическом факультете, но без увлечения. Его вдохновляло Слово Божие как «таинственный корень-камень наших сказаний… который отвергли строители, а он стал во главе угла всего здания, познания» [17, л. 27 об.].
Печатался Е. П. Иванов в символистских изданиях – журнале «Новый путь», альманахе «Белые ночи» и «Вопросахжизни»-органе мистических идеалистов.
Из-под его пера выходили небольшие рассказы, статьи, рецензии, заметки. Пробовал себя в поэзии. Но Блок ценил не столько литературные дарования своего друга, довольно скромные (что признавал и сам Евгений Павлович), а его человеческую гениальность – «его до боли напряженную, требовательную совесть, его душевную чистоту, его редкую чуткость и умение заражаться чужой жизнью и переживать ее как свою собственную. В этом отношении в Е. П. Иванове несомненно присутствовало нечто, сближающее его с героями Достоевского: князем Мышкиным и Алешей Карамазовым» [24, с. 349]. Так высоко оценил эту личность крупный отечественный блоковед Д. Е. Максимов, впервые опубликовавший в 1964 г. в «Блоковском сборнике» Тартуского университета фрагменты воспоминаний и дневниковых записей Евгения Павловича о Блоке, хранящихся в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Автору этой статьи Д. Е. Максимов неоднократно указывал на Е. П. Иванова как на совершенно уникального и очень важного в жизни Блока человека, преданного и в то же время правдивого – настоящего друга, нравственный авторитет которого для Блока и членов его семьи был непоколебим во все времена. Значит, его наблюдения и рассуждения представляют для нас особую ценность.
Во внешности Блока, по первому впечатлению Иванова, было что-то «от только что посвященного рыцаря»: красив, высок, «под студенческим сюртуком точно латы, в лице "строгий крест". Где-то меж глаз и бровей кустам» [16, с. 378]. Еще одно из первых наблюдений нового внимательного знакомого – усиленное стремление и уникальная способность поэта «вслушиваться и всматриваться» в людей, в городской пейзаж, в тайные звуки и знаки исторического времени. Сам Блок подтверждал это наблюдение в одной из ранних статей: «Тайное „умное делание“, которым крепнут поэты – это вопрошание, прислушивание к чуть внятному ответу, „что для других неуловим“» [9, с. 7].
Сохранились воспоминания Е. П. Иванова об одной из его первых встреч с Блоком. Поэт шел в Университет, «но в лице не было ничего университетского: взгляд, напряженно вглядывающийся вперед, как бы вслушивающийся, как мне показалось, в визг, вой и звон телефонных проводов там, на мосту» [16, с. 379].
Блок, несмотря на кратковременность знакомства, сразу узнал Евгения Павловича, улыбнулся. Сообщил, что женился и пригласил в гости (они с молодой женой Любовью Дмитриевной Менделеевой жили в то время на Петербургской стороне в Гренадерских казармах, в квартире отчима Блока Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух).
Говоря с собеседником и записывая адрес, «он в то же время в душе точно не переставал вслушиваться и вглядываться в то, что звенело и свистело на мосту, за мостом и далее, точно воин врага невидимого чует перед боем» [16, с. 379].
И слух, и зрение Блока уже тогда были, в некоторых отношениях, поистине пророческими. Так, в том же 1903 году – времени пока еще вполне благополучном – он пишет поразительное стихотворение, не только предвосхитившее последующие трагические события русской истории, но и вскрывающие их духовный первоисточник.
Поскольку это стихотворение мало известно, приведем его полностью.
– Все ли спокойно в народе? – Нет, император убит. Кто-то о темной свободе На площадях говорит. – Все ли готовы подняться? – Нет. Каменеют и ждут. Кто-то велел дожидаться: Бродят и песни поют. – Кто же поставлен у власти? – Власти не хочет народ. Дремлют гражданские страсти: Слышно, что кто-то идет. – Кто ж он, народный смиритель? – Темен, и зол, и свиреп. Инок у входа в обитель Видел его и ослеп… Он к неизведанным безднам Гонит людей, как стада… Посохом гонит железным… – Боже! Бежим от Суда! [4, с. 269]3Точная дата создания этого произведения – 3 марта 1903 года. Март-трагический месяц для династии Романовых. В марте 1801 г. был убит Павел I, в марте 1881 – Александр II. А через 14 лет после написания блоковского стихотворения, в марте 1917 г., русский император Николай II был принужден подписать отречение от престола (легитимность этого документа до сих пор ставится под сомнение). Это событие неотвратимо повлекло за собой гибель Царской семьи и крушение Российской империи.
Тяжесть железного посоха новой власти, за видимыми действиями которой поэт прозревал власть «невидимого врага» – набирающего силу апокалиптического зверя, народ впоследствии ощутил в полной мере. Ритмы истории становились все более явными и грозными, а «неизведанные бездны» – пугающе близкими. От Суда, как выяснилось, не убежишь. Стихи оказались пророческими.
В дневниковых тетрадях Е. П. Иванова, хранящихся в архиве Пушкинского Дома [20, тетр. 3, л. 30], можно найти воспоминания о том, как поразило его своей загадочностью раннее стихотворение Блока «Я вышел в ночь-узнать, понять…» В нем есть такие строки:
…И слушал я – и услыхал: Среди дрожащих лунных пятен Далеко, звонко конь скакал, И легкий посвист был понятен <…> И вот, слышнее звон копыт, И белый конь ко мне несется… И стало ясно, кто молчит И на пустом седле смеется».[1, с. 215–216]
Евгений Павлович Иванов вспоминал, как хотелось ему разгадать это стихотворение Блока, впоследствии не случайно ему подаренное: «На вопрос мой прямо: кто на пустом седле смеется? он… полувопросительно ответил: „должно быть, антихрист?“». Для Евгения Павловича в этом чтении и этой трактовке было что-то очень близкое его собственным размышлениям.
Его «"коряжило" от Медного Всадника всю зиму, – представь, что с ним к весне!» [3, с. 94], – так шутливо выразился Блок о своем друге в письме С. Соловьеву. В другом месте поэт обобщил мысль о неотразимом влиянии пушкинской поэмы «Медный Всадник» на всю последующую русскую литературу: «Все мы живем в отзвуках его меди».
Представляется очень симптоматичным, что в эпоху серебряного века, по мере того, как усиливались предчувствия «неслыханных перемен» и «невиданных мятежей», эти отзвуки приобретали новые смысловые обертоны.
Е. П. Иванов, действительно, в течение ряда лет (как раз в начальный период знакомства с Блоком), по собственному выражению, «бредил» пушкинской поэмой о наводнении и вынашивал свой собственный образ города и его основателя. В результате им был написан литературный очерк «Всадник. Нечто о городе Петербурге». Очерк был напечатан в петербургском альманахе «Белые ночи», вышедшем в 1907 г.
В названном очерке образ Петра не был противопоставлен хаосу разбушевавшейся стихии, как в поэме Пушкина, но, по признанию автора, напротив, «глубоко связывался» с нею: под простертой дланью Всадника поднимаются бурные воды и народы. Медный Всадник ассоциировался в очерке Иванова с «демоном мятежным». В такой трактовке сказывалась устойчивая старообрядческая традиция неприятия деяний Петра и демонизация его личности (усмотрение в Петре духа антихриста). С точки зрения автора очерка, вовсе не Петр, этот «революционер на троне», был способен усмирить грозную стихию революционного бунта, а только явление Христа [19, с. 89, 91].
В том же альманахе «Белые ночи» (1907), где был опубликован очерк Е. П. Иванова «Всадник», впервые увидела свет «Петербургская поэма» Блока, впоследствии распавшаяся на два стихотворения: «Петр» и «Поединок», включенные автором в цикл «Город». Оба стихотворения датированы 22 февраля 1904 г. В первом из них образ основателя города раздваивается: Петр выступает то как защитник своей столицы – на занимающейся заре, с пламенеющим мечом в руке, то как вдохновитель ночных оргий: в этот момент вместо меча в его руке появляется дымящийся факел. И тогда змей, прежде зажатый копытами царского коня, получает свободу губить и соблазнять:
Сойдут глухие вечера, Змей расклубится над домами, В руке протянутой Петра Запляшет факельное пламя. Зажгутся нити фонарей, Блеснут витрины и троттуары В мерцанье тусклом площадей Потянутся рядами пары. Плащами всех укроет мгла, Потонет взгляд в манящем взгляде. Пускай невинность из угла Протяжно молит о пощаде! Там, на скале, веселый царь Взмахнул зловонное кадило, И ризой городская гарь Фонарь манящий облачила!.. [2, с. 141]В данном случае поэт продолжаеттворчески развивать тему «Медного всадника». Сродни природной и социальной стихии оказывается в его поэме стихия плотской разгульной страсти, которая может предварять и провоцировать бунт. Именно так и было в преддверье русской революции. Представители интеллектуальной и художественной элиты пытались примирить Христа с Дионисом, а на деле подменяли Христа Дионисом. Пускались во все тяжкие: создавали любовные треугольники, часто посещали публичные дома, меняли «партнеров», позволяли себе любые сексуальные извращения и эксперименты. Кривые пути в личной жизни неизбежно сочетались с религиозными и философскими блужданиями, еретическими идеями, объявленными «революцией духа».
Блудная страсть распространялась и в народе. Разрушались прежде крепкие семейные устои; как болезнетворные бациллы, размножались секты, в которых духовные извращения сочетались с разнузданностью плоти (достаточно вспомнить «радения» хлыстов, к которым символисты, и поначалу, между прочим, Е. П. Иванов, проявляли большой интерес). Одним словом, готовили себе и стране огненное наказание и всеми способами призывали и приближали бурю, чтобы потом ужаснуться ей. Так было тогда. Так, в неизмеримо больших масштабах, в мировых Содоме и Гоморре, происходит и сегодня. Согласно горькому афоризму, единственный урок истории состоит в том, что люди не извлекают из нее уроков. А не мешало бы извлечь.
Блоку предстояло во всех отношениях разделить судьбу своего поколения и одновременно совершить строгий суд над собой и над ним. А. Ахматова была права, когда называла Блока «человеком-эпохой»: он выразил свое время, аккумулировал в себе его дух и чутко откликнулся на его проблемы. Ему суждено было прозревать исторические и духовные корни этих проблем. Вот почему образ Петра получил в его творчестве, особенно в первом его периоде, связанном с увлечением славянофильскими идеями, явно негативную окраску: именно Петр начал сознательно, сверху, внедрять нравственные соблазны и творить бесчинства, какие не виданы были еще на русской земле. Конечно, нельзя не согласиться с Пушкиным: «то полководец, то герой, то мореплаватель, то плотник», он укреплял государственность и наращивал военную и промышленную мощь страны. Но Петр был не только великим созидателем, поскольку со свойственной ему энергией прививал пороки русской душе и тем самым разрушал ее.
Не удивительно поэтому, что второе стихотворение Блока, вошедшее в «Петербургскую поэму» и получившее название «Поединок», несло в себе существенную трансформацию восприятия памятника Фальконе как генетически родственного образу св. Георгия Победоносца на гербе Москвы. Блок, вопреки этому взгляду, показывает противостояние двух главных архетипов русской истории и культуры – образа святого Георгия-Змееборца и темноликого Петра, который в первой части «Петербургской поэмы» отпустил на свободу Змея-искусителя. В этом духовном различии заключен смысл их поединка:
Вдруг летит с отвагой ратной — В бранном шлеме голова — Ясный, Кроткий, Златолатный, Кем возвысилась Москва. Ангел, Мученик, Посланец Поднял звонкую трубу… Слышу коней тяжкий танец, Вижу смертную борьбу… Светлый Муж ударил Деда! Белый – черного коня! Пусть последняя победа Довершится без меня…» [2, с. 144]Однако пожелание поэта оказаться в стороне от поединка и не знать его исхода было неисполнимым, ибо полем битвы добра и зла, Бога и дьявола, по слову столь любимого Блоком Ф. М. Достоевского, является каждое человеческое сердце. Совсем вскоре после создания «Петербургской поэмы» ее автору пришлось познать но себе всю жестокость обозначенной им битвы. Обратимся к добросовестному свидетельству Е. П. Иванова об одном поворотном событии во внутренней биографии Блока.
* * *
В начале лета 1904 г. Иванов отправил в Шахматово, где в то время находился Блок, письмо, в котором сетовал на овладевшую им непонятную тоску. В ответном письме от 15 июня Блок совершенно неожиданно для своего друга констатировал: «Мы оба жалуемся на оскудение души. Но я ни за что, говорю вам теперь окончательно, не пойду врачеваться к Христу. Я его не знаю и не знал никогда. В этом отречении нет огня, одно голое отречение, то желчное, то равнодушное» [3, с. 105].
Крайне огорченный таким ответом Иванов обвинил, прежде всего, самого себя (и это было характерно для его покаянного сердца) в неумении передавать другим людям свою любовь к Спасителю. Спустя годы, не в силах забыть случившееся, он утверждал, что прозвучавшие в том письме слова поэта, которые, как известно, «есть уже его дела», повлекли за собою «очень серьезные последствия в духе, а потом и в жизни души и тела» [16, с. 378]. Последствия сразу дали знать о себе. В стихотворении «Я живу в глубоком покое», датированном тем же числом, что и письмо – 15 июня 1904 г. – в блоковской поэзии впервые появился некий Другой: «я вдвоем с Другим по ночам». (Напомним признание Блока, сделанное им в конце жизни, что в финале «Двенадцати» должен бы оказаться не Христос, а тот самый Другой, но что он, поэт Александр Блок, «к сожалению», видел Христа). В том же стихотворении Другой назван «темнолицым».
Тем не менее, новая фаза жизни, обозначенная пограничной чертой отречения от Христа, пока не пугала Блока, а веселила и неудержимо влекла к себе. В упомянутом письме Иванову он сообщал: «Отрицаясь, я чувствую себя бодрым, скинувшим груз, отдалившим расплату» [3, с. 105]. Друг с грустью комментирует: «Вместе с этим „грузом“ спадают с него, как груз, – и латы, и вечерняя грусть „заоблачного воина“: он бодро, решительно двинулся от заката в ночь» [16, с. 379].
Через три дня, 18 июня, Иванов получает новое письмо от Блока, где свое «бегство» от Христа поэт оправдывает духом нынешнего «отчаянного времени» и признается: «Так хочется закусить удила и пьянствовать. Говорите, что на каком-нибудь повороте мне предстанет Галилеянин – пусть, но ради Бога, не теперь!» [3, с. 107].
Ситуация более чем понятная: Христос, христианская совесть мешают «свободе» пуститься во все тяжкие, и потому возникает решение: из души, из жизни – долой их, пусть исчезнут хотя бы на время греховного разгула, а там – будь что будет! Е. П. Иванов считал, что с этого времени во внутреннем мире поэта начал происходить невидимый поворот «обращения»: «"Не городской" Блок становится более городским, "заревой" – более ночным. Воздушный – более земным, рожденным в "бытие земли"…Теперь уж нет в нем той прежней "заоблачной" грусти вечерней, "перекрестка" и "распутья", нет "грустящего" – ни в нем, ни о нем… ибо, вступая в новый круг, он чувствовал себя бодро…» [16, с. 379]
Бодрость, похоже, была связана с тем, что «иго легкое» Христа казалось окончательно сброшенным, и пьянящая вольница освобожденной стихии завоевана в полной мере. Как у тех, двенадцати: «Свобода, свобода, эх, эх, без креста!»
Так безоглядно весело и бодро началась та «трагедия отречения», о которой свидетельствовал Е. П. Иванов и на которую указывал Жирмунский…
О, город! О, ветер! О, снежные бури! О, бездны разорванной в клочья лазури\ [2, с. 203]Однако картина мира становится в поэзии Блока чем дальше, тем мрачнее. Попробуем сгруппировать образы города из второго тома лирики: фиолетовый запад, дымно-сизый туман, унынье низких туч, серые виденья мокрой скуки, могилы домов, пьяная ночь, черный притон, толпа проституток румяных, диван в публичном доме, сжимающий тело и душу, как змей…
Центральными циклами второго тома лирики Блока являются «Снежная маска» (1907) и «Фаина» (1906–1908), посвященные актрисе Н. Н. Волоховой. С образом лирической героини – со Снежной Девой, Девой гибели – оказывается связанным образ Змеи – от реальной застежки в виде изящной змейки на ботинке возлюбленной и ее «тяжелозмейных волос» он вырастает до универсального символа древнего Соблазна:
На плече за тканью тусклой, На конце ботинки узкой Дремлет тихая змея… [2, с. 239] Лишь в воздухе морозном – гулко Звенят шаги. Я узнаю В неверном свете переулка Мою прекрасную змею. [2, с. 270] Вползи ко мне змеей ползучей, В глухую полночь оглуши, Устами темными замучай, Косою черной задуши… [2, с. 258–259] И змеи окрутили Мой ум, и дух высокий Распяли на кресте, И в вихре снежной пыли Я верен черноокой Змеиной красоте. [2, с. 136]Лирический герой цикла погружен в «сны метели светлозмейной, песни вьюги легковейной, очи девы чародейной». Образ завивающейся вихревыми змеиными кольцами Метели также оказывается в циклах второго тома центральным символом, который изобилует рядом важнейших контаминаций. Попробуем их обозначить.
1. Прежде всего, метель (в прежней орфографии, используемой Блоком, – «мятель») – это мятеж природы; он у Блока сродни мятежу безлюбовной страсти, холодной и обжигающей – мятежу по существу богоборческому:
Под ветром холодные плечи Твои обнимать так отрадно: Ты думаешь – нежная ласка, Я знаю – восторг мятежа! [2, с. 264]И метель, и любовная страсть могут стать фоном разбушевавшейся революционной стихии. Это важно для понимания «Двенадцати» и многих стихотворений третьего тома: «Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна»…
2. Метель, вьюга сбивают с пути, сбивают с ног, застилают глаза. В этих условиях возможен разгул нечистой силы (уместно вспомнить природный фон пушкинского стихотворения «Бесы»). Блок в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» (1906) передает народное поверье: «В этом ветре, который кружится на дорогах, завивая снежные столбы, водится нечистая сила. Человек, застигнутый вихрем в дороге, садится, крестясь, на землю. В вихревых столбах ведьмы и черти устраивают поганые пляски и свадьбы; их можно разогнать, бросив нож в середину вихря» [8, с. 33]. При чтении «Двенадцати» следует учитывать эту смысловую и оценочную характеристику мира, охваченного метелью и вихрем революции. (Интересно, что на рисунке Ю. Анненкова, одобренном Блоком, Петруха изображен не с винтовкой, а с ножом в руке).
3. Тема метели связана с темой сна души, забвения, беспамятства. Лирический герой «Снежной маски» напоминает андерсеновского Кая, который находится под воздействием ледяных чар Снежной Королевы, и забыл все, что было ему дорого когда-то:
Большие крылья снежной птицы Мой ум метелью замели… [2, с. 245] Я всех забыл, кого любил, Я сердце вьюгой закрутил, Я бросил сердце с белых гор, Оно лежит на дне! [2, с. 251]И в «Двенадцати» красноармейцы – это Иваны, не помнящие родства, забывшие веру отцов, не знающие «Имени святого», не ведающие и смысла своих имен.
Двенадцать апостолов революции? Но отчего апостольские их имена звучат снижено-пародийно, небрежно, как клички: Ванька, Андрюха, Петька?..
4. В то же время образ метели в русской литературе, начиная с Пушкина, связан не только с разгулом темных сил. Этот образ соотносится с важнейшей темой судьбы («Повести Белкина», «Капитанская дочка»). Судьба может вести, казалось бы, вслепую, но на самом деле это промыслительный путь – как отдельной личности, так и целого народа.
В повести «Метель» героиня в атмосфере ненастной зимней ночи движется, сама того не зная, навстречу своему суженому. В «Капитанской дочке» Гринев, несмотря на разыгрывающуюся метель, зачем-то погонял ямщика, заставляя его продолжать опасный путь («будто на свадьбу торопимся», – ворчал Савельич, и ведь как в воду глядел…)
В «Двенадцати» тема русской судьбы как предначертанного пути особенно мощно звучит в «загадочном» финале. Однако об этом речь впереди.
А пока отметим, что в лирике, относящейся к периоду «антитезы» (второй и отчасти третий том), путь как важнейший «интегратор» жизни и поэзии Блока (термин Д. Е. Максимова), казалось, во многом был утрачен – поэт сознательно и безоглядно кинулся в бес-пут-ство, в рас-пут-ицу дионисийских демонических стихий. Он, словно ставя над собственной душой смертельно опасный эксперимент, пустил себя «вразнос». А. Белый, стараясь объяснить его поведение, вспоминает, что в то время Блок жил «в потемках растоптанной и в тень спрятанной жизни <…>, из всего, что он говорил, вырывался подавленный окрик: „Можно ли себя очищать и блюсти, когда вот кругом – погибают: когда – вот какое кругом…“» [26, с. 159]
Блок, вероятно, не задумывался тогда, что как раз потому, что «такое кругом», очищать и блюсти себя и можно, и необходимо. Согласно многовековому духовному опыту, состояние окружающего мира зависит от внутреннего устроения каждого. Но Блок не знал святоотеческой традиции – или, возможно, в то время и не хотел ее знать.
Прости, отчизна! Здравствуй холод! Остыло сердце! Где ты, солнце? [2, с. 233]Прежний рыцарь добра был закован в оковы снегов, и его меч утонул в «серебряной вьюге». А когда ангельские силы вместе с солнечными лучами врываются в ледяную «келью», стремятся пробудить, возвратить к «созидающей работе» – он прогоняет их:
Прочь лети, святая стая! К старой двери Умирающего рая! Стерегите, злые звери, Чтобы ангелам самим Не поднять меня крылами, Не вскружить меня хвалами, Не пронзить меня Дарами И Причастием самим! [2, с. 228]В. М. Жирмунский, размышляя о тех гибельных безднах, которые притягивали к себе душу поэта, прозорливо вспомнил очерк Достоевского «Влас». В нем описывается случай, происшедший с молодым крестьянином, который совершил в порыве религиозного бунта «дерзость небывалую и немыслимую»: он поднял ружье на Дары Причастия, которые тайно сохранил, не употребив в храме («пальнем-ка пулей в Святую Русь»…) В момент свершения святотатства ему явился Крест, а на нем – Распятый. «Влас пошел по миру и потребовал страдания». Обратим внимание на то, что в этом случае мы видим не только справедливое свидетельство гениального писателя о русском человеке, который имеет удивительную потребность «хватать через край» и свешиваться над самой бездной, а то и лететь в нее «как ошалелому, вниз головой». Здесь можно увидеть и еще более потрясающее свидетельство о Христе, о той непостижимой для человеческого разумения любви к врагам, которую Он проповедовал и исполнял на деле. В случае с деревенским парнем эта любовь вновь явила себя в полной и ошеломляющей мере: «Стреляй. Я готов снова умереть за тебя».
В своих кощунственных стихах представитель культурной элиты Александр Блок по своему духовному состоянию был совсем не далек от крестьянина Власа («тот путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь»).
Скрупулезно и достоверно зафиксированный в его стихах «жизни гибельный пожар» производит тяжелое, порой ужасающее впечатление – на этом заостряли внимание некоторые из авторитетных исследователей, стремившихся рассмотреть творчество Блока с христианских позиций. Тезисы беспощадно сурового доклада о Блоке, прочитанного в 1931 г., в десятую годовщину после смерти поэта, не без оснований приписывают П. А. Флоренскому (впрочем, авторство доклада до сих пор окончательно не установлено). С этими тезисами были во многом солидарны о. Георгий Флоровский, а также недавно ушедший из жизни профессор Свято-Тихоновского института М. М. Дунаев и ряд других авторов. Как справедливо пишет В. М. Жирмунский, используя известную фразу Достоевского, Блок периода «антитезы» перешел от идеала Мадонны к идеалу Содомскому, суть которого – «попиранье заветных святынь», «бездонной скуки ад».
Но вот на что хотелось бы обратить внимание: в стихах Блока, его дневниках и записных книжках есть та исповедальность, та неподкупная правда о себе, которая позволяет надеяться, что в духовном состоянии поэта не все было столь уж безнадежно. Блок никогда не называл черное белым, не оправдывал себя, не лукавил, не выдавал бесов за ангелов. Его благородная честность является последней чертой, за которую зло уже не могло прорваться и которая не дает права говорить об окончательной гибели его души.
В дневнике поэта все чаще встречаются записи такого рода: «Ночью проснулся, пишу, слава Богу, тихо, умиротворюсь, помолюсь. Мама говорит, что уже постоянно молится громко, и что нет никакого спасения, кроме молитвы. Назад к душе, не только к "человеку", но и ко "всему человеку" – с духом, душой и телом, с житейским – трижды так» (30 окт. 1911). «Господи, дай мне быть лучше» (29 дек. 1911) [7, с. 114]. «Совесть как мучит! Господи, дай силы, помоги мне» (23 дек. 1913) [7, с. 253].
Блок передал и обобщил в своих стихах и дневниковых записях духовный опыт людей совершенно нового, небывалого по масштабу испытаний и по сложности духовных вызовов, XX века. Этот опыт с невероятной глубиной выразил впоследствии его святой соотечественник, старец Силуан, совершавший свой духовный подвиг на Афоне. Он сконцентрировал то, что открылось ему, в одной емкой формуле:
«Держи свой ум во аде и не отчаивайся».
Первую часть формулы – осознание себя достойным ада – Блок сумел на редкость сильно и правдиво выразить, но второе, парадоксальное пожелание – при этом не отчаиваться, вручив себя Христовой любви и милости, поэт, долго переживавший острый кризис веры, выполнить чаще всего не мог, не имел духовных сил. Он надолго погружался в пучины отчаяния, порой беспросветного (в этом отношении знаменательно стихотворение «Девушка пела в церковном хоре»).
Однако во все времена, на всех этапах, в Блоковском творчестве появлялись и одиноко высились вехи, которые не давали его душе окончательно заблудиться, затеряться в метельных вихрях времени. Воспринимаемые как помощь свыше, они указывали верный путь и свидетельствовали о его непреложности:
И сквозь круженье вихревое Сынам отчаянья сквозя, Ведет, уводит в голубое Едва приметная стезя.Слово «стезя», согласно его этимологии, означает путь по восходящей, путь наверх. А голубой и синий цвета приобретают в поэзии Блока символический смысл и знаменуют присутствие Неба в земном существовании человека.
Например, неразрывно связан с синим небом образ Христа в знаменитом стихотворении, начинающемся строками:
Вот Он, Христос, в цепях и розах, За решеткой моей тюрьмы… [2, с. 81]Стихотворение написано в 1905 г., то есть уже после известного отречения и – словно бы вопреки этому решительному акту. Перед нами произведение, очень важное для понимания христологической темы в творчестве Блока. В нем можно увидеть продолжение и развитие мотивов пушкинского и лермонтовского «Узника». Если за окном темницы у Пушкина находится сочувствующий пленнику вольный орел, если лермонтовский Узник сознает свое полное безотрадное одиночество, то в стихотворении Блока к страдающему человеку приходит сам Спаситель, также познавший в своем предсмертном страдании тюремные узы и крайнее одиночество. Как знак солидарности с томящимся в темнице страдальцем показаны цепи на руках Христа. О чем все это говорит? Человек может оставить Бога, но Бог не оставляет человека, не отрекается от него – более того, Он активно ищет его, как добрый пастырь потерянную овцу, и максимально приближается к нему, когда человек находится в крайнем страдании и беде.
В стихотворении образ Христа соединен с синим небом, явлен на фоне родных полей – Блок не забыл тютчевскую формулу России. Не забыл он и разговоры о «колосящемся Христе», которые не раз велись с Е. П. Ивановым – не случайно именно ему, верному другу, искренне переживающему за духовное состояние поэта, был посвящен этот маленький шедевр. Чтобы обрести единство с Христом, утверждает поэт, надо самому стать как стезя и быть подобным умирающему злаку. Злак – это трава, употребляемая в пищу, или хлебный колос. Последнее символическое уподобление содержит в себе скрытую отсылку к евангельскому тексту: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» [Ин. 12: 24]. Напомним, что этот текст был избран Ф. М. Достоевским в качестве эпиграфа к его итоговому роману «Братья Карамазовы», а после смерти великого писателя был начертан на его могильном памятнике. Кроме того, Блок хорошо помнил и цитировал в статье «Народ и интеллигенция» мысль Гоголя, выраженную в «Выбранных местах из переписки с друзьями» – о том, что «монастырь наш – Россия», и нужно подвизаться в ней, «умертвивши всего себя для себя, но не для нее». Блок, размышляя о значении этих слов, задавался вопросом, понятны ли они современному интеллигенту, и с сожалением констатировал: «Увы, они и теперь покажутся ему предсмертным бредом, вызовут все тот же истерический бранный крик, которым кричал на Гоголя Белинский, „отец русской интеллигенции“. В самом деле, нам непонятны слова о сострадании как начале любви, о том, что к любви ведет Бог. Непонятны, потому что мы уже не знаем той любви, которая рождается из сострадания, потому что вопрос о Боге – кажется, „самый нелюбопытный вопрос в наши дни“, как писал Мережковский, и потому что, для того чтобы „умертвить себя“, отречься от самого дорогого и личного, нужно знать, во имя чего это сделать» [6, с. 266–267].
Таким образом, программное стихотворение Блока о сострадании Бога и жертвенном самоотречении человека органически встраивается в общий контекст отечественной культуры, христианской в своих корнях.
Менее известным, но не менее значимым является стихотворение, открывающее цикл «Осенняя любовь»:
Когда в листве – сырой и ржавой Рябины заалеет гроздь, Когда палач рукой костлявой Вобьет в ладонь последний гвоздь, — Когда над рябью рек свинцовой, В сырой и серой высоте, Пред ликом родины суровой Я закачаюсь на кресте, — Тогда – просторно и далеко Смотрю сквозь кровь предсмертных слез, И вижу: по реке широкой Ко мне плывет в челне Христос. В глазах – такие же надежды И то же рубище на Нем. И жалко смотрит из одежды Ладонь, пробитая гвоздем. Христос! Родной простор печален! Изнемогаю на кресте! И челн Твой – будет ли причален К моей распятой высоте? (1907) [2, с. 263]Вновь человек неподвижен в своем страдании, а Христос движется навстречу этому страданию, на сей раз крестному, предсмертному. Он плывет по реке, которая, согласно устойчивой мифологической традиции, отделяет этот мир от мира иного. На Нем все то же рубище (как «рабский вид» Царя Небесного в стихотворении Тютчева). И в глазах все та же надежда на победу света и добра в человеке, пусть даже в последний, самый мучительный момент его земного бытия, как это было с благоразумным разбойником, когда-то распятым на кресте рядом со Спасителем.
Сильное, а тем более, смертное страдание способно возвышать, очищать душу. Высокая печаль, которой отмечен здесь строй человеческой души, присутствует и в пейзаже, в «лике родины суровой». И если в «письме отречения», адресованном Е. П. Иванову, Блок наотрез отказывался идти «врачеваться к Христу», то в приведенных стихах лирического героя окружает пронизанный присутствием Христа «врачующий простор».
Еще более неожиданным, алогичным, идущим вразрез с идейными и художественными установками «отрекшегося навсегда» поэта выглядит явление Христа в холодном, темном, гибнущем и губящем городе, куда, как кажется, «никогда небеса не сойдут». Но вот во втором томе стихов мы находим описанное Блоком видение: по скованной стужей, пронизанной ледяным ветром ночной улице столицы, мимо спящего собора, таинственная Жена ведет за руку кроткого мальчика в белой шапке:
Я стою в тени портала, Там, где дует резкий ветер, Застилающий слезами Напряженные глаза. Я хочу внезапно выйти И воскликнуть: «Богоматерь! Для чего в мой черный город Ты Младенца привела?» Но язык бессилен крикнуть. Ты проходишь. За тобою Над священными следами Почивает синий мрак. [2, с. 177–178]Богоматерь пребывает в глубокой тишине, в синем мраке спящего города.
Ее кроткая тишина сочетается с исключительной твердостью духа: Она отдает Сына людям вместе с охваченным острой болью и непостижимой любовью Сердцем.
То обстоятельство, что в блоковском стихотворении Богоматерь молча и бесстрашно ведет Отрока в самый эпицентр городского ада – неудивительно. Ведь и Сын Ее говорил фарисеям: «не здоровые нуждаются во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» [Мк. 2:17].
В приведенном примере особенно отчетливо видно, что божественный Логос может свободно и активно являть и проявлять себя в художественном пространстве произведения, в то время как автор в образе лирического героя предстает только как свидетель, порой недоумевающий, а порой даже сопротивляющийся этому явлению.
Все сказанное выше необходимо учесть, приступая к осмыслению «Двенадцати».
* * *
Итак, «Двенадцать».
Двенадцать человек, входящих в состав красногвардейского патруля, который идет по улицам зимнего революционного Петрограда.
Двенадцать глав (по выражению автора, «стихотворений») поэмы.
Двенадцатый час ночи, а может быть, двенадцатый час мировой истории. «Се, Жених грядет во полунощи…»
Поэма начинается с предельного цветового контраста: «Черный вечер, белый снег». Ее звуковой фон – завывание вьюги. Весь мир – весь Божий свет – охвачен стихией разбушевавшегося ветра. Стихия, природная и одновременно историческая, несет в себе музыку времени. «На ногах не стоит человек» – тем самым фиксируется физическое и духовное состояние тех, кто оказался во власти этой стихии. Вспоминается похожее по смыслу есенинское описание того, как чувствовали себя современники «великих потрясений»:
И кто ж из нас на палубе большой Не падал, не блевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, Кто твердым в качке оставался.У Блока та же мысль доведена до предельного аскетизма и универсального символического обобщения.
В первой, «вводной», главе появляются также образы, конкретизирующие место и время действия. Место – Петроград, наследник Петербурга, погруженный в метельную мглу и мятежный хаос. Предвещенный Пушкиным в «Медном Всаднике» разгул природных и социальных взаимодействующих стихий достиг своего апогея. Время – начало 1918 г., о чем свидетельствует растянутый через улицу плакат «Вся власть Учредительному собранию!» Скептическое отношение Блока к этому призыву было отражено в его дневниках и уже упомянутой статье «Интеллигенция и революция», написанной, как и поэма, в январе 1918 г. Поэт напоминает в ней, что Европа с ее хваленым парламентаризмом, которому мы пытаемся подражать, «захлебнулась в выборном мошенничестве, выборном взяточничестве». И вообще, пишет поэт, «Бог знает, как выбирала, кого выбирала, куда выбирала неграмотная Россия сегодняшнего дня». Та же неодобрительная оценка «Учредилки» слышна в поэме во вздохе бедной старушки: мол, зря употребили «такой огромный лоскут, сколько бы вышло портянок для ребят – ведь каждый раздет, разут…» Страсть к всевозможным собраниям и резолюциям осмеяна и в упоминании о профсоюзной деятельности «активисток» из публичного дома:
И у нас было собрание… …Вот в этом здании… …Обсудили — Постановили: На время – десять, на ночь – двадцать пять… И меньше – ни с кого не брать… [3, с. 349]Вновь, как и прежде в поэзии Блока, являются взаимосвязанными и усиливающими друг друга стихия природного буйства, стихия блуда и стихия бунта.
На петроградской улице, оказавшейся во власти метели, из общего гула вырываются отдельные голоса. В емкой, предельно обобщенной форме, но всякий раз с неповторимыми индивидуальными интонациями, яркими речевыми характеристиками, эти голоса передают настроения и мысли людей из разных сословий: бедной старушки, жалеющей детей, барыни, жалеющей себя, писателя-витии, уверенного в погибели страны, случайных прохожих, красноармейцев из патрульного отряда – выходцев из простонародья…
Автор словно бы самоустраняется, он только чутко слушает и передает услышанное, не клонясь в ту или иную сторону и не подсказывая речи, к чему призывал еще Пушкин. Блок следует пушкинскому завету: он – лишь беспристрастный летописец эпохи, слагающий о ней «правдивые сказанья» и скрупулезно фиксирующий знаки и звуки времени. Отдельные отрывочные голоса из первой главы, соединяясь в сложном полифоническом звучании, впоследствии разрастаются, разрабатываются, и вот уже во всю мощь звучит музыка мирового оркестра, в которой слышны то марши, то частушки, то солдатские и революционные песни, то городской сентиментальный романс, то народный плач-причитание…
Первая глава – преамбула событий, увертюра.
Главные действующие лица появляются в маршевом ритме второй главы:
Гуляет ветер, порхает снег, Идут двенадцать человек… [3, с. 349]С одной стороны, здесь задействована прямая историческая реалия: согласно документальным данным, а также фактам, изложенным в известной книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», красногвардейские патрули на улицах революционного Петрограда действительно состояли из двенадцати человек. С другой стороны, эти двенадцать – собирательный образ народа, втянутого в воронку революционной стихии. И, наконец, двенадцать – некий символ метаисторического уровня. Кого же символизируют они? Апостолов революции, как было принято утверждать на школьных уроках в советские времена? Но ведь они, как уже отмечалось, идут «без имени святого», у них сниженные, пародийные по отношению к апостольским, имена-клички. Может, это лжеапостолы? Не мешает вспомнить их коллективный портрет:
В зубах – цыгарка, примят картуз, На спину б надо бубновый туз! [3, с. 350]Портрет не оставляет сомнений: это уголовники-разбойники. С одной стороны, их обобщенный образ соответствует историческим реалиям (из таких вот, подчас выпущенных из тюрем, нередко формировались отряды «стражей и защитников революции»), а с другой стороны, в плане метаисторическом, напоминает евангельские события: разбойника Варавву, мятежника, бунтовщика, требовала отпустить на свободу беснующаяся народная толпа – и распять Иисуса. В России 1918 г. тоже был выпущен на свободу разбойник и вновь распинался Христос.
Два других разбойника висели на крестах рядом с Ним: один злобно издевался, другой каялся, сострадал и просил помянуть во Царствии Своем… Все три типа разбойников были хорошо известны на Руси. Блоковские двенадцать поначалу составляют одно целое и в своем собирательном образе наиболее близки Варавве – разбойнику безнаказанному, выпущенному на свободу, разбойнику без креста, о чем свидетельствуют лейтмотивные строки второй главы:
Свобода, свобода, Эх, эх, без креста! Тра-та-та! [3, с. 350]Здесь же, во второй главе, впервые упоминается имя Катьки, и в характерных простонародных выражениях обсуждается, как она загуляла с солдатом Ванькой:
– А Ванька с Катькой – в кабаке… – У ей керенки есть в чулке! – Ванюшка сам теперь богат… – Был Ванька наш, а стал солдат! – Ну, Ванька, сукин сын, буржуй! Мою, попробуй, поцелуй! [3, с. 350].Катька – один из центральных образов поэмы. Этот образ восходит к образу Катерины из «Страшной мести» Гоголя. Блок видел в нем символ родной страны, зачарованной злым колдуном. В связи с этим можно вспомнить строки из программного стихотворения «Россия»: «Какому хочешь чародею отдай разбойную красу!»
Именно разбойной красой в лихие революционные годы облеклась страна, словно бы потерявшая собственный разум и поддавшаяся чьим-то коварным чарам. И была похожа тогдашняя Русь на распутную Катьку из «Двенадцати», поскольку успевала быть со всеми: и с офицерами, и с солдатами, и с «ребятами» из красной гвардии, а среди них – с несчастным, измученным ревностью Петрухой. Все это были русские люди, все они считали Россию кровно, безраздельно своею. Тем страшнее звучал самоубийственный призыв, раздававшийся из самой гущи народа:
Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь — В кондовую, В избяную, В толстозадую! [3, с. 350]В этом призыве – предвестье будущей трагедии, которая происходит в центральной, шестой главе поэмы. (6 – число символическое, связанное в библейской традиции с темой антихриста, темой пола: 6 – «секс», а цифра 6 напоминает образ свернувшейся змеи). Напомним, что именно в шестой главе во время облавы и обстрела пролетки, на которой неслись Ванька с Катькой, случайно произошло убийство Катьки, причем убийцей оказался безумно любивший ее Петруха. Таким образом, в реальном пространстве поэмы случилась расправа на почве ревности, а в другом, символическом плане мы видим, как в слепом безумии, под действием чьих-то злых чар уничтожали Россию те, для кого она была, казалось бы, всего дороже.
Вследствие символической связи образа Катьки с образом России Блок придавал этому женскому образу особенно большое значение. Поэтому он очень порадовался, что художник Ю. П. Анненков, иллюстрировавший поэму, удачно изобразил на большом рисунке убитую Катьку с выпавшим крестиком – данный рисунок оказался, как считал поэт, «всего бесспорнее». Но был и другой рисунок, поменьше, на котором живая Катька была представлена художником с папироской во рту. Лицо потрепанное, рот старый… Такой интерпретации образа Блок решительно воспротивился. Приведем отрывок из его письма к Анненкову от 12 августа 1918 года: «Это – не Катька вовсе: Катька-здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая – здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется… Рот свежий, "масса зубов", чувственный… "Толстомордость" очень важна (здоровая и чистая, даже – до детскости). Папироски лучше не надо…» [3, с. 514].
Из этих слов видно, что Блок возражал против «городской» Катьки, поскольку хотел видеть Катьку простую, деревенскую, большую – до последней клеточки сродненную с Россией. Поэтому ему столь важна была масштабность изображения, так же, между прочим, как и того рисунка, на котором был изображен Христос под флагом, бьющимся на ветру. Блок считал, что образ Христа должен быть «огромным», а у Анненкова он был «совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит» [3, с. 514].
Сформулировав свои пожелания по поводу иллюстраций к поэме, Блок высказал очень важную мысль относительно того, какой в идеале представлялась ему обложка книги (ведь в ней должно быть сильное и емкое обобщение самого главного): «Если бы из верхнего угла "убийства Катьки" дохнуло густым снегом и сквозь него – Христом, – это была бы исчерпывающая обложка» [3, с. 514].
Почему в понимании Блока трагическая сцена убийства Катьки неразрывно связана с появлением Христа в финале «Двенадцати»? Это раскрывается в содержании следующих после убийства событий. В седьмой главе (7 – число священное, связанное с земной полнотой, исполнением сроков) происходит внутренний раскол в прежде монолитном отряде красноармейцев: одиннадцать человек по-прежнему бодры и уверенно чеканят шаг, «лишь у бедного убийцы не видать совсем лица»: после содеянного преступления начинается неизбежное страшное наказание в душе человека.
«Бедным убийцей» называет его автор, понимая, какую муку этот человек несет в себе теперь. Между Петрухой и его товарищами происходит характерный диалог. Они обращают внимание на то, что друг приуныл: «Что, Петруха, нос повесил? Или Катьку пожалел?» И тогда он исповедуется перед ними в своей долгой, сильной и несчастной любви: «– Из-за удали бедовой в огневых ее очах, из-за родинки пунцовой возле правого плеча, загубил я, бестолковый, загубил я сгоряча… ах!» Он один среди них-с живым страдающим сердцем. Сердца его товарищей наглухо заколочены пропагандой о беспощадности к классовому врагу, и потому Петька не вызывает к себе сочувствия:
– Ишь, стервец, завел шарманку, Что ты, Петька, баба что ль? – Поддержи свою осанку! – Над собой держи контроль! [3, с. 354].Здесь слышны отголоски известной народной песни о Стеньке Разине, над любовью которого насмехалась его дружина («он всю ночь с ней миловался, сам наутро бабой стал»). Здесь точно запечатлены и языковые штампы новой революционной эпохи («над собой держи контроль!»). И Петька под влиянием товарищей вроде бы приободрился, более того – стал искать забвения от ужаса совершенного убийства в пролитии новой крови, в грабежах и пьяном разгуле. Но ничто не помогало. В восьмой главе (8 – число Христа) передано страшное состояние его души – передано в плаче-стоне:
Ох ты, горе-горькое! Скука скучная, Смертная! [3, с. 354]Это не та скука от безделья и благополучия, какой страдали «лишние люди» из дворян. Это та скука, которой в народе стремились передать смертную тоску, невыразимо болезненную сердечную «тугу» – неизбывную, неутолимую.
Петька делает безуспешную попытку оправдаться, переложив вину на классовых врагов, и «отомстить» им за погибшую Катьку:
Ты лети, буржуй, воробышком! Выпью кровушку За зазнобушку, Чернобровушку… [3, с. 355]Но вдруг совершенно неожиданно из глубин подсознания, из рыдающего сердца всплывают слышанные когда-то, может быть, в детстве, в храме, во время панихиды, слова молитвенного песнопения: «Упокой, Господи, душу рабы Твоея…» Трудно сказать: то ли измученная душа вдруг вспомнила Господа, то ли Господь приблизился к ней в ее одиночестве и беде… Происходит синэргическое движение Бога и несчастного человека, вступающего на трудный путь покаяния, навстречу друг другу. В 10-й главе это движение продолжается, и «Имя святое», наконец, произносится:
– Ох, пурга какая, Спасе! [3, с. 356]Этот вздох, вырвавшийся спонтанно из глубины души при усиливающейся непогоде, вызывает бдительный окрик и идеологическую отповедь со стороны остальных:
– Петька! Эй, не завирайся! От чего тебя упас золотой иконостас? Бессознательный ты, право, Рассуди, подумай здраво, Али руки не в крови Из-за Катькиной любви? [3, с. 356]Словечко «бессознательный», характерное для времени, когда не только в стране, но и в головах все перевернулось, относилось к человеку, в котором еще жива была вера и совесть. «Сознательные» и «идейно подкованные» товарищи, для которых совесть навсегда была упразднена как позорный пережиток прошлого, напомнили отщепенцу Петьке об уголовной круговой поруке, которая выражалась в совместно пролитой крови: оттого-то, мол, и Спаса поминать бесполезно.
Согласно духовной литературе, точно так же бесы пытаются убедить совершившего смертный грех человека, что его положение безнадежно и взывать к небесам о помощи – напрасный труд. Но Петька, подобно благоразумному разбойнику на кресте, все же воззвал, произнес спасительное Имя… И тем самым восстановил смысл своего святого имени: ведь апостол Петр, его небесный покровитель и покровитель города, в котором происходят описываемые события, тоже когда-то трижды отрекся от Христа, а потом опомнился и горько каялся.
Недаром говорят: имя – это судьба. Человека и Города. Петербург-Петроград – город трех революций, трех отречений от христианского призвания Руси. И в то же время это город очистительных страданий.
Характерно, что Блок сделал на полях именно десятой главы (число десять знаменует полноту как земного, так и сакрального уровня), следующую помету: «И был с разбойниками. Жило двенадцать разбойников»… Первое предложение отсылает к евангельскому тексту, повествующему о Распятии, второе напоминает о начальной строке легенды о двух великих грешниках, включенной Н. А. Некрасовым в поэму «Кому на Руси жить хорошо» и ставшей основой народной песни о Кудеяр-атамане. В народной песне текст некрасовской легенды был существенно переработан: в ней исчез мотив классовой мести, зато усилился мотив покаяния и полного переворота, произошедшего в душе человека. «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил» – таково кульминационное, поворотное событие, после которого предводитель разбойников Кудеяр порывает с прежней жизнью, оставляет товарищей и отправляется «Богу и людям служить», замаливать тяжкие грехи. Блок вспомнил легенду не случайно: «совесть Господь пробудил» и в несчастном Петрухе. Историю состоявшегося в нем внутреннего переворота, изложенную предельно сжато, можно было бы развернуть в целый роман, подобный «Преступлению и наказанию» и «Братьям Карамазовым».
В статье «Интеллигенция и революция» Блок в стиле и духе Достоевского писал о выходцах из народа: «Среди них есть такие, которые сходят с ума от самосудов, не могут выдержать крови, которую пролил и в темноте своей; такие, которые бьют себя кулаками по несчастной голове: мы – глупые, мы понять не можем…» [5, с. 406].
Эти слова имеют прямое отношение к образу Петрухи. И можно догадаться, что именно в ответ на покаянный вздох этого «бедного убийцы», в ответ на произнесение им, призывание имени Спаса, возникает в 12-й, последней главе, явление Христо.
Напомним, что сразу после публикации поэмы, и в последующие времена многие, и среди них даже самые глубокие и проницательные читатели и специалисты, не понимали внутренней необходимости такого финала. Как уже говорилось, Н. Гумилев считал его духовно подозрительным и «искусственно приклеенным». Б. Зайцев в очерке «Побежденный» (1925) писал, что в поэме нет ни воздуха, ни света, ни пафоса, ни искупления. В. М. Жирмунский, прозорливо указавший на нравственно-религиозное содержание и трагическую суть «Двенадцати», тем не менее, считал, что «Блок в своей поэме не дал никакого решения, не наметил никакого выхода» [15, с. 39]. Д. Е. Максимов, отдавая должное сложному многоголосью поэмы, ее трагическому масштабу, развитию образа Петрухи, пережившего «страсть – падение – выпрямление», в то же время признавался, что образ Христа в финале представляется ему «противоречивым и слабосильным» [25, с. 139]. Блок, считал ученый, создал «образ-призрак в белом венчике, с которым поразительно не согласуется кровавый флаг» [25, с. 139].
Но что говорить о недоумениях читателей и выдающихся исследователей поэмы, если и сам Блок, как уже отмечалось, явление Христа в финале не умел объяснить и не хотел принять! Здесь, наверное, следовало бы прислушаться к очень тонкому соображению К. И. Чуковского о причине, по которой Блок нередко затруднялся ответить на вопрос, что же он хотел сказать в том или ином своем стихотворении или поэме:
«Он и в самом деле не знал, его лирика была мудрее его… Он всегда говорил о своих стихах так, словно в них сказывалась чья-то посторонняя воля, которой он не мог не подчиниться» [26, с. 288]. «Посторонняя воля» могла быть различного духовного происхождения. Блок с печалью убеждал Е. П. Иванова в своей зависимости от демонических влияний, унаследованной, как он считал, от отца. Однако, как мы старались показать, в блоковской поэзии можно также наблюдать присутствие и активное действие светлых духовных энергий5.
Есть все основания утверждать, что финал «Двенадцати» был предугадан в предыдущем творчестве поэта, его вершинных произведениях, где Христос всякий раз оказывался в эпицентре беды и приходил к узнику греха как страдальцу, переживающему, пусть по своей вине, сильную неизбывную муку.
Явление Христа вписывается не только в единство блоковского творчества, но и в единство петербургского текста русской литературы. Понятие «петербургский текст» было введено в научный обиход В. Н. Топоровым, который следующим образом определяет это понятие: «Петербургский текст – мощное полифоническое резонансное пространство, в вибрациях которого уже давно слышатся тревожные синкопы русской истории…» Одновременно это «синкретический сакральный сверхтекст, в котором связываются высшие смыслы и цели», благодаря чему происходит «прорыв в сферу символического и пророческого» [28, с. 319]. Поэма Блока с ее финалом вполне соответствует этим параметрам.
Но хотелось бы обратить особое внимание на то главное, что ученый выделил как идейно-содержательную основу Петербургского текста и что имеет прямое отношение к «Двенадцати». Будучи «центром зла и преступления, где страдание превысило меру», град Петров, считает Топоров, дал возможность писателям, создававшим Петербургский текст, увидеть «путь к нравственному спасению, к духовному возрождению в условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и добром» [28, с. 320]. Иными словами, Петербургский текст в его высших образцах выявляет возможность спасения в наиболее сложных, даже гибельных условиях существования. «Держи свой ум во аде и не отчаивайся»… Это твердое убеждение величайших подвижников духа и деятелей русского слова представляется жизненно важным для нынешней России.
Поэма «Двенадцать» органически вписывается не только в Петербургский текст – она соотносится с некоторыми важнейшими темами русской литературы в целом. Одной из таких тем, близких Блоку, является, как уже говорилось, противоборство демонических и светоносных сил на пространстве русской истории и в духовном мире каждого человека. Еще в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Б. М. Гаспаров, а затем М. Петровский указали на связь поэмы и особенно ее последней главы с содержанием и поэтикой пушкинских «Бесов». Д. М. Магомедова, ученица Д. Е. Максимова, проведя подробный и глубокий анализ генезиса поэмы в связи с ее поэтикой, обнаружила, что четырехстопный хорей – размер, в котором Пушкин написал «Бесов», в полиметрической структуре «Двенадцати» возникает как сигнал присутствия нечистой силы в природной и народной стихии. Этот сигнал сначала неясно возникает в красноармейской песне («Как пошли наши ребята в Красной гвардии служить»). Потом в этой среде проявляется мотив разгула неуправляемых страстей ненависти и ревности («Помнишь, Катя, офицера, не ушел он от ножа»). И, наконец, в финале становится явной богоборческая основа бунта («их винтовочки стальные на незримого врага» – ведь таким «незримым врагом», отметим мы, является «невидимый за вьюгой» Христос). Продолжая исследование в названном направлении, Д. М. Магомедова упоминает роман «Бесы» Достоевского, который развивает пушкинские мотивы и с которым генетически связана поэма Блока. «В особенности же многозначительна, – пишет исследовательница, – перекличка финала поэмы с двумя эпиграфами к роману: первый – отрывок из пушкинских „Бесов“, второй – отрывок из Евангелия от Луки (Лк. 8: 32–36)». В таком прочтении, как считает Д. М. Магомедова, Его явление означает «не благословение происходящего, а изгнание „бесов“, преодоление стихийного аморализма, залог будущего нравственного трагического катарсиса для героев поэмы». Однако отметим, что речь в поэме Блока идет не только о личных судьбах, но также о соборной судьбе и душе России, которая, в символическом толковании Достоевского, подобно евангельскому бесноватому, когда-нибудь будет исцелена от одержимости темными силами и окажется у ног Христа. Исцеление же может произойти не иначе, как через глубокое покаяние, подобное покаянию Петрухи – «благоразумного разбойника» нового времени.
И вот, как в евангельские времена, вопреки всяким «законническим» рассуждениям, вопреки фарисейскому презрению к мытарям, блудницам и разбойникам, в финале «Двенадцати» возникает образ Христа. Он появляется, казалось бы, вопреки всякой логике. Но Блок однажды высказал такое наблюдение: «Русская литература всегда – от славянофила до западника, от общественника до эстета – питала некоторую инстинктивную ненависть к сухому и строгому мышлению, стремилась переплеснуться через логику» [6, с. 261]. Живая русская мысль не доверяла столь же самоуверенному, сколь и ограниченному рационализму и «переплескивалась» через человеческую логику в поисках божественного Логоса. Именно Логос являет себя в своем свободном действии на последних страницах «Двенадцати». Сверхлогичная парадоксальность ситуации состоит в том, что красноармейцы преследуют Христа и в то же время следуют за Ним. Они – на тот момент Его враги и одновременно Его блудные дети. В одной из дневниковых записей Блок так и назвал их – «детьми». Да и в нем самом, по свидетельству Е. П. Иванова, в лучшие минуты проступало что-то очень простое, непосредственное, детское. Иванов даже называл Блока, в наиболее светлых его стихах, «детоводителем ко Христу», и это еще одно подтверждение того, что истина о человеке часто обнаруживается за пределами любых логических рассуждений и однозначных представлений о нем. Сам же Христос является Детоводителем России, подчас неведомо для нее самой, как видно из блоковской поэмы. И это происходит во все, даже самые темные и тяжелые времена.
Охарактеризуем те временные координаты, которые задействованы в поэме.
Образ Христа показан сразу в трех хронотопах, трех пространственно-временных единствах. Во-первых, Его явление происходит в иномирном пространстве вечности: на земле свирепствует непроглядная вьюга, а здесь – «надвьюж-ное» чистое небо, россыпь жемчужных звезд…
Во-вторых, это пространство будущего. Старый мир с его буржуазными ценностями плетется сзади (в пространстве прошлого), но он не хочет отставать, надеется взять реванш (Блок и здесь, как видно по последствиям перестроечного периода наших дней, оказался пророчески правдив). «Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать», – буквально заклинал поэт в одной из дневниковых записей [1, с. 328]. Христос находится «впереди», в пространстве будущего. При этом отметим, что Блок, надеявшийся на возрождение родной страны, делал ставку на достаточно отдаленное будущее. Ближайшие годы и десятилетия представлялись ему чрезвычайно трудными, и он видел ответственность – свою личную и людей своего поколения – за предстоящие беды России («Долго будет Родина больна…»).
Тем более поразительно обозначенное в поэме «Двенадцать» третье пространственно-временное единство: присутствие Христа в настоящем времени – времени, казалось бы, глубоко Ему враждебном, нацеленном на уничтожение Его имени и истребление Его последователей. Однако (и это, еще раз подчеркнем, помимо воли поэта) получается, что даже в таких условиях Христос не оставляет Россию. Ведь и она – что видно не только по Петрухе, но и по самому автору поэмы – не смогла вполне и окончательно совершить акт отречения, не смогла в самых глубинах собственного существа забыть свои духовные истоки и свое призвание. В бедных избах, за неимением дорогих окладов, иконы Христа по-прежнему любовно украшались венчиками из белых искусственных цветов, а из глубин старообрядческих кругов исходило древнее произнесение Его имени – Исус… Христос в поэме – образ подчеркнуто народный.
Но что можно сказать о красном флаге, смутившем многих читателей поэмы? Флаг, развевающийся на ветру и огромное белое пятно под ним или рядом с ним, в котором сквозь снежную завесу Блок увидел Христа, были в представлении поэта неразрывно связаны. Образ флага символичен и потому многозначен. Его полотнище не случайно названо «кровавым». Действительно, как считают некоторые интерпретаторы поэмы, кровавый флаг может восприниматься как одна из модификаций Креста. Следует добавить, что на этом флаге, как на Кресте, христианка-Россия была сораспята своему Господу. И в то же время именно этот флаг был впоследствии освящен крестной Победой нашей страны над оккультным гитлеровским рейхом.
Незадолго до революции Блок завершил формирование книги стихов «Родина» (1907–1916), в которую входит знаменитый цикл «На поле Куликовом». Поэт возвращался памятью к истории сражения, решившего судьбу его народа. В то же время он считал, что путь страны на новых исторических витках в существенных чертах повторяется: «Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла…»
У каждого поколения русских людей, убежден поэт, должно быть свое Куликово поле: «Теперь твой час настал: молись!»
На Куликово поле Русь выходила под «чермным» (красным!) флагом с изображенным на нем образом Спаса Нерукотворного. Поэтому соединение в финале «Двенадцати» образа красного флага с образом Христа может восприниматься как символическое указание на неизбежность новой Куликовской битвы с тем злом, тем игом, которое пленило Россию уже в XX столетии.
Образ Христа с флагом имеет место и в европейской традиции изображений, получивших название «Сошествие во ад» и «Воскресение». Как показывает в своей статье «Флаг как воодушевляющий символ (К семантике образа Христа с флагом)» С. В. Иванова, «по своему смыслу "Сошествие" символически показывает выступление Христа против укреплений ада, – в контексте других средневековых образов оно обозначает начало важнейшей битвы с силами зла» [22, с. 14]. «Основное значение этого священного знака связано не с победой, а с выступлением в поход, мобилизацией сил для войны и воодушевлением в трудный момент битвы…» [22, с. 15].
Как представляется, такое боевое значение священного знамени в руках Христа, вдохновляющего на борьбу с мировым злом, с сатанинскими силами, с легионом бесов, можно увидеть и в символике поэмы «Двенадцать».
Почему Христос не «уходит от них», а «идет с ними» (красноармейцами), что удивляло и самого автора поэмы? Не потому ли, что Россия не согласилась поклониться главному мировому идолу, – золотому тельцу, явившему себя в своей богоборческой сути еще во времена Исхода? Не потому ли, что она не стала молиться вместе с другими духовно покоренными странами и народами на культ денег, а с отвращением отвергла его («отойди от меня, буржуа, отойди от меня, сатана»)?
И Пушкин, и Гоголь, и Островский, и Достоевский, и Блок, и многие другие русские писатели и религиозные мыслители предупреждали, насколько силен и страшен этот идол (по слову Пушкина, «подарок Сатаны людям»), насколько он разрушителен и опасен для судеб человечества. Теперь, с позиций сегодняшнего дня, мы можем в полной мере оценить их правоту. Так удивительно ли, что в духовном противостоянии золотому идолищу «старого мира» (в поэме Блока он воплощен в образе голодного пса) Христос был вместе с непокорной, каким-то коренным инстинктом сопротивляющейся ему народной Россией? Между прочим, выдающийся русский филолог XIX в. Ф. И. Буслаев обратил внимание на устойчивую связь огнедышащего «лютого змеища Горыныща» со «златом-серебром» в поэтическом сознании нашего народа: «Золото, как блестящий металл, лежит во владении огненного змия и составляет как бы частицу его собственного существа…» [13, с. 37]. Русский народ – народ-змееборец…
В дневниках Е. П. Иванова – человека, далекого от политики, можно найти запись, которая отражает его попытку разглядеть некую идеальную цель, увлекшую народную душу в горнило первой русской революции: «Наша революция глубже только политической, не политического благоустройства ищет она, а большого человека ищет она преображенного, не преобразования только ищет революция наша, а преображения. И вышла она из жгучей тоски по жизни, ибо не живем уже давно» [16, Тетр. 19, л. 110 об].
На эту запись в свое время обратил особое внимание Д. Е. Максимов. И действительно, в ней уловлена созревшая во многих душах глубокая неудовлетворенность измельчанием и опошлением человека в условиях умирания старого мира и угаданы какие-то очень важные чаяния русских людей той эпохи, указания на которые можно найти, например, также в произведениях А. П. Чехова, многих писателей серебряного века. Но кому, как не христианскому мистику Е. П. Иванову, было знать, что не может состояться преображение без ясного представления о том образе, которого жаждет человеческая душа. Иначе получится что-то безобразное. И страстное стремление к жизни, при забвении или отрицании Источника жизни, может повлечь за собой смерть. Это как раз и происходит в духовной атмосфере и сюжетном строе «Двенадцати».
Однако финал поэмы словно вправляет мировоззренческий вывих, восстанавливает недостающее и необходимое звено до чаемой животворной, преображающей полноты: «Камень, который отвергли строители, тот лег во главу угла».
Кроме того, появление Христа в охваченном метелью мятежном городе, в эпицентре тьмы, стужи, ожесточения, убийств и грабежей – это своего рода сошествие во од ради того, чтобы вытянуть, вызволить из него душу Петрухи и других грешников. Он ведет погруженную во мглу, ослепшую от разбушевавшейся исторической вьюги страну – неведомо для нее самой – путем неисповедимым, непреложным и, как уже говорилось, логически необъяснимым («умом Россию не понять»).
И так происходит во все времена. Нет принципиально разных «Россий», как может показаться: Киевской, Московской, Петровской, советской, перестроечной, постперестроечной… При всем своеобразии и различии, это этапы ее пути, но Россия одна, и путь ее непрерывен и един. Россия верна своему глубинному предназначению, какие бы крутые повороты ни происходили на поверхности ее земного существования.
Блок писал о себе: «…Я ставлю на первый план мою незыблемую душу, верную, сквозь всю свою неверность» [3, с. 209]. Таково же было твердое убеждение Блока относительно России: при всех изменениях своей судьбы она хранит Память о главном, остается верной своим изначальным духовным импульсам, смыслам, задачам, и потому при всех «невиданных переменах» и «неслыханных мятежах», она продолжает быть собою:
Идут века, шумит война, Встает мятеж, горят деревни, А ты все та ж, моя страна В красе заплаканной и древней. (1916).В конце приведенного стихотворения, завершающего книгу «Родина», поставлены горькие вопросы:
Доколе матери тужить? Доколе коршуну кружить?Эти вопросы можно считать риторическими. Поскольку Россия верна себе и следует за Христом, она призвана идти вслед за Ним крестным путем. И прежде, и ныне, и в будущем едва ли прекратится боль ее матерей, едва ли перестанут кружить над нею ожидающие добычи коршуны, вороны и орлы-стервятники. В наши дни это стало особенно очевидным. Россия определена на заклание силами мирового зла. Ценою невероятных подвигов и великих жертв она не раз спасала «Европы вольность и покой», а теперь эти подвиги и жертвы забыты, и «клеветники, враги России» неистово кричат: «Распни ее!»
Но Христос – победитель смерти и ада. В мировом искусстве существует еще одна традиция изображения Христа с флагом: на образах Воскресения. «Знамя присутствует в сценах Воскресения на фронтонах двух важнейших соборов России – Исаакиевского собора в Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве» [22, с. 10]. Кроме того, в Исаакиевском соборе существует замечательный заалтарный образ Воскресшего Христа с красным флагом, выполненный в витражной технике. Блок, несомненно, хорошо знал эти изображения. Выступающий с флагом Христос в финале поэмы может восприниматься и как ведущий на битву с мировым злом Полководец (в настоящем), и как Победитель ада и смерти (в прошлом и в вечности), и как основоположник и вдохновитель Русской Победы (в возможном будущем).
Надеялся ли Блок на грядущее воскресение гибнущей на глазах России, на то, что когда-нибудь произойдет раскрытие ее великих творческих сил? Да, он писал и говорил об этом. Для него, как и для Гоголя, порукой тому была «отвага покаяния и любви» в русском народе. Верил ли Блок в Воскресшего Христа? Это осталось тайной его сложного, мятущегося, искреннего и измученного сердца, в котором с переменным успехом боролись противоположные духовные силы. Но по некоторым дневниковым записям, по письмам к родным можно предположить: да, скорее, верил. Во всяком случае, он мучился христианской темой.
Вячеслав Иванов, узнав в Баку о смерти Блока, откликнулся на нее 10 августа 1921 года такими стихами:
В глухой стене проломанная дверь, И груды развороченных камней, И брошенный на них железный лом, И глубина, разверстая за ней, <…> — Все – голос Бога: «Воскресенью верь».Уже после кончины Блока, словно в ответ на давний вопрос, выраженный в одном из упомянутых здесь стихотворений, челн Христа причалил к его «распятой высоте». Так уж произошло, что отпевали первого поэта русского серебряного века в храме Воскресения Христова у Смоленского кладбища. В настоящее время этот храм восстанавливается.
* * *
Подведем итоги. Пророческая сила поэмы Блока «Двенадцать» проявилась в том, что в казавшейся какофонии множества звуков и «голосов», в трагических диссонансах времени он расслышал скрытый от современников «державный шаг» холодной, голодной, ограбленной и, казалось, безвозвратно погибшей страны, которой суждено было в обозримом будущем вновь обрести величие и мощь.
Но это отнюдь не все. Блок заглянул в гораздо более далекое время. Конец поэмы, быть может, независимо от воли поэта, венчает Святое Имя. В нем – смысл и цель существования России. Оно знаменует явление Логоса-Христа в двенадцатый час мировой истории.
Литература
1. Блок А. А. Автобиография. Дневники 1901–1921 // Блок А. А. Собр. соч. в 8 т. Т. 7. М. – Л.: Гослитиздат, 1960–1963. – 544 с. С. 326.
2. Блок А. А. Записные книжки. 1901–1920. М.: Гослитиздат. 1965.-657 с. С. 388–389.
3. Блок А. А. Письма 1898–1921 // Блок А. А. Собр. соч. в 8 тт. Т. 8. М.-Л.: Гослитиздат, 1963.-771 с.
4. Блок А. А Стихотворения. Собр. соч. в 8 т. Т. 1. Далее ссылки на тексты стихов, напечатанных в этом издании, будут даваться после цитаты в квадратных скобках. Первая цифра означает том, вторая – страницу.
5. Блок А. А. Интеллигенция и революция // Блок А. А. Собр. соч. в 6 т. Т. 5. Проза. М.: Библиотека «Огонек», изд-во «Правда», 1971. С. 396–406.
6. Блок А. А. Народ и интеллигенция // Блок А. А. Собр. соч. в 6 т. Т. 5. С. 259–268.
7. Блок А. А. О назначении поэта // Блок А. А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. С. 518–525.
8. Блок А. А. Поэзия заговоров и заклинаний // Блок А. А. Собр. соч. в 6 т. Т. 5. С. 31–59.
9. Блок А. А. Творчество Вяч. Иванова // Блок А. А. Собр. соч. в 6 т. Т. 5. С. 5–16.
10. Бекетова М. А. Александр Блок. Пг, 1922. С. 107
11. Блехман М. Загадка Александра Блока // БЕГ (Безопасный город). № 11, 2011. С. 28–59
12. Блок без глянца / сост. П. Фокин и С. Поляков. СПб.: ТИД Амфора. 2008. – 430 с. С. 357–358
13. Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык // Буслаев Ф. И. Исцеление языка. Опыт национального самосознания. Работы разных лет. СПб: Библиаполис, 2005. С. 9–123. С. 37.
14. Гаген-Торн Н. И. Воспоминания об Александре Блоке // Блоковский сборник II. Труды второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972. С. 444–446.
15. Жирмунский В. М. Поэзия Александра Блока. Пб, 1922. С. 34–35. С. 6. С. 39. См. также: Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 323–354.
16. Иванов Е. П. Воспоминания об Александре Блоке (Публикация Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова) //Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 362–388. С. 378. С. 363.
17. Иванов Е. П. Записи о Блоке (незавершенный вариант около 1940 г.) // ИРЛИ. Ф. 662. Ед. хр. 86. Л. 27 об.
18. Иванов Е. П. Воспоминания 1935–1936 гг. Рукопись // ИРЛИ. Коллекция М. С. Лесмана. Ф. 662. Оп. 2. Л. 85, 85 об.
19. Иванов Евг. Всадник (Нечто о Петербурге) // Белые ночи. Пб: изд-во товарищества Вольная типография, 1907. С. 75–76.
20. Иванов Е. П. Дневник // ИР/1И. Ф. 662. On. 1. Тетр. 19. Л. 110 об. тетр. 3, л.30.
21. Иванов Е. П. Речь о Блоке. Черновик (1919) // ИРЛИ. Ф. 662. On. 1, ед. хр. 85.
22. Иванова С. В. Флаг как воодушевляющий символ (к семантике образа Христа с флагом) // Временник Зубовского института. Вып. 6: Грозное время. Война в зеркале человеческого восприятия. СПб: РИИИ, 2011. С. 9–17. С. 14
23. Луначарский А. В. Собр. соч. в 8 тт. Т. 1. М., 1953. С. 491.
24. Максимов Д. Александр Блок и Евгений Иванов // Блоковский сборник. Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 года. Тарту, 1964. С. 344–361. С. 349.
25. Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л.: Советский писатель. 1975. – 526 с. С. 139. С. 38. С. 6–143, 144–174. С. 89, 91.
26. Немировская О., Вольпе Ц. Судьба Блока. Воспоминания. Письма. Дневники. М.: Аграф. 1999. – 288 с. С. 159. С. 228.
27. Орлов В. Н. Поэт и город: Александр Блок и Петербург. Л.: Лениздат, 1980. -272 с., ил. С.95.
28. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Изд. Группа «Прогресс-Культура», 1995. – 624 с. С. 319, 320.
29. Фетисенко О. Л. Проповедник нагорной радости («Петербургский мистик» Евгений Иванов) // Христианство и русская литература СПб., 2006. Сб. 5. С. 323–390. С. 325. С. 349. С. 349.
30. Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт. П., 1924. С. 27–28. См. также: Немеровская О., Вольпе Ц. Судьба Блока. Воспоминания. Письма. Дневники. М.: Аграф. 1999.-288 с. С.229.
31. Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи, воспоминания, эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1940. С. 213
32. Шульгин В. Воспоминания о В. И. Ленине // Молодая гвардия, 1957, № 3. С. 124.
Примечания
1 Вольфила (сокращ.) – Вольная Философская Ассоциация, существовавшая в Петрограде с ноября 1919 по 1923 г. А. А. Блок был ее председателем. Организация объединяла выдающихся представителей культуры того времени и учащуюся молодежь. Здесь читали свои произведения А. Блок, А. Белый, О. Форш. Выступали с докладами и сообщениями Л. П. Карсавин, К. С. Петров-Водкин, А. А. Радлов, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Шкловский и другие крупные деятели философии, науки, и искусства. Каждое воскресенье в два часа дня происходило общее собрание членов общества в помещении Вольфилы на Фонтанке, 50 или на Демидовом переулке, в здании Географического общества. Материалы Ассоциации хранятся в архиве ИРЛИ (Пушкинский Дом), ф. 79.
2 Наиболее полный перечень произведений Е. П. Иванова, литературы и упоминаний о нем в печатных источниках см.: 1) Максимов Д. Е. Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке / Публ. совместно с Э. П. Гомберг; вступит, ст. «Александр Блок и Евгений Иванов» (с. 344–361) // Блоковский сб.: труды науч. конф., посвящ. изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 г. / Тарт. гос. ун-т. Тарту, 1964. [Сб. 1]. С. 344–424.; 2) Ильюнино Л. А. Иванов Евгений Павлович // Русские писатели. М., 1992. Т. 2. С. 379–380. 3) Ильюнино Л. «О бедном поэте замолвите слово…» // Эл. ресурс: rusk, ru / st.php?idar=10 3908. Время посещения ресурса: 30.06. 2012, 15:49. Фетисенко О. Л. Проповедник нагорной радости («Петербургский мистик» Евгений Иванов) // Христианство и русская литература. СПб., 2006. Сб. 5. С. 323–390; 4. Оно же. Евгений Иванов как читатель и «герой» Достоевского // Достоевский и мировая культура: Альманах № 23. СПб., 2007. С. 145–156; 5) Оно же. В. В. Розанов в дневнике и незавершенных воспоминаниях Е. П. Иванова. Письма Розанова к Е. П. Иванову / Публ. О. Л. Фетисенко// Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 439–515; 6) Оно же. Александр Блок и Евгений Иванов: Переписка. Статьи. Воспоминания / Изд. подготовили В. Н. Быстров и О. Л. Фетисенко. М., 2011 (в печати).
3 Далее ссылки на тексты стихов, напечатанных в этом издании, будут даваться после цитаты в квадратных скобках. Первая цифра означает том, вторая – страницу.
4 См.: Максимов Д. Е. Поэзия и проза Александра Блока. Л.: Советский писатель, 1975. С. 6–143, 144–174.
5 Это подтверждают гениальные вокальные циклы Г. В. Свиридова на стихи Блока: в них очевиден внимательный отбор и смысловые образные связи наиболее глубоких в религиозном отношении, здоровых и светлых произведений поэта, часть которых здесь цитировалась.
Космическое христианство Андрея Белого А. Л. Казин
Среди наследников серебряного века в русской литературе советского периода сразу после Блока следует назвать Андрея Белого – не только потому, что оба были – и оставались после революции – крупнейшими символистами, но, прежде всего, в силу значимости христианской темы для творчества обоих. Особенно это касается Белого. Не будучи, в отличие от друга-врага Блока, гениальным поэтом, Белый постоянно обращал своё универсальное творческое сознание к образу Христа – и в прозе, и в поэзии, и в публицистике, и в теории символизма. Иногда всё творчество Андрея Белого называют эстетическим христианством. Другое дело, какое это было христианство. И было ли оно христианством вообще.
За неимением места, не будем углубляться здесь в литературную и мировоззренческую историю писателя и мыслителя Белого до 1917 года. Отметим только, что этот главный теоретик символистского движения прошел в своё время через юношеский культ св. Серафима Саровского1, но позже, на рубеже 1910-х годов, пытался построить всеобъемлющую теорию символизма как жизнестроения, в котором мистика, искусство, наука, религия, философия, политика составляли бы органические элементы единого творческого синтеза. В качестве принципа-лозунга искомой универсальной теории Белый выдвигал формулу: Символ есть Единое. Обоснованию этой мысли посвящена его книга «Символизм» с её центральным разделом «Эмблематика смысла»2. И хотя многие профессиональные философы, такие, например, как Ф. А. Степун или Г. Г. Шпет, свысока относились к теориям Белого, нельзя пройти мимо них, так как без этого невозможно понять отношение Белого к христианству – и, соответственно, христианства к творчеству Андрея Белого.
Мысль автора «Символизма» сосредоточена на определении Символа как всеобщей культуросозидающей категории. Не случайно книга «Символизм» открывается небольшой вводной статьей «Проблема культуры». Такая постановка вопроса свидетельствует о том, что образы искусства, понятия науки, моральные заповеди, равно, как и ключевые имена мировых религий, для автора суть прежде всего культурные символы – не более того и не менее. Для Белого-символиста неприемлема никакая отвлеченность, возведенная в метафизический абсолют – идея, бытие, воля. Это касается и традиционного понятия Бога. Однако для Белого-художника недостаточно теоретического отказа от вышеназванных «догматических» начал – он стремился овладеть всеобщим идеальным корнем сущего, всякое частное – в том числе религиозное – выражение которого, с символистской точки зрения, уже вторично. Этот корень и есть Символ. По существу, под Символом (с большой буквы) Белый понимал некий таинственный, несказанный исток истории и культуры, да и самого бытия. Символ как
Единое неопределим никак. Про него даже нельзя сказать, существует он или нет. Он лишь символизируется в бесконечных рядах творческих актов человека. Всё запредельное Символ делает интимно близким, и наоборот, всё наличное возводит к потустороннему. Осознающий указанное единство символист как бы посвящается в новую, поистине авангардную религию, возвышаясь тем самым над всеми «историческими», «слишком условными» вероисповеданиями. Все они культурно равно правы и равно не правы перед лицом Символа3.
Таковы исходные условия символистской трактовки христианства. Подчеркнем, именно символистской, поскольку после 1913 года автор «Символизма», в определенном отношении, «перешел в другую веру» – антропософскую. И хотя Белый в 1928 году написал специальную работу «Почему я стал символистом и не переставал им быть на всех стадиях…», где доказывал свою верность ранее избранному мировоззрению-методу, всё же знакомство с Рудольфом Штейнером, последующая мистическая практика и строительство антропософского храма в Швейцарии (1913–1916) оказались слишком радикальными духовными и экзистенциальными событиями, чтобы не затронуть глубинных основ его религиозно-творческого самоопределения. В первую очередь это касается образа Христа.
Среди имен собственных, присутствующих в произведениях позднего Андрея Белого, чаще всего встречаются эти два – Иисус Христос и Рудольф Штейнер. Мы имеем в виду не только его опубликованные в советской печати поэмы, романы и статьи, но и неопубликованные, или опубликованные частично, или увидевшие свет за границей, или вовсе не предназначавшиеся для печати (например, письма). Можно сказать, что Штейнер оказывается для Белого в этот период «вторым богом», автором «пятого евангелия». Причем особенно явственно влияние мистического «доктора» ощущается именно в «христианских» строках писателя – как в поэзии, так и в прозе. Вплоть до своей смерти в 1934 году в качестве «советского писателя», Андрей Белый – убежденный антропософ, в мировоззрении и творчестве которого «христианский импульс» выступает одним из аспектов – хотя и важнейшим – оккультно-символистского синтеза.
Выражаясь кратко, антропософия Штейнера – это мистическое учение, ставящее на место Бога обожествленного человека. Все, что происходит в антропософском космосе – особенно в переживании поэта Белого – это события внутри человеческого сознания и сверхсознания, расширенного до пределов вселенной. Христос здесь менее всего Христос Евангелия – это именно космический световой луч, оказывающийся вместе с тем лучом взгляда самого мистика-автора. В тексте одного из самых сильных стихотворений Белого, посвященных «христианскому» истолкованию русской драмы 1917 года, мы встретим и кольца Сатурна (антропософская прародина людей), и фосфорически кипящее земное ядро – и Христа, сходящего к страждущей России именно с высоты этих космических иерархий:
РОДИНЕ
Рыдай, буревая стихия, В столбах громового огня! Россия, Россия, Россия, — Безумствуй, сжигая меня! В твои роковые разрухи, В глухие твои глубины, — Струят крылорукие духи Свои светозарные сны. Не плачьте: склоните колени Туда – в ураганы огней, В грома серафических пений, В потоки космических дней! Сухие пустыни позора, Моря неизливные слез — Лучом безглагольного взора Согреет сошедший Христос. Пусть в небе – и кольца Сатурна, И млечных путей серебро, — Кипи фосфорически бурно, Земли огневое ядро! И ты, огневая стихия, Безумствуй, сжигая меня. Россия, Россия, Россия, — Мессия грядущего дня! (1917)Спаситель здесь – крылорукий дух, родственный по природе млечному пути, а вовсе не вторая ипостась Пресвятой Троицы, единосущный Создателю мира. Не говоря уже о том, что сами Сатурн и млечный путь в стихотворении Андрея Белого располагаются внутри беспредельного человекобожеского горизонта, они суть плоды испирации и интуиции, но отнюдь не элементы реального космоса. «Религиозным, – писал Белый-символист ещё в 1906 году, – называю я всё, что, исходя явно или скрыто из постулата противоположения Я и не-Я, питает идею о их синтезе, соединении, которая и есть связь или религия»4. Не удивительно, что Христос в такой системе координат оказывается именно «не-Я», то есть предстает перед лицом всесильного мистического Я человека. Такой же предстает и революция, «революция чистая, революция собственно», которая «ещё только идет из туманов. Все иные же революции по отношению к этой последней – предупреждающие толчки, потому что они буржуазны» и находятся внутри истории5.
В настоящей работе мы не можем подробно рассматривать все грани отношения Андрея Белого как писателя и мыслителя к православному христианству – от повести «Котик Летаев» 1915 года, где он описывает мистический опыт ребенка до «Записок чудака» (1919), где он повествует о своём близком к безумию состоянии после принятия антропософского посвящения. Пожалуй, наиболее выразительным является пассаж из письма о «Глоссолалии» (поэме о космическом звуке), где гордая идея сотворения мира человекобогом доводится до предела, помещаясь у него… во рту: «Мир, построяемый языком в нашей полости рта, есть точно такой же мир, как вселенная: семь дней творения звуков во рту аналогичны семи дням творения мира; некогда слова оплотнеют материками и сушами, а языки превратятся в целые планетные системы со зверями, птицами и людьми; по отношению к этим мирам мы будем Элохимами»6.
Центральными произведениями Андрея Белого советского периода, связанными, так или иначе, с христианской темой, являются поэма «Христос воскрес» и цикл романов «Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски», объединенных под названием «Москва» (1926–1932).
«Христос воскрес» – это непосредственная перекличка с «Двенадцатью» Блока, написанная четырьмя месяцами позднее (апрель 1918 года). Кроме объединяющей их темы революции, в поэме Белого мы встречаемся даже с теми же героями – расслабленным интеллигентом, витийствующем о Константинополе, разбойниками, членами домового комитета, и др. Однако Христос здесь иной, чем у Блока, или, скажем Есенина – не «скифский» и не крестьянский (три поэта входили в первые годы революции в литературную группу «Скифы»), а Христос «световой атмосферы», хотя и явленный в сценах распятия предельно натуралистично:
1
В глухих Судьбинах, В земных Глубинах, В веках, В народах, В сплошных Синеродах Небес – Да пребудет Весть: – «Христос Воскрес!» Есть. Было. Будет.2
Перегорающее страдание Сиянием Омолнило Лик, Как алмаз, — – Когда что-то, Блеснувши неимоверно, Преисполнило этого человека…Это начало поэмы. А вот 4-я глава:
Кровавились Знаки, Как красные раны, На изодранных ладонях Полутрупа.А вот – её завершение:
Я знаю: огромная атмосфера Сиянием Опускается На каждого из нас, — Перегорающим страданием Века Омолнится Голова Каждого человека.Дело не в том, что казнь Сына Божьего представлена в поэме почти как у Гольбейна Младшего на картине «Мертвый Христос», от которой, по отзыву героя «Идиота» Ф. М. Достоевского, может вера пропасть. Дело в том, что и в начале, и в середине, и в конце поэмы образ Христа явлен читателю именно как образ человека: «Солнечного Человека», «омолненного» человека, но чело-века-бога, а не Богочеловека. И тогда раскрывается смысл мистерии, в которой революционная Россия становится облеченной солнцем Женой (один из главных символов русского символизма вообще), а молния-слово стоит посередине сердца каждого, причастного этому антропософскому чуду. «Моя воля с первых лет юности была бунтом дерзания, питаемой волей к новой культуре, а не смиренным склонением, питаемым богомольностью» – писал Белый в трактате «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития»7. И в таком плане он совершенно прав.
В 1923 году в Берлине вышел большой том Андрея Белого «Стихотворения». Вот что там говорится о поэме «Христос воскрес»: «Поэма была написана приблизительно в эпоху «Двенадцати» Блока; вместе с «Двенадцатью» она подвергалась кривотолкам; автора обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической партии. На этот вздор автор даже не мог печатно ответить (по условиям времени), но для него было ясно, что появись «Нагорная проповедь» в 1918 году, то и она рассматривалась бы с точки зрения «большевизма» или «антибольшевизма». Что представитель духовного сознания и антропософ не может так просто присоединиться к политическим лозунгам, – никто не подумал; между тем тема поэмы – интимнейшие, индивидуальные переживания, независимые от страны, партии, астрономического времени. То, о чем я пишу, знавал ещё мейстер Эккарт; о том писал апостол Павел. Современность – лишь внешний покров поэмы. Её внутреннее ядро не знает времени»8.
В самом деле, революция, и вообще злоба дня у поэта – лишь поверхностное отражение небесной битвы. И Майстер Экхарт в XIII веке действительно касался этого в своей имманентистской концепции фактического тождества Бога и человека, то есть был – на свой лад, разумеется, – давним предшественником Р. Штейнера и самого Белого. Что же касается апостола Павла, то его учение о Втором лице Троицы не оккультно-антропософское, а христианское. Бог-Сын у него не «вспыхнувшая вселенной» голова человекобога, а вочеловечившийся Дух, единосущный Отцу.
Цикл романов Андрея Белого «Москва» (1926–1932) – это своего рода завершение трилогии, начатой ещё в 1909 году «Серебряным голубем» и продолженной затем его знаменитым «Петербургом». Если «Голубь» ещё вполне символистский по мировоззрению и методу (обличение «дурного Востока» в России), то «Петербург» – уже наполовину антропософский (обличение «дурного Запада» в России). «Москва», по замыслу Белого, должна была в центральной своей идее преодолеть эти односторонности, и вывести на авансцену русской истории положительного героя (почти как у его любимого Гоголя во втором томе «Мертвых душ). По стилю письма «Москва», как и «Петербург» – всё та же изысканная «орнаментальная проза», однако главный герой её, профессор Коробкин – математический гений и русский патриот, сделавший открытие мирового (в том числе военного) значения, за которым охотится германский шпион-масон-иезуит Мандро, изнасиловавший собственную дочь. Как и многие другие произведения Белого, роман носит автобиографический характер – в частности, за фигурой Коробкина угадывается отец автора, а за образом дочери Мандро Лизаши – бросившая автора жена Ася9. Есть также в романе таинственный доктор Доннер (по-немецки «гром», прообразом данного персонажа был сам Штейнер), направляющий негодяя Мандро, и не менее могущественный Соломон Самуилович, по прямому поручению которого Мандро охотится за открытием Коробкина. Сквозной сюжет «Москвы» построен как история взаимоотношений Коробкина с Мандро, начиная с чудовищной пытки, устроенной Мандро профессору, и кончая прощением Коробкина своего мучителя, с которым они стали «братьями в солнечном городе».
Не удивительно, что роман «Москва» прошел цензуру Главлита – глубинная мистика действия была хорошо спрятана Белым за «антибуржуазным» повествованием, целью которого, как следует из авторского комментария, было показать тяжесть довоенной жизни в России, октябрьский переворот и «новый реконструктивный период»10. Вполне советская тематика. Однако на самом деле «Москва» – это апофеоз антропософского «эстетического христианства» неуклонного последователя Штейнера, начиная с космического посвящения («Открылась бездна, звезд полна» – Михаил Ломоносов) и кончая прямым авторским указанием, что «звезда, упавшая свыше в разбитое отверстие черепной „коробки“ Коробкина, есть его космическое расширение, делающее его воином армии спасения мира от Дракона»11. В любом случае, Белый мог сказать о себе что в «Москве» «я играл с ВКП(б) сложную партию игры; и эту партию я выиграл»12.
Подводя итог краткому рассмотрению христианской темы в творчестве Белого советского периода, заметим, что вся религиозная проблематика у автора поэмы «Христос воскрес» и романа «Москва» – это специфическая символистско-антропософская «мозговая игра» внутри черепной коробки автора/ героя (отсюда и псевдоним «Коробкин»). Надо отдать должное Андрею Белому: в годы торжествующего атеизма он оставался глубоко верующим писателем и мыслителем-идеалистом, верным сыном России. Другое дело, что, по точному суждению Н. А. Бердяева, Белый «обоготворяет лишь собственный творческий акт. Бога нет как Сущего, но божествен творческий акт. Бог творится»13. Этот отзыв относится к эпохе «Символизма», но с поправкой на оккультное учение германского «доктора» это целиком применимо и к автору «Москвы». «К Абсолютному нет путей, которые начинались бы не с Абсолютного, на первой ступени надо уже быть с Богом, чтобы подняться на следующие»14. Если в первое (собственно символистское) десятилетие творческой жизни Белого религия делается у него искусством, то позднее она становится гнозисом, молитва – медитацией, творчество – практической магией. Противостояние святое/грешное заменяется оппозицией знание/незнание.
Всю жизнь Андрей Белый «золотому блеску верил», а умер, как и предвидел когда-то, «от солнечных стрел» (последствий крымского солнечного удара), как раз накануне первого Съезда советских писателей, на котором он хотел выступить:
Золотому блеску верил, А умер от солнечных стрел. Думой века измерил, А жизнь прожить не сумел. Не смейтесь над мертвым поэтом: Снесите ему цветок. На кресте и зимой и летом Мой фарфоровый бьется венок. Цветы на нем побиты. Образок полинял. Тяжелые плиты. Жду, чтоб их кто-нибудь снял. Любил только звон колокольный И закат. Отчего мне так больно, больно! Я не виноват. Пожалейте, придите; Навстречу венком метнусь. О, любите меня, полюбите — Я, быть может, не умер, быть может, проснусь — Вернусь! (1907)Примечания
1 Вот раннее стихотворение Белого, посвященное Святому:
Св. Серафим
Плачем ли грустно в скорбях, Грудь ли тоскою теснима — В яснонемых небесах Мы узнаем Серафима. Что с тобой, радость моя, — «Радость моя?…» Смотрит на нас ласково Ликом туманным, лилейным. Бледно-лазурный атлас В снежнокисейном. Бледно-лазурный атлас — Тихо целует, Бледно-лазурный атлас — В уши нам дует: «Вот ухожу в тихий час… Снова узнаете горе вы!..» С высей ложится на нас Отблеск лазоревый. Легче дышать После таинственных знамений: Светит его благодать Тучкою алого пламени (1903)2 М. Изд. «Мусагет», 1910.
3 Подробнее см.: Козин А. Л. Андрей Белый: Начало русского модернизма // Вступительная статья и комментарии к изданию: Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 тт. М., Искусство, 1994.
4 Белый А. (под псевдонимом Taciturno). Искусство прошлого и искусство будущего // Перевал. 1906, N2 2. С.50.
5 См.: Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 2. С. 462.
6 Белый А. Письмо Р. В. Иванову-Разумнику от 5.9.1917 // Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. Подготовка текста А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб. Atheneum, Феникс, 1998. С.133.
7 Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 423.
8 Цит. по: Мочульский К. В. Андрей Белый. Париж. Tweet, 1955. С. 584.
9 Подробно см. об этом: Спивак М. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006.
10 См.: Белый А. О себе как о писателе // Бугаева К. Н. Воспоминания о Белом. Публ., предисл. и коммент. Дж. Мальмстада. СПб. Издательство Ивана Лимбаха, 2001. С. 326.
11 Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С.426.
12 Цит. по: М. Спивак. Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 229.
13 Бердяев Н. Русский соблазн (по поводу «Серебряного голубя» А. Белого) //Типы религиозной мысли в России. Париж. YMCA-Press. 1989. С. 428. «Боготворение» Белого, как и горьковское «богостроительство», например – характерные для модерна модусы человекобожеской мифологии, восходящие к общей постренессансной идее равноправного диалога Творца и твари.
14 Там же. С. 429.
Николай Гумилев – поэт Православия1 Ю. В. Зобнин
Великий русский поэт Николай Степанович Гумилев был младшим из двух сыновей кронштадтского морского врача Степана Яковлевича Гумилева, незаурядного военного медика и горячего патриота, посвятившего большую часть жизни созданию системы гигиены и охраны здоровья на судах первой броненосной эскадры Российской Империи. Примечательно, что сын священника, С. Я. Гумилев получил начальное образование в Рязанской семинарии; избрав затем гражданское поприще, он сохранял приверженность к домашнему благочестию.
Мать поэта Анна Ивановна, урожденная Львова, происходила из поместных дворян, владевших землями в Тверской и Курской губерниях. В ее роду были многочисленные воины, снискавшие себе славу в боях с Крымским ханом, сражениях под Очаковом, Измаилом и Аустерлицем2. Выросшая в патриархальной среде родового поместья Слепнево, прекрасная хозяйка и заботливая мать, Анна Ивановна ревностно сохраняла в своем семействе национальные духовные традиции. «Когда сыновья были маленькие, – писала, вспоминая семейные рассказы, ее невестка А. А. Гумилева-Фрейганг (один из первых биографов поэта), – Анна Ивановна им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также из Священной Истории. Помню, что Коля как-то сказал: „Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя“. Дети воспитывались в строгих правилах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней – глубоковерующим христианином»3.
В ранней юности, как и большинство сверстников, Гумилев пережил период «декадентских дерзаний», очень яркий по событиям в жизни и творчестве, но и очень краткий. Уже в 1907 году, в неоконченной философской повести «Гибели обреченные» Гумилев обращается к образу Спасителя, Который, являясь под именем бродячего мудреца Эгаима (т. е. «Бога богов»4), вершит суровый суд над беззаконными пророками «новой красоты»:
– Они прекрасны, они обольстительнее утренних звёзд. Но они дети не нашей земли, они пришли издалека. Её горести, её надежды для них чужды, и за то Я обрекаю их гибели!
В целом ряде религиозно-философских лирических шедевров раннего Гумилева («Сегодня у нашего берега бросил…», «Крест», «Неслышный, мелкий падал дождь…») ярко изображается духовная драма поколения, переживающего искушения ницшеанского богоборчества, эстетизма и «оккультного возрождения»:
Из двух соблазнов, что я выберу, Что слаще – сон иль горечь слез? Нет, буду ждать, чтоб мне, как рыбарю, Явился в облаке Христос. Он превращает в звезды горести, В напиток солнца жгучий яд, И созидает в мертвом хворосте Никейских лилий белый сад. («На льдах тоскующего полюса…»)Наконец, пережив на Пасху 1911 г. некий род эпифании, воспринятой им как обетование спасения через грядущее мученичество, Гумилев окончательно утвердился в природной вере:
В мой самый лучший, светлый день, В тот день Христова Воскресенья, Мне вдруг примнилось искупленье, Какого я искал везде. Мне вдруг почудилось, что, нем, Изранен, наг, лежу я в чаще, И стал я плакать надо всем Слезами радости кипящей. («Счастье»)В том же 1911 году вместе с поэтом-фольклористом С. М. Городецким Гумилев, отвергнув декадентство и символизм, создает литературное объединение «Цех поэтов», одной из главных установок которого было стремление соединить русскую поэзию с традиционным для народного мировосприятия духовным основанием. Пятеро поэтов, главных энтузиастов этой идеи – Гумилев, его жена Анна Ахматова, Городецкий, Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич и Владимир Нарбут-составили внутри «Цеха» особый кружок «Акмэ» (др. – греч. «вершина», «высшая стадия развития»), от названия которого и происходит «акмеизм», т. е. зрелое мастерство, преодолевшее декадентские крайности символизма.
Гумилев в истории русской литературы XX столетия – поэт Православия, носитель православной сотериологической культуры, принимаемой им безусловно и всецело во всех ее внешних проявлениях, которые для него наполнены глубоким и ценным смыслом. Организующим центром гумилевского мировоззрения являются те истины и ценности, которые присущи поэту как православному христианину, а периферией – все многообразие жизненных впечатлений, переживаний, интересов и т. п., подчас весьма далекое, а иногда и прямо конфликтующее с воцерковленным строем мысли и чувства. В этом многообразии, равно как и во внутренних конфликтах, иногда, в некоторые периоды творчества, достигавших большой остроты, – нет ничего противоречащего нормальной духовной работе, присущей любому православному мирянину, каковым являлся и каковым сознавал себя Гумилев. Его ученик Н. А. Оцуп, писавший о «ревностном православии» учителя, о том, что он «в глубине души <…> судит самого себя по законам христианской морали», специально оговаривался: речь идет о мирском христианстве и о творчестве светском. «Везде Гумилев, – пишет Н. А. Оцуп, – <…> остается самим собой – простым и добрым верующим, который целиком отдается разнообразным радостям жизни <…> страстным поклонником искусства и природы»5. Подытоживая это суждение, можно сказать, что духовный и творческий облик Гумилева – человека, художника и мыслителя не исчерпывается его православностью, но организуется ею. Это значит, что взятые вне соотнесенности с этим организующим центром, воспринятые вне контекста православной духовной работы, непрерывно совершавшейся в Гумилеве с первых лет творчества и буквально до последнего часа жизни, – факты его творческой биографии теряют содержательность, рассыпаются, делаются доступными для любых, прямо взаимоисключающих произвольных толкований.
Богопознание – в отличие от большинства современников по серебряному веку, предпочитавших произвольные фантазии «на христианские темы» – предстает у Гумилева как процесс сознательного воцерковления. Первая вехой этого пути, после того как он преодолел юношеский «декадентский соблазн», оказывается стихотворение «Христос» (1910):
Он идет путем жемчужным По полям береговым. Люди заняты ненужным, Люди заняты земным. «Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй! Вас зову я навсегда, Чтоб блюсти иную паству И иные невода».Е. Вагин писал об этом стихотворении, как о редком в искусстве серебряного века воплощении «евангельски-чистого» образа Спасителя: «Надо сказать, что Н. Гумилев совершенно „выпадает“ из русской интеллигенции: его высокий (и – надо добавить – практический, жизненный) идеализм не имеет ничего общего с традиционной интеллигентской „гражданственностью“, этой вечной игрой в оппозицию с неизбежной демагогией и стадными инстинктами, жестоко высмеянными еще Достоевским. Полное отсутствие стадного инстинкта – столь характерного для российского интеллигента – „оппозиционера“ – и отмечает ярче всего личность Гумилева, его поэзию. Его часто обвиняют в индивидуализме, – но это неправда: у него нет ничего оттого дешевого ницшеанства, который был в моде в начале века. Повышенное чувство личности, персонализм Гумилева – это не болезненный, эгоистический индивидуализм самоутверждения за счет других. <…> Сам поэт нашел для своих убеждений прекрасную формулу: „Славянское ощущение равенства всех людей и византийское сознание иерархичности при мысли о Боге“. „Мысльо Боге“-постоянная и естественная – заметно выделяет Гумилева и его поэзию»6.
Если говорить по-существу, то с мнением Е. Вагина, конечно, нельзя не согласиться. Однако нужно учитывать, что это, первое в данном тематическом ряду, стихотворение отражает переживания самого момента нового обретения поэтом «традиционной и церковной» веры во Христа, момента, следовательно, новой личной встречи со Христом, – и, потому, драматические мистические и психологические парадоксы православной сотериологии, свойственные религиозным переживаниям Гумилева не меньше, чем подобным же переживаниям у прочих «российских интеллигентов», здесь попросту подавлены единым цельным ощущением необыкновенной радости. Рассказчик, созерцающий Христа, идущего «путем жемчужным», находится как бы в состоянии эйфории и, потому, в данный момент, к рефлексии просто не способен.
Личные лирические мотивы обусловили и выбор евангельского эпизода, воплощенного в стихотворении: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающего сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним» [Мф. 4: 18–20]. Это – самое начало евангельского повествования, самое начало Служения Господня. Все драмы и ужасы – и отступление учеников, и неприятие Евангелия «своими», и заговор против Иисуса, и Гефсимания, и Голгофа – все впереди и сейчас кажется невероятным, невозможным. Это – момент торжества Встречи, не омраченный ничем – Царство Небесное открылось перед глазами людей во всем невыразимом и невиданном великолепии: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» [Ин. 1: 51].
«Земное» кажется просто «ненужным» в ослепительном свете «небесного»: ни о каких сопоставлениях, ни о каких «соблазнах мира сего» сейчас, в этот момент и речи быть не может-
Лучше ль рыбы или овцы Человеческой души? Вы, небесные торговцы, Не считайте барыши.Там – вечное и бесконечное благо, здесь – временное и косное существование. «Барыш» при обмене второго на первое бесконечно велик, счесть его, действительно, невозможно. «Предметом купли и продажи – небо!.. – восклицал Иоанн Златоуст. – Дай хлеб, и возьми рай; дай малое, и возьми великое; дай смертное, и возьми бессмертное; дай тленное и возьми нетленное. Если бы была ярмарка, и на ней продавали бы дешево и в большом количестве съестные припасы, и многое можно было бы приобрести за малую цену: не распродали бы вы имущества, и, оставив все в стороне, не приняли бы участия в таком торге?»7
Ведь не домик в Галилее Вам награда за труды — Светлый рай, что розовее Самой розовой звезды, —восторженно вторит Гумилев. Самое страдание и смерть кажутся сейчас, в момент мощного восхода солнца Новой Эры, эры примирения Бога с человеком, легкими и необременительными:
Солнце близится к притину, Слышно веянье конца, Но отрадно будет Сыну В Доме Нежного Отца.Упоминание о Доме Нежного Отца (ср.: [Ин. 14: 2–3]) в гумилевском тексте, напоминают здесь рассказчику, конечно, еще и притчу о блудном сыне, которую, год спустя, Гумилев также переложит в стихи, исполненные лирического пафоса:
Там празднество: звонко грохочет посуда, Дымятся тельцы и румянится тесто, Сестра моя вышла, с ней девушка-чудо, Вся в белом и с розами, словно невеста. За ними отец… Что скажу, что отвечу, Иль снова блуждать мне без мысли и цели? Узнал… догадался… идет мне навстречу… И праздник, и эта невеста… не мне ли?! («Блудный сын»)Входящий в чертоги Отца, действительно, не может сожалеть о покинутом «домике в Галилее». Поэтому-
Не томит, не мучит выбор, Что пленительней чудес?! И идут пастух и рыбарь За искателем небес.Как мы уже сказали, стихотворение «Христос» показывает нам переживания Гумилева в первую пору его сознательного воцерковления, в момент потрясения души, восставшей и ликующей. Сейчас, в этот миг выбор между «земным» и «небесным», действительно, «не мучил» поэта. «…Это происходит в нашей жизни, особенно в начале нашего обращения к Богу, когда мы возбужденные той или иной красотой Божественной, восхищаемся, возбуждаемся, готовы на любой подвиг: и чрезмерно поститься, и помногу молиться, и милостыню творить, и за ближними ухаживать, – писал о состоянии неофита митрополит Иоанн (Снычев). – Все как будто бы нам легко! Но потом проходит этот порыв, и наступает период, когда мы остаемся один на один со своими естественными возможностями. И вот тут-то уже сил ни на какие подвиги не хватает, потому что нет еще у нас Божественной любви, которая достигается постоянством и смирением»8. Гумилев в этом не был исключением из общего правила. Если в 1910 году он не мучился выбором между «небом» и «землей», то в стихах 1916 года мы находим совсем иные мотивы:
Я не прожил, я протомился Половину жизни земной, И, Господь, вот Ты мне явился Невозможной такой мечтой. Вижу свет на горе Фаворе И безумно тоскую я, Что взлюбил и сушу и море, Весь дремучий сон бытия; Что моя молодая сила Не смирилась перед Твоей, Что так больно сердце томила Красота Твоих дочерей.Реальный жизненный опыт выбора между Богом и миром показал, что такой выбор именно «томит и мучит». Теперь чистота Фаворского света Преображения кажется Гумилеву «невозможной мечтой» и у него остается лишь одна надежда на милость Божию:
С этой тихой и грустной думой Как-нибудь я жизнь дотяну, А о будущей Ты подумай, Я и так погубил одну.«Любить Бога не просто, – заключает владыка Иоанн, – любить Его надо так, как заповедал нам Сам Господь Спаситель мира. Любовь к Богу тогда только бывает настоящей, когда она основана на смирении, когда человек устраняет из своего сердца плотскую воображаемую любовь. <…> Пылкость и горячность крови и нервов – это и есть плотская любовь. Такая любовь не бывает угодной Богу, ибо она приносится на жертвенник гордости. Такая любовь не долговечна, она быстро исчезает. <…> Научиться любить Бога можно при том условии, если мы будем в меру своих сил и возможностей исполнять все то, что заповедал нам Спаситель мира. И не только исполнять, но и внутри своего сердца возбуждать вражду ко всякому греху, удаляющему нас от любви Божьей»9.
В том, что следовать за «Искателем небес» не так просто, как это казалось вначале, Гумилев убедился достаточно скоро. «Безумная тоска», «томление», «грусть» – все это симптомы «будней» духовной работы, пришедших на смену пасхальной радости, запечатленной в стихотворении о Христе. Воцерковление всегда предполагает ревизию мировоззренческих «мирских» ценностей. «Входя в Церковь человек должен научиться говорить и "да" и "нет", – пишет о. Андрей Кураев. – Да – Евангелию. Да – тому, что Дух, Который вдохновил евангельских авторов, явил в жизни и в умах последующих христиан (тех, кто был вполне христианином – святым). Нет – тому, что с Евангелием несовместимо. Нет – окружающим модам. Нет-даже своим собственным пристрастиям и стереотипам, если очевидно, что они пришли в противоречие с христианским учением»10. И здесь в отношениях Церкви и интеллигенции возникали весьма значительные сложности. «Отрывком» из подобной мировоззренческой драмы воцерковляющегося интеллигентского сознания и является лирическая исповедь Гумилева 1911 года:
Христос сказал: убогие блаженны, Завиден рок слепцов, калек и нищих, Я их возьму в надзвездные селенья, Я сделаю их рыцарями неба И назову славнейшими из славных… Пусть! Я приму! Но как же те, другие, Чьей мыслью мы теперь живем и дышим, Чьи имена звучат нам, как призывы? Искупят чем они свое величье, Как им заплатит воля равновесья? Иль Беатриче стала проституткой, Глухонемым – великий Вольфганг Гете И Байрон – площадным шутом… о ужас!Источником смущения для рефлексирующего лирического героя здесь служит, как явствует из текста, «неадекватность» христианской теодицеи (учения о Божественной справедливости) – ценностям светской культуры, причем сама постановка проблемы, упоминание о «воле равновесья», восходит к евангельской Притче о бедном Лазаре: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: „отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем“. Но Авраам сказал: „чадо! Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят“» [Лк. 16: с. 19–26].
Строго говоря, испуг лирического героя Гумилева вызван не столько подлинной сложностью проблемы самой по себе, сколько недопустимо примитивным, «механическим» пониманием притчи. Беатриче-не проститутка, Гете-не глухонемой, Байрон – не шут. В земной жизни они получили немало «доброго», следовательно, по «воле равновесья» (о, ужас!) – в жизни той они должны быть умалены, подобно евангельскому богачу. Не исключено, что в гумилевском стихотворении сказалось не изжитое еще влияние Ф. Ницше, также трактовавшего христианскую теодицею крайне примитивно. «Христианство, – писал Ницше в своем "Антихристе", – взяло сторону всех слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из противоречия инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно-сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как искушения»11. На это, конечно, очень легко возразить, что богатство (как материальное, так и интеллектуальное – талант, физическое здоровье и т. д.) отрицается христианством только в качестве источника соблазна забвения тех самых «высших духовных ценностей», о которых и печется Ницше, источника духовной пошлости. В равной мере и бедность (слабость, униженность, неуспех и т. п.) сама по себе не признается добродетелью, но только в сочетании со смирением и верой. Такой взгляд на «богатство» и «бедность» присутствует и у ветхозаветных пророков. «…Богатые здесь, – пишет в толкованиях на XXXIII псалом свт. Феофан Затворник, – то же, что не взыскивающие Господа, необращающиеся к Нему в нуждах, самодовольные, своими средствами без Бога чающие устроить участь свою во благо, т. е. во всем полагающиеся на силу свою, на деньги, связи и свое положение. Это те, о которых говорится: „утучнел, отолстел, разжирел; и оставил он Бога, создавшего его“ [Втор. 32; 15].<…> Берется здесь во внимание не внешнее положение… а внутреннее их настроение и соответственное тому состоянье духа»12.
Из того, что Беатриче, Гете и Байрон не были в земной жизни «убогими, слепцами, калеками и нищими», равно как и «проститутками, глухонемыми и шутами», вовсе не следует, – если речь идет о христианской теодицее, – что в жизни будущей они неизбежно, по «воле равновесья», должны быть отвержены Христом. Но, если конкретное идеологическое противоречие, вызвавшее к жизни гумилевское стихотворение, разрешается, как мы видим, достаточно просто, психологические мотивы, побудившие Гумилева весьма пристрастно вдумываться в содержание Нагорной проповеди, не теряют от этого драматическую содержательность. За «отрывком», как мы уже говорили, скрывается сложнейшая духовная драма – разрушение «пристрастий и стереотипов» воцерковляющегося интеллигентского мировоззрения. И разрешение каких-то частных проблем здесь еще не гарантирует успех всего целого. Л. Н. Толстой, например, сумел, как известно, не только освободиться в ходе освоения евангельских истин от преклонения перед «Беатриче, Гете и Байроном», но и объявить «Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности – Аристофана, Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира, в живописи – всего Рафаэля, всего Микель-Анджело с его нелепым „Страшным судом“, – в музыке – всего Баха и всего Бетховена с его последним периодом» – пропагандистами «чувства гордости, половой похоти и тоски жизни»13, а потом – взял, да и написал свое собственное «евангелие от Толстого», открывающееся захватывающей историей о рождении Иисуса… «вне законного брака»14 Свт. Амвросий Оптинский, беседовавший с Толстым во время его посещения Оптиной пустыни в 1890 г., сформулировал свои впечатления кратко: «Он крайне горд»15. «Трудно человеку бороться с Богом, но еще труднее примириться с Богом, – писал Д. С. Мережковский в самый разгар своего „богоискательства“. – Во всяком случае, для русской революционной общественности это самое трудное: труднее чем свергнуть самодержавие и учредить социал-демократическую республику, труднее, чем „взорвать Бога“ или „поддержать руками валящееся небо“, труднее всего на свете сказать просто простые слова: Верую, Господи, помоги моему неверию»16.
Гумилев к «русской революционной общественности» не принадлежал, в «социал-демократическую республику» не верил, и «взрывать Бога» не собирался. Но «сказать просто простые слова», примиряющие его с Богом, было трудно и для него, ибо слишком много здесь оказывалось противоречащим его «пристрастиям и стереотипам». И причиной тому была у него – равно как и у Толстого, Мережковского и других представителей «интеллигентской общественности» серебряного века – гордость, скептическое недоверие к какому-нибудь авторитету, кроме авторитета своего собственного знания и практического опыта.
Между тем, вне доверия никакая подлинная духовная работа невозможна – на это указывает сама этимология слова: «до-верие» есть состояние, предшествующее собственно «вере», так что сама «вера» без «доверия» не может быть истинной. Можно сколько угодно анализировать богословские трактаты и «богословствовать» самому, нагромождая одно логическое построение на другое – но, в конце концов, ты останешься, подобно Антихристу В. С. Соловьева, перед простой необходимостью не разумного, а любовного, «до-верительного» выбора между своей и Божией правдами: «Сознавая в себе великую силу духа, он всегда был убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он верил, но любил он только одного себя. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал Ему себя. Он верил в Добро, но всевидящее око Вечности знало, что этот человек преклонится пред злою силою, лишь только она подкупит его – не обманом чувств и низких страстей и даже не высокою приманкою власти, а чрез одно безмерное самолюбие»17.
Гумилев нашел в себе силы удержаться от увлекательных интеллигентских «богословских изысканий». После «Отрывка» стихотворений на подобную тематику уже не появляется, напротив, в его творчестве возникает некий пафос «смиренномудрия»:
Храм Твой, Господи, в небесах, Но земля тоже Твой приют. Расцветают липы в лесах, И на липах птицы поют. Точно благовест Твой, весна По веселым идет полям, А весною на крыльях сна Прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, Если праведно я пою, Дай мне, Господи, дай мне знак, Что я волю понял Твою. («Канцона»)В самый разгар революционной катастрофы, на рубеже 1917–1918 гг., когда все надежды на сколь-нибудь благополучный исход событий, как в его жизни, так и в жизни страны, окончательно рухнули, он не ропщет, и с какой-то невероятной простотой и искренностью выражает полную готовность принять все, что готовит будущее:
Я, что мог быть лучшей из поэм, Звонкой скрипкой или розой белою, В этом мире сделался ничем, Вот живу и ничего не делаю. Часто больно мне и трудно мне, Только даже боль моя какая-то, Не ездок на огненном коне, А томленье и пустая маята. Ничего я в жизни не пойму, Лишь шепчу: «Пусть плохо мне приходится, Было хуже Богу моему, И больнее было Богородице».Удивительно, что в творчестве Гумилева путь воцерковления лирического героя предстает как путь следования за Христом, развертываясь хронологически в полном соответствии с евангельским повествованием о Служении Господнем. Начало этого пути ознаменовалось стихотворением, обращенном к картине полдня на Генисаретском озере («Христос», 1910). Мы видели, как недоверчиво и жадно вслушивался затем гумилевский лирический герой в слова Нагорной проповеди («Отрывок», 1911) и как был потрясен, увидев Фаворский свет Преображения Господня («Я не прожил, я протомился…», 1916). Теперь, перед возвращением в охваченную пламенем революции и гражданской войны Россию, он пишет стихи, обращенные к событиям Страстной седмицы.
Архитектоника гумилевского творческого пути, так, как она представлена теми стихотворениями, которые прямо обращены к евангельским сюжетам, повторяет архитектонику Божественной литургии, позволяющей прихожанам православных храмов, шаг за шагом, пройти, вместе с апостолами, весь евангельский путь – от Рождества, свершающегося тайно, за притворенными Царскими Вратами во время Проскомидии (приготовление вещества для таинства Евхаристии, т. е. приготовление хлеба и вина, которые во время литургии имеют быть переложенными в Тело и Кровь Христовы) – до Вознесения, представляемого изнесением из Царских Врат алтаря Чаши и словами иерея: «Всегда, ныне и присно и во веки веков», – обетованием Господним, завершающим евангелие от Матфея [Мф. 28: 20]. Служение Господне является в Литургии оглашенных, Страстная седмица – в Литургии верных, во время которой и происходит таинство Евхаристии.
Литургия верных начинается Херувимской песнью, которую поет лик (хор), а иерей повторяет, воздев руки, в алтаре у Престола: «Иже херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение».
В годы коммунистических гонений на Церковь, смысл Херувимской песни «конкретизировал» в потрясающей проповеди о. Дмитрий Дудко: «Херувимская песнь – это образование наших страданий с Божиими страданиями. Христос идет на страдания, пойдем и мы с Ним. <…> Херувимская песнь не для самоутешения, Херувимская песнь для просветления наших чувств, для очищения от грехов, для зарождения любви в нашем сердце. Херувимская песнь должна отрывать нас от земли, возносить к небу, должна давать нам мужество духа при любых страданиях. Херувимская песнь – это смысл наших страданий, смысл нашей жизни. Жизнь – это не страдания, а это вечная радость, человек бессмертен»18.
Херувимская песнь – это песнь верных христиан, т. е. тех, кто уже прошел путь воцерковления, уже может «отложить всякое житейское попечение», кто уверовал окончательно в Небесного Царя и Его Царство. Тех, кто еще только готовится к крещению, сочувствующих и любопытствующих, оглашенных Словом Божиим, но еще колеблющихся в выборе между Небесным и земным царствами – просят перед Херувимской песней уйти из храма: «Елицы оглашеннии, изыдите оглашении, изыдите. Да никто из оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся».
В 1917 году «Литургия оглашенных» в духовном бытии Гумилева завершается – начинается «Литургия верных». С этого момента «всякое житейское попечение» – «откладывается»:
Ничего я в жизни не пойму, Лишь шепчу: «Пусть плохо мне приходится, Было хуже Богу моему, И больнее было Богородице».С этого момента в его голосе появляется новая интонация, уже не исчезающая затем до самого конца, настолько необычная для русской поэзии XX века, что позволяет безошибочно отличить любой стих, любую строчку «позднего» Гумилева среди всех, звучавших вокруг него голосов, – та интонация, которая порождается неким глубочайшим внутренним покоем, душевной тишиной, сдержанной сосредоточенностью переживаний, уже не отвлекающихся на сиюминутные внешние раздражения, на каких-то, лежащих вне форм земного бытия образах. Это – интонация Херувимской песни, интонация «верного», расслышавшего, наконец, сказанные в Сионской горнице слова: «Сие сказал Я вам, чтобы Вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» [Ин. 16; 33].
В память многих, знавших Гумилева – особенно в революционные годы, – врезался обычай поэта осенять себя перед храмами неспешным крестным знамением. Этот нехитрый и естественный для воцерковленного человека акт религиозного этикета настолько удивлял интеллигентных свидетелей, что в мемуаристике, посвященной серебряному веку, Гумилев особо выступает как «человек, крестившийся на храмы»: «Он совсем особенно крестился перед церквами. Во время самого любопытного разговора вдруг прерывал себя на полуслове, крестился и, закончив это дело, продолжал прерванную фразу»19.
В эпоху «военного коммунизма» подобное поведение на публике было чревато не то чтобы неприятностями – настоящими бедами. Друзья настоятельно рекомендовали поэту быть осторожнее, по крайней мере – в обществе литера-торов-«пролеткультовцев», многие из которых занимали видные чины в «красной» администрации. «То, что многие из них были коммунисты, его ничуть не стесняло, – вспоминал Георгий Иванов. – Он, идя после лекции, окруженный своими пролетарскими студийцами, как ни в чем не бывало, снимал перед церковью шляпу и истово, широко, крестился»20. И у других мемуаристов мы находим похожие эпизоды стой же акцентировкой: Гумилев крестится на православные «восьмиконечные» кресты, вознесенные над луковками православных храмов. Гумилев молится пред православным каноном с Распятием и отстаивает пасхальные службы пред православным алтарем, скрывающим помещенную на Престоле Плащаницу хрупкой преградой Царских Врат… Для человеческого и творческого облика поэта верность Православию – важнейшая характеристика. Особенно следует подчеркнуть сознательный характер этой духовной приверженности (доходящей в трагическом историческом контексте революционной России до исповедальной жертвенности). В этой связи весьма интересны стихотворения Гумилева «Падуанский собор» и «Евангелическая церковь», посвященные описанию храма и храмовой молитвы у католиков и протестантов: ход мысли лирического героя доказывает знакомство с основами православного сравнительного богословия.
Сравнительное (или, как его еще называют, «обличительное») богословие настаивает на том, что полнота догматики и вероучения, унаследованная с апостольских времен, сохраняется только в Православии. Поэтому «Церковью с большой буквы, той Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, которую основал Господь Иисус Христос и в которой незамутненным пребывает Его истинное учение, Церковью как телом Христовым является только сообщество Поместных Православных Церквей, составляющее единство Вселенской Церкви Христовой»21. С точки зрения православного сравнительного богословия, инославные Церкви не выдержали испытания «невыносимой легкостью» того «бремени», которое Христос возложил на каждого христианина, и упростили церковную жизнь для более удобного обращения своих прихожан в заботах «мира сего». Следует, впрочем, сразу отметить, что Православие не относится к отколовшимся от него церквям враждебно, полагая случившийся раскол трагической ошибкой, приведшей инославие к «духовной болезни». Так, например, Феофан Затворник, говоря о Церкви вообще как об органе «Божественного дыхания», сквозь который к человеку поступает «божественный кислород» Св. Духа, сравнивал инославную церковность с легкими, пораженными чахоточными струпьями, легкими, которые еще могут дышать, но уже не в состоянии дать задыхающемуся больному столько кислорода, сколько потребно для полноценного существования22. «Неправославные христиане – тоже христиане, – пишет современный православный богослов. – И опыт благодати Христовой может быть им знаком – но не в такой полноте, в какой этот опыт доступен человеку, решившемуся идти по православному пути»23.
В обоих стихотворениях Гумилева речь как раз и идет о тех «странностях» в инославной церковности, которые улавливает христианин, имеющий личный опыт полноты православной церковной жизни.
Католический Падуанский собор восхищает лирического героя. Этот храм «дивен и печален», он подобен «радости и грозе», но в самой архитектуре и убранстве его есть нечто, что вызывает мысль о каком-то непонятном «искушении». Первое, что замечает герой, войдя в храм – «желаньем истомленные глаза», «горящие» «в окошечках исповедален». Этот образ, действительно, очень яркий, становится первым в ряду той символики, которая постепенно раскрывает содержание «соблазна католичества», так как это представляется Гумилеву – соблазна слишком чувственного, слишком «земного» понимания буквы Евангелия:
Растет и падает напев органа, И вновь растет, полнее и страшней, Как будто кровь, бунтующая пьяно В гранитных венах сумрачных церквей.Личные наблюдения лирического героя Гумилева вполне согласуются с критическими положениями «обличительного богословия». Главный упрек, адресуемый здесь католицизму, это упрек в профанации духовных истин христианства, трактуемых Западной Церковью в образах и понятиях, максимально приближенных к бытовому «здравому смыслу». Папа объявляется «главой Церкви», а его мнение – главным критерием истины в вопросах вероучения. «Это очень просто и в каком-то смысле очень удобно (один решает за всех), но совершенно несогласно с духом Нового Завета, так как при этом мысль и совесть церковная обрекаются на молчание»24. В области же догматики слова о «главе Церкви» производят «филологический кульбит», отмеченный многими апологетами Православия: если Папа – «глава», то собственно Церковь оказывается «телом Папы», а не «телом Христа», как учит христианская экклесиология. Попытка «упростить» церковную структуру ведет к непроизвольному кощунству.
И так происходит всюду, где возникает «соблазн рационализации» того, что для православного является «потаенным и таинственным», открывающимся постепенно каждому в той мере, в какой он, «по силе жития» может на данный момент «вместить». Так, например, таинственное воплощение Святых Даров в Плоть и Кровь Христову во время эпиклезы (нисхождения Святого Духа во время Евхаристического Канона) остроумное казуистическое положение католического богословия о «субстанции без акциденции» превращает в понятную каждому «метаморфозу» – превращение хлеба в «мясо», не имеющее только внешнего вида «мяса», «мясной акциденции». В результате – православные причащаются таинственной Божественной Плоти, не задумываясь о Ее «субстанциональности», а лишь веруя в ее реальность («Верую, что сие есть самая пречистая плоть Твоя»), а католики… едят «мясо Бога» под видом хлеба. Последнее, конечно, куда менее «целомудренно», хотя и более конкретно25.
Мы привели лишь два примера, отличающих «земной» прагматизм католицизма от спиритуальной «агностичности» православного мышления. У Гумилева, в ряду подобных примеров, выступает, прежде всего, опыт католической молитвы.
В отличие от крайне сдержанного, жестко ограниченного каноническими текстами православного молитвенного правила, католичество практикует в молитвенной практике «мистический сентиментализм», перенося сюда аффекты, свойственные чувственной земной любви, вплоть до экстатических переживаний «любви ко Христу», до видений эротического рода, которые православный молитвенный опыт однозначно определяет как особо утонченное сексуальное духовное «прельщение». Само убранство католического храма («пурпур» и реалистические иконописные изображения «мучеников томных и белизны их обнаженных тел», по замечанию Гумилева) споспешествует развитию мечтательной фантазии в подобном направлении. Очень жестко писал об этом А. Ф. Лосев: «Что может быть более противоположно византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти страстные взирания на Крест Христов, на раны Христа и на отдельные члены тела Его, это насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле и т. д., и т. д… Это, конечно, не молитва и не общение с Богом. Это – очень сильные галлюцинации на почве истерии, то есть прелесть. И всех этих истериков, которым является Богородица и кормит их своими сосцами, всех этих истеричек, у которых при явлении Христа радостный озноб проходит по всему телу и между прочим сокращается маточная мускулатура, весь этот бедлам эротомании, бесовской гордости и сатанизма – можно, конечно, только анафемствовать. (Замечу, что я привел не из самого яркого. Приводить самое яркое и кощунственно и противно). В молитве опытно ощущается вся неправда католицизма»26. Схожие переживания заставляют лирического героя Гумилева «бежать» из Падуанского собора:
От пурпура, от мучеников томных, От белизны их обнаженных тел, Бежать бы из-под этих сводов темных, Пока соблазн душой не овладел.Если стихотворение «Падуанский собор» было навеяно «итальянским» путешествием Гумилева 1912 года, то «Евангелическая церковь» является, вероятно, ретроспективным воссозданием переживаний, испытанных поэтом в отроческие годы. Напротив гимназии Я. А. Гуревича, которую в 1896–1900 гг.
посещал Гумилев, в огромном комплексе зданий психиатрической лечебницы, который занимает целый квартал в начале Литовского проспекта, находилась лютеранская кирха. По обычаю того времени, над ней был поднят Андреевский флаг-точно такой, какой был принят на русском флоте-перекрещенные из угла в угол полотнища синие полосы на белом фоне. Кирха находилась и в Царском Селе неподалеку от Николаевской гимназии, где поэт завершал свой школьный курс. Очевидно, юный Николай Степанович, любопытствуя, присутствовал на протестантских богослужениях. Свои отроческие и юношеские впечатления он и вспоминал в 1919 году:
Тот дом был красная, слепая, Остроконечная стена. И только наверху, сверкая, Два узких виделись окна. Я дверь толкнул. Мне ясно было: Здесь не откажут пришлецу. Так может мертвый лечь в могилу, Так может сын войти к отцу. Дрожал вверху под самым сводом Неясный остов корабля, Который плыл по бурным водам С надежным кормчим у руля. А снизу шум взносился многий, То пела за скамьей скамья, И был пред ними некто строгий, Читавший Книгу Бытия И в тот же самый миг безмерность Мне в грудь плеснула, как волна, И понял я, что достоверность Теперь навек обретена.Однако, как и при углубленном созерцании католической храмовой молитвы, так и теперь, слушая пение протестантов-евангелистов, православный поэт не может скрыть странное негативное переживание, неизбежно возникающее в конце посещения «евангелической церкви»:
Когда я вышел, увидали Мои глаза, что мир стал нем. Предметы мира убегали, Их будто не было совсем. И только на заре слепящей, Где небом кончилась земля, Призывно реял уходящий Флаг неземного корабля.Это-тоже «соблазн», хотя и иного рода, нежели тот, который был пережит лирическим героем в католическом Падуанском соборе. Если католицизм предстал в гумилевском творчестве в грубой, исступленной, «телесной» чувственности своей мистики, то протестантизм оказывается здесь вовсе «бесплотной», призрачной верой, нисколько не связанной с повседневным бытием христианина, «неземным кораблем», уводящим в запредельные высоты чистого умозрения.
И это эмоциональное личное лирическое впечатление, опять-таки, имеет весьма ясное богословское истолкование. В отличие от «религиозного прагматизма» католиков, пороком протестантизма тут оказывается «религиозный субъективизм», сведение церковной жизни и, прежде всего, – церковных таинств – к ряду «символов» или «символических действ», которые совершаются в назидательных целях, «в воспоминание» дела спасения, уже совершенного Христом. «…Понятие об аскезе, понятие о борьбе со грехом, часто многолетней, тяжкой, с потом и кровью, о преодолении греховного начала в самом себе, собственных страстей и греховных навыков у них полностью отсутствуют. Если человек уже спасен, то как можно серьезно относиться к аскетическому деланию? Поэтому у протестантов и нет постов, нет внешних мер воздержания, поэтому и богослужения воспринимаются как некоторая дань, которую нужно отдать Богу, а не как средство внутреннего аскетического возрастания»27.
И католический и протестантский храмы в произведениях Гумилева оказываются вехами в жизненном странствии его лирического героя. И в «Падуанском соборе», и в «Евангелической церкви» герой пребывает весьма краткое время, и это четко фиксируется самой организацией повествования: в обоих случаях герой сначала видит храмовое здание извне, затем входит внутрь храма и переживает впечатления, связанные с его убранством и храмовым молитвенным действом, а затем покидает храм.
А в тех стихотворениях Гумилева, где речь идет о православном храме тип повествования резко меняется. Образы «белого монастыря» в «Пятистопных ямбах», церкви на погосте в «Городке» и «верной твердыни Православья» – Исаакиевского собора в «Заблудившемся трамвае» завершают развитие образных систем в данных текстах. Это – эмблема итога, финала, предела, который надо достигнуть в жизни. Герой Гумилева не покидает православный храм, он как бы остается там, «странничество» здесь прекращается, дальше идти некуда и незачем:
Есть на море пустынном монастырь Из камня белого, золотоглавый, Он озарен немеркнущею славой. Туда б уйти, покинуть мир лукавый, Смотреть на ширь воды и неба ширь… В тот золотой и белый монастырь!Примечания
1 По книге: Зобнин Ю. В. Николай Гумилев – поэт Православия. СПб., 2000.
2 Семейные предания упоминают прародителем пращуров Анны Ивановны – бежецких Милюковых и Львовых – некоего «князя-воеводу Милюка», о котором доподлинно ничего не известно. Возможно, изначально под легендарным «Милюком» разумелся Семён Мелик, воевода Сторожевого полка московской рати на Куликовом поле, один из героев битвы 1380 г., от которого и пошла вся чрезвычайно разветвлённая родословная дворян Милюковых. В той же семейной генеалогии есть указание, что «по грамоте царя Федора Алексеевича в 1682 г. Якову Ивановичу Милюкову за участие в войне с Турецким султаном и Крымским ханом пожалованы поместья в Новоторжковском и Бежецком уездах», но насколько эта информация соотносится с непосредственными предками Гумилёва со стороны матери – на настоящий момент не установлено. Достоверно известно, что по переписным книгам 1686 г. родовое гумилевское «сельцо Слепнёво» Ивановского стана Бежецкого уезда было записано за Потапом Васильевичем Милюковым, а во время переписи 1710 г. Слепнёвым совместно (тремя долями) владели братья Алексей Потапович (40 лет) и Никифор Потапович (37 лет) Милюковы и их малолетний (2 года) племянник Фёдор Андреевич Милюков. Во второй половине XVIII века владельцем Слепнёво был Иван Фёдорович Милюков, согласно семейным преданиям – офицер, участник «сражения под Очаковым» (вероятно, имеется в виду сам штурм крепости 6 декабря 1788 г. после длительной осады во время Второй Турецкой войны 1787–1891 гг.). Его дочь Анна Ивановна Милюкова (1772–1842 или 1857 (?)) получила Слепнёво в приданое, сочетавшись со старицким помещиком Львом Васильевичем Львовым (1764–1824 или 1825), выпускником сухопутного шляхетского корпуса, служившим под началом Г. А. Потёмкина и А. В. Суворова, участником осады Очакова и знаменитого штурма Измаила. В отставку он вышел в чине секунд-майора, играл видную роль в общественной жизни Тверской губернии, в 1809–1812 гг. заседал в Бежецком уездном суде. Его сын, лейтенант флота Иван Львович Львов (1806–1862, дед поэта) был участником обороны Севастополя 1854–1855 гг. Он женился на Юлиании Яковлевне Львовой, урождённой Викторовой (1814–1865), дочери Якова Алексеевича Викторова (1780–1872), помещика Старо-Оскольского уезда Курской губернии, воспетого правнуком героя Наполеоновских войн: «Мой прадед был ранен под Аустерлицем / И замертво в лес унесён денщиком, / Чтоб долгие, долгие годы томиться / В унылом и бедном поместье своём». Героические родовые предания Милюковых, Львовых и Викторовых Анна Ивановна рассказывала сыну, пробуждая в нем чувство патриотической воинской гордости.
3 Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 63.
4 Это имя восходит к формуле единобожия в Ветхом Завете – «'elohey Иаё1бИот», «Бог богов» [Втор. 10: 17].
5 Оцуп Н. А. Николай Гумилев: жизнь и творчество. СПб., 1995. С. 88–89.
6 Вагин Е. Поэтическая судьба и миропереживание Н. Гумилева // Беседа (Париж). 1986. № 4; цит. по: Николай Гумилев: pro et contra. СПб., 1995. С. 599.
7 Свт. Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. М., 1997. С. 32.
8 Митрополит Иоанн (Снычев). Как подготовиться и провести Великий Пост. Как жить в современном бездуховном мире. М., 1997. С. 25–26.
9 Там же. С. 21–23.
10 Диакон Андрей Кураев. Оккультизм в Православии. М., 1998. С. 157.
11 Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 634–635.
12 Свт. Феофан Затворник. Тридцать третий псалом. М., 1997. С. 88–89.
13 См.: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. М., 1992. Т. 30. С. 125.
14 См.: Толстовский листок. Выпуск первый. М., 1991. С. 31.
15 См.: Концевич И. М. Истоки душевной катастрофы Л. Н. Толстого // Духовная трагедия Льва Толстого. М., 1995. С. 39.
16 Мережковский Д. С. В обезьяньих лапах // Мережковский Д. С. В тихом омуте. М., 1991. С. 38.
17 Соловьев В. С. Три разговора // Соловьев В. С. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 740.
18 Священник Дмитрий Дудко. Литургия на русской земле. М., 1993. С. 123–132.
19 Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 417–418.
20 Иванов Г. В. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 550.
21 Огицкий Д. П., священник Максим Козлов. Православие и Западное Христианство. М., 1995. С. 11.
22 См.: Свт. Феофан Затворник. О православии с предостережениями против него. М., 1991. С. 18.
23 Диакон Андрей Кураев. Вызов экуменизма. М., 1997. С. 35.
24 Огицкий Д. П., священник Максим Козлов. Указ. соч. С. 27.
25 См. об этом богословско-филологическом дискурсе: Протоиерей Стефан Остроумов. Мысли о Святых Тайнах. СПб., 1998. С. 72–81.
26 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 868.
27 Огицкий Д. П., священник Максим Козлов. Указ. соч. С. 166.
Христианство Осипа Мандельштама Ю.В.Зобнин
Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938), иудей по природному вероисповеданию, 14 мая 1911 года крестился в г. Выборге, в местном приходе Методистской епископской церкви в Финляндии. Крещению предшествовал духовный и культурный конфликт с иудаизмом, начавшийся, по-видимому, уже в раннем отрочестве. В цикле автобиографических очерков «Шум времени» он пишет о пугавшем и тяготившем его «хаосе иудейском», столь непохожем на классическую парадную стройность имперской столицы, куда будущий поэт попал двух лет от роду:
«Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских. И это пахнет не только кухня, но люди, вещи и одежда. До сих пор помню, как меня обдало этим приторным еврейским запахом в деревянном доме на Ключевой улице, в немецкой Риге, у дедушки и бабушки. Уже отцовский домашний кабинет был непохож на гранитный рай моих стройных прогулок, уже он уводил в чужой мир, а смесь его обстановки, подбор предметов соединялись в моем сознании крепкой вязкой».
Аркадий Львов (А. Л. Бинштейн) в эссе о духовном пути Мандельштама писал, что стихийно возникший в юном петербуржце «русский империализм», трансформировался, по мере взросления в осознанное разрушительное стремление истребить в себе еврейство, которое ассоциировалось с конфликтами родителей, «с кухонным чадом, с кожами, шнурками, опойками отца, с еврейскими гроссбухами, с постоянным страхом разорения»1. По свидетельству младшего брата, уже в школьные годы вся жизнь будущего поэта «по существу, проходила вне семьи и оставалась неизвестной домашним»2. В итоге, времена юношеского бунтарства протекали у Мандельштама очень причудливо, в болезненных метаниях от народнического экстремизма социалистов-революционеров к декадентству, символизму и эстетизму:
Я вижу месяц бездыханный И небо мертвенней холста; Твой мир, болезненный и странный, Я принимаю, пустота. («Слух чуткий парус напрягает…»)Переломным этапом в исканиях молодого поэта стала встреча с секретарём Религиозно-философского общества, педагогом и публицистом Сергеем Платоновичем Каблуковым (1881–1919), с которым Мандельштам подружился летом 1910 года в финском курортном Ганге (Гангут, Ханко). Глубокий знаток литургики и церковной музыки, Каблуков поразил нового знакомца «огнём духовной красоты», а их беседы, продолженные осенью в Петербурге и воспетые Мандельштамом в цикле стихов о христианстве, сыграли важную роль в его религиозном самоопределении:
В изголовье черное распятие, В сердце жир и в мыслях пустота — И ложится тонкое проклятье — Пыльный след – на дерево креста. Ах, зачем на стеклах сон морозный Так похож на мозаичный сон! Ах, зачем молчанья голос грозный Безнадежной негой растворен! И слова евангельской латыни Прозвучали, как морской прибой; И волной нахлынувшей святыни Поднят был корабль безумный мой. Нет, не парус, распятый и серый, С неизбежностью меня влечет — Страшен мне «подводный камень веры», Роковой ее круговорот. («В изголовье черное распятье…». Петербург. Ноябрь 1910).Как видно из стихотворений 1910–1911 гг., переход от иудаизма к исповеданию религии Нового Завета был для Мандельштама долгим и мучительным духовным трудом: «Я не хочу моих святынь, / Мои обеты я нарушу: / И мне переполняет душу / Неизъяснимая полынь» («Когда укор колоколов…»). Его глубоко занимают размышления о содержании христианской проповеди, о храмовой символике, о личности и земной миссии Спасителя («Неумолимые слова… / Окаменела Иудея, / И, с каждым мигом тяжелея, / Его поникла голова. // Стояли воины кругом / На страже стынущего тела; / Как венчик, голова висела / На стебле тонком и чужом («Неумолимые слова…»)). Несомненно, что поэт шел к христианству сознательно, свидетельством чему является и сам выбор конфессии, неожиданной в общем отечественном духовном и культурном контексте3, но близкой тому литературному «акмеистическому» перевороту, который в жизни Мандельштама практически совпадаете выборгским крещением4.
Явление методизма стало одним из центральных событий «евангелического возрождения» в Англии на рубеже XVI–XVI11 вв. К этому времени англиканство, окончательно утвердившись как государственная религия, за внешним блестящим расцветом скрывало углубляющийся год от году конфликт между духовенством и той «неудачной» частью паствы, которая, с точки зрения принятого т. н. «высокой» англиканской церковью5 догмата о предопределении, обнаруживала признаки роковой духовной «погибели»6. Это была многочисленная городская и деревенская беднота, лишенная, подчас, вовсе духовного окормления7. Стаким опасным положением не мирились активные представители крепнущего английского «среднего класса», тяготеющие к нонконформизму. Они создавали «неформальные» общественно-религиозные сообщества, где благотворительность сочеталась с массовой евангелической проповедью «вне церковных стен» (camp meetings). Руководителем одного из таких сообществ и был основатель методизма, оксфордский священник Джон Уэсли (Веслей, Wesley, 1703–1791)8.
В отличие от большинства оксфордских проповедников Уэсли склонялся к «арминианству»9 и был уверен, что путь к спасению открыт для каждого человеческого существа. Более того, по его убеждению, развитому позже в самостоятельную богословскую систему, милосердный Господь периодически сообщает каждому христианину – вне зависимости от его «заслуг» – некий мощный энергетический импульс, дающий силу для перемены жизни к лучшему. Эту «предваряющую благодать» Уэсли полагал непосредственным действием Св. Духа и считал его проявлением внезапные приступы религиозного энтузиазма у своих слушателей, их публичные исповедания грехов и массовое ликование, иногда переходящее во время camp meetings в настоящую глоссолалию10. Однако, в отличие от проповедников харизматических сект, Уэсли видел в «предваряющей благодати» лишь побуждение к позитивному личному действию, которое может затем осуществить сам получатель «даров Св. Духа». Вне этого самостоятельного жизненного преображения харизматическая мистика в глазах Уэсли не имела смысла11. Поэтому одним из главных элементов благочестия в ранних методистских общинах, весьма распространившихся во второй половине XVIII столетия по Великобритании и ее колониям в Новом Свете, стала активная социализация вчерашних бедняков-люмпенов и строгое следование базовым установкам бытовой культуры и личной гигиены («Пусть никогда и никто не увидит оборванного методиста!»). На традиционных евангелических собраниях методисты-неофиты по разработанным Уэсли (разумеется, с опорой на Св. Писание) указаниям учились «не употреблять никакого алкогольного напитка, кроме предписанного врачом», «быть честным во всем при покупке или продаже», «не сдавать вещи в ломбард», «быть примером в старании и бережливости» и т. д.12 Можно сказать, что в восприятии основателя методизма «евангелическое возрождение» представало, своего рода, мистической культурной революцией, чудесным превращением под действием Св. Духа хулигана-матроса из Ист-Энда и бристольского шахтёра-драчуна в примерного трезвого семьянина, прилежного налогоплательщика, рачительного хозяина.
Разумеется, в «мистическом культуртрегерстве» Уэсли можно найти забавные черты, однако в контексте эпохи именно эта сторона деятельности Уэсли имела огромное значение. Бытует даже мнение, что ему удалось предотвратить в Англии неминуемый социальный взрыв, заблаговременно привив местным «санкюлотам» вкус к духовным и бытовым ценностям трезвой и законопослушной честной бедности, которая, по мере укрепления общественного благосостояния, без особых бурь и потрясений эволюционировала в общее скромное обаяние английского среднего класса. «В Оксфордском университете помнят своих знаменитых студентов и преподавателей, посвятив им отдельную портретную галерею. Экскурсовод, проходя мимо одного из портретов, не преминет отметить: "Проповеди этого человека спасли Англию от кровавой революции, похожую на французскую!" Имя этому человеку-Джон Уэсли»13.
В XIX веке центр методистского движения, ставшего интернациональным, переместился в недавно образованные США, так что историю возникновения первых методистских общин в Российской Империи следует рассматривать в контексте американо-русских религиозных связей. Посредниками выступили шведские проповедники К. Линдборг и Б. Карлсон. В 1880-х гг. они духовно окормляли небольшие группы единоверцев (в основном также шведских выходцев) в Николайстаде (Вааса), Гельсингфорсе (Хельсинки), Або (Турку) и Экенесе. Несколько методистских семей укоренились и в Петербурге. В 1892 г. деятельность Методистской Епископальной Церкви была официально разрешена в пределах Великого княжества Финляндского, и встал вопрос о признании методизма в метрополии14. Как раз в это время в Гельсингфорс прибыл из Швеции пастор Нильс Рузен15, с чьим именем тесно связана эпоха «sturm und drang» в истории российского методизма. Это был талантливый проповедник и незаурядный организатор, сплотивший шведско-финско-русские методистские общины в Гельсингфорсе и (с 1904 г.) Выборге16. Именно Рузен и крестил – в выборгской методистской молельне на Торккелинкату, 7 или в Тиилирууки, в часовне на Вилхонкату, 717-двадцатилетнего Осипа Мандельштама.
Финляндия была главной «дачной местностью» детства и юности Мандельштама, причём одним из важнейших пунктов являлся тут именно Выборг, «упрямый и хитрый городок, с кофейными мельницами, качалками, гарусными шерстяными ковриками и библейскими стихами в изголовье каждой постели» («Шум времени»). Из «Воспоминаний» Е. Э. Мандельштама следует, что старший брат провел тут несколько месяцев в 1908–1909 гг., посещал достопримечательности, был завсегдатаем курзалов и кафе, где собиралась молодежь, и даже имел «нешуточный» роман с одной из дочерей выборгского коммерсанта Исаака Кушакова18. С большой долей вероятности можно предположить, что тогда и возникло знакомство поэта с подопечными пастора Рузеном – методистская община играла заметную роль в местной культурной жизни. Что же касается крещения, то Евгений Мандельштам был уверен, что его брат, принимая в 1911 году христианство, руководствовался скорее соображениями меркантильными, нежели духовными:
Осип решил поступить на историко-филологический факультет Петербургского университета – в то время одного из лучших в России по составу профессоров. Но для поступления надо было преодолеть одно препятствие: аттестат зрелости у брата был неважный, и все ограничения для принятия евреев в высшие учебные заведения распространялись и на него. Это фактически лишало его возможности попасть в университет. Пришлось думать о крещении. Оно снимало все ограничения, так как в царской России евреи подвергались гонениям, прежде всего, как иноверцы. Мать по этому поводу не слишком огорчалась, но для отца крещение Осипа было серьёзным переживанием. Процедура перемены веры происходила просто и сводилась к перемене документов и уплате небольшой суммы19.
О том, что весь предшествующий год в жизни поэта был заполнен размышлениями и стихами о христианстве, тут, к сожалению, не упоминается20. Между тем, бессознательное равнодушие или тем более кощунство (а в принятии крещения для проформы есть, несомненно, и то, и другое) совершенно несвойственно религиозному облику Мандельштама. Очевидно, что, обращаясь к выборгским методистам с просьбой совершить над ним таинство крещения, он предварительно что-то у них увидел, услышал или прочитал, что его чрезвычайно заинтересовало, поразило, душевно потрясло. К тому же пастор Рузен просто не имел права совершать крещение без «огласительных» бесед. И вот здесь возникает, пожалуй, самый любопытный в истории крещения Мандельштама литературный мотив.
При катехизации русскоязычных неофитов шведские и американские проповедники-методисты, помимо услуг переводчиков из числа прихожан, активно прибегали к помощи печатных изданий. С официальным признанием в 1909 г. Петербургской Методистской Епископальной Церкви и возникновением в мировом методистском движении Русского округа (его суперинтендантом стал американский миссионер доктор Джордж А. Симонс) была налажена издательская деятельность, соответствующая пестрому национальному составу формирующихся общин21. В частности, на русском языке был издан методистский «Канонический катехизис», появился ряд назидательных брошюр, и, главное, – было открыто издание массового ежемесячника «Христианский поборник», который направлялся во все действующие приходы Русского округа22. С высокой долей вероятности можно предположить, что весенние номера «Поборника» за 1911 г. побывали в руках вступающего в Методистскую Церковь Осипа Мандельштама – по крайней мере, с майским (пятым) номером он был знаком наверняка.
Этот номер открывался проповедью епископа Вильяма Бурта «Христос единственная основа», произнесенной в январе того же 1911 г. при освящении только что построенного в Ковно (Каунасе) нового храма – событии очень громком в кругах «русских» методистов. Снабженная новозаветным эпиграфом «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос [1 Кор. 3: 11]» эта весьма пространная (и, надо признать, блестящая) речь занимала около трети журнальной книжки. Сообразно событию, еп. В. Бурт избрал для проповеди самую «архитектурную» из притч Спасителя: «Всякий, приходящий ко Мне, и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение, и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое» [Лук. 6: 47–48]. Соответственно и сама проповедь оказалась проникнута «архитектурной» образностью:
Первое, что требуется для сооружения какого-нибудь здания, – это его основание, и каким оно должно быть широким, твёрдым и глубоким, показывает величина и важность сооружаемого здания. Люди, воздвигающие дома, дворцы, храмы или памятники, должны сперва позаботиться об их основании, и каких бы затрат основание ни стоило, но оно должно быть прочным и надёжным. Строения, воздвигнутые на песчаной или болотистой почве – не надёжны. Строители пирамид были мудрыми людьми не только потому, что выбирали строительным материалом гранит, но и потому, что выбирали твёрдую почву – скалу, на которой они могли строить. При постройке большого Миссисипского моста в С.-Луи первые камни были положены на 106 футов ниже поверхности реки. Я хорошо помню, когда строили Бруклинский мост. Месяцами работали глубоко под действительным дном реки и для твёрдого основания были употреблены огромные куски гранита. Первые камни основания нашего здания методистской миссии в Риме лежат на глубине более 50 футов от поверхности улицы и почти одна треть стоимости строения зарыта и невидима. Если бы кто сказал архитекторам того здания, что нет надобности так много тратить на основание, лишь бы удалась бы вполне красивая верхняя часть его, то те ответили бы: «Мы знаем, что прочность и долговечность строения зависит от прочности основания».
И далее:
Богочеловечество, жизнь, смерть и воскресение Христа есть главные события в нашей религии. Вполне достаточно было бы сказать, что Сам Христос есть сущность и главное содержание христианства. В этом отношении христианство отличается от всякой другой религии. Оно неразрушимо от Творца и Основателя. Всё, что есть в христианстве, от Него. Он начало и объяснение христианства. Ему верить, Его любить, Ему служить, для Него жить, и если нужно самому для Него умереть, это обязанность и преимущество христианина. Под всем тем, что только человек построит, должен быть тот Камень Божий.
Несколько времени тому назад один англичанин твёрдо решил построить дом внутри стен старого города Иерусалима и именно на камне времен Давида. Пятьдесят футов в глубь, сквозь накопившиеся развалины, должен был он рыть, пока не достиг твёрдого камня. Когда пришлось рыть почву для основания нашего здания Миссии в Риме, то пришлось 55 фут. в глубину раскапывать развалины одной римской церкви, одного монастыря, одного языческого храма, пока мы не достигли твёрдой земли.
Кто сегодня хочет строить на твёрдом основании, должен рыть сквозь столетия накопившиеся наносы, мусор, сквозь суеверия, предания, церемонии, предрассудки пока не достигнет надёжного камня, избранного Самим Богом, т. е. Иисуса Христа!23
Как известно, именно образ «камня» как некоей прочной основы, лежащей в основании поэтического творчества, стал своеобразной эмблемой «акмеистического бунта» Мандельштама против символизма. И свою первую книгу стихов, вышедшую в 1913 году в издательстве «Акме», он назвал «Камнем». В качестве литературных источников этого образа сам поэт в акмеистическом манифесте «Утро акмеизма» (1912) указывал на стихотворения Вл. Соловьева и Ф. Тютчева:
Владимир Соловьев испытывал особый пророческий ужас перед седыми финскими валунами. Немое красноречие гранитной глыбы волновало его, как злое колдовство. Но камень Тютчева, что, «с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой или низвергнут мыслящей рукой», – есть слово. Голос материи в этом неожиданном паденьи звучит как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания.
Однако христианский смысл этой символики, безусловно, восходит в творчестве Мандельштама-акмеиста к содержанию проповеди епископа Бурта, усвоенной Мандельштамом-методистом в дни крещения. Более того, с проповедью Бурта поэтически перекликаются и два программных акмеистических стихотворения Мандельштама этого времени – «Айя-София» и «Notre Dame» – открывающиеся оба одинаковым «архитектурным» контрастным сопоставлением легкости устремлённых в небеса сводов великих соборов и каменной несокрушимости их опор:
Айя-София – здесь остановиться Судил Господь народам и царям! Ведь купол твой, по слову очевидца, Как на цепи, подвешен к небесам. И всем векам – пример Юстиниана, Когда похитить для чужих богов Позволила эфесская Диана Сто семь зеленых мраморных столбов. («Айя-София») Где римский судия судил чужой народ, Стоит базилика, – и, радостный и первый, Как некогда Адам, распластывая нервы, Играет мышцами крестовый легкий свод. Но выдает себя снаружи тайный план: Здесь позаботилась подпружных арок сила, Чтоб масса грузная стены не сокрушила, И свода дерзкого бездействует таран. («Notre Dame»)В целом, указанные «религиозно-литературные» переклички наглядно показывают, что смена вероисповедания и перемена творческой позиции явились для Мандельштама единым духовным процессом, уложившимся в несколько месяцев (с марта по ноябрь) 1911 года. Можно, потому, сказать, что его акмеизм – это эстетическое выражение обретенного христианства – таким, как оно предстало поэту в методистской проповеди.
На последнее нужно обратить особое внимание. В ходе усвоения методистских «дисциплины и учения» Мандельштам-художник творчески перерабатывал оригинальные «веслиянские» вероучительные установки. Свидетельством тому является его статья «Слово и культура», второй (после «Утра акмеизма») творческий манифест, созданный в трагическом 1922 году, когда петербургские и московские интеллигенты в хаосе революционных катаклизмов ощущали себя причастниками некоего «старого мира»:
Да, старый мир – «не от мира сего», но он жив более чем когда-либо. Культура стала церковью. Произошло отделение церкви-культуры от государства. Светская жизнь нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеяние. Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье. Воду в глиняных кувшинах пьем как вино, а солнцу больше нравится в монастырской столовой, чем в ресторане. Яблоки, хлеб, картофель – отныне утоляют не только физический, но и духовный голод. Христианин, а теперь всякий культурный человек – христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово плоть и простой хлеб – веселье и тайна.
Ключевые для этого абзаца (и для статьи в целом) формулы – «Культура стала церковью» и «всякий культурный человек – христианин» – по сути именно «веслиянские». В духе сотериологии методизма начертана и вся мандельштамовская программа существования «культурного человека/христианина» в среде советского неоязычества: он проповедует ценности культуры/христианства, в надежде, что его вера «победит мир» и, поддержанная свидетельством Св. Духа, чудесным образом преобразует окружающий его языческий, кровавый и тёмный советский хаос. Показательно, что кульминация этой духовной работы «друзей слова» (поэтов / культурных людей / христиан) изображена, как и следует с точки зрения методиста-веслиянца, в образе глоссолалии:
Ныне происходит как бы явление глоссолалии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур. Нет ничего невозможного.
«В глоссолалии, – замечает Мандельштам, – самое поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно неизвестном языке. И всем, и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски. Нечто совершенно обратное эрудиции». В «Слове и культуре» это замечание звучит как свидетельство очевидца, либо созерцавшего случаи глоссолалии во время полугодового (с марта по август 1911 года) нахождения в качестве «испытуемого», а затем и «полноправного сочлена» в выборгской методистской общине, либо непосредственно пережившего «свидетельство Духа». Впрочем, тут начинается уже область догадок. Известно только, что Мандельштам пробыл в Выборге всё лето до сентября и, очевидно, посещал приходские собрания у пастора Рузена. На этом имеющаяся на настоящий момент информация об общении поэта с методистами исчерпывается.
Но мы знаем точно, что, крестившись в мае 1911 г., Мандельштам баллотируется в ноябре в недавно возникший «Цех поэтов». На заседаниях «Цеха» начинает складываться эстетическая программа акмеизма – искусства, имеющего духовную основу в традиционном понимании христианства. По крайней мере, именно так («Поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты. И та, и другая требуют от человека духовной работы»24) понимали свой конфликт с символистами Николай Гумилёв и Анна Ахматова; Мандельштам был с ними вполне солидарен. «Символисты, все до единого, были под влиянием Шопенгауэра и Ницше и либо отказывались от христианства, либо пытались реформировать его собственными силами, делая прививки античности, язычества, национальных перунов или доморощенных изобретений, – писала Н. Я. Мандельштам. – <…> Три акмеиста начисто отказались от какого бы то ни было пересмотра христианства. Христианство Гумилёва и Ахматовой было традиционным и церковным, у Мандельштама оно лежало в основе миропонимания, но носило скорее философский, чем бытовой характер»25.
Свидетельство жены поэта относится к «советскому» периоду, когда российские методисты стремительно теряли влияние и в конце 1920-х гг. были полностью вытеснены из пределов СССР-так что обнаружить свою конфессиональную принадлежность на «бытовом» уровне Мандельштам просто не имел возможности за отсутствием приходов и прихожан. Однако произведения, созданные Мандельштамом в «акмеистические» годы, непреложно свидетельствуют, что «выборгское крещение» явилось для него богатым и постоянным источником эстетических переживаний:
Вот неподвижная земля, и вместе с ней Я христианства пью холодный горный воздух, Крутое «Верую» и псалмопевца роздых, Ключи и рубища апостольских церквей. («В хрустальном омуте какая крутизна!…»)Достаточно упомянуть о возникновении в творчестве Мандельштама такой специфической «акмеистской» темы как тема храмовой молитвы в её конкретной конфессиональной содержательности. Причём, как у Гумилева подобная тематика решалась в плане своеобразного лирического «сравнительного богословия», обращающегося к особенностям богослужения и молитвы у католиков («Падуанский собор»), протестантов («Евангелическая церковь») и, наконец, православных («Пятистопные ямбы», «Заблудившийся травмвай»), так и у Мандельштама собственный (протестантский) молитвенный опыт («Бах», «Лютеранин») провоцирует эстетическое переживание особенностей православного и католического богослужений:
Вот дароносица, как солнце золотое, Повисла в воздухе – великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык: Взят в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужения торжественный зенит, Свет в круглой храмине под куполом в июле, Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули О луговине той, где время не бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится — Все причащаются, играют и поют, И на виду у всех божественный сосуд Неисчерпаемым веселием струится. («Вот дароносица, как солнце золотое…»)«Поразительно, – пишет Н. А. Струве о „литургическом богословии“ акмеизма, – как Мандельштаму удалось схватить сущность христианского таинства, сущность самого христианства, не уклоняясь, как Блок (см. „Девушка пела в церковном хоре“) в психологизм или сентиментальность. Поразительна смелость того, кто первый в русской поэзии дерзнул в стихах писать о том, что казалось доступным одним мистикам и богословам»26.
Возможно, несколько преувеличенное в своём риторическом пафосе, замечание это по существу верно. Творчество Мандельштама, действительно, представляет собой уникальное в «большой» русской литературе протестантское художественное мировосприятие. Если акмеизм Гумилёва и Ахматовой делает из них «поэтов православия», то Мандельштам в акмеистическом триумвирате видится «поэтом русского протестантизма»:
«Здесь я стою – я не могу иначе»: Не просветлеет темная гора — И кряжистого Лютера незрячий Витает дух над куполом Петра. («Здесь я стою – я не могу иначе…»)Примечания
1 Львов А. Жёлтое и чёрное // Наш Современник. 1994. № 2. С. 133–171. Цит. по [Электронный ресурс] http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Lvov_Mandel.htnn (дата обращения 19.04.2015)).
2 Мандельштам Е. Э. Воспоминания / Публ. Е. П. Зенкевич. Предислов. А. Г. Меца // Новый мир. 1995. № 10. С. 119–178 Цит. по [Электронный ресурс] . russ.ru/novyi_mi/1995/10/mandel.html (дата обращения 19.04.2015)).
3 Методистская церковь насчитывает в наши дни до 75 000 000 прихожан в 130 странах мира (см. Cracknell К., White S.-J. An Introduction to World Methodism. -Cambridge, 2005. P. II). Однако эта «англиканская» версия протестантизма, действительно, была нехарактерна для России, где протестанты с XVII века отождествлялись преимущественно с немецким лютеранством. К тому же, если в Англиканском сообществе методисты, отвергающие догмат о предопределении, не принимались из-за близости к «восточным ортодоксам», то православным они, тем более, виделись сектантами из-за харизматических практик, усвоенных от «западных модернистов». Что же касается собственно харизматических сект (баптистов, пятидесятников и близких им отечественных хлыстов, молокан, духоборов и т. п.), то и те, в свою очередь, также расходились с Методистской церковью, куда более мистически осторожной и осмотрительной, чем экстатические поклонники «даров Св. Духа».
4 Мандельштам разорвал с символизмом и вступил в «Цех поэтов» Гумилева и Городецкого почти сразу по возвращении из Выборга, где он провел весну и лето 1911 г. «1911. 20 ноября. У М. Л. Лозинского состоялось четвертое заседание Цеха поэтов. <…> В этом (или 3-м) заседании в члены Цеха поэтов выбран О. Э. Мандельштам» (Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гумилёва СПб., 2010. С. 263].
5 С XVI века в англиканстве утвердились как «высокое» понимание церкви, сторонники которого настаивали на строгом следовании внешней обрядности (в частности – внимании к церковным облачениям, традициям архитектуры, музыки и т. д.), так и «низкое», стремящееся упростить ритуальную часть богослужения.
6 В реформаторских кругах эта доктрина «двойного предопределения» была утверждена Ж. Кальвином: «Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он определил, как желает поступить с каждым человеком. Не все люди созданы в равных условиях, но Бог предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни». Разумеется, Кальвин был далеко не первым западным богословом, отстаивающим вопрос «двойного предопределения», поднятый еще Блаженным Августином и возникающий, так или иначе у Фомы Аквинского, Томаса Брадвардина и, наконец, Мартина Лютера. Но именно проповедь Кальвина популяризировала эту идею среди реформаторских кругов, и, в частности, среди становящейся англиканской версии протестантизма (см.: Синнем Д. Взгляд Кальвина на лишение спасения. [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения 19.04.2015)).
7 См.: Тревельян Дж. М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001. Цит. по [Электронный ресурс] (дата обращения 19.04.2015).
8 Традиционно этимологию понятия «методизм» выводят из стремления участников оксфордского «Святого клуба» братьев Джона и Чарльза Уэсли чрезмерно строго организовать распорядок дня как для работы и досуга, так и для добрых дел и совместной молитвы. «Эти благочестивые юноши считали своей обязанностью ежедневно вставать в четыре часа утра. Два часа они проводили за пением псалмов и духовных песен, а по вечерам читали классиков и Новый Завет. Жизнь они вели самую строгую и аскетическую, неизменно соблюдая посты. Позже они перешли к благотворительным делам: посещали заключённых в тюрьмах, бедных в больницах, давали уроки приютским детям. На фоне чрезвычайной распущенности тогдашней университетской молодёжи кружок братьев Уэсли казался чем-то из ряда вон выходящим. Его члены вскоре получили насмешливое прозвище „методистов“ (за свою привычку методично распределять время между разного рода занятиями и благочестивыми упражнениями), которое и осталось за ними навсегда» (Рыжов К. Джон Уэсли и методисты [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения 19.04.2015)).
9 «Арминианами» в протестантском богословии именовали сторонников свободы человеческой воли в деле спасения (по имени голландского богослова Якоба Арминия (Arminius, наст, фамилия Германзен, 1560–1609).
10 «Наиболее эффектной чертой современного харизматического движения, охватывающего протестантскую и католическую церковь, является так называемое „говорение на языках“ – глоссолалия. В изданной не так давно под редакцией Ф. Р. Гудман солидной „Энциклопедии религий“ глоссолалия определяется как практика „необычного речевого поведения, которое в многочисленных религиозных обществах постулируется как ритуально-религиозное“. Глоссолалия наблюдалась и описывалась широким рядом исследователей – лингвистов, психологов и теологов. Они свидетельствуют, что в момент так называемого „крещения в Духе“, когда члены харизматической общины возлагают на неофита руки, молясь о ниспослании ему „даров Святого Духа“, он вдруг начинает произносить членораздельные, но бессмысленные звуки. Это явление не сводится исключительно к моменту крещения – харизматики и позже продолжают „молиться на языках“. Богослужение у харизматиков проходит почти всегда с глоссолалией. Вначале происходит „драйвинг“ – лидер конгрегации вводит аудиторию в состояние напряжения. Затем его проповедь начинает прерываться спонтанными выкриками, происходит пение гимнов, обычно с ритмическими припевами, сопровождающееся прихлопыванием в такт ладонями. Затем следует громкая молитва о нисхождении Святого Духа, в зале возникает состояние транса, сопровождающееся выкриками псевдо-речевых конструкций» (Сараиоева Э. А. Глоссолалия как психолингвистический феномен [Электронный ресурс]. URL: #Tl (дата обращения 19.04.2015)).
11 Уэсли старался развести «свидетельство Духа» и «голос своего собственного воображения», который «фанатики в наихудшем смысле этого слова» «ошибочно приняли за голос Духа Божьего, и, следовательно, предположили, что являются детьми Божьими в то время, как делали угодное диаволу» («Свидетельство Духа», см.: Уэсли Дж. Избранные проповеди. Киев, 2000 [Электронный ресурс]. URL: / www_eetr.nsf/0/8D198D513079BB2A8025748700475BDB/$file/Wesley's%20sermons%20 (Russian). pdf (дата обращения 19.04.2015).
12 Там же, см. раздел «Правила методистских домашних групп».
13 Гололоб Г. А. Джон Уэсли как убежденный последователь Якоба Арминия [Электронный ресурс]. URL: .сот/2012/12/07/ (дата обращения 19.04.2015)). Подробно об этом см.: Зобнин Ю. В. Мандельштам и методисты // История и культура. Вып. 13 (13). СПб., 2015. С. 173–183.
14 См.: Терюкова Е. А. Из истории возникновения методизма в России: русская община епископальных методистов в Гельсингфорсе в начале XX века // Санкт-Петербург и Страны Северной Европы: Материалы ежегод. науч. конференции (25–26 апреля 2001 г.). СПб.: РХГИ, 2002. С. 215–223.
15 Во всех публикациях и исследованиях, посвящённых Мандельштаму, этот важный в биографии поэта персонаж именуется «Нильсом Розеном», тогда как в выпусках журнала «Христианский поборник» за 1910–1911 гг. он выступает как Н. И. Рузен (см., напр., фотопортрет с подписью (Христианский поборник. 1910. № 8 (20). С. 66).
16 Из отчёта Н. Рузена на методистской Конференции в 1910 г. явствовало, что выборгский методистский приход состоял из 29 полноправных прихожан и 18 испытуемых неофитов, планировал открыть на будущий год русскую воскресную школу, имел под своим началом «Женское общество вспомоществования» из 75 участниц, «Юношеский союз» (25 членов) и «Юношескую Лигу» (45 членов) (см.: Христианский поборник. 1910. № 8 (20). С. 65). К этому времени уже год как действовала Петербургская Методистская Епископальная Церковь и среди прочих методистских «округов» возник «Русский округ», суперинтендантом которого был назначен американский миссионер д-р Джордж А. Симонс. Воскресные службы методистов велись на шести языках (русском, немецком, английском, шведском, финском и эстонском), массовым тиражом издавался журнал «Христианский поборник», вышли методистский «Канонический катехизис» и первые русскоязычные просветительские книги и брошюры. В самой имперской столице община методистов насчитывала 500 членов и проводила собрания в собственном молельном доме, устроенном на 10-й Линии Васильевского острова, 37.
17 См.: Коробова Т. А. Осип Мандельштам и Финляндия [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения 19.04.2015).
18 См.: Мандельштам Е. Э. Воспоминания / Публ. Е. П. Зенкевич. Предислов. А. Г. Меца // Новый мир. 1995. N2 10. С. 119–178. Цит. по [Электронный ресурс]. URL: .
19 Там же.
20 Е. Э. Мандельштам (1898–1979), как и старший брат, окончил Тенишевское училище, был курсантом Михайловского артиллерийского училища, затем учился в Петроградском медицинском институте. Помимо врачебной практики, был кинодраматургом. Его первой женой была Н. Д. Дармолатова (18957-1922), сестра яркой поэтессы позднего серебряного века и выдающейся переводчицы Анны Радловой. У брата в доме Дармолатовых (Васильевский остров, 8 линия, д. 31, кв. 5; установлена мемориальная доска) Осип Мандельштам гостил, наезжая из Москвы в Ленинград. «Воспоминания» Е. Э. Мандельштама являются основным источником информации о ранних годах поэта. Однако у Н. Я. Мандельштам имеется весьма резкая характеристика будущего мемуариста: «С братом у него никаких отношений не было. Прилитературный делец, он забросил медицину ради более выгодной работы около писательских организаций – сбора гонораров для драматургов Литфонда и тому подобных дел, а под конец жизни стал кинематографистом. Он никогда в жизни ничем не помог О. М. <…> Зато последние годы он чтит память О. М. <…> Это обыкновенный человек коммерческого склада, который добился в жизни всего, о чем мечтал: благополучия, денег, машины и даже киноаппарата для развлечений в часы досуга» (Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Париж, 1982. С. 327–328).
21 Воскресные службы в «Русском округе», как было зафиксировано в отчетных документах за первый год его существования, велись на шести языках – русском, немецком, английском, шведском, финском и эстонском. В самой имперской столице община методистов насчитывала 500 членов и проводила собрания в собственном молельном доме, устроенном на 10-й Линии Васильевского острова, 37.
22 С начала издания в 1909 г. по 1913 г. журнал «Христианский поборник» именовался «Русским органом Методистской Епископской Церкви» и, ввиду малочисленности русских прихожан и иноязычности большинства пастырей, имел просветительский и катехизаторский отделы в качестве основных. Тут печатались очерки «Методисты, кто они и чего хотят», рассказы о Дж. Уэсли и его родных и друзьях, переводные отрывки из работ Уэсли и других методистских проповедников и т. д. Помимо того, журнал печатал популярные исторические статьи – об Александре II, Ливингстоне и др., изречения знаменитых людей, путевые заметки, беллетристику и даже (увы, весьма слабую в художественном отношении) поэзию.
23 Бурт В., еп. Христос единственная основа // Христианский поборник. 1910. № 5. С. 33–34 (выделено везде мной – Ю. 3.).
24 Гумилев Н. С. Читатель // Гумилев Н. С. Полное собрание соч. В 10 т. Т. 7. Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии. М., 2006. С. 235–240.
25 Мандельштам Н. Я. Вторая книга: Воспоминания. М., 1990. С. 42–43.
26 Струве Н. А. Осип Мандельштам. Томск, 1992. С. 103.
Апологет России. Духовный и творческий путь Максимилиана Волошина Ю. В. Зобнин
Младенцем Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) был крещен в православной Старо-Киевской Иоанно-Златоустовской (т. н. «Железной»)1 церкви. Однако домашнего православного воспитания он не получил (хотя киевская родня по отцу была «богомольной»2). Зимой 1879–1880 гг., вскоре после перевода А. М. Кириенко-Волошина из Киева в Таганрог, семья распалась3, и ребенка в одиночку растила мать, «интеллигентка либерального склада» (М. С. Волошина). «Моя мать, – писал Волошин, – и по типу, и по складу характера, принадлежала к поколению русских женщин 70-х годов и до старости сохранила этот тип, трагический, красивый, всегда у последней черты, всегда преступающий запретные границы…»4.
Как истинная «семидесятница» Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина превыше всего ставила личную свободу и независимость суждений, жила своим трудом, постоянно сожалея вслух, что не родилась мужчиной. Возник в ее жизни и обязательный в биографии «семидесятницы» гражданский брак с доктором П. П. фон Тешем, который и уговорил свою подругу приобрести с ним на паях в 1893 году дешевые земельные участки в совершенно «диком» тогда крымском Коктебеле. Здесь она принялась осваивать «дачный» business5. Одевалась по-татарски, в блузы и шаровары с сапожками, не меняя платье даже во время поездок из Крыма в столичные города6. На юного сына мать имела огромное влияние – недаром тот, повзрослев, именовал ее – Пра (т. е. «Праматерь-матриарх»)7.
В отличие от нигилистов-«шестидесятников», у которых «"религия" находила своеобразное выражение в воинствующем атеизме и аскетизме»8, либеральная интеллигенция 1870-х ориентировалась, большей частью, на парадоксально «христианизированный» революционный этос, выработанный в кругу народников, горячих патриотов и идеалистов. Тут помнили, что образ крестной жертвы Спасителя вдохновлял идущих на смерть юных террористов-фанатиков, а новозаветная морально-этическая проповедь «равенства и братства» являлась неким прообразом стихийного крестьянского социализма агитаторов, «ходивших в народ». От нигилистической критики христианства тут, потому, воздерживались. Однако единственно возможным для «просвещенного» и «научного» мировоззрения продолжал оставаться материализм, помещавший в границах от прежних испытанных учений Л. Бюхнера, Я. Молешотта и Д-Ф. Штрауса9 до новомодного позитивизма О. Конта10. Что же касается Православной церкви, то она (с обер-прокурором и Св. Синодом) виделась «семидесятникам» неким государственным «департаментом по делам религии» – и, большей частью, вообще выводилась за пределы духовных переживаний как «казенное ведомство»11.
Духовное воспитание Волошина (ребенка от природы очень впечатлительного и чуткого к «чудесному»), формировалось по «семидесятническим» лекалам. Разумеется, нигилистических кощунств в этой бытовой среде не было, но над простодушными молитвами маленького «Макса» тут посмеивались12, а домашний репетитор, студент Никандр Туркин (в будущем – «левый» журналист, близкий к социал-демократам), забавляясь, читал семилетнему Волошину некие «лекции по истории религии» (И)13. «Туркин вообще мудрил над ним, – вспоминала московская знакомая, – и со стороны казалось странным, что Елена Оттобальдовна ему это позволяла. Надо думать, что, с одной стороны, она была очень занята и не во все входила, а с другой, что оригинальность этих отношений ее забавляла, и ей любо было, что фокусы учителя выявляют необычайность способностей ученика. И потому она смотрела сквозь пальцы на непедагогичность таких приемов»14. В жизни самой Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной религиозная составляющая – по крайней мере, в ее традиционном православном виде – давно отсутствовала, «ей это совсем не нужно было» (М. С. Волошина).
Вслед за матерью нечувствительным к православному религиозному «официозу» становится в гимназические годы и юный Волошин. К тому же и батюшка, преподававший Закон Божий феодосийским гимназистам, не обладал, по видимому, педагогической хваткой и попросту махнул рукой на упрямого скептика, демонстративно изучавшего на уроках городские газеты и обращавшегося к духовному чтению лишь в случае крайней необходимости («Завтра сажусь за Закон Божий и погружаюсь в изучение его – бр…р…р…»15). Впрочем, выпускные экзамены Волошин сдал на «хорошо», так что говорить о его полном равнодушии к религиозным вопросам нельзя. Уже студентом юридического факультета Московского университета (1897) он делает дневниковую запись: «Религия это занавеска – иногда пёстрая и красивая, иногда грязная и ободранная, которою люди стараются скрыть от себя страшное неизвестное. Большинство боятся взглянуть прямо в эту неизвестную тьму, как дети, которые боятся заглянуть и войти в темную комнату»16. «Что есть истина? – гласит другая запись (1898). – Каждый понимает её по-своему, хотя все идут одним путем. Этот путь – познание, т. е. наука»17. Следует добавить, что своей жизненной миссией новоиспеченный студент-юрист полагал быть «народным вождем вроде Лассаля, Гарибальди или Кая Гракха»18, а его любимыми героями в истории были Софья Перовская и… Иисус Христос (как уже говорилось, такое сочетание вполне ожидаемо).
Слова не расходилисьс делами. Вуниверситете Волошин проявляет себя как активный «общественник» и «агитатор», за участие во Всероссийской студенческой забастовке (1899) попадает в ссылку, восстанавливается, вновь подвергается аресту за распространение нелегальной литературы (1900), проводит неделю в Басманной части и вновь высылается из Москвы «до особого распоряжения».
Один из друзей предлагает крамольному студенту переждать опалу вдалеке от столичных властей, и тот, не дожидаясь окончательного решения суда, отправляется в Среднюю Азию на изыскания трассы Оренбург-Ташкентской железной дороги. Тремя месяцами позже в Ташкент пришло известие об оставлении дела Волошина «без последствий», но в университет он не вернулся: «Полгода, проведенные в пустыне с караваном верблюдов, были решающим моментом моей духовной жизни. Здесь я почувствовал Азию, Восток, древность, относительность европейской культуры. <…> Сюда до меня дошли "Три разговора" и "Письмо о конце всемирной истории" Вл. Соловьева, здесь я прочел впервые Ницше. Но надо всем было ощущение пустыни – той широты и равновесия, которые обретает человеческая душа, возвращаясь на свою прародину» («Автобиография»).
В итоге былой материалист превратился в стихийного мистика «неоязыческого» толка, уверенного, вслед за Фалесом, что «все полно богов, демонов и душ»19. Но если в существовании сферы «неизвестного» (та циатпса) Волошин больше не сомневался, то исторические религии так и остались для него лишь предметом для эстетических и «культурологических» изысканий, т. е. не более чем «занавесками, скрывающими неизвестное». За первое десятилетие XX века (время, которое сам Волошин именовал эпохой духовных «блужданий») он менял религиозные пристрастия, действительно, как декорации в захватывающей театральной постановке:
С 1901 года я поселился в Париже. Мне довелось близко познакомиться с Хамбу-ламой Тибета, приезжавшим в Париж инкогнито, и прикоснуться, таким образом, к буддизму в его первоистоках. Это было моей первой религиозной ступенью. В 1902 году я так же близко соприкоснулся с католическим миром, во время моего пребывания в Риме, и осознал его как спинной хребет всей европейской культуры. Затем мне довелось пройти сквозь близкое знакомство с магией, оккультизмом, с франкмасонством, с теософией и, наконец, в 1905 году встретиться с Рудольфом Штейнером, человеком, которому я обязан больше, чем кому-либо, познанием самого себя («Автобиография»).
Этот сюжет с многолетним странствием Волошина по различным религиям, конфессиям и мистическим сектам – один из «ударных» у его биографов. Еще бы! Разумеется, эпоха (а это – самый «пик» серебряного века) была неспокойной, зыбкой, кризисной, провоцирующей к духовным поискам, так сказать, самим историческим развитием. Но, все-таки, успеть побывать за десятилетие с малым… буддистом, католиком, франкмасоном и теософом – несомненный рекорд, который, по крайней мере, среди знаковых персон отечественной словесности, кроме Волошина не удалось побить никому!
Очевидно, что легкости «блужданий» по взаимоисключающим религиозным мирам способствовал крайний индивидуализм мировосприятия – общая черта эпохи декадентства, в высшей степени присущая Волошину даже до его среднеазиатского «обращения»20. В разных религиозных доктринах он усваивал некоторые, близкие в настоящий момент установки и своевольно игнорировал все неприемлемое. Проще говоря, у него было «свое» католичество, «свой» буддизм, «свой» оккультизм, «своя» магия и т. д. Действуя так, можно, действительно, соединить в себе любые религиозные истины – с той лишь огрехой, что ни одна из них не будет раскрыта до конца. Но индивидуалистическое сознание и не стремится к «полной» истине, поскольку отрицает наличие каких-либо ценностей вне ценностных представлений их носителя. Безусловно положительным для индивидуалиста является лишь то, что укладывается в его собственную картину мира, никак не обнаруживая противоречия, т. е. не обнаруживая себя как «иное». Это стремление видеть вокруг лишь собственные «правила игры» воплощалось в контексте серебряного века в особую стратегию «жизнетворчества», которую ранний Волошин-декадент реализовал в полной мере. «…Он отказывался верить, – пишет Э. Соловьев, – во все виды отношений человека и общества – в отношения между „мной“ и „всеми ими“, „тобой“ и „всеми нами“. Каждая личность для него была равна всей Вселенной. А ко всему остальному, неличностному – будь то камень на берегу моря, лес, полуостров или же революция, история, отечество – он относился отчуждённо, по-игровому»21. Легко, потому, предположить, что Волошин, «"примерявший" в молодые годы все мировые религии, западные и восточные» (В. П. Купченко), относился к подобной «примерке» точно так же – «по-игровому». Провозгласив, что «игрою мир спасется»22, он мог легко превращаться в «буддиста» или «франкмасона» стой же убедительной для себя и окружающих достоверностью, с которой воплощал собственные фантазии в иных «жизнетворческих» мистификациях: открывая поэтическое дарование призрачной поэтессы Черубины де Габриак, принимая в кровную родню «по кавалерственной линии» сестер Цветаевых, переговариваясь с сожженными тамплиерами на Еврейском острове, испрашивая для сбора научных сведений об якобинском терроре личную аудиенцию у королевы Марии-Антуанетты (пребывающей ныне «в теле графини X») и т. п.23
В плане творческом вся эта фантастическая «метафизика», захватившая Волошина после пережитого в ташкентских песках мировоззренческого переворота, оказалась очень продуктивной. Как и для многих других деятелей серебряного века, движение к идеализму означало, среди прочего, перемену рода деятельности и профессиональное обращение к занятиям художественным творчеством. То понимание целей и задач искусства, которое усвоил Волошин в домашнем «семидесятническом» круге, катастрофически сужало его эстетический кругозор. «В первый раз попавши за границу 21 года от роду, – вспоминал он (речь идет о путешествии в Австрию, Швейцарию и Италию, совершенном Волошиным в компании матери, Павла Павловича и Евгении Павловны фон Теш в 1899–1900 г.), – я ходил по картинным галереям совершенным дикарем и наивно удивлялся: "Какую ерунду писали эти старые мастера, то ли дело наша Третьяковка!"… Это было естественное следствие живописи передвижников, на которой я воспитался»24. И, главное, сама миссия художника виделась в этом кругу куда менее значительной, нежели научное или гражданское поприще.
Теперь же все менялось. Стремление «старых мастеров» открыть метафизические тайны мироздания и человеческого бытия не казались больше «ерундой», напротив, «создалось решение на много лет уйти на запад, пройти сквозь латинскую дисциплину формы» («Автобиография»). С весны 1901 г. Волошин начинает постигать тайны творчества в аудиториях Сорбонны, в художественных студиях, натурных классах и знаменитых на весь мир парижских литературно-артистических кафе, в галереях Лувра и Версаля («Буше – изящный, тонкий, лживый, / Шарден – интимный и простой, / Коро – жемчужный и седой, / Милле – закат над желтой нивой…»), в «лесах готической скульптуры» средневековых храмин Нотр-Дам и Сен-Жермен л'Оксерруа:
Мир фантастических растений, Окаменелых привидений, Драконов, магов и химер. Здесь все есть символ, знак, пример. Какую повесть зла и мук вы Здесь разберете на стенах? Как в этих сложных письменах Понять значенье каждой буквы? («Письмо», 1904)Уверовав в самодостаточность искусства, интуитивно открывающего мир в метафизической полноте, недоступной рациональному знанию, молодой Максимилиан Волошин впервые смог обрести свой голос и занять особую творческую нишу в истории серебряного века25.
Однако в области религиозно-духовной «мистический энтузиазм» Волошина (продолжавшего во все время своих «блужданий» формально принадлежать греко-российскому Православию) выглядел приобретением сомнительным. Важный в онтологическом (мировоззренческом) плане переход от «безверия» к «вере» в плане сотериологическом (душеспасительном) сам по себе не имеет особой ценности, ибо, как известно, «и бесы веруют, и трепещут» [Иак. 2: 19]. «Вера – не результат одного умствования, в которое свободное от всяких связей "Я" что-то выдумывает для себя в поисках истины, – постулировал кардинал Й. Рацингер (будущий папа Бенедикт XVI). – И если вера не есть то, что выдумано мною, то ее слово не отдано мне на произвол и не может быть заменено на другое»26. Между тем, нельзя не видеть, что молодой Волошин относился к «словам веры» именно «произвольно», вне действенной «связи» с какими-то внешними духовными установками, жестко стесняющими личное произволение индивида (понятно, что сознательный христианин не может обратиться буддистом – и наоборот!! – без катастрофического изменения всех личностных ценностей и ориентиров, а ведь «религиозные ступени» Волошина слагаются даже в более сложный маршрут). Более того, именно индивидуалистические установки, не обязывающие неофита к действенной самодисциплине, оказывались в глазах совершенных носителей духовных истин большей преградой на религиозном пути, чем собственно «неверие». Гордая самонадеянность в общении с силами, многие из которых являются, по словам апостола, «мироправителями тьмы века сего» и «духами злобы поднебесной» [Еф. 6: 12], неизбежно ведет к опасным заблуждениям и губительным извращениям ума, именуемым в христианской аскетике духовной прелестью (прельщением). «…Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину, – пишет свт. Игнатий (Брянчанинов). -Прелесть действует первоначально на образ мыслей; будучи принята и извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения; овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное Творцом с душою. Состояние прелести есть состояние погибели и вечной смерти»27. Поведение людей, подверженных прелести, видится пугающе-ненормальным, «ужасная гордость, подобная гордости демонов» приводит их или «в состояние явного умоисступления» или, напротив, «облекается в личину смирения, благостности, мудрости», но всегда «познается по горьким плодам своим»: «Зараженные „мнением“ о достоинствах своих, особенно о святости своей, способны и готовы на все казни, на всякое лицемерство, лукавство и обман, на все злодеяния»28. Заметим, что в приведенном высказывании святителя Игнатия речь идет о полностью воцерковленных мирянах и даже иноках; что же касается «стихийных мистиков», вроде Волошина, то они, открывая для себя метафизическую глубину мироздания, вовсе оказывались точным подобием пресловутого «ученика чародея» – судьбы многих деятелей серебряного века подтверждают это с несомненной достоверностью.
Поэтому судить о подлинной эволюции религиозности Волошина в 1900-1910-е годы следует не по внешней канве биографии, отмечающей сменяющие друг друга с калейдоскопической скоростью увлечения «западными и восточными» религиями, а по истории преодоления индивидуализма, внешние «вехи» которой могут быть, в общем, далеки от собственно религиозных реалий. В частности, отправной точкой на этом пути видится странная идея «прощения, понимания и приятия мира» посредством сознательного опыта «необходимых слабостей и падений», отдаленно напоминающая знаменитое peccando promeremur Тертуллиана29, но окончательно оформившаяся у Волошина в конце 1900-х– начале 1910-х гг. в размышлениях не столько религиозных, сколько моральных и философских, навеянных вымышленными и подлинными «сюжетами» из истории словесности30. «Истекший год был моим счастливым годом, – писал Волошин 31 декабря 1911 г. А. М. Петровой. – Между мною и людьми упала еще одна грань. Я сделал шаг к единству. У меня бывали минуты нежной любви к каждому, к любому человеку. Я за этот год внутренно понял, что не нужно судить людей, что не нужно выбирать людей, а брать тех, кого приносит судьба»31.
Речь шла о попытках сострадательной солидарности со всем заведомо неправым, погибающим, отверженным, убогим, уродливым, болезненным, извращенным, даже преступным в человечестве. По мысли Волошина, «хирургическое отделение зла от себя», которое проповедуют моралисты, нарушает «глубочайшую истину, разоблаченную Христом: что мы здесь на земле вовсе и не для того, чтобы отвергнуть зло, а для того, чтобы преобразить, просвятить, спасти зло». «А спасти и освятить зло, – заключал он, – мы можем, только принявши его в себя и внутри себя, собою его освятив»32. Это самоотверженное «принятие» внешнего мирового «зла» вместо «бегства» от него и представлялось Волошину духовным подвигом, переменяющим «эгоистическое самосовершенствование» творческой личности на любовное единение с окружающими эту личность «человеками» («Любить – это значит остаться, когда все в тебе кричит: „Беги!“» – как чудесно сформулировала ту же мысль уже в наши дни американская писательница и психолог Кларисса П. Эстес).
По всей вероятности, эта «жизнетворческая стратегия», захватившая Волошина в канун Мировой войны, в иных обстоятельствах обратилась бы в очередную мистификацию утопического толка33, но тут в течение его дней вмешалась сама История.
Знаменательно, что на самом рубеже своего феерического духовного и литературного преображения Волошин – впервые после прихода к «идеализму» – ощутил необходимость в некоем практическом соборном действии. Этим действием (первым в его жизни!) стало присоединение к общине Р. Штейнера, возводившей в швейцарском Дорнахе интернациональный «антропософский» храм – Гётеанум (Иоганнес-Бау)34. Волошин оказался там 31 июля 1914 г., в последний день европейского мира. Швейцария хранила нейтралитет и община «антропософов» всеми силами старалась противостоять разгоревшимся среди народов Старого Света национальным страстям: «немцы, французы, англичане, австрийцы, русские сидели за одним столом, обменивались новостями и блюдами и не пылали друг к другу ненавистью»35. Однако, по мере развития событий на фронтах, это удавалось все труднее – подданные Серединных держав, вдохновленные громкими победами германского оружия в Бельгии, Франции и Восточной Пруссии поздравляли «с успехом» французов и русских, «позабывая» на радостях, что тем праздновать нечего. Не удалось сохранить бесстрастие и Волошину, причем «больше ужаса и боли» вызывали тогда у него даже не российские, а французские известия – в сентябре бои шли уже на реке Марне, в 40 километрах от столицы, и его любимая «прекрасная Франция», сполна испытавшая ужасы furor teutonicus, была на грани краха. В конце года, когда в военных действиях, так и не выявивших победителя, наступило относительное затишье, Волошин решает покинуть нейтральную Швейцарию и перебраться в воюющий Париж. «В январе 1915 приехал в Париж прямо из Базеля. Антропософская нейтральность мне казалась тягостной и скучной, и я с радостью окунулся в партийную и одностороннюю несправедливость Парижа, страстно, без разбора и без справедливости ненавидевшего немцев…», – вспоминал он36. Волошин принимает заказ редактора «Биржевых ведомостей» (одного из главных рупоров российской военной пропаганды) М. М. Гаккебуша на цикл военных корреспонденций и даже пытается определить собственную «политическую линию»:
Единственное желание – определенное и ясное, которое у меня есть в этой войне, – это чтобы Константинополь стал русским. Что это внесет в Россию – страшно думать. Весь острый яд Византии войдет в ее кровь. Но это надо и нельзя иначе. <…> Кроме того, конечно, глубоко радуюсь за Черное море и Феодосию, которая опять задышит всею полнотой своего исторического значения37.
Однако утвердиться на подобной, близкой, в общем, к тогдашнему политическому официозу стран «Антанты» общественно-патриотической позиции Волошин не смог, ибо не мог «вместить» ни журналистскую спонтанную прямолинейность суждений, ни неизбежную в условиях военной цензуры и ожесточенной идеологической войны газетную тенденциозность («Ложь заволакивает мозг / Тягучей дремой хлороформа, / И зыбкой полуправды форма / Течет и лепится, как воск» («Газеты»)). В контексте военных событий 1915 г. его «патриотика» обрела совершенно иное направление.
Этот год стал тяжким испытанием для всей «Антанты», потерпевшей, одно за другим, ряд сокрушительных поражений на Балканском и Азиатском театрах военных действий38. А для Российской Империи 1915 год стал эпохой т. н. «Великого отступления»: под ударами германских и австрийских войск, совершивших весной стратегический прорыв фронта у польской Горлицы, были оставлены Ивангород, Варшава, Либава, Митава, Владимир-Волынский, Ковель, Осовец, Ковно, Брест-Литовск, Луцк, Гродно, Вильно, Пинск, а отступающая русская армия потеряла полтора миллиона человек убитыми и раненными и почти миллион – пленными. Внутри самой страны возникла угроза военного переворота, и только мужественные и талантливые действия Государя, принявшего на себя Верховное главнокомандование, предотвратили в августе-сентябре окончательную катастрофу. В эти тяжелые дни, когда крушение не только российской военной машины, но и самой государственности вдруг– впервые за весь имперский период отечественной истории – стало восприниматься как возможная и близкая историческая перспектива, Максимилиан Волошин создает программное стихотворение, от которого и следует вести отсчет позднего, «классического» периода его творчества:
Враждующих скорбный гений Братским вяжет узлом, И зло в тесноте сражений Побеждается горшим злом. Взвивается стяг победный… Что в том, Россия, тебе? Пребудь смиренной и бедной — Верной своей судьбе. Люблю тебя побежденной, Поруганной и в пыли, Таинственно осветленной Всей красотой земли. Люблю тебя в лике рабьем, Когда в тишине полей Причитаешь голосом бабьим Над трупами сыновей. Как сердце никнет и блещет, Когда, связав по ногам, Наотмашь хозяин хлещет Тебя по кротким глазам. Сильна ты нездешней мерой. Нездешней страстью чиста, Неутоленною верой Твои запеклись уста. Дай слов за тебя молиться, Понять твое бытие, Твоей тоске причаститься, Сгореть во имя твое. («Россия», 17 августа 1915 г.)Нетрудно заметить, что терпящая поражение родина в творческом мировосприятии Волошина оказалась в роли того самого погибающего существа, с которым поэт мечтал соединиться в подвиге любовного сострадания, преодолев, тем самым, начинавшую его тяготить индивидуалистическую «грань меж собой и людьми». Действительно, преодолением подобного состояния является обнаружение «вовне» такого «другого», которое было бы опознано как ценность помимо ценностных представлений индивидуалиста, т. е. безусловно. Этим «другим» может быть божество, человек, животное, религиозная или общественная идея, фетиш (например, картина или почтовая марка) и т. д. – бытие которых в глазах субъекта оправдывает само себя и стоит, потому, выше бытия самого субъекта. Поэтому формой преодоления индивидуализма является любовь, а критерием этого преодоления – возможность смертной жертвы.
На самом расхожем, бытовом уровне опыт преодоления индивидуализма усваивается человеческим большинством в опыте эротической страсти и материнства (отцовства), хотя, разумеется, далеко не исчерпывается им. В частности, в жизни Волошина обстоятельства складывались таким образом, что, при всем внешнем благоприятствовании, бытовые переживания очень долго не давали ему достаточной «подъемной силы» для выхода из замкнутого круга личных переживаний. В мемуаристике это повторяется многократно: очень милый, интересный, невероятно общительный человек… совершенно закрытый как личность, непроницаемый для окружающих настолько, что его «надмирность», отчужденность от «житейских волнений, которые переносим мы» вызывает некоторую робость, даже страх. И вот, наконец, искомый «импульс» пришел, – имея источником не персону или идею, а… страну, ощущение принадлежности к которой сообщало Волошину возможность следовать в своем патриотическом энтузиазме «даже до смерти, и смерти крестной» [Флп. 2; 8]39.
Это новое переживание абсолютной ценности России и всего, связанного с ее бытием (никогда не свойственное Волошину, ранее, в своих заграничных странствиях утрачивавшего «соединение» с родиной до того, что единственным связующим звеном оставались лишь неизменно любимые книги Достоевского), возникнув, разрушало прежние «декадентские» мировоззренческие установки, развивалось и было действенным. В апреле 1916 г. поэт, окончательно утратив интерес и к журналистике и к европейским военным страстям, рискуя жизнью в разгар подводной охоты германских субмарин за транспортами «Антанты», совершает в качестве дипломатического курьера морской переход из Франции в Россию. К этому времени, усилиями императора-главнокомандующего и собранного им ансамбля талантливых военачальников, был достигнут перелом в неблагоприятном ходе боевых действий и Россия, разгромив турок под Эрзерумом и австрийцев под Луцком, казалось, шла к победоносному завершению войны. Однако Волошин, томимый, против всеобщего оживления соотечественников, самыми тягостными предчувствиями, «затворяется» в Коктебеле, не желая иметь никакого касательства ни к политике, ни к общественности и полностью переключившись на исследования готики. Из своего крымского «затвора» он появляется вновь лишь после поразившего всех внезапного падения российской монархии (в феврале-марте 1917 г., сразу вслед за «победоносной» Петроградской конференцией союзных держав, утвердившей устройство послевоенного мира!). В эти трагические дни, возмущенный чудовищной ложью деятелей анекдотической «февральской революции» и понимая губительность для народа и страны этой грандиозной политической провокации, Волошин испытывает второй в своей жизни духовный переворот, конгениальный тому, что произошел с ним некогда в азиатских пустынях:
Февраль 1917 года застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с еще большим увлечением и с большим правом торжествовали «бескровную революцию», как было принято выражаться в те дни… На Красной площади был назначен революционный парад в честь Торжества Революции. Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под Кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова «Без аннексий и контрибуций». Благодаря отсутствию полиции, в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной Книге и об Алексии Человеке Божьем. Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня <…> эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция и оставались только Кремлевские стены, черная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обагренных кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что Русская Революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской земли, нового Смутного времени («Россия распятая»)
Именно с момента пережитой на Красной площади пророческой «эпифании», как говорил сам Волошин, «темой моей является Россия». О волошинском «послеревоюционном» творчестве (равно как и о героическом поведении в годы Гражданской войны) на настоящий момент существует обширная литература. Собственно именно грандиозный историософский лироэпический цикл «поздних» художественных текстов, обращенных к судьбам родины, и утвердил за Волошиным то выдающееся место, которое он ныне занимает в «большой» отечественной словесности, ввел его в школьные учебники и хрестоматии и обеспечил непременное присутствие в живом читательском обиходе: все, созданное ранее, при незаурядном художественном мастерстве и остроумии, осталось лишь изящной страничкой истории серебряного века, ценимой немногочисленными знатоками. Не видя необходимости неоправданно расширять тематические границы настоящего очерка, скажем лишь, походя, что волошинские характеристики присущей русскому народу «культуры взрыва», требующей, соответственно, исключительно жесткую государственную «форму», могут многое прояснить как в нынешних общественных спорах о пресловутой «вертикали власти»:
В анархии всё творчество России: Европа шла культурою огня, А мы в себе несём культуру взрыва. Огню нужны – машины, города, И фабрики, и доменные печи, А взрыву, чтоб не распылить себя, — Стальной нарез и маточник орудий. Отсюда – тяж советских обручей И тугоплавкость колб самодержавья. Бакунину потребен Николай, Как Пётр – стрельцу, как Аввакуму – Никон. Поэтому так непомерна Русь И в своевольи, и в самодержавьи. И нет истории темней, страшней, Безумней, чем история России —так и в обострившейся в последнее время полемике о цивилизационном взаимодействии отечественного бытия с ценностями европейских демократий:
В России нет сыновнего преемства И нет ответственности за отцов. Мы нерадивы, мы нечистоплотны, Невежественны и ущемлены. На дне души мы презираем Запад, Но мы оттуда в поисках богов Выкрадываем Гегелей и Марксов, Чтоб, взгромоздив на варварский Олимп, Курить в их честь стираксою и серой И головы рубить родным богам, А год спустя – заморского болвана Тащить к реке привязанным к хвосту. Зато в нас есть бродило духа – совесть — И наш великий покаянный дар, Оплавивший Толстых и Достоевских И Иоанна Грозного. В нас нет Достоинства простого гражданина, Но каждый, кто перекипел в котле Российской государственности, – рядом С любым из европейцев – человек. («Россия», 1924).Оставив на этом неисчерпаемую тему волошинских историософских интуиций и прозрений поздних лет творчества, следует сосредоточиться на его духовно-религиозном аспекте. В настоящее время широко бытует эффектная формулировка, многократно повторенная в работах В. П. Купченко: «"Примеривший" в молодые годы все мировые религии, западные и восточные, Волошин под конец вернулся „домой“ – к православию»40. Тут кажутся необходимыми некоторые уточнения.
Как уже упоминалось, Волошин, мало заботясь о приведении своего образа жизни в соответствии с правилами православного домостроительства, тем не менее, никогда не обнаруживал не только намерений публично разорвать с русской Церковью (как, например, Лев Толстой), но даже вступить с ней в сколь-нибудь заметный конфликт на идейной или общественной почве (как Д. С. Мережковский). К этому следует добавить неизменное доброжелательное внимание к новозаветной проповеди:
Каково бы ни было отношение к Евангелию как к книге человеческой или к книге божественной, евангельский рассказ незыблемыми кристаллами лежит в душе каждого. Язык нашего морального чувства возник из Евангелия, и каждое евангельское имя, каждый евангельский эпизод, каждая евангельская притча стали гранями нашей души41.
С другой стороны, и Церковь в лице своих тогдашних пастырей, мало сочувствуя «упадническим» настроениям литературной эпохи, никогда не возвышала голос непосредственно в адрес Волошина – в этом плане его творчество на общем фоне серебряного века внимание к себе просто не привлекало. Поэтому представлять православие Волошина в годы революции и Гражданской войны как «возвращение домой» неверно, ибо «дом» он, строго говоря, и не «покидал». По крайней мере, младенческое крещение в православной киевской Железной церкви во всех духовных и жизненных странствиях явно не было в тягость. Другое дело, что отношение «позднего» Волошина к природному вероисповеданию радикально переменилось. «Нужен был „Октябрь“, – писал С. К. Маковский, – нужны были трус и глад, и мор революции, воспринятые Волошиным со щемящей болью и мистическим смирением (но не соблазнившие его социальными иллюзиями как скольких писателей), нужно было потерять Россию, ту благословенную, чудотворную Россию, которую „Октябрь“ втаптывал в кровь и грязь, чтобы он обрел ее в себе… И вдруг забили в нем какие-то изглуби русские истоки: он вырос в эти революционные годы…»42.
Известно, что Волошин в разгар гражданских распрей и террора постоянно внешне как-то демонстрировал свою принадлежность к русскому Православию (очевидно – публичным троеперстным крестным знамением, подчеркнуто уважительным общением со священнослужителями и т. п.), причем делал это крайне настойчиво, так что окружающим бросалось в глаза. Осип Мандельштам, побывавший в 1919 году у Волошина в Крыму (и не очень расположенный впоследствии к хозяину Коктебеля), иронически уверял, потому, что «христианство Максимилиана Волошина будто бы тоже от его всегдашней потребности эпатировать. Мол, Волошину в себе самом нравится то, что он – христианин»43. Понятно, что подобный «эпатаж» в складывающихся тогда условиях смело может быть приравнен к исповедничеству (в это же самое время, в «Красном Петрограде», точно так, неспешно и публично, осенял себя крестным знамением перед каждым встреченным храмом обычно целомудренно-скромный во внешних проявлениях православности Николай Гумилев). Кроме того, для Волошина в 1918–1922 гг. подобные «жесты» являлись не только важной для него лично манифестацией моральной солидарности с «отверженной» и «гонимой стороной». Можно с документальной точностью утверждать, что «сторону» русской Церкви в эти годы Волошин всецело принимал, по меньшей мере, в плане общественном. Следует помнить, что на Поместном Соборе 1917–1918 гг. была упразднена синодальная форма церковного управления и место обер-прокурора в православной иерархии вновь занял Патриарх – свт. Тихон (Белавин, 1865–1925), прославляемый ныне с Собором новомученников и исповедников Российских. Восстановление канонически правильного руководства отечественным Православием не только упраздняло двухвековую причину отчуждения просвещенной части российского общества от «казенного ведомства по делам вероисповеданий» (в том историческом контексте это было малоактуально), но, главное, превращало Церковь в самостоятельную консолидирующую силу в расколотом гражданской войной русском мире. Поэтому некоторое время Волошин делал на православную общественность политическую ставку, заявляя об этом, опять-таки, открыто и публично. «Не случайно, – писал он в декабре 1918 года, – русская церковь в тот самый момент, когда довершался разгром русского государства, была возглавлена патриархом. Не случайно большинство Собора, бывшее против патриархата, тем не менее установило его, интуитивно повинуясь скрытому гению русской истории. При развале русского государства патриарх, естественно, становится духовным главой России. Как в то время, когда насущной исторической задачей момента было разрушение России, проводимое последовательно и неуклонно по гениальным планам германского Генерального штаба, лозунг момента был прекрасно формулирован Лениным в его книге „Вся власть – Советам!“, так теперь, когда дело идет о воссоздании единой России, лозунгом должна стать формула: „Вся власть Патриарху“»44. Разумеется, подобная позиция была утопической, но подобное выступление является неопровержимым свидетельством полного общественного единства Волошина именно с русским Православием (если угодно, единства «партийного»).
У «позднего» Волошина была еще одна – творческая – причина переосмыслить свою принадлежность к Православию. Религиозная доктрина всегда воспринималась им своеобразным «ключом» к основам культурного бытия любого народа, без внимания к которой невозможно понимание его исторической миссии (в частности – в сфере искусства). Пребывая в «декадентские» годы «гражданином мира», «чужаком по всему складу мышления, по своему самосознанию и по универсализму художнических и умозрительных пристрастий» (С. К. Маковский), Волошин никак не выделял (если не сказать больше) Россию среди занимавших его творческих «тем» и, соответственно, неизбежно обходил вниманием духовные мотивы, вдохновлявшие во все времена творческие усилия собственных соплеменников. И с той же неизбежностью после «патриотического переворота», свершившегося с Волошиным в 1914–1917 гг., радикальное доминирование «русской темы» вело к творческому обращению к Православию. Результатом, в частности, явились великолепные художественные тексты, обращенные к православным святыням:
В раскаленных горнах Византии, В злые дни гонения икон Лик Ее из огненной стихии Был в земные краски воплощен. Но из всех высоких откровений, Явленных искусством, – он один Уцелел в костре самосожжений Посреди обломков и руин. От мозаик, золота, надгробий, От всего, чем тот кичился век, — Ты ушла по водам синих рек В Киев княжеских междуусобий. И с тех пор в часы народных бед Образ твой над Русью вознесенный В тьме веков указывал нам след И в темнице – выход потаенный. («Владимирская богоматерь», 1929)И все же религиозный облик «позднего» Волошина сложен. Моральные соображения, общественно-политические пристрастия, творческие установки не могут, разумеется, его исчерпать-средоточием тут оказывается непосредственное участие в живом церковном бытии, личная воцерковленность, суждение о которой можно составить сейчас с большим трудом и весьма приблизительно. В этой связи необходимо упомянуть «волошинский эпизод» в популярном среди православных читателей сборнике советских «самиздатовских» очерков об эпохе церковных гонений «Отец Арсений»:
В 1924 г. в наш храм по окончании литургии вошел среднего роста коренастый человек с большой бородой, огромной шевелюрой, довольно широким лицом, лучистыми добрыми пытливыми глазами. Все это, конечно, я увидел, когда он подошел ко мне. Подойдя, сказал: «Отец Арсений! Я к вам на разговор, где мы можем спокойно поговорить?» – «Пройдемте», – и я провел его к скамье, стоявшей у одной из стен храма, предназначенной для престарелых прихожан. Мы сели, я взглянул в лицо пришедшего. Что-то знакомое проступало в его чертах, но я знал, что встреч с ним не было. Видел, что он не знает, с чего начать разговор, и несколько растерян. Решил помочь ему и неожиданно для себя сказал: «Максимилиан Александрович! Я слушаю вас». – Он вздрогнул и, несколько волнуясь, спросил: «Откуда вам известно мое имя?» Я не знал, что ответить, ибо имя возникло в моей голове внезапно, видимо по произволению Господа. Видя мое молчание, он начал свой рассказ:
"Я действительно Максимилиан Александрович, фамилия Волошин, по «профессии» – поэт, художник-акварелист, не совсем удачный философ-мыслитель, вечный искатель истины, ходатай по чужим делам, выдумщик и человек с не очень удачной (сумбурной) личной жизнью; по своей природе – поэт, художник и мечтатель, любитель красоты, в том числе и женской, и ощущаю свою греховность перед Богом. Живу в Крыму, в Коктебеле, приехал в Москву по делам и для того, чтобы зайти в Ваш храм и переговорить с Вами. Мне это посоветовал Сергей Николаевич Дурылин, человек верующий и мой добрый знакомый. Я, отец Арсений, все время ищу Бога, ощущаю Его близость и даже неоправданную ко мне Его милость и снисхождение, но я – большой грешник".
Говорил внешне спокойно, но я чувствовал его внутреннюю напряженность. Я читал ранее многие его стихи, любил их внутренний смысл, знал о его необычайной доброте и о спасении им многих людей от расстрела и заключения. Рассказывали, что он склонен к эпатированию (самовыставлению перед окружающими), но сейчас передо мной сидел усталый, взволнованный и чем-то огорченный человек. <…>
Мы пошли на мою квартиру, где Анна Андреевна, хлопотливая старушка, моя хозяйка по дому, начала нас кормить чем-то средним между завтраком и обедом. С Максимилианом Александровичем проговорили почти до самой вечерни, и это была исповедь, рассказ о своей жизни, в которой он жил, и о его окружении. Конечно, содержание исповеди рассказывать не буду, но многое мне тогда было непонятно, только восемнадцатилетнее пребывание в "лагере смерти" научило меня, по соизволению Господа, понимать человеческую душу.
Многое было как у каждого человека, но поражала необыкновенная чистота его души, словно это была душа ребенка. Временами, слушая мои слова, он восклицал: "Конечно, так, верно, я так и думал". Выслушав исповедь, я спросил: "Максимилиан Александрович, Вы исповедовались, бремя греха снято, скажите, будете стараться не совершать вновь тех ошибок, в которых приносили покаяние?" – и он честно, как-то совсем по-детски, ответил: "Отец Арсений! Конечно, буду бороться сам с собой, но боюсь, что по своей природе слишком приземлен, и где-то и когда-то, в сложившихся ситуациях споткнусь, не совладаю с собой".
Смотря на Максимилиана Александровича, я понял всю чистоту его души и искренность ответа, отпустил его грехи и причастил.
С 1924 г. до самого моего первого ареста в 1927 г. Максимилиан Волошин приходил ко мне, когда приезжал в Москву, и наши отношения перешли в дружбу45.
Разумеется, подобное свидетельство, будучи документально достоверным, снимало бы все вопросы. Однако сами издатели сборника предупреждают о некоей «литературной обработке» вошедших в него материалов, равно как и о том, что «подлинность описываемых событий» – «отчасти скрыта именными именами и названиями»46. Между тем, не вызывающее никаких сомнений автобиографическое признание самого Волошина, относящееся или к тому же 1924 году, или к началу 1925-го, существенно осложняет восприятие вышеприведенной картины горячей исповеди поэта православному духовнику и «церковного» отпущения грехов:
Я язычник по плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов – и, в то же время, не могу его мыслить вне Христа.
Как бы ни интерпретировать подобное откровение, для православного восприятия в нем есть нечто «невместимое». Неслучайно потому, о. Сергей Карамышев на сайте «Русской народной линии» опубликовал к 135-летию со для рождения поэта статью (имевшую большой резонанс в русском интернете), где призывал… анафемствовать Волошина, имеющего ныне «воздействие почти религиозное на многих творческих людей» – «дабы прекратить соблазн его творчества среди верных чад Русской Православной Церкви» («Это будет, несомненно, проявлением любви по отношению к самому поэту, ибо чем меньше соблазна станет производить его осужденное Церковью творчество, тем меньше он будет истязуем на поистине Страшном Суде Божием»)47.
Понятно, что подобный призыв о. Сергея можно расценить лишь как риторическую гиперболу, хотя бы потому, что никаких собственно «литературных» отлучений до сего момента тысячелетняя история русского Православия не знала и создавать подобный сомнительный прецедент нет никакой нужды48. Но нельзя и игнорировать тот очевидный факт, что в сформировавшейся после 1917 года творческой позиции Волошина, действительно, имеется – если посмотреть на нее под православным углом зрения – некий «еретический» изъян, восходящий к нарушению общехристианского запрета на «идолотворчество» («Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» [Исх. 20: 4–5]). Между тем, в творчестве позднего Волошина образ и идея России стали именно «кумиром» – к этой теме, так или иначе, сводились все его художественные усилия, ей была подчинена вся остальная тематика его тематического репертуара этих лет. Не стала исключением и «тема Православия», что, естественно, радикально сместило духовные акценты в волошинских произведениях. Высшей ценностью тут оказывается Россия, а Православие – лишь одним из ее атрибутов, важных для Волошина, прежде всего, как «ключ» к постижению исторической нравственной и культурной «русской идеи». Любовь к Родине он ставил выше любви к Истине.
Поэтому, если у Николая Гумилева и Анны Ахматовой, протагонистов Максимилиана Волошина по великой «православной триаде» поэтов серебряного века, религиозно-духовное начало в творчестве служит элементом побудительным, динамичным и вдохновляющим («И счастием душа обожжена / С тех самых пор. Веселием полна / И ревностью, и мудростью. О Боге / Со звездами беседует она…»49) – у Волошина наличие православной тематики оказывается, наоборот, существенным ограничителем творческой свободы, источником внутреннего конфликта, «бременами тяжелыми и неудобоносимыми» [Мф. 23: 4]. Осознав в 1917 г. свою причастность к России с такой неотразимой силой, он не мог не осознать затем свою причастность к православной Церкви, переосмыслив содержание природной религии. Но, таким образом, вместо «Столпа и утверждения Истины» (быть хранительницей чего призвана Россия), – русская Церковь оказалась в творческом мировосприятии позднего Волошина лишь неким «обязательным приложением» к процессу художественного постижения «русской идеи». Более того – «приложением» раздражающим, грозящим постоянно разрушить гармонию сложившегося за все годы «блужданий» художественного мира, сохраняющего следы и языческой, и теософской, и антропософской символической образности. И, главное, в своей патриотической экзальтации Волошин плохо различал истинное, вненациональное и альтруистическое содержание исторической миссии его обожаемой и боготворимой России: быть «третьим и последним Римом», сохраняющим правую веру среди катастроф и отступничества «последних времен». А вне этой духовной миссии все красоты национальной культуры и историософские откровения теряют свой смысл: Истина выше Родины.
«Это – кающийся», – сказал некогда о. Амвросий Оптинский о Достоевском, который занимает в современном православном художественном чтении столь выдающуюся роль. Волошин, место которого в этом чтении также весьма велико, несомненно, был «сомневающимся» вплоть до пустынной могилы (til августа 1932 г.) на Карадаге – едва заметной каменной насыпи без креста, надгробия, ограды. Об этом следует помнить, обращаясь к творчеству Максимилиана Волошина, – равно как помнить и о том, что именно ему удалось сформулировать credo, определяющее и по сей день все бытие патриотической творческой элиты:
Темен жребий русского поэта: Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну, Горькая детоубийца – Русь! И на дне твоих подвалов сгину, Иль в кровавой луже поскользнусь, Но твоей Голгофы не покину, От твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, Но судьбы не изберу иной: Умирать, так умирать с тобой, И с тобой, как Лазарь, встать из гроба! («На дне преисподней», 1922)Примечания
1 Этот храм, возведенный в Киеве в 1867–1871 гг. близ Еврейского рынка на Галицкой площади, называли еще «Железной церковью», т. к. в основу его легла оригинальная железная конструкция, созданная инженером А. А. Никкельсом, который пытался решить задачу сооружения храмовых зданий заводским «поточным методом». Несмотря на то что в «Железной церкви» летом стояла невыносимая жара, а зимой – холод, техническая новинка какое-то время была популярна у киевлян. Однако металлический каркас скоро пришел в негодность, и храм приходилось постоянно реставрировать и укреплять. В 1934 г. Иоанно-Златоустовская церковь, лишенная Наркомпросом статуса исторической ценности, была снесена при реконструкции Галицкой площади (с 1952 г. – Площадь Победы). В настоящее время на месте крестильной церкви Волошина находится Национальный цирк Украины. Из «Свидетельства» Киевской духовной консистории явствует, что, согласно записи № 99 в метрической книге Старо-Киевской Иоанно-Златоустовской церкви сын коллежского советника Александра Максимовича Кириенко-Волошина (1838–1881) и его жены Елены Оттобальдовны (урожденной Глазер, 1850–1923), родившийся 16 мая 1877 года, был крещен «июня двадцать пятого» того же года: таинство крещения совершал свящ. Николай Успенский, воспреемниками же были дед и бабка будущего поэта – статский советник Максим Яковлевич Кириенко-Волошин и «вдова статская советница Надежда Григорьева Глязер».
2 Во время единственного сознательного свидания с киевской родней (в августе 1886 г., когда Елена Оттобальдовна приезжала с сыном принимать дарственную на часть капитала), на юного Волошина произвел сильное впечатление их патриархальный уклад, а также – одна из молитв бабки Евгении, начинавшаяся словами «Господи, прокляни…». В 1926 г. он зафиксирует эти детские воспоминания во время психоаналитических сеансов.
3 Датировка обращает на себя внимание: это время резкой эскалации революционного террора народников. Объявленная 28 августа 1879 г. Исполнительным Комитетом «Народной Воли» «охота на царя» вызвала бурную реакцию в русском обществе. В частности, история литературы в эти годы знает многочисленные «идейные» семейные конфликты и драмы, омрачившие детство и юность будущих писателей серебряного века и судьбы их родителей (напр., семейства Мережковских, Горенко, Вяч. Иванова и др.). Можно предположить, что коснулось это и Волошина: в материнском круге деяния народовольцев обсуждались интенсивно и горячо. По крайней мере, в своей автобиографии (1925) он подчеркивает: «Первое впечатление русской истории, подслушанное из разговоров старших – „1-е марта“» (т. е. убийство Александра II). А, двумя годами ранее, переезд Елены Оттобальдовны с маленьким сыном от брошенного в Таганроге мужа в Севастополь состоялся буквально под гром динамита: 19 ноября 1879 г. при следовании Александра II в Москву был взорван свитский поезд, а 5 февраля 1880 года Степан Халтурин поднял на воздух Желтую столовую Зимнего дворца (император в обоих случаях чудом остался цел).
4 Волошин Максимилиан. Записи 1932 г. (Электронный ресурс] /w/ woloshin_m_a/text_0300.shtml (дата обращения 18.06.2015).
5 См.: Купченко В. История дома Е. О. Кириенко-Волошиной («дома Юнге») в Коктебеле [Электронный ресурс] -dom06.shtnnl (дата обращения 18.06.2015).
6 «Иногда на средах Вячеслава Иванова появлялась и мать молодого писателя, имевшая пристрастие одеваться в мужской костюм, к ней, вследствие полноты этой дамы, не шедший. Встретив впервые m-me Волошину, я принял ее сначала за какого-нибудь сектантского пастора с бритым, несколько оплывшим лицом…» (Кондратьев А. А. М. А. Волошин. [Электронный ресурс] / (дата обращения 18.06.2015)).
7 «Пра – от прабабушки, а прабабушка не от возраста – ей тогда было пятьдесят шесть лет, – а из-за одной грандиозной мистификации, в которой она исполняла роль нашей общей прабабки, Кавалерственной Дамы Кириенко (первая часть их с Максом фамилии) <…> Но было у слова Пра другое происхождение, вовсе не шутливое – Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых, Верховод всей нашей молодости, Прародительница Рода – так и не осуществившегося. Праматерь – Матриарх – Пра» (Цветаева М. И. «Живое о живом (Волошин)»).
8 Гончарова Е. И. «Революционное христовство» // «Революционное христовство»: письма Мережковских к Борису Савинкову. СПб., 2009. С. 7.
9 Немецкий врач, философ и естествоиспытатель Людвиг Бюхнер (Buchner, 1824–1899) был одним из ярких представителей т. н. «социального дарвинизма» – европейского направления общественной мысли, пытавшегося объяснить социальные процессы с помощью учения Дарвина о борьбе за существование как основном механизме естественного отбора. Естественно, что подобная «биологизация» жизни человеческого общества оказывалась возможной только в том случае, если сам человек воспринимался как «биологическая особь», неспособная к активному восприятию действительности и действию, основанному на интеллектуально-волевом ее осмыслении. Л. Бюхнер отрицал свободу человеческой воли и видел в человеческом сознании такое же пассивное (зеркальное) отражение действительности, как и в мировосприятии млекопитающих животных, реагирующих лишь на непосредственные сиюминутные «вызовы среды», прежде всего – на угрозы их бытию. Не более чем «физиологический механизм» человеческое мышление представляло собой и в трудах немецкого физиолога и философа Якоба Молешотта (Moleschott, 1822–1893). Подобный «дарвинизм» приводил его сторонников к вульгарному материализму, в котором не было места не только идее Бога, но и собственно «идеализму» даже по отношению к человеческому мышлению, поскольку любое его действие, с этой точки зрения, диктовалось лишь «внешними обстоятельствами». Крайние теологические выводы из подобных мировоззренческих установок были сделаны выдающимся немецким богословом и философом Давидом Фридрихом Штраусом (Straup, 1808–1874), который в своей книге «Жизнь Иисуса» (1835–1836) попытался трактовать образ Иисуса Христа, как историческую фигуру античного философа-морали-ста. Иисус помещался здесь в ряду таких «учителей жизни», как Сократ, Платон, Сенека и др. Признавая высокую ценность христианских морально-этических установок для современных гуманистических учений, Штраус отрицал достоверность Евангелий, а собственно христианство с его метафизикой считал историческим «пережитком», обреченным на исчезновение по мере развития науки и роста просвещения в народных массах. Все упомянутые мыслители были очень популярны в кругах российской разночинной интеллигенции XIX в.
10 Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье Конт (Comte, 1798–1857) – французский философ и социолог, Провозглашенный им «позитивизм» – «приведенный в систему здравый смысл» – отказывался от попыток проникнуть в природу вещей и утверждал познание исключительно на «математической» основе, минуя неразрешимые «проклятые вопросы» как непродуктивные для полезной деятельности человека. Позитивизм не отрицал религиозных переживаний, однако «позитивистская религия» Конта основывалась на сакрализации «прекрасных» проявлений человеческой добродетели, символами которых становились связанные с этими проявлениями сувениры-фетиши (любовные письма, портреты, памятные вещи), напоминающие о существовании в мире практически действенных «добра и красоты».
11 Революционная часть народничества переносила на Церковь свое отрицательное отношение ко всей государственной машине – не в «богоборческом», а именно в «тираноборческом» плане; умеренно-либеральная – рассматривала ее как службу регистрации рождений, браков и смертей (нечто вроде нынешнего ЗАГСа) и оставалась равнодушной. Общее раздражение вызывало участие Церкви в образовании, но и с этим мирились, опять-таки, как с обязательным присутствием государственно-пропагандистского (а не духовного и просветительского) контроля и надзора за учащимися, сожалея лишь о «впустую» потраченных многочисленных аудиторных часах, отведенных на Закон Божий. Удивительно, но не воспринималась даже обрядная часть русского Православия – «открытие» интеллигенцией православного искусства (архитектуры, песнопений, иконописи) произойдет лишь в контексте серебряного века.
12 «Максина молитва тоже была очень оригинальна. Как и большинство детей его времени, он утром и вечером читал „Господи, помилуй папу и маму“ и кончал: „и меня, младенца Макса, и Несси скормилица Макса, чешка>“. Услыхав это, Валериан стал рассказывать, как Макс будет молиться в будущем. Сначала: „и меня, гимназиста Макса, и Несси“, потом: „и меня, студента Макса, и Несси“, и, наконец, когда он станет важным лицом: „и меня, статского советника Макса, и Несси“» (Вяземская В. О. Наше знакомство с Максом. Цит. по: [Электронный ресурс] / mv_v_03.htm (дата обращения 18.06.2015).
13 См. «Автобиографию [по семилетьям]» (1925). О Никандре Васильевиче Туркине (1863–1919). [Электронный ресурс] -80-90.livejournal.com/335461.html (дата обращения 18.06.2015).
14 Вяземская В. О. Указ. соч.
15 Волошин М. А. Записные книжки. М.: Вагриус, 2000. С. 25.
16 Там же. С. 29.
17 Там же.
18 Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. (1877–1916 г.). М., 2007. С. 63.
19 См.: Словарь философских терминов / Под ред. В. Г. Кузнецова. М., 2007. С. 328. Через мировоззренческий переворот, подобный происшедшему с двадцатитрехлетним Волошиным, прошли, так или иначе, все участники раннего серебряного века. «Пафос первого момента, – писал о начале русского символизма Вячеслав Иванов (сыгравший в судьбе Волошина весьма значительную и, отчасти, зловещую роль), – составляло внезапно раскрывшееся художнику познание, что не тесен, плосок и скуден, не вымерен и не исчислен мир, что много в нем, о чем вчерашним мудрецам и не снилось, что есть ходы и прорывы в его тайну из лабиринта души человеческой…» (Иванов Вяч. И. Заветы символизма // Иванов Вяч. И. Собрание сочинений. Брюссель, 1975. Т. 2. С. 598). Прежние материалисты, занятые научными исследованиями и поиском «социального блага», открывали для себя метафизическую глубину мироздания, уводящую к вопросам философским, религиозным и даже общественным, решение которых находилось вне привычной области рациональной деятельности. «Эпоха рубежа веков была эрой великих открытий в области естественных наук, прежде всего – физики и математики, – пишет о природе всеобщего „кризиса мысли“ Л. Силард. – Открытие беспроволочной связи (1895–1897), рентгеновских лучей (1895), радиации (1898) и особенно теории относительности (1905) поколебало прежнее представление о строении мира. Кризис естественно-научного (материалистического или позитивистского) мышления выразился в формуле „материя исчезла“ <…> „Кризис объективно-идеалистического сознания выразился в формуле, принадлежащей Ницше: „Бог умер“. „Материя исчезла“ или „Бог умер“ – обе формулы означали наступление релятивизма и кризис телеологического сознания, кризис веры в развитие (независимо уже от того, что понималось под этим развитием – движение ли истории, развитие ли абсолютной идеи). Вера в эволюцию, в прогресс, которыми жил XIX в., была сметена. Рухнуло представление о разумности строения мира. Вселенная обернулась неуправляемым, непостижимым хаосом. Кризис прежних научных методов, обусловленный новыми научными открытиями, был воспринят как признак бессилия науки, исходящей из рационалистических предпосылок, как крах интеллектуального познания, не способного охватить сложность мира“ (Силорд Лено. Русская литература конца XIX– начала XX века (1890–1917). Будапешт, 1983. Т. 1. С. 24–25). Очевидно, что Волошин, находившийся в 1897–1900 гг. в самом средоточии российской интеллектуальной жизни – в Московском университете – не мог не ощущать упомянутые процессы непосредственно в общении со своим тогдашним окружением. Обращают на себя внимание и авторы книг, послуживших катализаторами его окончательного духовно-интеллектуального «преображения»: В. С. Соловьев и Фридрих Ницше. Среди новых «учителей жизни» в русской интеллигентской аудитории раннего серебряного века это были самые заметные фигуры.
20 Любопытную характеристику дает ему университетский приятель: «Мы были с ним хорошими, настоящими друзьями; ни одна тень недоразумения никогда не проскользнула между нами. Он радовался, встречая меня, участливо расспрашивал о моих делах. Но всегда я чувствовал его существо переполненным какими-то иными образами, мыслями и чувствами, в сфере которых мало оставалось места для житейских волнений, которые переносили мы, для тех блуждающих огней, которые манили нас, для того, что засоряло нашу жизнь, – из радостных делало нас угрюмыми, из доверчивых – подозрительными… Макс не читал газет, хотя все, что делалось на белом свете, конечно, хорошо знал, так как был очень общительным человеком. Интересы его были выше интересов текущего дня, мелочи и мелкие чувства как бы сгорали в огне его души. Вместе с тем он был совершенно противоположен типу отшельника. Весь свет был полон его знакомыми. Толстый и легкий, как большой резиновый шар, перекатывался он от одного к другому, и все неизменно радовались его приходу» (Арнольд Ф. Свое и чужое. Цит. по: [Электронный ресурс] (дата обращения 18.06.2015). Ср. с самохарактеристикой в зрелой волошинской лирике: «Но не чужую, а свою / Судьбу искал я в снах бездомных / И жадно пил из токов темных, / Не причащаясь бытию. / И средь ладоней неисчетных / Не находил еще такой / Узор, который в знаках четных / С моей бы совпадал рукой» («Мой пыльный пурпур был в лоскутьях…», 1913).
21 См.: Кочевых О. Искатель и ходатай // Отрок. UA. Православный журнал для молодежи. 2006. № 2 (21) Цит. по: [Электронный ресурс] -ua.ru/sections/art/ show/iskatel_i_khodatai.html?type=98&cHash=ecb92ec78a (дата обращения 18.06.2015).
22 Там же.
23 «Что это было? Лёгкое безумие? Игра актёра, вошедшего в роль до принятия её за действительность? – писал, вспоминая о волошинском „жизнетворчестве“ А. В. Амфитеатров. – Всё, что угодно, только не шарлатанство. Для него Волошин был слишком порядочен, да и выгод никаких ему эти мнимые „шарлатанства" не приносили, а напротив, вредили, компрометируя его в глазах многих не охотников до чудодейства и чудодеев». Тут следует упомянуть, что полученный в «загробных беседах» материал Волошин использовал для доклада «Пророки и мстители», прочитанного в русской аудитории парижской «Высшей школы общественных наук». На упреки Амфитеатрова в эфемерности подобных «исторических свидетельств» последовал ответ: «А если вас вообще интересуют перевоплощённые, то советую познакомиться с графиней Н. Она была когда-то шотландскою королевою Марией Стюарт и до сих пор чувствует в затылке некоторую неловкость от топора, который отрубил ей голову. В её особняке на бульваре Распайль бывают премилые интимные вечера. Мария Антуанетта и принцесса Ламбаль очень с нею дружны и часто её посещают, чтобы играть в безик. Это очень интересно» [см.: Амфитеатров А. В. Чудодей. Цит. по: [Электронный ресурс] . russianplanet.ru/library/mvoloshin/mv_v_03.htm (дата обращения 24.07.2015)).
24 См.: Лавров А. В. Жизнь и поэзия Максимилиана Волошина Ц Лавров А. В. Русские символисты. Этюды и разыскания. М., 2007. Цит. по: [Электронный ресурс] http:// (дата обращения 24. 07. 2015). Пробуждение творческих сил Волошин связывал с первым приездом в Коктебель в 1893 г., но в начинающем даровании мало что обещало будущую высокую оригинальность поэта, живописца и искусствоведа – настолько силен был шаблон гражданственности, присущий «народнической» эстетике. Переживаемый поколением Волошина «кризис мысли» «сказался и в отказе искусства от этической проповеди <реализма>, скрыто или явно присутствовавшей почти в любом произведении русского искусства XIX в. Искусство эпохи рубежа обнаружило явное стремление эмансипироваться от этики, подчинив себя своей собственной сфере – эстетике. Прямо или косвенно в этом проявлялось осознание недейственности, бессилия этических, гуманистических концепций XIX в. и попытка воздействовать самим фактом эстетического переживания» (СилардЛена. Указ. соч. С. 25–26).
25 «Соединение в занятиях Волошина профессионального поэта и профессионального живописца представляет собой хотя и не единственный <…> но все же достаточно редкий случай, – пишет современный исследователь. – Ведь речь идет о сходстве приемов и принципов, вырабатывавшихся Волошиным в двух достаточно различных сферах творчества – словесного и несловесного. В начальную ученическую пору овладения приемами изобразительности в стихах заметно не только обилие зрительных образов, но и прямые ссылки на классические произведения живописи <…> В циклах стихов о Париже, в зарисовках впечатлений от других столиц Европы и ее святых мест – Рима, Афин – молодой Волошин использует поэзию как техническое средство, параллельное живописи. <…> Волошин строит образы своих стихов так, чтобы вызвать у читателей непосредственное зрительное впечатление, в парижских стихах близкое к эффектам импрессионистов» (Иванов Вяч. Вс. Волошин как человек духа // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 162–163).
26 Рацингер Й. Введение в христианство. Брюссель, 1988. С. 54, 55.
27 Сет. Игнатий Брянчанинов. О прелести. СПб., 1998. С. 6.
28 См.: Там же. С. 81.
29 «Грех предваряет заслугу» (лат.). Это изречение великого апологета раннего христианства Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана (Tertullianus, 155/156– 220/240), высказанное им в трактате «О скромности», более известно в вольном изложении: «Не согрешишь – не покаешься [и, следовательно, не спасешься]».
30 См.: Пинаев С. М. «Надрыв и смута наших дней…» (Ф. Достоевский и М. Волошин: «загадка русского духа») Литературоведение. Межкультурная коммуникация. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 4(2). С. 928–931.
31 Письма М. А. Волошина к А. М. Петровой. 1911–1921 / Публ. подготовка текста и при. В. П. Купченко // Волошин М. А. Из литературного наследия. СПб., 1999. Цит. по: [Электронный ресурс] . shtml (дата обращения 16.07.2015).
32 «Судьба Льва Толстого» (1910).
33 Эта утопия, впрочем, была, отчасти, реализована в феномене «волошинского Коктебеля», служившего «убежищем для отверженных» как в эпоху Гражданской войны («В те дни мой дом – слепой и запустелый – / Хранил права убежища, как храм, / И растворялся только беглецам, / Скрывавшимся от петли и расстрела. / И красный вождь, и белый офицер – / Фанатики непримиримых вер – / Искали здесь под кровлею поэта / Убежища, защиты и совета»), так и – в качестве места съезда «внутренней эмиграции» – в советские годы. Утопия эта сохранена, отчасти, и в наши дни, ибо нынешний Коктебель позиционируется как сезонное собрание «людей не от мира сего», лиц творческих профессий и т. п.
34 Рудольф Штейнер (Steiner, 1861–1925) – австрийский философ и архитектор, один из ведущих деятелей т. н. «оккультного возрождения». В 1912–1913 гг. Штейнер и его последователи, выйдя из «Теософского общества», основали «Антропософское общество», пытаясь примирить оккультные практики и христианство. По идее Штейнера, центром антропософии должен был стать спроектированный им «храм» Гетеанум, строительство которого в предвоенные годы вели ученики Штейнера из разных стран мира в швейцарском местечке Дорнах. О духовных мотивах, связывавших Волошина с антропософской общиной см.: Ракитова Л. А. «Пантеизм» М. А. Волошина (на материале публицистики периода двух первых русских революций) // HayKOBi записки Харшвського нацюнального педагопчного уыверситету iM. Г. С. Сковороди. 2013 Вып. 1 (73). Ч. 1. С. 102–111.
35 См.: Волошин М. А. Избранное. Стихотворения, воспоминания, переписка. Минск, 1993. С. 293.
36 См.: Волошин М. А. Путник по вселенным. М., 1990. С. 305. Ср. с письмом к А. М. Петровой от 25 января / 7 февраля 1915 г.: «Но о пребывании там <в Дорнахе> в течение пяти месяцев я не жалею. Оно дало мне возможность стоять на таком наблюдательном пункте, откуда я видел изнутри и германский мир и сам в себе переживал то, что мы все переживали русским своим сознанием. Должен сказать, что это, при том условии, что я ни разу никакими германскими доказательствами не соблазнялся, было бесконечно тяжело, настолько тяжело, что, переехав границу Франции, я почувствовал, что сотни пудов свалились у меня с души, так все сравнительно просто и ясно, когда видишь в немцах только варваров и врагов. Дело гораздо сложнее, когда видишь, результатом какой идеологии является это варварство и жестокость, и видя их искренность (да!) и то, как все – все обвинения до последнего слова, обращенные на немцев, – повторены и в германском мире по отношению к Анг<лии> и России. Тогда невольно начинаешь гораздо строже взвешивать собственные свои инстинктивные чувства и даже весьма сознательные убеждения» (Письма М. А. Волошина к А. М. Петровой. 1911–1921… Цит. по: [Электронный ресурс] . shtml (дата обращения 16.07.2015).
37 Письма М. А. Волошина к А. М. Петровой. 1911–1921… Цит. по: [Электронный ресурс] (дата обращения 16.07.2015).
38 В 1915 г. полным крахом союзных английских, французских, австралийских, новозеландских и индийских военно-морских и сухопутных сил закончилась длившаяся двенадцать месяцев Дарданелльская операция против союзной Германии Османской Империи, а осенью-зимой того же года пала Сербия, открыв, помимо прочего, для Серединных держав прямое сообщение с турками, что имело стратегическое значение для всего соотношения сил в Первой Мировой войне.
39 Впрочем, в стихах позднего Волошина о России (включая и цититрованное) за «патриотическим» ясно различим и «эротический» контекст, родственный идеальной любовной страсти средневековых трубадуров. В этом поздний Волошин неожиданно перекликается с поздним В. В. Маяковским, с его «советской» патриотической лирикой.
40 См.: Волошин М. А. «Жизнь – бесконечное познанье…» М.,1995. С. 17.
41 См.: Волошин М. А. Лики творчества. Л., 1988. С. 460.
42 Маковский С. К. Максимилиан Волошин // Маковский С. К. Портреты современников: Портреты современников. На Парнасе «серебряного века». Художественная критика. Стихи / Сост., подготовка текста и коммент. Е. Г. Домогацкой, Ю. Н. Симоненко; Послесловие Е. Г. Домогацкой. М., 2000. С. 200.
43 См.: Кочевых О. Искатель и ходатай // Отрок. UA. Православный журнал для молодежи. 2006. № 2 (21) Цит. по: [Электронный ресурс] -ua.ru/sections/art/ show/iskatel_i_khodatai.html?type=98&cHash=ecb92ec78a (дата обращения 18.06.2015).
44 «Вся власть Патриарху» (впервые опубликовано: Таврический Голос (Симферополь). 1918. № 67. 22 дек. С. 2).
45 Отец Арсений. Издание пятое. М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2009. Цит. по: [Электронный ресурс] -innokenti.prihocl.ru/users/54/854/eclitor_files/file/Ch^%20ApceHH^pclf (дата обращения 16.07.2015).
46 Эта книга, несомненно, выдающаяся по своим художественным достоинствам, в то же время вызывала и вызывает множество сомнений в качестве документального источника, несмотря на то что, наряду с «именными именами» (т. е. непроверяемым авторством) в ней содержатся указания на хорошо известные в отечественной церковной истории события и лица. Некоторые склонны считать о. Арсения собирательным образом священнослужителя эпохи советских гонений, существует мнение и о мистификации и даже – о провокации спецслужб (см .'.Дмитриев Н. Убить все живое (интернет-публикация на сайте «Библиотека Якова Кротова» / arseny.htm). «Волошинский» эпизод помещен в очерке «Поэты серебряного века», подписанном «Н. Т. Лебедев» и содержащем запись двух бесед с иеромонахом Арсением в 1972 г. Существенную часть этого очерка составляет явно подвергнувшийся литературной обработке пространный монолог некоего «Ильи Сергеевича», представляющий небольшой трактат, посвященный духовной состоятельности творчества крупнейших авторов серебряного века с точки зрения православной сотериологии. Понимая крайнюю сомнительность этого очерка как биографического документа, обращаем внимание на любопытную деталь. Несомненно, что книга «Отец Арсений» вызывает одобрение многих ведущих деятелей современной Русской Православной Церкви и, таким образом, может, в какой-то мере, служить иллюстрацией их понимания духовной ценности литературного наследия «серебряного века». В этом смысле Волошин оказывается среди немногих поэтов начала XX века, творчество которых принимается практически безоговорочно. Помимо него в этот православный «золотой фонд» попали Николай Гумилев, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Надежда Павлович и Георгий Чулков.
47 Корамышев С., иерей. Достоин ли Максимилиан Волошин анафемы? Цит. по: [Электронный ресурс] voloshin_anafemy/ (дата обращения 23. 07. 2015).
48 Художественное творчество с его условностью и сложным отношением автора к создаваемому им вымышленному миру никогда не становилось само по себе предметом осуждения в русском Православии – все конфликты подобного рода (как, например, уже упомянутое в комментариях «Определение» Св. Синода о деятельности Л. Н. Толстого) возникали вокруг непосредственных богословских деклараций, не имеющих отношения к литературе. Это, кстати, понимает и сам. о. Сергей: «Волошин не оставил никакого оригинального философского (религиозного) трактата. Может быть, поэтому он пока избежал участи Е. П. Блаватской (которую всегда почитал) и Н. К. Рериха, что были преданы анафеме на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в ноябре 1994 г. – как проповедники богоборческих, антихристианских идей». Кроме того, указывая (справедливо) на идейно-художественные противоречия в произведениях и позиции позднего Волошина, о. Сергей почему-то игнорирует открытое исповедание им своей православности во время гонений и личной смертельной опасности, что, разумеется, – коль скоро речь идет о церковном осуждении – не может быть не учтено, как положительный аргумент огромной силы.
49 Гумилев Н. С. Пятистопные ямбы (1915).
Антропоцентризм как миропонимание
Богостроитель Горький А. В. Моторин
Алексей Максимович Пешков, более известный под литературным прозвищем Максим Горький, очень не любил Православие. Его нелюбовь сложилась в детстве, с годами нарастала и отражала усредненное отношение российского общества той эпохи к отечественной вере. Своим творчеством писатель такую неприязнь отражал, выражал и распространял. Читая Горького, можно понять глубинные духовные причины сокрушительных мировоззренческих и государственных переворотов, охвативших Россию в начале XX века и подспудно действующих до сих пор. Биографические книги «Детство» (1912–1913), «В людях» (1914–1915), равно как и многие другие произведения писателя, потоком подавляющих образов свидетельствуют о падении веры православной в народе. А прижизненная любовь, которую Горький снискал у многих читателей, подтверждает точность его свидетельства.
Конечно, Горький писал воспоминания уже в свои зрелые годы, да к тому же писал художественно, и это накладывало отпечаток на воспроизведение его детских представлений, но так или иначе писатель раскрыл собственный взгляд на становление своего мировосприятия, своей веры.
Православие, неотделимое от церковной жизни, изначально и прочно связалось в его сознании с образом его деда. Духовная жизнь, насаждаемая дедом, внешне выглядела благостно, пусть и скучно: «Перед ужином он читал со мною псалтирь, часослов или тяжелую книгу Ефрема Сирина, а поужинав, снова становился на молитву, и в тишине вечерней долго звучали унылые, покаянные слова…» («Детство») (13, 89)1. Однако в домашнем быту и вне дома благопристойность постоянно вступала в кричащее противоречие со злом, насилием, обманом, творимыми больше всех тем же дедом. Как следствие, в душе ребенка складывалось и укреплялось представление о Православии как вере злой, ложной и лживой, угнетающей человека, тем более, что и в толковании самого деда «бог» был жесток, а значит, подавал такой пример человеку: «Рассказывая мне о необоримой силе божией, он всегда и прежде всего подчеркивал ее жестокость: вот согрешили люди – и потоплены, еще согрешили – и сожжены» («Детство») [13, с. 86].
Иная вера – светлая, добрая, окрыляющая душу, воплощалась в образе бабушки. Ребенку верилось, что у бабушки и деда разные «боги»: «Дед водил меня в церковь: по субботам – ко всенощной, по праздникам – к поздней обедне. Я и во храме разделял, когда какому богу молятся: все, что читают священник и дьячок, – это дедову богу, а певчие поют всегда бабушкину. Я, конечно, грубо выражаю то детское различие между богами, которое, помню, тревожно раздвоило мою душу, но дедов бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не любил никого, следил за всем строгим оком, он, прежде всего, искал и видел в человеке дурное, злое, грешное. Было ясно, что он не верит человеку, всегда ждет покаяния и любит наказывать» («Детство») [13, с. 89].
Все упование детской души обращалось к «богу» бабушки: «В те дни мысли и чувства о боге были главной пищей моей души, самым красивым в жизни, – все же иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и злость. Бог был самым лучшим и светлым из всего, что окружало меня, – бог бабушки, такой милый друг всему живому. И, конечно, меня не мог не тревожить вопрос: как же это дед не видит доброго бога?» («Детство») [13, с. 89].
Пытливый ум ребенка начинал сомневаться в истинности дедова «бога»: «Мне было трудно поверить в жестокость бога. Я подозревал, что дед нарочно придумывает все это, чтобы внушить мне страх не пред богом, а пред ним» («Детство») [13, с. 87].
Особенно усиливались сомнения оттого, что вера деда при внешнем благолепии оправдывала грехи, преступления: «У меня долго хранились дедовы святцы, с разными надписями его рукою. В них, между прочим, против дня Иоакима и Анны было написано рыжими чернилами и прямыми буквами: "Избавили от беды милостивци". Я помню эту "беду": заботясь о поддержке неудавшихся детей, дедушка стал заниматься ростовщичеством, начал тайно принимать вещи в заклад. Кто-то донес на него, и однажды ночью нагрянула полиция с обыском. Была великая суета, но все кончилось благополучно; дед молился до восхода солнца и утром при мне написал в святцах эти слова» («Детство») [13, с. 88–89].
Желая отомстить деду за избиение бабушки, мальчик решил обезобразить эти любимые дедом святцы, которые раньше и сам с удовольствием рассматривал, вспоминая знакомые жития святых: «Но теперь я решил изрезать эти святцы и, когда дед отошел к окошку, читая синюю, с орлами, бумагу, я схватил несколько листов, быстро сбежал вниз, стащил ножницы из стола бабушки и, забравшись на полати, принялся отстригать святым головы. Обезглавил один ряд, и – стало жалко святцы; тогда я начал резать по линиям, разделявшим квадраты, но не успел искрошить второй ряд – явился дедушка <…>» («Детство») [13, с. 138].
С течением времени внутреннее сопротивление Православию в душе ребенка нарастало: «В церкви я не молился, – было неловко пред богом бабушки повторять сердитые дедовы молитвы и плачевные псалмы; я был уверен, что бабушкину богу это не может нравиться, так же, как не нравилось мне, да к тому же они напечатаны в книгах, – значит, бог знает их на память, как и все грамотные люди» («В людях») [13, с. 266].
Вместе с тем, от бабушки мальчик услышал, что «бог не все знает»: «С той поры ее бог стал еще ближе и понятней мне» («Детство») [13, с. 84]. Вера бабушки создавала ее собственный очеловеченный образ бога, который и привлекал мальчика своей внутренней соприсущностью природе и человеческой душе: «Ее бог был весь день с нею, она даже животным говорила о нем. Мне было ясно, что этому богу легко и покорно подчиняется все: люди, собаки, птицы, пчелы и травы; он ко всему на земле был одинаково добр, одинаково близок. <…> Бабушкин бог был понятен мне и не страшен, но пред ним нельзя было лгать, – стыдно. Он вызывал у меня только непобедимый стыд, и я никогда не лгал бабушке. Было просто невозможно скрыть что-либо от этого доброго бога, и, кажется, даже не возникало желания скрывать» («Детство») [13, с. 82–83].
Истинный «бог бабушки» существует везде, даже в церкви, где с ним можно вступить в общение при отрешении отхода богослужения, поверх обряда: «Мне нравилось бывать в церквах; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас – он точно плавится в огнях свеч, стекая густозолотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы. Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странною жизнью сказки <…>» («В людях») [13, с. 265]. Очертания церковной обрядности, образы икон растворяются в природно-духовном бытии, животворимом «странною жизнью сказки», веяниями язычества, апокрифов, еретических учений: «Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенною, ни на что не похожею жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано у меня рассказом бабушки о граде Китеже <…>» («В людях») [13, с. 266].
При столкновении мечтательной веры с обыденностью из души ребенка излетают собственные молитвы, первые порывы словотворчества, которые запомнились писателю на всю жизнь:
Господи, господи – скушно мне! Хоть бы уж скорее вырасти! А то – жить терпенья нет, Хоть удавись, – господи прости! («В людях») [13, с. 266]Главный источник этой жизненной скуки, как представлялось юному Горькому, – сухая обрядность Православия, воплощенная в начетничестве деда и обличаемая бабушкой: «А скушно, поди-ка, богу-то слушать моленье твое, отец, – всегда ты твердишь одно да все то же. <…> от своей-то души ни словечка господу не подаришь ты никогда, сколько я ни слышу!» – шутливо попрекнула деда бабушка, а тот в ответ «бросил блюдечко в голову ей, бросил и завизжал, как пила на сучке: „Вон, старая ведьма!“» («Детство») [13, с. 89].
Само обучение чтению на основе священных книг, будучи исполненным сухого начетничества, подсекало живую веру: «Эта путаница бессмысленных слогов страшно утомляла меня, мозг быстро уставал, соображение не работало, я говорил смешную чепуху и сам хохотал над нею, а дед бил меня за это по затылку или порол розгами. Но нельзя было не хохотать, говоря такую чепуху, как например: мыслете-он-мо = мо, рцы-добро-веди-ивин = рдвин = = мордвин <…>. Понятно, что вместо мордвин, я говорил – мордин, однажды сказал вместо богоподобен – болтоподобен, а вместо епископ – скопидом. За эти ошибки дед жестоко порол меня розгами или трепал за волосы до головной боли. <…> Это была пытка, она продолжалась месяца четыре, в конце концов я научился читать и "по-граждански" и "по-церковному", но получил решительное отвращение и вражду к чтению и книгам» («Как я учился», 1918–1922) [14, с. 223–224]. Церковнославянская азбука вызывала особенную неприязнь и в целом связывалась с образом деда: «Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: "земля" походила на червяка, "глаголь" – на сутулого Григория, "я" – на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки» («Детство») [13, с. 65].
Изо дня в день, из года в год пытливые наблюдения вели мальчика к новым сомнениям. В итоге вера православная стала держаться только на страхе наказания, которое наступало не столько от «бога», сколько от людей, служащих ему: «Они вовлекали бога своего во все дела дома <…> Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня, и невольно я все оглядывался по углам, чувствуя себя под чьим-то невидимым надзором, а ночами меня охватывал холодным облаком страх, – он исходил из угла кухни, где перед темными образами горела неугасимая лампада» («В людях») [13, с. 270]. В детском восприятии этот «бог» страшен тем, что умеет простирать свою насильственную власть с небес на землю. Даже «добрый бог бабушки» (13, 270) не может уберечь от этого всепроникающего зла и допускает привлечение насилия ее устами: «Вот скажу дедушке – он те кожу-то спустит!» («Детство») [13, с. 84].
Поскольку мальчик в конце концов притерпелся к непрестанным телесным истязаниям, ушел и страх перед опасным дедовым «богом»: «<…> разумеется, мне помог в этом добрый бог бабушки». [13, с. 270].
На склоне лет писатель уточнил свой детский пантеон: «Лет восьми я знал уже трех богов: дедушкин – строгий, он требовал от меня послушания старшим, покорности, смирения, а у меня все это было слабо развито, и, по воле бога своего, дедушка усердно вколачивал качества эти в кожу мне; бог бабушки был добрый, но какой-то бессильный, ненужный; бог нянькиных сказок, глупый и капризный забавник, тоже не возбуждал симпатий, но был самый интересный. Лет пятнадцать-двадцать спустя я испытал большую радость, прочитав некоторые из сказок няньки о боге в сборнике "Белорусских сказок" Романова. По сказкам няньки выходило, что и все на земле глуповато, смешно, плутовато, неладно, судьи – продажны, торгуют правдой, как телятиной, дворяне-помещики – люди жестокие, но тоже неумные, купцы до того жадны, что в одной сказке купец, которому до тысячи рублей полтины не хватало, за полтинник продал ногайским татарам жену с детьми, а татары дали ему полтину подержать в руках да и угнали его в плен, в Крым к себе, вместе с тысячей рублей, с женою и детьми» («О сказках», 1935) [27, с. 401].
В отрочестве наступило окончательное отчуждение Алеши Пешкова от православной Церкви: «Прогуливал я и обедни, особенно весною, – непоборимые силы ее решительно не пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку-это окончательно губило меня: я покупал бабок, всю обедню играл и неизбежно опаздывал домой. А однажды ухитрился проиграть целый гривенник, данный мне на поминание и просфору, так что уж пришлось стащить чужую просфору с блюда, которое дьячок вынес из алтаря» («В людях») [13, с. 270].
Святотатство становится укорененной чертой личности мальчика. Уже в юности, работая в иконописной мастерской и в лавке церковной утвари, Горький украл икону и Псалтырь (по видимости, из чувства сострадания к человеку, который попросил его это сделать). По ходу дела он замешкался под давлением отнюдь не высоконравственного соображения: «<…> подумалось: выдаст меня этот человек! Но трудно было отказать, и я дал ему икону, но стащить псалтирь, стоивший несколько рублей, не решился, это казалось мне крупным преступлением. Что поделаешь? В морали всегда скрыта арифметика; святая наивность "Уложения о наказаниях уголовных" очень ясно выдает эту маленькую тайну, за которой прячется великая ложь собственности» («В людях») [13, с. 434]. Потом, впрочем, украл: «Уж если тонуть, так на глубоком месте» [13, с. 435].
Важной вехой утраты веры стала первая исповедь, пройденная Великим постом. Предвкушая ее, отрок боялся, но когда признался священнику в краже просфор из разных храмов, причем не ради еды, а для продажи с последующей игрой на деньги в бабки, и кроме того признался, что в беседку священника «камнями кидал», а в ответ услышал добродушно-торопливое: «…и это нехорошо… Ступай! <…> Следующий» – тогда он «ушел, чувствуя себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно!» [13, с. 272]. На другой день, на Пасху, отрок не пошел на свое первое Причастие, а вместо того провел всю службу у церковной ограды, играя с мужиками на деньги, выданные ему для пожертвования. И снова был удивлен, когда домашние даже не заметили этого важного переломного упущения в его жизни.
Более всего духовную жизнь Алеши Пешкова расхолаживала его развитая с детства склонность видеть во всем скрытую ложь, проникавшую даже церковную и околоцерковную жизнь. Одно из его ранних стихотворений, описывает подаяние нищим:
Как у наших у ворот Много старцев и сирот Ходят, ноют, хлеба просят, Наберут – Петровне носят, Для коров ей продают И в овраге водку пьют. («Детство») [13, с. 135]Бабушка пыталась воспитывать: «А над нищими не надо смеяться, господь с ними! Христос был нищий и все святые тоже…». Но в ответ услышала:
Не люблю нищих И дедушку – тоже <…> [13, с. 135].Показательно опасен в мире Горького главный символ христианства – крест Христов. В повести «Детство» дяди Алеши по сути убили тяжелым обетным крестом его друга Цыганка: когда тот оступился под ношей, они «сбросили крест» [13, с. 47], который и придавил его. Во время похорон матери Алеши «бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, <…> наткнулась на крест и разбила себе лицо» («Детство») [13, с. 201].
Не удивительно, что и церковный благовест он воспринимал как нечто смертоносное: «Похоронно гудят колокола церквей, – этот унылый звон всегда в памяти уха. Кажется, что он плавает в воздухе над базаром непрерывно, с утра до ночи, он прослаивает все мысли, чувства, ложится пригнетающим медным осадком поверх всех впечатлений» («В людях») [13, с. 393].
Узконаправленное внимание юного Алексея Пешкова отмечает случаи безнравственного поведения студентов Казанской Духовной академии (в сопоставлении с нравственным достоинством студентов светского университета). Слушая, как продажные женщины ругают студентов за особенную извращенность, юноша пытается защищать: «<…> я, видя, что Тереза возбуждает вражду к людям, уже излюбленным мною, говорил, что студенты любят народ, желают ему добра», – а в ответ слышит: «Так то – студенты с Воскресенской улицы, штатские, с университета, я ж говорю о духовных, с Арского поля. Они, духовные, сироты все, а сирота растет, обязательно, вором или озорником, плохим человеком растет, он же ни к чему не привязан, сирота» («Мои университеты», 1922–1923) [13, с. 541–542].
Один из нарочитых образов губительности Православия Горький создает в очерке «9 Января» (1906), где стадо простого народа сознательно ведет на убой духовный пастырь-предатель «отец Гапон» (7, 168). Отчужденность народа, а с ним и писателя, от Православия подчеркнута, казалось бы, мимолетной подробностью: люди из толпы многократно называют священника не по имени, как принято, а по фамилии.
Некоторое время юного Горького привлекало старообрядчество – своим противостоянием Православию и кажущейся твердостью, высокой духовностью, нравственностью, однако очень скоро он убедился, что эта «вера по привычке – одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни; в области этой веры, как в тени каменной стены, все новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры – фосфорический блеск гниения. Вера, за которую они с удовольствием и с великим самолюбованием готовы пострадать, – это, бесспорно, крепкая вера, но напоминает она заношенную одежду, – промасленная всякой грязью, она только поэтому мало доступна разрушающей работе времени. Мысль и чувство привыкли к тесной, тяжелой оболочке предрассудков и догматов и хотя обескрылены, изуродованы, но живут уютно, удобно» [13, с. 397].
Собственно, все это закоснение писатель усматривал и в Православии.
В дальнейшем православная вера вызывала у него лишь нарастающее отвращение, которое проявлялось разнообразно, часто в мимолетных, но весьма значимых подробностях. Так, неприязнь к кресту, главному символу христианства, соответствовала отношению кТаинству Крещения-основе веры Христовой.
В. Ф. Ходасевич вспоминал, как однажды Горький отказался стать «крестным отцом <…> ребенка» – при том, что в просьбах никогда никому не отказывал: «<…> к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно»2. Пренебрежение Таинством Крещения при вынужденном согласии его совершить отразилось в «Жизни Клима Самгина» (1925–1936). Где-то в конце 1870-х интеллигентный отец новорожденного героя подбирает ему имя, глядя не в святцы, а «устремив голубиные глаза свои в окно, в небеса, где облака, изорванные ветром, напоминали и ледоход на реке и мохнатые кочки болота» [19, с. 9]. Выбрав «простонародное имя» Клим, он оправдывается после совершения Таинства: «Я хотел назвать его Нестор или Антипа, но, знаете, эта глупейшая церемония, попы, „отрицаешься ли сатаны“, „дунь“, „плюнь“…» [19, с. 10]. Церковь в этой интеллигентской среде не признавали, а Священное Писание толковали рассудочно-иносказательно. Отец наставляет маленького Клима по поводу пройденной на «уроке закона божия» темы: «Христос тоже Исаак, бог отец отдал его в жертву народу. Понимаешь: тут та же сказка о жертвоприношении Авраамовом» [19, с. 23].
Даже и под конец жизни, будучи признанным вождем советских писателей, руководителем многих издательских предприятий, Горький не забывал и не уставал отслеживать и выпускать в свет все, что так или иначе осуждало православную Церковь. К примеру, 24 февраля 1936 г. он пишет Н. Накорякову: «"Безбожникам" следовало бы издать полный текст записок Голубинского, автора "Истории церкви", профессора Московской] духовной академии. Я слышал, что записки эти обличают автора как атеиста, главное же-дают интереснейший материал о церковниках в их быте» [30, с. 429]3.
Вместе с тем, Горький всегда считал, что без веры человек жить не может, и потому непрестанно и неустанно он утверждал и насаждал свое понимание веры и «бога». В его воспоминаниях о детстве и юности как раз и прослеживается постепенное, противоречивое становление собственной веры – в противоборстве Православию.
В сущности, всю свою творческую жизнь писатель занимался «богостроительством» (или, как это направление веры еще называли, «богосочинительством»): пытался, выстроить «бога» в себе, выстроить жизнь вокруг себя по своей «божественной» воле. Богостроительство писателя было именно богосочинительством: он сочинял бога словесно, художественно, силою творческого воображения. Чтобы преуспеть в этом сверхчеловеческом деле, он стремился привлечь в соучастники русский народ и – шире – все народы, все человечество, а для этого надо было силою художественного слова воспитывать людей в духе осознания ими своего божественного достоинства и предназначения.
Первоисточником, питавшим становление особенной веры Горького, стало устное народное словотворчество: бесчисленные сказки, сказания, песни, предания, духовные стихи с их смешанным магическим язычески-христианским (еретическим, сектантским) составом – все услышанное от бабушки, от няньки Евгении, от странников, заходивших в дом деда, от случайных попутчиков в годы юношеского бродяжничества.
Обозревая долгие прожитые годы, писатель отметил важность этого духовного источника: «Я думаю, что уже тогда сказки няньки и песни бабушки внушили мне смутную уверенность, что есть кто-то, кто хорошо видел и видит все глупое, злое, смешное, кто-то чужой богам, чертям, царям, попам, кто-то очень умный и смелый. Я рано, вероятно, лет восьми, почувствовал, что такая сила существует, это чувство внушалось мне резким различием между сказками, песнями и жестокой жизнью, которая окружала, душила, толкала меня, всячески обижая. Сила эта, конечно, не няньки Евгении, ее все в доме считали "выжившей из ума" <…>» [27, с. 396]; «Позднее, когда я внимательно прочитал литературу церковников – "жития святых", мне стало ясно, что чудеса, о которых рассказывает церковь, заимствованы ею из мудрых древних сказок, так что и тут, – как везде и во всем, – церковники жили за счет здоровой, возбуждающей разум творческой силы трудового народа» («О сказках», 1935) [27, с. 401].
В эпоху воинствующего безбожия более откровенно сказать о собственной вере было невозможно. Горький с отрочества стал все больше и все осознаннее верить в божественно премудрый и всесильный народ, творчески созидающий, преображающий, улучшающий жизнь своим творчеством, прежде всего духовным: сказками, песнями, посредством которых он мечтательно предвидит, а по сути замышляет будущее и воспитательно побуждает самого себя к осуществлению мечты. По сути, народ в представлении писателя – божество, в самом себе творящее веру в себя. Потому он особо и отметил, что «церковники» позаимствовали веру народа и народное представление о «боге». Всех выдающихся людей Горький считал божественными порождениями божественного народа.
Эта вера развивалась у него постепенно.
Умение читать добавило к воздействиям устного народного творчества многочисленные книжные источники. Как читатель Горький был всеяден, но все-таки ранние детские впечатления предопределяли выбор полюбившихся книг и служили закваской, образующей зрелую веру писателя.
Благодаря необыкновенной памяти и непрестанному чтению он легко накапливал материал для своего мозаичного образа мира и для своего вероисповедания.
«Крещенный святым духом честных и мудрых книг» («В людях») [13, с. 502], он стал относиться ко всем талантливым книгам как к «священному писанию человеческого духа» («Как я учился», 1918–1922) [14, с. 234]. В книгах еще в большей степени, чем в устном словотворчестве народа, он находил источники своей веры: «Я мог бы много рассказать о том, как чтение книг – этот привычный нам, обыденный, но в существе своем таинственный процесс духовного слияния человека с великими умами всех времен и народов – как этот процесс чтения иногда вдруг освещает человеку смысл жизни и место человека в ней, я знаю множество таких чудесных явлений, исполненных почти сказочной красоты. <…> [237] И с глубокой верою в истину моего убеждения я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку. Пусть она будет враждебна вашим верованиям, но если она написана честно, по любви к людям, из желания добра им – тогда это прекрасная книга! [239] Всякое знание – полезно, полезно и знание заблуждений ума, ошибок чувства. Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда» («Как я учился», 1918–1922) [14, с. 239–240].
Он всегда искал в книгах духовной пищи, воздействия на душу. Однако в разгаре советского безбожного материализма ему приходилось порою оттенками слога набрасывать легкий покров условности на свои священные понятия. Так прикровенно он пишет, например, Геннадию Фишу 6 мая 1933 года: «<…> книжка хорошая. Написано просто, живо, серьезно и – "духо подъем но". Последнее – особенно ценно в наши дни, когда обстоятельства угрожают дракой» [30, с. 308]. Заковыченность «духоподъемности», конечно, вынужденная.
Выстраивая свою веру на основе книгопочитания, Горький был по-своему аскетичен: «Я не пил водки, не путался с девицами, – эти два вида опьянения души мне заменяли книги» («В людях») [13, с. 501]. Он действительно воспринимал книги как опьяняющее магическое средство, способное ускорить раскрытие божественных возможностей человека.
По-настоящему приохотился к чтению отрок Алеша, прислуживая повару на пароходе – благодаря библиотечке этого повара, в которой была магическая оккультная литература вперемежку с революционно-демократической: «У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккартсгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф – с томом "Современника", тут же была "Искра" за 1864 год, "Камень веры" и книжки на малорусском языке. С этого момента моей жизни я начал читать все, что попадало под руку <…>» («Алексей Максимович Пешков, псевдоним Максим Горький», 1897) [23, с. 271]. Упомянутый в этой окрошке «Камень веры» Стефана Яворского – пример смешения Православия и католического магизма (Горького всегда влекли магические уклонения от истинного христианства).
С юности Горький увлекся учениями масонства, теософии, антропософии, которые привлекали его попытками смешать разнообразные магические предания и создать на этой основе всеобъемлющее учение о божественной природе человека4.
В советскую эпоху Горький сохранял пристальное внимание к различным проявлениями книжного магизма. Так, в статье «О С. А. Толстой» (1924) он упоминает «интересное исследование об Аполлонии Тианском» [14, с. 308] – знаменитом языческом философе-маге I века по РХ. В письме М. Шкапской от января 1923 он упоминает «Энойю» (божественную Софию) гностиков, смешивавших христианскую мистику с магией язычества и каббалы.
Словесные – вероучительные по сути – воздействия на свою душу Горький отражал, часто мимолетно, в воспоминаниях и в художественных произведениях. Чередой этих отражений проясняются истоки его вероисповедных переживаний – от ранних, не вполне осознанных, до зрелых.
Так детские представления о добром и злом боге могли быть навеяны гностическими, в частности, альбигойскими, богомильскими верованиями, распространенными в народном сектанстве5. Как заметил М. Агурский, «Горький не раз с сочувствием упоминает альбигойцев, в первый раз в повести „Трое“»6, написанной в 1900–1901 годах.
Богомилы упоминаются в повести «В людях»: «Богомилы, через которых вся нетовщина пошла, учили: сатана-де суть сын господень, старшой брат Исуса Христа <…>» [13, с. 399]. Упоминается богомильство и во втором томе «Клима Самгина»: «<…> Кумов продолжал говорить свое, как человек, несокрушимо верующий, что его истина – единственная. <…> он говорил с восторгом, похожим на страх: Тело. Плоть. Воодушевлена, но – не одухотворена – Вот! Учение богомилов-знаете? Бог дал форму-сатана душу. Страшно верно! Вот почему в народе – нет духа. Дух создается избранными» [20, с. 356–357].
От ранних детских лет и в течение всей жизни магические воздействия не встречали в душе Горького сопротивление, но, напротив, усиливались, взращивая его особое и вместе с тем по сути обычное для магии устроение собственной веры, созидающей свой мир силою слова и утверждающей человека как творца, господина и господа-бога этого творимого мира.
В бурную эпоху, на которую пришлось духовное становление писателя, и строительство его веры шло не гладко. Новый духовный кризис (после совершенного в отрочестве отвержения Православия) возник при резком столкновении магических установок, усвоенных с детства, и бездуховных умопостроений, производимых революционерами: народниками, марксистами, с которыми юноша сошелся после неудачной попытки поступить в Казанский университет в 1884 году. Знакомство с приземленным материализмом, дарвинизмом сильно смутило юную душу, которая изначально мыслила о себе более возвышенно. Выход был найден обычный для магии: «Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое <…>» («Мои университеты», 1922–1923) [13, с. 585].
Автобиографический рассказ «Случай из жизни Макара» (1912) под толстым слоем многословия несколькими точными образами указывает духовные причины самоубийственного настроения юного Горького. Причем, указывает даже помимо осознания автором, который посчитал, как следует из более позднего признания в «Моих университетах», что «рассказ вышел неуклюжим, неприятным и лишенным внутренней правды.<…>. Факты – правдивы, а освещение их сделано как будто не мною, и рассказ идет не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа – в нем для меня есть нечто приятное, – как будто я перешагнул через себя» [13, с. 585]. Тем не менее, автор невольно указал причины своей попытки самоубийства. И главная из них – отвержение православной веры (для которой лишение себя жизни – страшный, непрощаемый грех); причина сия словно бы случайно вскрывается в наркотическом бреду после операции: юноша видит, как «точно по воздуху плывут, три молодые монашенки, все в черном» и они поют:
О Спасе величный, О сыне девичный, — Вонми гласу люда, Зовуща тебя, о Спасе! —На что несостоявшийся самоубийца говорит им: «Вас обманули, <…>-обманули вас на всю жизнь…» [10, с. 426].
Вторая причина кризиса вполне осознана самим писателем: в порыве богозиждительной магии он слишком спешил и не успевал увлечь людей движением своей воли: «И верил, что, если убедить людей дружно взяться за работу самоосвобождения, – они сразу могли бы разрушить, отбросить в сторону все тесное, что угнетает, искажает их, построить новое, переродиться в нем, наполнить жилы новой кровью, и тогда наступит новая, чистая, дружная жизнь! <…> Каждое сегодня принималось им за ступень к высокому завтра, завтра, уходя все выше, становилось еще более заманчивым, и Макар не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от действительного сегодня, незаметно отделяют его от людей. Этому сильно помогали книги: тихий шелест их страниц, шорох слов, точно шепот заколдованного ночью леса или весенний гул полей, рассказывал опьяняющие сказки о близкой возможности царства свободы, рисовал дивные картины нового бытия, торжество разума, великие победы воли. Уходя все глубже в даль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота» [10, с. 409]. Ранее этот кризис отрыва жизнетворческой мечты от косной действительности Горький обостренно и символически изобразил в легенде о Данко, за которым пошли люди: «Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, – вот как!» («Старуха Изергиль», 1894) [1, с. 355].
Наконец, ближайшая на ту пору причина самоубийственного кризиса снова отмечена полуосознанным намеком – это встреча, по сути столкновение, с материалистами-революционерами: «Люди нового круга были еще более книжны чем он, они дальше его стояли от жизни, им многое было непонятно в Макаре, он тоже плохо понимал их сухой, книжный язык, стеснялся своего непонимания, не доверял им и боялся, что они заметят это недоверие. У этих людей была неприятная привычка: представляя Макара друг другу, они обыкновенно вполголоса или шепотом, а иногда и громко добавляли: "Самоучка… Из народа…"» [10, с. 410]. Между тем, при всей их атеистической приземленности Горький чувствовал за ними некую духовную силу и, прежде всего, силу знания о преобразовании мира. Он стремился приобщиться к их мирозиждительным усилиям, но первичная перестройка сознания оказалась очень болезненной и даже неприемлемой. В послеоперационном бреду Макара некая ворона каркает о недостаточной марксистской и дарвиновской просвещенности: «А вы всё еще не прочитали "Наши разногласия" и Циттеля, и Циттеля…» [10, с. 427] (имеется в виду труд марксиста Г. В. Плеханова и работы академика Карла Циттеля по ископаемым животным).
Бездуховный материализм, проповедуемый каркающей вороной в болезненном бреду, не мог удовлетворить страждущую душу. Горький чувствовал свою отчужденность от материалистических идей марксизма, как он сразу почувствовал бытовое отчуждение, разделившее его и представителей раннего русского марксизма.
После выздоровления юноша обращается к привычным для себя магическим источникам: «<…> в 1890 году я почувствовал себя не на своем месте среди интеллигенции и ушел путешествовать. Шел из Нижнего до Царицына, Донской областью, Украйной, зашел в Бессарабию, оттуда вдоль южного берега Крыма на Кубань, в Черноморье» («Алексей Максимович Пешков, псевдоним Максим Горький», 1897) [23, с. 271]. В годы странствий писатель познакомился с множеством перехожих носителей разных еретических, магических верований. Это, в частности, отразилось в повести «Исповедь» (1907–1908).
На исходе странствий, в 1892 году, он «напечатал свой первый очерк "Макар Чудра"» («Алексей Максимович Пешков, псевдоним Максим Горький», 1897) [23, с. 271]. Уже здесь – в созвучии человеческих сказаний и голосов природы – расцветает словесная магия воображения, преображающая действительность, стирающая грань между духовным и материальным бытием: «Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. <…> Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган – Лойке Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы. А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно <…>» [1, с. 21].
Вскоре Горький сумел найти и среди источников, питавших марксизм, нечто близкое себе и позволявшее продолжить далее привычное богосочинительство при сохранении полезных политических связей с революционерами. М. Агурский, в частности, отмечает влияние на Горького идей «Людвига Фейербаха и Огюста Конта. Фейербах утверждал, что бог – это проекция самого человека, а Конт предлагал создать религию человечества. <…> Имеется <…> прямая зависимость Горького от Конта в лице Берви-Флеровского, с которым Горький прожил несколько месяцев в одной квартире в Тифлисе в 1892 году. Берви-Флеровский был самым крупным идеологом религии человечества в России»7.
Непосредственно помогли писателю в его исканиях некоторые известные марксисты (Богданов, Базаров, Луначарский), которые собственно и основали философское течение «богостроительства», проповедуя свои взгляды, в частности, в школе, созданной в 1909 году на Капри при участии Горького.
Их перестало удовлетворять уныло рассудочное и бездуховное обоснование богостроительства на основе философского материализма, и они увлеклись махизмом с его стиранием границы между внутренним миром человеческой души и внешним бытием. Впрочем, такое обоснование всего лишь новым языком объясняло древнюю магическую убежденность в божественности человеческой души, творящей своей силой и волей свой собственный, распространяющийся бесконечно далеко вовне мир. Попытки такого обоснования не раз возникали в философии и всякий раз прямо влияли на художественное творчество и культуру в целом (в античности так мыслили, например, неоплатоники, в романтическую эпоху Нового времени – Шеллинг с его философией тождества, ранний Фр. Шлегель).
Из современной философии Горький опирался также на У. Джеймса, автора известной книги «Многообразие религиозного опыта» (1902). С Джеймсом писатель, видимо, познакомился во время путешествия по Америке в 1906 году. В книге «Заметки из дневника. Воспоминания» (1923) в заключительном разделе «Вместо послесловия» он приводит рассуждение философа о загадочном предназначении русского народа: «Через пять лет (в 1906. – А. М.), в Бостоне, философ-прагматист, Вильям Джеймс, говорил: ''Когда я читаю русских авторов, предо мною встают люди раздражающе интересные, однако я не решусь сказать, что понимаю их. В Европе, в Америке я вижу людей, которые кое-что сделали и, опираясь на то, что они уже имеют, стремятся увеличить количество материально и духовно полезного. Люди вашей страны, наоборот, кажутся мне существами, для которых действительность необязательна, незаконна, даже враждебна. <…> Очень интересный народ, но, кажется, вы работаете впустую, как машина на «холостом ходу». А может быть, вы призваны удивить мир чем-то неожиданным"» [15, с. 335]. Горького привлекали мысли Джеймса о том, что всякий человек, как и народ в целом, является творцом своей веры, то есть открываемой ему истины бытия, и вера эта проверяется, удостоверяется в деятельности человека, народа. Вслед за американским философом и еще более определенно писатель выражает надежду на то, что русский народ вот-вот создаст свою небывалую и спасительную для всего мира веру: «Я думаю, что, когда этот удивительный народ отмучается от всего, что изнутри тяготит и путает его, когда он начнет работать с полным сознанием культурного и, так сказать, религиозного, весь мир связующего значения труда, – он будет жить сказочно героической жизнью и многому научит этот и уставший и обезумевший от преступлений мир» [15, с. 336].
Так в первом десятилетии XX века Горький стал уже более строгим и зрелым мыслителем, прошедшим искус теоретических прений.
В зрелые годы писателю приходилось соотносить свою богостроительную философию с марксистским материализмом. В течение всей жизни он старался осмыслить сущность материи, отталкиваясь от грубого материализма и поднимаясь на уровень духовно-магического объяснения вещественного бытия. Среди близких писателю людей главным проповедником материализма был Ленин, и примечательно, что эта сторона взглядов пролетарского вождя в итоговом очерке «Ленин» (1930) затушевана. Горький постоянно собирает и приводит высказывания против материализма. Так, в очерке «Время Короленко» (1923) сочувственно передается пространное рассуждение семинариста А. Ф. Троицкого о материализме как «банкротстве разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине» [15, с. 25]. Причем, все «явления» жизни, не упорядоченные человеческим разумом, писатель, вслед за своим семинаристом, определяет как «хаос». Троицкий высказывает близкую Горькому мысль о нелепости любого ограничения творческой свободы человеческого (по сути – божественного) духа, хоть со стороны Маркса, хоть со стороны Церкви: «Историческая необходимость – такая же мистика, как и учение Церкви о предопределении» [15, с. 25]. В очерке «Блок» (1919–1924) писатель пытается представить, как из материального бытия порождается духовное: «В мозговом веществе человека эта материя непрестанно превращается в психическую энергию <…> Когда-то вся "материя", поглощенная человеком, претворится мозгом его в единую энергию. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей» [15, с. 331–332].
Спустя десять лет, в письме Г. Грековой от 3 марта 1934 года писатель рассуждает в том же духе: «Вам, философу, не следует забывать, что разум человеческий вырос в процессах труда по реорганизации грубо организованной материи и сам по себе является не чем иным, как тонко организованной и все более тончайше организуемой энергией, извлеченной из материи посредством тысячелетнего разнообразного и тягчайшего труда человеческих масс» [30, с. 337].
По сути, Горький признает бытие материи в магическом платоническом понимании: безликая и всепорождающая материя оплодотворяется, одухотворяется, творческими образующими усилиями человека. Соборным творчеством народов из материи возникают духовные силы, начала, сущности, существа – как добрые, так и злые, ибо и люди разделяются по отношению к добру и злу.
Становление богостроительства постепенно прослеживается по письмам писателя. Чехову между 22 и 25 июня 1899 года он пишет: «Знаете, очень приятно и вкусно видеть искренно верующего человека. Редки люди с живым богом в душе. А поп – такой. Милый, ясный попик!» [28, с. 84]. Уже здесь заметно: Бог только в вере, в душе и вполне понятен человеку, ибо и сотворен им. И. Е. Репину 23 ноября 1899 то же представление излагается более развернуто: «Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он – все. Он создал даже бога. Искусство же есть только одно из высоких проявлений его творческого духа, и поэтому оно лишь часть человека. Я уверен, что человек способен бесконечно совершенствоваться, и вся его деятельность – вместе с ним тоже будет развиваться, – вместе с ним из века в век. Верю в бесконечность жизни, а жизнь понимаю как движение к совершенствованию духа. Но вижу также, что развитие человека с некоторой поры идет криво – развивается ум наш и игнорируются чувства» [28, с. 101].
Одновременно Горький начинает выступать против «богоискателей» – философов, писателей, ищущих «бога» не в человеке, а вовне. Резко осуждая одного из вождей богоискательства, Д. С. Мережковского («Митьки Мережковского»), он пишет В. С. Миролюбову в декабре 1901 года: «Посмотрел бы я на всех этих искателей бога, с которыми ты возишься! Думаю, что все это – людишки, принявшиеся бога-то искать от стыда пред собой за пустоту своей жизни или от страха перед противоречиями ее. <…> и вот люди, не имея силы и храбрости смело встать на защиту попранного властью человеческого права жить, свободно перестраивая порядки жизни, – люди эти лицемерно уходят в уголок, где спокойно рассуждают [28, с. 211] о Христе. Кто верует-тот не рассуждает <…>. Суть в том – соединимо ли учение Христа – бога или человека, – которого вы любите, по словам вашим, – с тою жизнью, которой живете, с тем порядком, которому вы рабски служите, с тем угнетением человека, которое вы – не споря против него-утверждаете?» [28, с.212].
Литературное творчество для Горького становится подлинным богослужением человека самому себе, строящему «бога»: «Отношение к литературе как к отхожему промыслу – цинично и подло. Богослужение – не ремесло, оно требует веры и любви, а литература – служение человечеству, кое создало даже и богов. <…> найдите в хаосе событий самого себя и поставьте свою волю в ряд воль, творящих общечеловечье, доброе, против воль, препятствующих этому великому творчеству, в коем и заключен смысл жизни» (И. Н. Захарову 23 июля 1911) [29, с. 172].
Даже в поздние годы жизни Горький в переписке не скрывает своих богостроительных убеждений: «Человек – чудо, [30, с. 75] единственное чудо на земле, а все остальные чудеса ее – результаты творчества его воли, разума, воображения. Он и богов выдумал потому, что все хорошее, что он в себе чувствовал, он не мог воплотить в реальную жизнь <…> Напрягайте всю силу Вашей воли. Когда чего-нибудь сильно хочешь – достигаешь всего, чего хотел. Человек все может сделать из себя» (И. В. Львову 24 февраля 1928 года) [30, с. 75–76].
Влияние философского богостроительства подтвердило еще детские представления Горького о божественном жизнетворчестве народа, навеянные сказками, песнями. С философией согласовалась и утвердившаяся с детства мысль о том, что народ творит усилиями своих выдающихся представителей, таких как Макар Чудра, старуха Изергиль, сам Горький, который то ли выдумал сказителей своих рассказов, то ли списал с жизни. К вождям-жизнетворцам, порожденным народом, писатель причислял и таких сочинителей, как совсем невыдуманные марксисты-богостроители с одной стороны, и, с другой – рьяный противник их построений материалист Ленин (в толковании Горького – человек по-своему духовный, богоносный).
Сам народ, от лица которого Горький и его кумиры (вымышленные и невымышленные) творили жизнь, представал у писателя каким-то неопределенным, во всяком случае не вполне русским в лице этих лучших и творческих представителей, вождей (русским только по языку, но не по духу и не по крови, что особо отмечалось). Дух русского народа был испорчен Православием – неправильной, по мнению Горького, верой, и этот дух портил русскую кровь.
В широком магическом понимании богостроительство у Горького стало выражаться начиная с первых рассказов. В узко философском смысле подобные взгляды наметились в драме «На дне» (1902), где они, высказываемые Сатиным, сначала противоречиво сочетаются, а в итоге согласуются с магией божественного творческого воображения, проповедуемой от лица Луки (как это согласование совершалось в душе самого Горького).
Лука проповедует: «А чего? Человек – все может… лишь бы захотел…» [6, с. 131]. Сатин разъясняет вероучение Луки: «Молчать! <…> Дубье… молчать о старике! <…> Старик – не шарлатан! Что такое – правда? Человек – вот правда! Он это понимал… вы – нет! <…> Я – понимаю старика… да! Он врал… [6, с. 165] но – это из жалости к вам, чорт вас возьми! <…> А кто – сам себе хозяин… кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев… Правда – бог свободного человека!» [6, с. 165–166]. По сути, у Сатина, как и у Луки всякий сильный человек является источником «правды» как истины бытия, равно как и «ложь» его является источником этой истины и оборотной стороной правды. Ложь и правда образуют особую действительность, управляемую творцом лжи и правды: в границах жизнеустройства, творимого человеком, притязающим на божественность, то и другое равноценно и взаимообратимо. Сатин разъясняет: «Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они… нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… [6, с. 169] в одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Понимаешь? Это – огромно! В этом – все начала и концы… Всё – в человеке, всё для человека! Существует только человек, все же остальное-дело его рук и его мозга! Человек! Это – великолепно! Это звучит… гордо!» [6, с. 169–170].
Самообожающийся человек царствует в средоточии горьковского мира, он определяет, что есть истина, что ложь, точнее, стирает границу между тем и другим как между противоположными гранями одного нераздельного целого, которое можно еще и поворачивать, как угодно. Ходасевич удивлялся постоянному вниманию, даже любви Горького к разнообразным проявлениям обмана, лжи: «"Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду", – писал он Е. Д. Кусковой в 1929 году»8. Вопрос о взаимообратности истины и лжи – едва ли не главный в творчестве писателя.
Утешения лукавого (но и благовествующего, подобно тезоименитому евангелисту) Луки вполне выражаются в читаемых Актером строчках стихотворения «Безумцы» французского поэта Пьера Жана Беранже (1780–1857) в переводе (1862) Василия Степановича Курочкина:
Господа! Если к правде святой Мир дорогу найти не умеет, — Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой! [6, с. 140].Ложь может спасать, а правда – убивать (Актер, узнавший «правду», удавился). Впрочем, и губительная правда, и животворная ложь едины и неразрывны в мире Горького: и то, и другое годится в зависимости от сиюминутных потребностей определенного человека. В настоящем творчестве правда легко оборачивается ложью, ложь – правдой, и все это круговращение составляет истину жизнетворения, совершаемого силою человеческого божественного духа. Этому вопросу Горький посвятил одну из ранних сказок: «О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины» (1893). Истина у Горького всегда двоится, порождая ложь, которая тут же оборачивается новой истиной, и так далее: «<…> все только и помышляют, как бы это поблагочестивее объегорить друг друга. Лгут и притворяются и по необходимости, то есть ради успеха в делах, и бескорыстно, науки и техники ради, и в видах бескорыстного служения чистому искусству лганья и притворства, и, наконец, без всякой видимой причины. Конечно, были факты и бескорыстной дружбы и самопожертвования и взаимопомощи. Я видел их много, и некоторые из них до сей поры цельны и чисты. Но большинство хорошего оказывалось, по некотором изучении, еще хуже дурного» («Биография», 1893) [1, с. 84].
По завершении «На дне» Горький пишет богостроительную поэму «Человек» (1903): «Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком свете его медленно шествует – вперед! и – выше! трагически прекрасный Человек! Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них – лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в моменты утомленья – творит богов, в эпохи бодрости – их низвергает» [5, с. 362].
Далее богостроительство отчетливо проявилось в романе «Мать» (1906), что отметил, например, М. Агурский: «Сам Павел Власов рассуждает в богостроительных терминах: "Я говорил не о том добром и милостивом Боге, в которого вы веруете, а о том, которым попы грозят нам, как палкой… В церкви нам пугало показывают… Переменить Бога надо, мать, очистить его". А еретик Рыбин высказывается более определенно: "Там, где Бог живет, – место наболевшее. Ежели выпадает он из души, – рана будет в ней, – вот! Надо… веру новую придумать… надо сотворить Бога – друга людям!". Сама Ниловна, совершающая духовную эволюцию, начинает ставить существование Бога в зависимость от людей: "Ведь и Христа не было бы, если бы его ради люди не погибали!"»9.
Вершинным художественным воплощением богостроительства Горького стала повесть «Исповедь» (1907–1908). Здесь показан исконный и главный источник богостроительства в сознании писателя – антихристианское сектантство. Проповедует эти взгляды старик-странник Иона, иронично указывающий собственные духовные корни: он по духовной сути чуть ли не бес, или, по крайней мере, великий грешник («Шестьсот лет прошло!» как из ада) [8, с. 324]. Было у него и прозвище: «Зовут, – говорит, – Иегудиил, людям веселый скоморох, а себе самому – милый друг! <…> Был попом недолго, да расстригли и в
Суздаль-монастыре шесть лет сидел! За что, спрашиваешь? Говорил я в церкви народушке проповеди <…»> [8, с. 326–327].
По Ионе-Иегудиилу, вера – это и есть истина (соответственно, верный – истинный). Вера – суть человеческого самообожения, то есть осуществления своей божественности в творении мира сообразно собственной воле: «<…> вера – великое чувство и созидающее! [8, с. 329]. А родится она от избытка в человеке жизненной силы его; сила эта – огромна суть и всегда тревожит юный разум человеческий, побуждая его к деянию. Но связан и стеснен человек в деяниях своих, извне препятствуют ему всячески, – всё хотят, чтобы он хлеб и железо добывал, а не живые сокровища из недр духа своего. И не привык еще, не умеет он пользоваться силами своими, пугается мятежей духа своего, создает чудовищ и боится отражений нестройной души своей – не понимая сущности ее; поклоняется формам веры своей – тени своей, говорю! <…> Кто есть бог, творяй чудеса? Отец ли наш или же-сын духа нашего? <…> Не бессилием людей создан бог, нет, но – от избытка сил. И не вне нас живет он, брате, но – внутри! Извлекли же его изнутри нас в испуге пред вопросами духа и наставили над нами, желая умерить гордость нашу, несогласную с ограничениями волю нашу. Говорю: силу обратили в слабость, задержав насильно рост ее! Образы совершенства – поспешно делаются; это – вред нам и горе. Но люди делятся на два племени: одни – вечные богостроители, другие – навсегда рабы пленного стремления ко власти над первыми и надо всей землей. Захватили они эту власть и ею утверждают бытие бога вне человека, бога – врага людей, судию и господина» [8, с. 329–330].
Надо понимать неслучайность прозвища Ионы: Иегудиил (с еврейского – «Хвала Божия», «Славящий Бога») – один из семи архангелов: «Бог послал Иегудиила предшествовать Израилю, исповедающему единого истинного Бога, при покорении земли языческих народов»10. Основное имя старца – Иона – оттеняет смысл прозвища. В библии Иона – единственный из всех пророков, который был послан Богом просвещать не евреев, а язычников (жителей Ниневии). Через Иону шло мягкое, духовное покорение языческих народов, а через Иегудиила – жесткое, насильственное. Ясно, что под язычниками Горький понимал здесь всех, кого следовало обратить в истинную богостроительную веру.
Иегудиил Хламида – псевдоним, под которым Горький печатает свои ранние самарские фельетоны. Дав своему старцу Ионе, прозывавшему себя Иегудиилом, собственное свое раннее писательское прозвище, Горький подчеркнул близость себе богостроительных взглядов старца, а также изначальную укорененность этих взглядов в своем творческом самосознании. Важно и то, что имя архангела Иегудиила известно по церковному библейскому преданию, а не Писанию. Собственно в еврейском предании, толкующем Ветхий завет, имена архангелов связаны с каббалистической магией, послужившей важным источником для становления масонского, теософского и антропософского магизма эпохи серебряного века. Горький с удовольствием припадал к этим книжным источникам, и основной перевод имени архангела как «Хвала Божия» воспринимался им как хвала человеку, в котором сияет божественная благодать, и который как богочеловек прославляет в своем творчестве собственное божественное достоинство. Предназначение Иегудиила – не только прославлять Бога, но и быть пастырем народа на пути к Богу (то есть к своему собственному божественному достоинству, согласно Горькому) – и тем самым, покорять все разнообразие язычества истинной вере.
Вместе с тем, язычество Горький любил и ценил, чувствуя в духовной основе многобожия нечто родственное своему собственному магизму, питаемому всебожием. Язычество представлялось ему ранними попытками богостроительного творчества в жизни разных народов. Он стремился использовать язычество во всем бесконечном разнообразии, пантеистически переплавляя в новой всеобъемлющей вере. Отсюда, видимо, происходит вторая часть раннего прозвища писателя: Хламида – распространенная верхняя одежда-накидка эпохи эллинизма, когда человечество пыталось создать обобщения языческих верований, по разному включая в эти обобщения и возникшее христианство, при этом магически искажая в разнообразных гностических ересях духовную суть веры во Христа Иисуса. Объединенный символизм прозвища «Иегудиил Хламида» означает приведение людей к истинной вере в собственную, творящую самое себя божественность под единым защитным и прельстительно-обаятельным покровом разноликой языческой магии.
Совершенным богостроителем на основе древнейшего язычества Горький считал Пришвина, которому писал 22 сентября 1926: «Я думаю, что такого природолюба, такого проницательного знатока природы и чистейшего поэта ее, как Вы, М. М., в нашей литературе – не было. <…> В чувстве и слове Вашем слышу я нечто древлее, вещее и язычески прекрасное, сиречь – подлинно человеческое, идущее от сердца Сына Земли – Великой Матери, богочтимой Вами. <…> [29, с. 476] Когда-нибудь некий философствующий критик будет писать о Вашем "пантеизме" или "панпсихизме" или "гилозоизме" и замажет человеческое лицо Ваше патокой похвал или горчицей поучений. А для меня вот Вы теперь, в этот день утверждаете совершенно оправданный, крепко Вами обоснованный геооптимизм, тот самый, который – рано или поздно – человечество должно будет принять как свою религию. Ведь если человеку суждено жить в любви и дружбе с самим собою, со своей природой, если ему положено быть "отцом и хозяином всех своих видений", а не рабом их – каков он есть ныне – к этому счастью он может дойти только Вашей тропою» [29, с. 476–477].
Люди, подобные Пришвину, в восприятии Горького – боги, порождаемые народом для развития своих собственных богостроительных, жизнетворческих устремлений. Среди таких людей-богов писатель особо отмечает Иисуса Христа. Иона в «Исповеди» утверждает: «Христос, первый истинно народный Бог, возник из духа народа, яко птица феникс из пламени» [8, с. 336].
Особость Христа, по мнению Ионы, в том, что он попытался уверить людей в их равном божественном достоинстве: «Долго поднимал народ на плечах своих отдельных людей, бессчетно давал им труд свой и волю свою; возвышал их над собою и покорно ждал, что увидят они с высот земных пути справедливости. Но избранники народа, восходя на вершины доступного, пьянели и, развращаясь видом власти своей, оставались на верхах, забывая о том, кто их возвел, становясь не радостным облегчением, но тяжким гнетом земли. Когда видел народ, что дети, вспоенные кровью его, – враги ему, терял он веру в них, то есть – не питал их волею своею, оставлял владык одинокими, и падали они, разрушалось величие и сила их царств. Понял народ, что закон жизни не в том, чтобы возвысить одного из семьи и, питая его волею своей, – его разумом жить, но в том истинный закон, чтобы всем подняться к высоте, каждому своими глазами осмотреть пути жизни, – день сознания народом необходимости равенства людей и был днем рождества Христова! Многие народы разно пытались воплотить свои мечты о справедливости в живое лицо, создать господа для всех равного, и не однажды отдельные люди, подчиняясь напору мысли народной, старались оковать ее крепкими словами, дабы жила она вечно. И когда все эти мысли были сплочены – возник из них живой бог, любезное дитя народа – Иисус Христос!» [8, с. 336–337].
Однако сам Горький понимал, что Христос – это тоже особое, возвышенное порождение народа, и его призвание уравнивать людей касается большинства, но не избранников-вождей. Бывает, народ долго и скучно живет ради того, чтобы возник один яркий необыкновенный человек, который резко продвигает народное бытие на новую, более высокую ступень. Образы таких людей пронизывают все творчество писателя, составляя некий пантеон: Данко, Павел Власов, Ленин, Пришвин и подобные им. Об этом рассуждает в «На дне» Лука (в пересказе Сатина, то есть уже точно сам автор, разделивший единство своих взглядов между этими двумя героями): «А-для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, живут столяры и всё – хлам-народ… И вот от них рождается столяр… такой столяр, какого подобного и не видала земля, – всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает… и сразу дело на двадцать лет вперед двигает… Так же и все другие… слесаря, там… сапожники и прочие рабочие люди… и все крестьяне… и даже господа – для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что для лучшего! По сту лет, а может, и больше – для лучшего человека живут!» [6, с. 166]. Сам Лука об этом говорит кратко: «Есть – люди, а есть – иные – и человеки…» [6, с. 155].
Такова светлая сторона веры в народа-боготворца у Горького. Однако кроме «человеков» в его мире есть и просто люди, серые, скучные, а есть и люди яркие, но злые, несущие разрушение и смерть. Бывает, целые народы охватываются духами злобы, порождаемыми в их же недрах, питаемыми их же силами. Бывает, отдельные общественные слои внутри народа впадают в демоническое зло и начинают разрушать здоровую часть того же народа. Так возникает внутренняя борьба классов, вспыхивают гражданские войны. Все это Горький видел, отображал, и возникшие образы составляют темную сторону его художественного мира. Например, он очень любил итальянский народ, находя в его современном состоянии лишь мелкие недостатки («Сказки об Италии», 1906–1913), а в русском народе видел много настораживающих противоречий («Русские сказки», 1912–1917). Он видел, как народная толпа может в одночасье потерять человеческий облик («Погром», 1901). Через его творчество проходят бесконечные образы пьяного русского буйства.
Перемены в русской народной вере Горький наблюдал непосредственно и не просто наблюдал, но деятельно участвовал (прежде всего – словом) в создании перемен. В очерке «9 января» (1906) писатель исследует, как с помощью неких вождей и творимой ими «веры» стихийно-природная «толпа», напоминающая «темный вал океана» [7, с. 167], превращается в народ, настроенный на историческое творчество новой жизни. «Вера» – это сила духа, которая объединяет всех и дает общую цель жизни. До январского расстрела 1905 года народ верил в образ царя, созданный Церковью, но это был «хмель самообмана» [7, с. 170]. Новая вера питается уже разумной «мыслью».
Беспристрастно свидетельствует писатель, как американский народ подпадает под власть злотого тельца («Город желтого дьявола» – «В Америке», 1906). В письме Ромену Роллану 6 мая 1933 с удивлением и горечью отмечает он, как просвещенный и одухотворенный немецкий народ (да и Запад в целом) в одно историческое мгновение впадает в настоящее беснование: «Все, что сейчас творится в Европе и – под ее разлагающим влиянием – на Востоке, да и всюду в мире, показывает нам, до чего трагикомически не прочны основы буржуазной, своекорыстной, классовой культуры. Вы знаете: я – марксист, не потому, что читал Маркса, кстати скажу: я мало читал его, да и вообще в книгах я ищу не поучения, а наслаждения красотой и силою разума. Ложь, лицемерие, грязный ужас классового строя я воспринимал непосредственно от явлений жизни, от фактов быта. Поэтому происходящее в наши дни, возбуждая отвращение, не очень изумляет меня. По всем посылкам, которые наблюдал я за полсотни лет сознательной моей жизни, явствовало, что вывод из этих посылок должен быть грозным и сокрушительным. И – вот он, вывод: в стране Гёте, Гумбольдта, Гельмгольца и целого ряда колоссально талантливых людей, чудесных мастеров и основоположников культуры, – в этой стране всей жизнью ее безответственно, варварски командует крикливый авантюрист, человечишко плоского ума, бездарный подражатель искусного актера Бенито Муссолини. В этой стране, где проповедовалась идея культурной гегемонии немецких мещан над мещанами всей Европы, – теперь проповедуется отказ от культуры, возвращение назад, даже не к средневековью, а – ко временам Нибелунгов. Кто-то уже кричит: долой Христа! Возвратимся к Вотану! Это – на мой взгляд-уже юмористика, "комическое антре" клоуна. Не заметно, чтоб этот крик волновал "наместника Христа на земле", князя самой хитрой и сильной церкви, столь чуткого ко всему, что творится в Союзе Советов, где антикультурная деятельность малограмотных попов все еще не прекращена. И снова – гонение на евреев! Позор этого гонения лежал до Октябрьской революции на России, на ее "диком, варварском народе", который вообще не знал еврея, [30, с. 309] ибо еврей в деревнях – не жил. И вот Германия ХХ-го века заимствовала этот позор от "варварского" народа. Какая дьявольская гримаса» [30, с. 309–310].
В собственной душе, как и в душе всякого отдельного человека, писатель прослеживает борьбу доброго и злого начал. Так люди разделяются в своем служении ими же творимым богам: добрым и злым. Так в детстве он выбирал между злым богом деда и добрым бабушкиным богом.
Болезненное раздвоение души проявлялось по-разному: «Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично страшного, начинал относиться к жизни, к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильною жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них… Другой, крещенный святым духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно и, как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию» («В людях») [13, с. 502].
Под действием обстоящего зла в мрачных областях писательской души рождаются темные, недобрые слова, они ткутся паутиной, опутывающей мир вокруг: «Убийственно тоскливы ночи финской осени. <…> Тоска. И – люди ненавистны. Написал нечто подобное стихотворению <…>
Сквозь стекла синие окна — Смотрю я в мутную пустыню, Как водяной с речного дна Сквозь тяжесть вод, прозрачно синих, Гудит какой-то скорбный звук, Дрожит земля в холодной пытке, И злой тоски моей паук Ткет в сердце черных мыслей нитки. [15, с. 285]. <…> Что я тебе, дьявол, отвечу? Да, мой разум онемел. Да, ты всю глупость человечью Жарко разжечь сумел! Вот – вооруженными скотами Всюду ощетинилась земля И цветет кровавыми цветами, Злобу твою, дьявол, веселя! <…> Что теперь от ненависти к людям Душу мою спасет? («Заметки из дневника. Воспоминания», 1922–1923. – Гл. «Из дневника»). [15, с. 286].Лекарство от зла, творимого людьми и заражающего его душу, Горький знал только одно – магию своей веры, своего творческого воображения: «<…> мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, бессильная подняться выше, лететь вперед, – в тяжелые часы усталости духа я вызываю пред собой величественный образ Человека» («Человек», 1903) [5, с. 362].
У большинства людей злые боги. И сами эти люди как некие боги-творцы порождают бытие скучное, мрачное, хаотическое, смертоносное. Главный бог в их мире – Смерть, которая многолика и может, например, представать в виде христиански понимаемого дьявола. Черт часто мелькает в мире Горького, порою проникая даже в названия произведений («О черте», 1899; «И еще о черте», 1905). К нему, как и к смерти, писатель старается относиться с иронией, рассматривая это злое начало как оборотную, темную, противоборствующую сторону своего творческого «Я». («Читатель», 1898). Однако ирония эта романтическая, она скорее утверждает, нежели отрицает бытие порождаемых человеческими верованиями злых духов. Черти в его мире возникают на границе жизни и смерти, будучи служителями зла и смерти. Ирония при их описании порою не может скрыть какой-то почти осязательной очевидности, как, например, в письме Л. М. Леонтьеву 31 декабря 1927 года: «Что я хворал – верно. Простудился, и – воспаление правого легкого. Было очень скверно, задыхался. Уже – черти приходили, трое. Обыкновенные. Спрашивают: "Ну, что – готов?" – "Нет, – говорю, – у меня роман не кончен". – "Ну, – говорят, – ладно, нам не к спеху, а от романа – тошно не будет, мы – не читаем". – "Неграмотные?" – "Нет, грамотные, рецензии пишем, а читать – времени не хватает, да и к чему оно – читать, ежели сами пишем?" Постояли и мирно ушли, один – банку с лекарством захватил нечаянно, другой – туфлю унес. А я после этого выздоравливать начал и выздоровел, и вот – Зощенко подражаю» [30, с. 59]. Здесь иронически передается и толкуется, видимо, действительно приключившийся болезненный бред, то есть духовное видение, которое для Горького, человека магического сознания, отнюдь не было чем-то пустым, несущественным.
Смерть – наиболее полное, емкое и властное проявление противного жизни начала, соприсущного «Я» и непреодолимо отрицающего бытие частной человеческой души. Частное должно раствориться в общем, личное – в народном. Так преодолевается смерть: через признание ее необходимости. Могут быть частные и только временные победы над ней («Девушка и смерть», 1892).
Но в итоге смерть обязательна, и все, в конце концов, должны быть «призваны к исполнению скучной и неприятной общечеловеческой повинности» (письмо Ф. П. Хитровскому от 19 февраля 1933, Сорренто) [30, с. 288].
Не только темная, но и относительно светлая сторона горьковской души признает торжество смерти, ибо для магического сознания личная гибель – это неизбежный, а при усилии воли еще и самый прямой, краткий и успешный путь к полному самообожествлению. Будучи писателем-магом, Горький о личном бессмертии рассуждает как-то вяло и редко, ведь стать богом, оставаясь ограниченным человеком, немыслимо. Так, например, на вопрос Блока: «Что думаете вы о бессмертии, о возможности бессмертия?» – Горький ответил с сомнением: «Я сказал, что, может быть, прав Ламеннэ: так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторятся в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье, в Летнем саду» («А. А. Блок», 1924) [15, с. 331]. Прозвучало неубедительно, и свою неуверенность писатель вложил в ответ Блока: «Это вы – несерьезно?» [15, с. 331]. В ответ на просьбу уточнить свое собственное мнение Горький предполагает, что личное бессмертие, возможно, сохранится в общем составе всеединого человеческого духа, впрочем, не известно, в какой мере, и уж точно не в нынешнем состоянии человечества: «Лично мне – больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую "мертвую материю" в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь "мир" в чистую психику» [15, с. 331].
Другое дело – смерть, она всегда услужливо рядом и всегда манит: «Интересно умирал один мой знакомый, человек лет под шестьдесят, благовоспитанный и симпатичный, один из тех людей, которые всю жизнь ищут применения своим недюжинным силам и умирают, не успев израсходовать себя. <…> Умирать нужно так же красиво и чисто, как следует жить <…>» («Из воспоминаний», 1917) [14, с. 217].
В смерть и хочется верить по преимуществу. И. Д. Сургучеву 13 января 1912 он пишет: «А с Вашей мыслью ''ужас в том, что мы не верим в смерть", – в корне не согласен и даже возмущен ею. <…> Нет, мы не верим в возможность хорошей жизни на земле и отсюда – "самосожжения", секта "Красной смерти", Терновская трагедия, бегство от жизни в леса и пустыни – у мужика, нигилизм, анархизм и периодические эпидемии самоубийств – у интеллигентов» [29, с. 221]. Горький перебирает разные учения о смерти, предпочитая древние и новые изводы пантеизма: «Буддийский катехизис читал, читал "Сутту-Нипату", "Буддийские сутты" в переводах Герасимова, читал Арнольда и "Душу одного народа" – Фильдинга, что ли, не помню автора. Читал также архиепископа Хрисанфа, и все это купно с Шопенгауэром, который значительно красивее и проще, – не нравится мне. <…> Бессмертие? Не надо. Не хочу. Повторяю – "благословен закон бренности, обновляющий дни жизни!" Аллилуйя!» [29, с. 221].
Писатель-бог, как и всякий выдающийся творец, соединяет в своей душе начала жизни и смерти. Покуда жив, он разрушает или просто предает забвению целые миры, созданные и существовавшие до него, ради создания чего-то нового, прекрасного и привлекательного: «И так хочется дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы всё – и сам я – завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни – красивой, бодрой, честной…» («В людях») [13, с. 510].
Магическое сознание, воспитанное с детства, внушало веру в безграничные жизнетворческие возможности, пусть и временно соприсущие писателю: «Верить – хотелось, ибо книги уже внушили мне веру в человека. Я догадывался, что они изображают все-таки настоящую жизнь, что их, так сказать, списывают с действительности, значит – думал я – и в действительности должны быть хорошие люди, отличные от дикого подрядчика моих хозяев, пьяных офицеров и вообще всех людей, известных мне» («Как я учился», 1918–1922) [14, с. 233]. «Действительность» при этом Горький понимает не плоско материалистически, а скорее, по Аристотелю и Гегелю: как плод божественной духовной «энергии» (с греч. – «действия, деятельности») бытия, соприсущей и человеческой душе. Отсюда дальнейшее рассуждение: «Ведь если "все бывает", значит, будет и то, чего мне хочется? Я замечал, что во дни наибольших обид и огорчений, наносимых мне жизнью, в тяжелые дни, которых слишком много испытал я, именно в такие дни чувство бодрости и упрямства в достижении цели особенно повышается у меня, в эти дни меня с наибольшею силою охватывало юное Геркулесово желание чистить авгиевы конюшни жизни. Это осталось со мною и теперь, когда мне пятьдесят лет, останется до смерти <…>» [14, с. 234].
Так людьми с помощью воображения и слова создается высшая божественная действительность: «Прославим поэтов, у которых один бог – красиво сказанное, бесстрашное слово правды, вот кто бог для них– навсегда!» («Сказки об Италии», Сказка IX) [10, с. 41]. Правда и есть то, что утверждается силой слова и становится частью бытия.
О людях, увиденных в жизни и ставших частью его воображения, Горький заметил в «Старухе Изергиль» (1894): «Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее» [1, с. 337]. В этой высшей действительности воображения пребывают все могучие творцы, порождаемые народом, и они продолжают творить эту действительность, вовлекая в нее за собою весь народ: «Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: "Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?" И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд» [1, с. 357].
Уже в начале творческого пути Горький мыслит о человеческом воображении как божественной силе, творящей определенные образы из первобытно-хаотической, неопределенной и текуче-неуловимой материи. Материя для него как для некоего последователя платонизма-женская, страдательная стихия бытия, не существующая самостоятельно. Так он мыслил в начале творческого пути и по сути так же – на самом закате жизни: «А потому разрешите предложить на усмотрение Ваше такую тему: вещество и энергия человека. Вы берете вещество как нечто непрерывно оплодотворяемое энергией людей, трудом их мысли и фантазии. <…> пора учиться думать о взаимоотношениях вещества и существа (Б. Н. Агапову 1 мая 1936) [30, с. 440].
Тяжкая бытовая жизнь со всей ее осязательностью также имеет в мире Горького значение лишь как жизнь души, пусть и души задавленной, мертвеющей: «Меня давит эта жизнь, нищая, скучная, вся в суете ради еды, и я живу, как во сне» («В людях») [13, с. 265]. Эта жизнь и проходит у большинства людей как сон, не оставляя следа, если кто-то ее не закрепит в слове, пусть и тяжелом и в общем-то никчемном. Однако лучше, если слово будет красивым, очаровательным, песенным, сказочным:
А Марка – уж нету… Но все же От Марка хоть песня осталась. А вы на земле проживете, Как черви слепые живут: Ни сказок о вас не расскажут, Ни песен про вас не споют! «Легенда о Марко» (1903). [5, с. 361].Приступая к работе над «Жизнью Клима Самгина», Горький 15 марта 1925 года пишет С. Цвейгу о русских интеллигентах-революционерах в духе своей эстетики жизнетворчества: «В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького) [19, с. 542]. В советское время подобные мысли писателя понимали только применительно к той части интеллигенции, которая отошла в сторону по мере развития революции. Некоторые его высказывания под влиянием самоцензуры давали повод так думать. Однако в глубине души он имел в виду всех, включая и марксистов, просто жизнетворческая сила последних представлялась ему более мощной, плодотворной.
А как было Горькому при советской власти не сдерживаться в выражении сокровенного, если и до революции 1917-го, но уже после революции 1905-го, когда можно было писать и печатать все, что угодно, ему приходилось выслушивать, например, от Ленина такую, рубящую, как топор, отповедь своему богостроительству: «<…> всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая демократической буржуазией, – именно поэтому это – самая опасная мерзость, самая гнусная "зараза". Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные "идейные" костюмы идея боженьки. <…> богостроительство не есть ли худший вид самооплевания?? Всякий человек, занимающийся строительством бога или даже только допускающий такое строительство, оплевывает себя худшим образом, занимаясь вместо "деяний" как раз самосозерцанием, самолюбованием, причем "созерцает"-то такой человек самые грязные, тупые, холопские черты или черточки своего "я", обожествляемые богостроительством [8, с. 506]. <…> Вы употребляете прием, который (несмотря на ваши наилучшие намерения) повторяет фокус-покус поповщины: из идеи бога убирается прочь то, что исторически и житейски в ней есть (нечисть, предрассудки, освящение темноты и забитости, с одной стороны, крепостничества и монархии, с другой), причем вместо исторической и житейской реальности в идею бога вкладывается добренькая мещанская фраза (Бог = «идеи будящие и организующие социальные чувства»)» [8, с. 507]. Так поучал Ленин Горького в ноябре 1913 по поводу его статьи «О "карамазовщине"», считая богостроительство в ней – «остатками "Исповеди"» [8, с. 506].
В послереволюционной беседе с Блоком Горький объяснил эту свою скрытность: «Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти, о любви – вопросы строго личные, интимные, вопросы только для меня. Я не люблю выносить их на улицу, а если, изредка, невольно делаю это – всегда неумело, неуклюже» («Блок», 1919–1924) [15, с. 339]. Объяснение половинчато-уклончивое в устах человека, который всю жизнь стремился проповедовать свою веру, учить людей.
Впрочем нередко, особенно на склоне лет, ему надоедало скрытничать и он более откровенно выражал заветные убеждения, как, например, в письме С. Н. Сергееву-Ценскому 30 декабря 1927 года: «Но, м. б., именно поэтому у меня – тоже человечка – к нему – Человеку – непоколебимое чувство дружелюбия. <…> Особенно восхищает меня дерзость его, не та, которая научила его птицей летать и прочее в этом духе делать, а дерзость поисков его неутомимых. "И бесплодных". А – пусть бесплодных. "Не для рая живем, а – мечтою о рае", – сказал мне, юноше, старик-сектант, суровый человечище, холодно и даже преступно ненавидевший меня. Это он хорошо сказал. Мечтателей, чудаков, "беспризорных" одиночек – особенно люблю. Горестные Ваши слова о "жалком" человеке я могу принять лишь как слова. Это не значит, что я склонен отрицать искренность их. Увы, моралисты! В каждый данный момент человек искренен и равен сам себе. Притворяется? Ну, как же, конечно! Но ведь это для того, чтоб уравнять себя с чем-то выше его. И часто наблюдал, что, притворяясь, он приотворяется в мир. Это – не игра слов, нет. Это иной раз игра с самим собой и – нередко – роковая игра» [30, с. 58].
Язычество для Горького – более совершенная ступень в развитии человечества, нежели христианство, но высшая ступень – это новая вера, творимая божественным умом человека из преображенного язычества с его мифами, сказками. Магия язычества – предвестие этой веры. Частичное предвестие этой веры писатель усматривает в католичестве как магическом уклонении от христианства: «Культ мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ: мадонна проще Христа, она ближе к сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит геенной – она только любит, жалеет, прощает, – ей легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь» («Сказки об Италии», Сказка VIII) [10, с. 33].
Вообще язычество пленяет свободой словотворчества, а значит, и жизнетворчества. Этим оно, по Горькому, возвышается над христианством: «Обратите внимание на следующее: от "языческих" религиозных воззрений, богатых всевозможными противоречиями, довольно слабо канонически и государственно организованных и – как "церковь" – почти не стеснявших свободу религиозного мифотворчества, – вы переходите к церкви христианской, организованной византийски хитроумно, строго и жестко, о чем говорит ее пятивековая жесточайшая борьба с "ересями", в дальнейшем – тысячелетний мрачный гнет, а еще ближе к нам – усердная помощь ей со стороны идеалистической философии» («О религиозно-мифологическом моменте в эпосе древних» (Письмо А. А. Суркову, 1936) [27, с. 496].
Из мифологии язычества Горький выводит магию современного искусства и науки, а в христианстве он видит источник всевозможного духовного закоснения: «В мире живут две мысли: одна, смело глядя во тьму загадок жизни, стремится разгадать их, другая признает тайны необъяснимыми и, в страхе пред ними, обоготворяет их. Для одной – нет непознаваемого, существует только непознанное, другая – верит, что мир непознаваем навсегда. <…> Первая нередко сама отдает себя мукам сомнений в силе своей, но холод скептицизма только оздоровляет ее, и, еще более сильная, она снова видит цель бытия в деянии; вторая – всегда живет в страхе пред собою, ей кажется, что кроме нее есть нечто высшее – начало, родственное ей, но – враждебное и грозно охраняющее тайну своего бытия. <…> Чаще всего эта вторая мысль пресмыкается на папертях храмов, умоляя о милостыне внимания к ней – силу, созданную ее же страхом. Это она, разлагаясь, отравляет землю ядами метафизики и мистики, первая же мысль на пути своем украшает мир дарами искусства и науки» («Из дневника», 1917) [14, с. 207–208].
Следуя подобным убеждениям, писатель приветствует русское сектантство как уклонение от Православия в магию. Язычество и антихристианская еретическая магия дают ему материал для строительства его собственного богозданного мира.
В творческом наследии Горького есть несколько ключевых образов, раскрывающих его представление о божественной природе человека. Среди этих образов самым близким, человечным и понятным для простого народа является образ Матери. Когда журналисты спросили у писателя, какие свои произведения он считает особенно подходящими для советской молодежи, он 18 ноября 1927 года назвал вслед за «Песней о Соколе» и «Песней о Буревестнике» сказку «Мать» из «Итальянских сказок» (1906–1913), добавив: «Мне кажется, что теперь перед матерями стоят новые и огромные задачи и что девицам из комсомола следует подумать и над этой своей ролью в жизни»11. Из других рассуждений Горького видно, что он в равной мере ценил все сказки, посвященные матерям в «Сказках об Италии», а также роман «Мать» (1906–1907), подуху примыкающий к ним. Обобщая материнскую тему в своем творчестве, он пишет 11 января 1928 года Н. В. Чертовой: «Всего лучше – Ваша уверенность в том, что должны придти гениальные женщины. Я тоже с юности верю в это – должны придти, придут. Читали вы мою „сказку“ – „Мать“? Это – в „Итальянских сказках“. В этой поэме я выразил „романтически“, и как умел, мой взгляд на женщину <…>: мать мира, мать всех великих и малых творцов „новой природы“, новой жизни» [30, с. 62]. Трудно сказать, какую из четырех материнских по тематике сказок писатель имел в виду в этих письмах, ибо в конечном тексте «Итальянских сказок» они лишь пронумерованы и лишены названий. Вполне вероятно, что он имел в виду любую из них, столь близких по духу – предоставляя выбор читательскому вкусу.
Ранее, в январе 1923 года Горький пишет М. Шкапской предельно откровенно о своем понимании материнства: «<…> женщина – Родоначальница, и в деле строения мира приоритет за нею. Здесь речь идет не о "Прекрасной даме", Энойе и прочем в этом роде, это является уже производным, частностями, тут говорится о Судьбах, о "Матерях" Гете, о той глубине, которую скорее чувствуешь, чем понимаешь»12. «Судьбы» – это Мойры, богини судьбы из греческой мифологии, а «Матери» Гете – богини-родительницы всего сущего, особо почитаемые бесом Мефистофелем в поэме «Фауст» – вершинном творении известного писателя-масона. Энойя гностиков (в иных толкованиях этого магического учения – София), равно как и поздний извод этого гностического образа – «Прекрасная дама» в творчестве Блока – все это мифологические образы, противопоставляемые в магическом искусстве христианским представлениям и в особенности1\1– образу Пресвятой Богородицы. Женщины-матери в мире Горького – «богородицы», порождающие в удачных случаях «божественных» сынов: «<…> без Матери – нет ни поэта, ни героя! <…> Поклонимся женщине – она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлен злыми <…> [43] Поклонимся Той, которая неутомимо родит нам великих! Аристотель – сын Ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер – это всё Ее дети, все они пили Ее молоко, и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана, – вся гордость мира – от Матерей!» («Сказки об Италии», Сказка IX) [10, с. 43–44]. «Прославим женщину – Мать, неиссякаемый источник всё побеждающей жизни!» [10, с. 39]. Эта писательская мифология питалась исканиями в русле «богостроительства».
Мать в одноименном романе постепенно осознает, к какому «божественному» делу породила она своего сына Павла, и становится готовой жертвенно служить этому делу, не боясь смерти. Горький написал роман вскоре после первой русской революции 1905 года и с удовольствием созерцал плоды предсказанного и отчасти внушенного им «материнского» развития России после двух революций 1917 года. Ныне живущие россияне, многие из которых еще зубрили к школьным урокам «Песню о соколе» и «Песню о Буревестнике», могут засвидетельствовать, чем все эти богостроительные порывы завершились на исходе XX века. Да и сам Горький со свойственной ему лукавой насмешливостью сразу же и предсказывал в своем творчестве такой исход. Жертвует собою и, судя по смыслу оборвавшегося романного повествования, гибнет мать Павла Власова. Мать в Xl-й сказке из «Сказок об Италии» убивает своего сына-предателя, а затем и себя. Мать в Х-й сказке долго ухаживает за прожорливым сыном-уродом, терпеливо кормит его, но когда узнает от иностранцев, что он – зримое свидетельство вырождения и умирания итальянского народа «впереди всех романских рас» [10, с. 50], – ее сын на другой день вдруг «объелся чем-то и умер в судорогах». В сказке XXII-й мать, стараясь доказать подросшей дочери свое превосходство в силе и привлекательности для мужчин сначала побеждает ее в беге, а затем торжествующе пляшет в безудержном танце со многими сменяющимися от усталости мужчинами – до тех пор пока не падает от разрыва сердца. И даже в самой благополучной по видимости IX-й «итальянской» сказке мать как символическое начало жизни приходит в поисках пропавшего в плену сына к Тимуру-Тамерлану (олицетворению смерти в мире Горького), и тот, покоренный ее напором, обещает найти ей сына, но так и не находит, ибо его царство – царство смерти.
Мать у Горького вправе сама решить, удачен или неудачен плод, ею порожденный, и она вправе (даже обязана) в случае неудачи отправить его в небытие, откуда перед тем извлекла на свет. Далеко не каждая мать вполне осуществляет такое свое божественное предназначение. Самым близким для писателя примером не совсем неудачной матери стала его собственная. В биографическом «Изложении фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца» (1893) он высказывает мысль о том, что иным матерям «следует травить своих детей еще во чреве» [1, с. 75], чтобы не отплатить мирозданию за свое удовольствие «одним или двумя существами, подобными мне». Впрочем, слова, касающиеся себя самого, писатель, подумав, вычеркнул – ведь они противоречили его гордой самооценке (хотя в глубине его миросозерцания непоявление на этот свет – быть может, еще большее благо).
Впрочем, за несколько минут до своей смерти мать, как свидетельствует Горький в повести «Детство», все-таки попыталась из последних сил убить его: «<…> схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя, – нож вырвался из руки у нее» [13, с. 200]. Неудачность этой попытки, конечно, впоследствии осмыслялась писателем как знак его пригодности для строительства нового мира.
Если у матерей главная задача – порождать божественных сынов, то у сынов – творить из хаоса уже существующего испорченного бытия новый, прекрасный и богоугодный мир. С годами Горький все более склонялся видеть лучших представителей мужественных устроителей бытия среди революционе-ров-марксистов – просто потому, что они обрели власть для управления материальным миром согласно их замыслам. С некоторыми из них, например с Луначарским, Горький и занимался богостроительством. Силу их просветительского воздействия на народ писатель любил изображать. Таков, например, образ просвещенного марксистами Павла Власова в романе «Мать». Высшим воплощением марксиста-просветителя Горький с годами стал считать Ленина. В итоговом очерке о вожде народа, так и названном «В. И. Ленин» (1924–1930), создан яркий образ демиурга, который «до конца понял свою роль в хаосе мира, – роль врага хаоса» [17, с. 29].
О хаотической бессмыслице этой жизни, привносимой неумелыми, нетворческими людьми, Горький рассуждает с ранних лет творчества, например, устами «черта» в рассказе «О черте» (1899). Однако если черти как враги жизни пытаются закрепить хаос бытия, то революционеры (творцы новой жизни) нацелены на его преображение и установление прекрасного порядка. Важно отметить, что хаос у Горького не присущ божественной природе, но является последствием неверных действий людей, позабывших о своем высоком предназначении или вообще недостойных этого предназначения.
Божественные матери в мире Горького могут порождать не только сынов и новых матерей, но и прекрасных богинь-девственниц, вроде древнегреческой Артемиды, чье главное предназначение – не порождение новой жизни, но явление миру красоты, прелести и силы уже существующего природного бытия, не испорченного дурным человеческим вмешательством. Эти девственницы
Горького, бесплодные в любви, пожалуй, еще более опасны для мужской части испорченного человечества, нежели мстящие своим несовершенным творениям матери. Такова красавица-цыганка Радда в рассказе «Макар Чудра» (1892).
В не меньшей мере такова же скромная и не роковая на вид Варенька Олесова из одноименной повести 1896 года. Она – «иностранка» (греч. «варварос») в мире обычных серых, пошлых людей, придавленных рассудочной городской жизнью. Она – богиня леса (О-лес-ова), расцветающая в окружении своей естественной среды. Лес в ее присутствии предстает как храм: «В сосновом лесу было торжественно, как в храме; могучие, стройные стволы стояли, точно колонны, поддерживая тяжелый свод темной зелени» [2, с. 540]. Полканов признает: «Лес хорош… а вы в нем как фея… или – вы богиня, и лес – ваш храм» [2, с. 541]. И она «свою философию» основывает на пантеизме, считая себя порождением, естественным ответвлением божественной природы: «Бог меня создал, как всех, по образу и подобию своему – значит, все, что я делаю, я делаю по его воле и живу – как нужно ему… Ведь он знает, как я живу? Ну, вот и все <…>» [2, с. 523]. Она – солнцепоклонница, как и все хорошие, богоносные человеки у Горького: «Я везде найду нужное направление – стоит только посмотреть на солнце» [2, с. 540].
Сближение с нею ввергает в духовное пространство античной трагедии, языческого рока, смертоносной любви, сулящей губительное причастие божественному бытию. Она предупреждает поверженного ударами Полканова: «Ведь я могла бы убить, если б в руки попало что другое» [2, с. 565].
Сам Полканов, сообразно изысканной автором фамилии, соотносится с Полканом славянской мифологии – существом, соединяющим человеческий верх и животный низ, наподобие древнегреческого кентавра. Он словно бы вырастает из божественной природы, наполовину одухотворяясь, как вырастает и Варенька, но только та представляет более высокое и властное божественное проявление. В нем борются разум и страсти, и борьба эта замешана на трагической античной мифологии. «"Венера и рабы, обласканные ею", – подумал Полканов», любуясь Варенькой [2, с. 540]. Однако он заблуждался, приняв Артемиду-девственницу за Венеру, за что и был наказан с посрамлением, причем, легко отделался, если следовать пониманию самого писателя. Впрочем, нечто от несдержанной в страсти Венеры есть и у Вареньки: первая (приключившаяся в 17 лет) и, кажется, единственная любовь – к избитому до полусмерти «конокраду» [2, с. 532] – тому, кто распутывает и уводит на волю коней. А ведь и Полканов именуется Ипполитом – «распрягающим коней», так что и Варенька относится к нему временами с благосклонностью – когда он не умствует. И эта ее Венерина составляющая успешно сводит его с ума, так что в итоге он превращается в обезумевшего дикого Полкана, готового разнести вдребезги свою верхнюю человеческую часть – в соответствие с греческим мифом об Ипполите, наказанном Венерой за отвержение любви своей мачехи Федры. Созерцая купающуюся Вареньку, он теряет дар речи, становится на четвереньки и превращается, по словам девушки, в «гадкого пса» [2, с. 564].
Старуха Изергиль до наступления старости – нечто среднее: она не является неприступной девственницей, но, напротив, становится богиней любви, правда, бесплодной и смертельно опасной (одного турецкого отрока она залюбила до смерти, она голыми руками задушила русского часового ради освобождения из плена своего очередного любовника, поляка). Впрочем, и плодоносные матери в мире Горького порою несут смерть, даже своим детям.
О таких, как старуха Изергиль, Горький написал:
Смерть – не мать, но – женщина, и в ней Сердце тоже разума сильней <…> Тем, кого она полюбит крепче, Кто ужален в душу злой тоскою, Как она любовно ночью шепчет О великой радости покоя! («Девушка и смерть», 1892). [1, с. 28].Образы единства любви и смерти, смертоносности истинной любви, столь обычные для магического сознания, никогда не остаются без внимания у Горького: «<…> Любовь и Смерть, как сестры, ходят неразлучно» [1, с. 29].
Любовь обожествляет человека, соединяя с бесконечной божественной природой:
Ни земли, ни неба больше нет. И душа полна нездешней силой, И горит в душе нездешний свет. Нету больше страха пред Судьбой, И ни бога, ни людей не надо! <…> Краше солнца – нету в мире бога, Нет огня – огня любви чудесней! [1, с. 28]Но любовь и убивает, сжигает, разрушая границы частного человеческого бытия. У Горького любовь всегда оборачивается смертью всего частного, возникающего, и всегда через смерть любовь служит продлению общей жизни.
11 октября 1931 года Горький читал сказку «Девушка и Смерть» посетившим его И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову. На последней странице текста сказки Сталин тогда написал: «Эта штука сильнее, чем "Фауст" Гете (любовь побеждает смерть)» [1, с. 497]. Сталин попытался (в сущности, по-христиански!) перетолковать смысл сказки Горького, противопоставив ее магическому пониманию двуединства любви и смерти у Гете. Но Горький-то как раз мыслил в духе магизма, вполне выраженного в «Фаусте» (и не случайно, указывая на глубинный смысл образа матери в своем творчестве, он сослался на «Матерей» из «Фауста» – в письме к М. Шкапской от января 1923 года).
Огонь любви – не просто метафора в мире Горького. Здесь веет дыхание древнего стоицизма. Это сжигающий во имя возрождения божественный огонь. Ходасевич в воспоминаниях о Горьком отметил его странную, казалось бы, склонность к бытовому поджигательству: он любил «маньяков-поджигателей <…> и сам был немножко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку <…> Любимой и повседневной его привычкой было – после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, – незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих <…>»13. Вместе с тем, Ходасевич отмечает его восхищение образом возможного огненного взрыва вселенной, согласно представлениям современной физики: «Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома, часто говорил <…>, что „в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарник!“»14.
Во всем этом чувствуется отблеск божественного огня стоиков. Свое огнепоклонство писатель прослеживает с ранних лет жизни и подтверждает его, например, воспоминанием о пожаре в доме деда (повесть «Детство», 1913–1914): «<…> посетил нас Господь, – горим!» – сказал дед «сиплым голосом», и далее следуют образы, увиденные глазами ребенка: «<…> вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно», словно бы простираясь до «серебряного потока Млечного Пути» («Детство») [13, с. 55] – так возникает образ вселенского пожара, уничтожающего мир ради его обновления. Было и страшно, и радостно, огонь «весело играл», «мастерская, изукрашенная им, становилась похожей на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе», – так огонь обретает черты божественного пламени, в котором становится призрачным и сгорает все земное, включая и Церковь Христову.
Магия стоицизма, как и вообще всякого пантеизма, определяет и характерное для Горького оправдание человеческого самоубийства в стесненных жизненных обстоятельствах: «по-инквизиторски жестоко – изломать, исковеркать человеку жизнь, оскорбить, опозорить, выпачкать его и, когда он после всех пережитых пыток предпочтет им смерть, лишить его права на это, вылечить и снова пытать» («Ее медовый месяц», 1896) [23, с. 87].
Горькому близка мысль: «Кто смеет убить себя, тот бог», – так Достоевский в «Бесах» устами Кириллова выражает самую суть пантеистического магизма.
Самая яркая и красивая проповедь самоубийственного самообожения звучит в XIX сказке «Сказок об Италии», где старик-рыбак под конец жизни уплывает в море, чтобы не вернуться: «<…> если плыть ночью <…>, синие искры горят под руками <…> и душа человека тихо тает в этом огне, ласковом, точно сказка матери» [10, с. 116].
Пожалуй, главный образ в мире Горького – это солнце. Оно – высшее проявление божественной силы, почитаемое в верованиях многих народов. Оно – главное божество в составе божественной природы.
Средоточием солнечного мироздания у Горького стали «Сказки об Италии» (1906–1913). В этом мире «море <…> тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья – солнце» (Сказка III) [10, с. 15]. Писатель видит божественное светило взором древнего языческого мифа: «<…> небо ласково смотрит на землю голубым ясным оком, солнце – огненный зрачок его» (Сказка X) [10, с. 46]. И когда солнце «в зените» в этом мире «богослужебно звучит пение жизни. Каждый город – храм, возведенный трудами людей, всякая работа – молитва Будущему» (Сказка III) [10, с. 15]. Город, сотворенный под лучами солнца людьми, детьми солнца, «празднично ярок и пестр, как богато расшитая риза священника» [10, с. 15].
«Дети солнца» в одноименной пьесе Горького (1905) – это те, кто постигает божественную сущность породившего их солнца: «<…> мы, люди, дети солнца, светлого источника жизни <…> Это оно горит в нашей крови; это оно рождает гордые, огненные мысли, освещая мрак наших недоумений, оно – океан энергии, красоты и пьянящей душу радости», – так поэтически рассуждает ученый химик Протасов [6, с. 326]. Дети солнца постигают его сущность либо умом, как Протасов; либо чувством красоты, как Елена, которая считает, что «красивое <…> согревает <…> душу, как солнце» [6, с. 318], и что настоящий художник «верует в солнечную силу красоты» [6, с. 319] (само ее имя в переводе с греческого означает «Солнечная); либо – прямо любовью простого сердца, как Меланья, которая признается: «Утро, солнце – и ничего не видишь сразу-то, только свет! И так вздохнешь всей душой, такой радостью чистой вздохнешь…» [6, с. 306]. Напротив, Лиза видит в солнце лишь «злое око» [6, с. 374], не верит в его благотворную преображающую силу, признает лишь силу «настоящей жизни, полной грязи, зверства, бессмысленной жестокости» [6, с. 306], и в итоге она сходит с ума.
Горький видел себя самого солнечным божеством, а не лунным, причислял себя к «детям солнца» – избранной верхушке человечества и каждого народа, представители которой лучше других творят свой новый мир и увлекают, подобно Данко, остальных людей. В расцвете творчества он пристально следил за собой, боясь оказаться не на солнечной стороне бытия, а на стороне страдательно влекомых: «Ставши писателем, я начинаю убеждаться, что не свободен в мыслях моих, – как и многие другие, – что я оперирую порой над фактами и мыслями, которые вчитал в себя из чужих книг, а не пережил непосредственно сам, своим сердцем. Это очень обидно. И это нехорошо, разумеется. Достойно ли человека отраженным светом светить? Недостойно» (И. Е. Репину 23 ноября 1899) [28, с. 100].
В очерке «Блок» (1919–1924) явлен образ знаменитого поэта, который не нравится Горькому, ибо попирает своей мыслью солнечную сущность мироздания. И не случайна такая подробность разговора: «Растирая ногой солнечный узор на земле, он упрекнул меня [15, с. 330]. Упрекая, Блок рассуждает непонятно, неумно, почти безумно: «заговорил какими-то бредовыми словами» [15, с. 332], «например, о том, что "мы стали слишком умны", чтобы верить в Бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя» [15, с. 332]. Он отказывается «верить в разумность человечества» [15, с. 332] – солнечный разум, и потому он обречен на погружение во тьму небытия (очерк был написан уже после мрачной кончины поэта).
Вместе с тем, магическое сознание побуждает Горького видеть в солнце и обратную, злую, смертоносную сторону. Огонь божественного солнца может выжечь живую природу до «пустыни» мертвой и оставить человека на смерть «в знойном море красного песка» [6, с. 374] – таковы последние слова под занавес в пьесе «Дети солнца», написанной в Петропавловской крепости, куда писатель попал за свое слишком солнечное богостроительство во время русской революции 1905 года. Правда, это слова из стихотворения Лизы, увидевшей зло в божественной силе солнца и сошедшей словно бы в наказание с ума. И все-таки это последние слова драмы, созданной в революционном разгаре. Таково предупреждение Горького, обращенное к России и к себе самому.
Не только солнце и человек, но и все сущее в мире Горького одушевлено, божественно в той или иной мере. Одно из главных божеств – море. Как и все прочее, оно связано со средоточием всех божественных сил – человеком: «А море дышит, мерно поднимается его голубая грудь <…>, спит сладким сном душа, <…> в ней тоже ходят неслышно светлые волны, и, всеобъемлющая, она безгранично свободна, как море» (Сказка XIX) [10, с. 115].
Солнцу противостоит ложный блеск золота – «желтого дьявола», чье усугубляющее хаос бытия действие описано в книге очерков «В Америке» (1906). Поклонение золоту лишает людей и весь мир порядка, свободы и счастья: «И кажется, что всё – железо, камни, вода, дерево – полно протеста против жизни без солнца, без песен и счастья, в плену тяжелого труда» [7, с. 8]. Мир «желтого дьявола» противен «живому человеку, который мыслит, создает в своем мозгу мечты, картины, образы» [7, с. 12].
Но вместе с тем, сияние солнца отражается и в блеске золота, и дьявол в магическом мире Горького имеет не меньше силы и значения, чем все другие божества: он тоже необходимое проявление единого бытия и может вдруг предстать как «огнекудрый сатана» («Девушка и смерть», 1892) [1, с. 23]. Слуги дьявола – черти – обличают несправедливость этого мира («О черте», 1899; «И еще о черте», 1905).
Так что Горький совсем не изменяет своей изменчивости, когда после резкого осуждения одного из главных западных капищ дьявола – Нью-Йорка – вдруг обращается к прославлению еще более мощного капища – Лондона («Лондон», 1907).
Дьявол как один из злых богов через свои воплощения в злых людях (или будучи их порождением – для Горького это одно и то же) тысячелетиями портит (и в то же время исправляет, чистит) жизнь человечества: «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение» («Ленин») [17, с. 23].
Мир Горького трагичен в своей подоснове. Самообожение как высшая цель человека достижимо только через смерть. Избавление от несовершенств и страданий также даруются смертью, разрушением существующего. Исправление жизни целых народов достигается мириадами смертей, и для умерших (а умирают неизбежно все) чаемое (оно же и недостижимое) улучшение жизни не имеет значения. Идеальный райский мир на земле, устраиваемый божественными строителями, должен быть свободным от страдания, а значит, непрестанно проходящим горнило смерти – смерти совершенной, стирающей безвозвратно всякое частное бытие. И здесь Горький вновь выступает против Православия: его идеальный богостроитель Ленин «в России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство "спасения души"» испытывал как никто «ненависть <…> к несчастиям, горю, страданиям людей». («Ленин») [17, с. 23]. Горький пишет о «вере» Ленина в возможность устранения «несчастия» из основы жизни. А «русская литература» плоха тем, что явила народу и миру безнадежные, хотя и «талантливые евангелия» о страданиях людей. Между тем, «книга о счастливой жизни научила бы его (русского человека-А. М.) как нужно выдумывать такую жизнь» («В. И. Ленин») [17, с. 24].
И Горький, как мог, всю жизнь выдумывал, творил счастливую действительность, не забывая одновременно разрушать ядовитым горьким словом все, что противоречит его собственным представлениям о счастье. Мир мечты, полетной фантазии, сказки – вот тонкий и верховный, с его точки зрения, слой жизни, где человек может быть временно и относительно счастлив, пока не достигнет высшей радости самоуничтожения ради полного слияния со всем бытием.
Творец, сочинитель художественных слов сочиняет саму жизнь, и это сама жизнь сочиняет через людей саму себя. Так возникает «сказка» – животворимое верой яркое художественное сказание о жизни, выражающее самую суть бытия (творимого бытия, потому что подлинное бытие всегда творится). «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь» [10, с. 5], – пересказывает Горький излюбленную мысль Андерсена, поставив ее эпиграфом «Сказок об Италии» (1906–1913), и от себя в III сказке продолжает: «Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки» [10, с. 17].
Конечно, творческие мечты Горького не преобразили русскую жизнь к лучшему. Однако кое-чего в своем богостроительном порыве писатель достиг. Он стал кумиром для многих. А значит, его слово творило русскую действительность сообразно его вере. Никто из живших одновременно с ним русских сочинителей не мог соперничать с его всероссийской и всемирной славой. Трудно было найти к середине XX века русский город, в котором что-нибудь не было названо в его честь (улица, парк, дом культуры и т. п.). Влияние его творчества сохраняется до сих пор, в частности, через систему государственного школьного и вузовского изучения литературы, через театральные, кинематографические постановки.
В нынешнее время его художественная проповедь вновь начинает звучать в полную силу и вновь обольщает умы в мире, где бурно возрождающаяся магия изготовилась не просто теснить, но и совсем уничтожить христианское благовесте.
Примечания
1 Здесь и далее в квадратных скобках после выдержек указываются том и страницы по изданию: Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1949–1955.
2 Ходасевич В. Ф. Некрополь. М.: Советский писатель; Олимп, 1991. С. 158.
3 Имеется в виду переиздание напечатанных уже после смерти профессора-богослова воспоминаний: Записки Е. Е. Голубинского //Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Вып. 30. Третий исторический сборник. Кострома, 1923.
4 См.: Агурский М. Великий еретик (Горький как религиозный мыслитель // Вопросы философии. 1991. № 8. С. 54–74. ; http://alt-future.narod.ru/NSM/eretik.htm
5 См. об этих влияниях на Горького: Агурский М. Великий еретик…
6 Агурский М. Великий еретик…
7 Там же.
8 Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 171–172.
9 Агурский М. Великий еретик…
10 Литвинова Л. В. Иегудиил // Православная энциклопедия. Т. 21. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. С. 188.
11 Полевой Б., Купреянов Г. Письма из Сорренто. Калинин, 1936. С. 11.
12 Работница. 1968. № 3. С. 1.
13 Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 173–174.
14 Там же.
Сергей Есенин: «паденье роковое» А. В. Моторин
Примерно к 1916 году Сергей Есенин вступил в зрелую пору своего творчества. В этом же году он ясно – во всяком случае, для себя – определил демоническую направленность своей лирики, противопоставляя ее русскому Православию, Христу и пытаясь увлечь Родину за собою в «паденье роковое» некой новой «веселой веры и одной»:
Не в моего ты Бога верила, Россия, родина моя! <…> Не клонь главы на грудь могутную И не пугайся вещим сном. О, будь мне матерью напутною В моем паденье роковом. («Не в моего ты Бога верила…», (1916) [4, с. 124]1Подобно падшему демону, поэт тщится превратить свое закатное падение в новый восточный взлет на небеса и не скрывает мрачной ночной сущности своего духа:
Только гость я, гость случайный На горах твоих, земля. <…> Новый путь мне уготован От захода на восток. Суждено мне изначально Возлететь в немую тьму. Ничего я в час прощальный Не оставлю никому. Но за мир твой, с выси звездной, В тот покой, где спит гроза, В две луны зажгу над бездной Незакатные глаза. («Там, где вечно дремлет тайна…», (1917) [1, с. 104–105]Отлет с земли в «немую тьму» сроден самоубийству, и Родина-Русь, приобщаемая к демонической попытке рождения новой веры, также обречена на смерть, о чем поется в «Сельском часослове» (1918):
Гибни, край мой! Гибни, Русь моя, Начертательница Третьего Завета. [4, с. 175]За гибелью Родины поэт чает совершить ее новое рождение в новой вере. Именно совершить, ибо себя в этом творческом порыве он представляет одновременно божественным словом, божественным отцом (творцом-породителем всего сущего) и божественным духом, оплодотворяющим рождение новой твари в лоне очищенного смертью прежнего творения (такое легко приключается на почве пантеизма антихристианских ересей):
Радуйся, Земля! Деве твоей Руси Новое возвестил я Рождение. Сына тебе Родит она… Имя ему — Израмистил. [4, с. 176] <…> Это он! Это он Из чрева Неба Будет высовывать Голову… [4, с. 177]Богородица-Русь по воле бога-поэта становится через смерть «начертательницей Третьего Завета», повествующего о рождении на земле новой ипостаси божества – Израмистила – «мистического изографства» (6,126), как Есенин объяснил смысл изобретенного божественного имени в письме Р. В. Иванову-Разумнику [см. также: 4, с. 403–404]. Автор своевольно искажает библейское пророчество Исайи о рождении Христа и подменяет Божие имя. У пророка сказано: «Сего ради дастъ Господь Самъ вамъ знамение: Се Дева во чреве зачнет и родить Сына и наречеши имя Ему Еммануилъ» [Ис. 7:14]. Имя Еммануил в переводе с древнееврейского значит: «Съ нами Богъ» [Мф. 1: 23]. Израмистил должен прийти вместо Христа, то есть стать антихристом.
Пик самообожения и соответственно богоборчества совпал у Есенина с кануном русской революции и первыми годами после ее свершения. Поэт вполне понимает, куда стремится, кого прославляет и кого считает своими верными почитателями: «Славь, мой стих, кто ревет и бесится» («Пантократор», февраль 1919) [2, с. 73].
В эту пору под пером его легко рождаются прямо кощунственные вирши:
Не стану никакую Я девушку ласкать. Ах, лишь одну люблю я, Забыв любовь земную, На небе Божью Мать. <…> («Не стану никакую…», 1918) [4, с. 179]Далее приводить невозможно. Богоборчество, кощунственно касаемое Богородицы, проявляется и в «Октоихе» (август 1917):
Восстань, прозри и вижди! Неосказуем рок. Кто всё живит и зиждет — Тот знает час и срок. Вострубят Божьи клики Огнем и бурей труб, И облак желтоклыкий Прокусит млечный пуп. И вывалится чрево Испепелить бразды… Но тот, кто мыслил Девой, Взойдет в корабль звезды. [2, с. 45]Чтобы понять сказанное, следует обратиться к статье «Ключи Марии» (1918), где Есенин размышляет о «религии мысли нашего народа» [5, с. 190], которая питается от источников древнейшей мифологической веры в то, что все сущее непрестанно порождается из божества, в нем содержится и ему причастно по рождению. Отсюда и «языческая вера в переселение душ» [5, с. 189]. Души «переселяются» внутри единой божественной души как ее составные частицы. Эту мировую душу вслед за сектантами-хлыстами поэт обозначает именем христианской Богородицы – Марии. Авторское примечание к названию статьи гласит: «Мария на языке хлыстов шелапутского толка означает душу» [5, с. 186, 213]. Хлыстовские общины именуются «кораблями», в которых избранные души спасаются и воссоединяются с богом. В «кораблях» песнопевцы-«давиды» могут становиться «богами-отцами» и одновременно девами-«богородицами», дабы рождать в себе и из себя словесных «христов». «Мышление Девой» и «вхождение в корабль звезды» – это следование новой вере, родственной хлыстовству и проповедуемой божественным поэтом («творцом» – в древнегреческом смысле слова «поэт»).
В эпиграфе к поэме «Октоих»: «Гласом моим пожру Тя, Господи. Ц. О.» [2, с. 41] – автор богоборчески искажает «начало шестого ирмоса канона, поемого на глас четвертый: "Пожру Ти со гласом хваления, Господи"; канонический перевод – "Со гласом хваления принесу жертву Тебе, Господи" («Православный молитвослов с краткими катехизическими сведениями», СПб., 1907, с. 117). Сокращение "Ц.О." раскрыто в копии поэмы рукой Иванова-Разумника (РГБ, ф. Андрея Белого) как "Церк. окт.", т. е. церковный октоих» [см. примечание: 2, с. 314]. Заменив склонение местоимения с «Ти» на «Тя», поэт резко меняет смысл богослужебного песнопения – переставляет местами оттенки церковнославянского слова «жрѣти»: главным становится не «приношение жертвы Богу», а «пожирание», «поглощение» бога. При этом оживляется и древнее языческое значение «жрѣти» как принесения жертвы богу путем ее сжигания. Известно, что Есенин внимательно читал труд А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» и «скорее всего не прошел мимо места, где говорится о связи слова "жертва" со словом "жрѣти" (греть, гореть), позднее получившем значение "поедать, жрать" [Аф. II; 39]» [см.: 2, с. 315]. В итоге в «Октоихе» Есенина сам бог приносится в жертву самим собой (в лице поэта): путем огненно-словесного самопожирания.
В стихах зрелого Есенина в порывах неистовства он как пророк-творец порою оказывается одновременно богом-отцом, богородицей и рождаемым из самое себя богомладенцем-словом, пророчески изрекаемым и требующим «небесного молока» для возрастания [2, с. 52]. Весь мир заключен в поэте и порождается им взамен прежнего. Это кольцо бесконечности самообожания – божественный змей, поглощающий собственный хвост и совершающий самоубийство, самопожирание ради очередного самопорождения.
В будущем своей родины Есенин склонен видеть грядущий земной рай, который возникнет по сути из души поэта благодаря прорекаемому небесному падению «богородицы», порождающей на земле нового божественного сына:
О Матерь Божья, Спади звездой На бездорожье, В овраг глухой. <…> Окинь улыбкой Мирскую весь И солнце зыбкой К кустам привесь. И да взыграет В ней, славя день, Земного рая Святой младень. (1917) [1, с. 119–120]«Матерь Божья» у Есенина – один из ликов божественной природы. Можно обойтись и без прямого называния:
Тучи с ожерёба Ржут, как сто кобыл, Плещет надо мною Пламя красных крыл. Небо словно вымя, Звезды как сосцы. Пухнет Божье имя В животе овцы. Верю: завтра рано, Чуть забрезжит свет, Новый под туманом Вспыхнет Назарет. Новое восславят Рождество поля, И, как пес, пролает За горой заря. (1917) [1, с. 106]Порою поэт мыслит себя в утробе Бога, частью Бога, богомладенцем. Бог везде: и сверху, и снизу, и в небе, и в сини морской:
О Боже, Боже, эта глубь — Твой голубой живот. Златое солнышко, как пуп, Глядит в Каспийский рот. [1, с. 141]Бог, порождаемый поэтом, может творчески и трагически для всей богозданной твари переделывать земной мир:
Сойди на землю без порток, Взбурли всю хлябь и водь, Смолой кипящею восток Пролей на нашу плоть. [1, с. 141]А самому поэту следует вернуться в небесное лоно:
Да опалят уста огня Людскую страсть и стыд. Взнеси, как голубя, меня В твой в синих рощах скит. (1919) [1, с. 142]И Родина-Русь как уже богородица, единосущная самому автору, вовлекается в его упоенное поэмное словотворчество, обращенное к самому себе:
Облаки лают, Ревет златозубая высь… Пою и взываю: Господи, отелись! Перед воротами в рай Я стучусь: Звездами спеленай Телицу Русь. За тучи тянется моя рука, Бурею шумит песнь, Небесного молока Даждь мне днесь. («Преображение», ноябрь 1917). [2, с. 52]При этом весь порождаемый божественно-пророческим словом новый мир в своей очередной неизбежной порче подлежит очередному уничтожению от очередной ипостаси бога-творца:
Грозно гремит твой гром, Чудится плеск крыл. Новый Содом Сжигает Егудиил. [2, с. 53]Новую земную революцию поэт мыслит частью этой магической мистерии:
Но твердо, не глядя назад, По ниве вод Новый из красных врат Выходит Лот. [2, с. 53]Так очередной воплощенный богомладенец преображает падший мир, участвуя в его уничтожении:
Зреет час преображенья, Он сойдет, наш светлый гость, Из распятого терпенья Вынуть выржавленный гвоздь. [2, с. 55–56]А сделав дело, новоявленный спаситель отойдет в свое демоническое ночное царство, подарив обновленному и уже обреченному миру следующего убийцу-обновителя:
А когда над Волгой месяц Склонит лик испить воды, — Он, в ладью златую свесясь, Уплывет в свои сады. И из лона голубого, Широко взмахнув веслом, Как яйцо, нам сбросит слово С проклевавшимся птенцом. [2, с. 55–56]Таков же пророк-ангел-бог-поэт в «Инонии» (январь 1918):
Не устрашуся гибели, Ни копий, ни стрел дождей, — Так говорит по Библии Пророк Есенин Сергей. Время мое приспело, Не страшен мне лязг кнута. Тело, Христово тело, Выплевываю изо рта. Не хочу восприять спасения Через муки его и крест: Я иное постиг учение Прободающих вечность звезд. Я иное узрел пришествие — Где не пляшет над правдой смерть. Как овцу от поганой шерсти, я Остригу голубую твердь. <…> Я сегодня снесся, как курица, Золотым словесным яйцом. Я сегодня рукой упругою Готов повернуть весь мир… Грозовой расплескались вьюгою От плечей моих восемь крыл. [2, с. 61–62]Выплевывание «Христова тела», как и пожирание бога в «Октоихе», это, конечно, кромешная черная магия, но не просто безудержная в своей слепой одержимости, а основанная на последовательной, мысленно рассчитанной вере в себя как бога, уничтожающего свое старое бытие и творящего свое же новое.
Следуя путем возрождения языческой магии, Есенин вновь и вновь противоборствует христианству:
Кто-то с новой верой, Без креста и мук, Натянул на небе Радугу, как лук. <…> Новый на кобыле Едет к миру Спас. Наша вера – в силе. Наша правда – в нас!» [2, с. 68]Языческой магии свойственно почитание крови как носителя духовной силы. Не чуждо это увлечение и Есенину. Примечательна его радость по поводу публикации перевода «Инонии» на идиш. М. Д. Ройзман вспоминает: «В конце 1923 года в еврейской газете была опубликована поэма Есенина „Инония“ в превосходном переводе замечательного поэта Самуила Галкина. Сергей не выпускал газеты из рук, показывал ее друзьям и знакомым, говорил, что никогда бы его стихи не перевели и не напечатали, если бы верили в то, что он питает антипатию к евреям…»2. В евреях поэт ценил прежде всего родо-кровную магию, почитание родной крови, столь характерное и для неоязычества в его западном нордическом изводе. М. Д. Ройзман в воспоминаниях 1926 года свидетельствует о признании поэта осенью 1923 года в любви к евреям, о породнении с ними, о своей вере в родо-кровную магию: «К моему удивлению, Сергей ухватился за эту тему и стал говорить о своих отношениях к евреям. Он сам не понимает, как его зачислили в антисемиты. Любил евреек, жена у него еврейка и дети еврейские (так и сказал „еврейские“). <…> Он пояснил мне, что не любит Мандельштама, Пастернака за то, что они все поют о соборах, о церквах, о русском. В поэте он (Сергей) ценит свое лицо: должна быть своя рубашка, а не взятая напрокат. В стихах важна кровь (слово „кровь“ подчеркнул), быт! И сейчас же добавил: вот ты не стесняешься, что еврей. Поешь о своем…»3.
Богоборчество, кощунство, демонизм не возникают вдруг, на пустом месте и, конечно, не проходят бесследно. За них приходится платить жизнью души. Как эти настроения возникли в сознании юноши, еще недавно бывшего деревенским крестьянским мальчиком? Набожность деда и бабушки ему не передалась. В краткой автобиографии, написанной в 1923 году, Есенин не разъясняет, почему в детстве он невзлюбил православную веру и почему, понуждаемый ходить в церковь, занимался обманом и святотатством. Словно бы это было само собою разумеющимся: «Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям.
Дома собирала всех увечных, которые поют по русским селам духовные стихи от "Лазаря" до "Миколы". Рос озорным и непослушным, был драчун. <…> В Бога верил мало. В церковь ходить не любил. Дома это знали и, чтоб проверить меня, давали 4 копейки на просфору, которую я должен был носить в алтарь священнику на ритуал вынимания частей. Священник делал на просфоре 3 надреза и брал за это 2 копейки. Потом я научился делать эту процедуру сам перочинным ножом, а 2 коп<ейки> клал в карман и шел играть на кладбище к мальчишкам, играть в бабки. Один раз дед догадался. Был скандал. Я убежал в другое село к тетке и не показывался до той поры, пока не простили» [7, кн. 1, 11].
Видимо, тонкая душа поэта уловила общее угасание православной веры в простом народе и даже в Церкви – в ее представителях, общавшихся с народом. Впоследствии в повести «Яр» (1915) он передает тяжелыми образами этот упадок веры, считая, что прежде всего виновато священство, которое мертвенностью духа и леностным закоснением отталкивает простые души в язычество. Название «Яр» подчеркивает есенинское понимание современного духовного движения народа от мертвого Православия назад к язычеству – к Яриле на волне ярости восставшего народа. В этой повести сельский поп с причтом погрязли в быту, корысти и отказываются провести крестный ход во время падежа скота: «Хоть к митрополиту ступайте, – ругался поп. – Задаром я вам слоняться не буду» [5, с. 104]. Когда же селяне сами «порешили с пеньем и хоругвями обойти село» и спросили ключи от церкви у старосты, тот ответил: «Я вам дам такие ключи, сволочи!.. Думаете – вас много, так с вами и сладу нет… Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем» [5, с. 105]. Пришлось народу совершить древний языческий обряд «опахиванья» села: «При опахиванье, по сказам стариков, первый встречный и глянувший – колдун, который и наслал болезнь на скотину. Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть» [5, с. 105].
Примерно во время работы над «Яром» создается стихотворение, в котором в емких образах кратко представлено то же самое движение народной души от неприятного и мертвого Православия к язычеству, казалось бы, живо откликающемуся на простодушную веру:
Заглушила засуха засевки, Сохнет рожь и не всходят овсы. На молебен с хоругвями девки Потащились в комлях полосы. Собрались прихожане у чащи, Лихоманную грусть затая. Загузынил дьячишко лядащий: «Спаси, Господи, люди твоя».Однако не христианский Господь, а природа отзывается на моление о дожде:
Стрекотуньи-сороки, как свахи, Накликали дождливых гостей. <…> На коне – черной тучице в санках — Билось пламя-шлея… синь и дрожь. И кричали парнишки в еланках: «Дождик, дождик, полей нашу рожь!» (1914) [1, с. 62–63]Между народом и Церковью отчуждение, и мир Церкви отталкивает, пугает смертью:
На вратах монастырские знаки: «Упокою грядущих ко мне», А в саду разбрехались собаки, Словно чуя воров на гумне. («По дороге идут богомолки…», 1914) [1, с. 58–59]В «Ключах Марии» (1918) Есенин прямо определяетантихристианскую, оборотническую природу своего язычества и выражает вполне уже зрелое и сознательное отвращение к Православию: «Это старое инквизиционное православие, которое, посадив Святого Георгия на коня, пронзило копьем вместо змия самого Христа» [5, с. 211]. Здесь вскрывается гностический, офитский (змеепоклоннический) корень есенинского магизма: змий-сатана – это подлинный бог-христос, а Христос Православия – это воистину сатанинский змий4.
«Ключи Марии» уравнивают Православие и бездуховную рассудочность новой марксистской эстетики – то и другое подлежит уничтожению магией истинного языческого творчества: «Вот потому-то нам так и противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусств. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове. Ей непонятна грамота солнечного пространства, а душа алчущих света не хочет примириться с давно знакомым ей и изжитым начертанием жизни чрева. Перед нами встает новая символическая черная ряса, очень похожая на приемы православия, которое заслонило своей чернотой свет солнца истины. Но мы победим ее, мы так же раздерем ее, как разодрали мантию заслоняющих солнце нашего братства. Жизнь наша бежит вихревым ураганом, мы не боимся их преград <…>» [5, с. 212].
Православия Есенин вообще не видит в истории Древней Руси: «<…> крещеный Восток абсолютно не бросил в нас в данном случае никакого зерна. Он не оплодотворил нас, а только открыл лишь те двери, которые были заперты на замок тайного слова» [5, с. 187].
Поэт неизбежно испытывал воздействие двух мощных и по сути антихристианских идеологий эпохи – капиталистической и социалистической. Марксизм не был близок ему своей бездуховностью и жесткой критикой капитализма. Есенин не раз признавался, в частности, и в стихах, что «Капитал» Маркса не идет ему в голову. К капитализму у поэта сложилось свое, в целом положительное, отношение – именно как к своеобразному вероучению, управляющему жизнью целых народов. Так же и в социализме он видел род вероучения, причем более походящего для России.
Коммунизм Есенин воспринимал как часть западной магической (в масонском изводе) культуры. Ярким воплощением коммунистической веры стали для него Троцкий и Ленин. О Троцком: «Мне нравится гений этого человека» (рукопись «Железного Миргорода», 1923) [5, с. 265]. О Ленине: «Суровый гений!» («Ленин», 1924) [2, с. 144].
В представлении поэта западный (прежде всего американский) капитализм, так же, как и социализм, движутся к общей цели – построению рая на земле. За видимым обустройством низового земного уровня, за бытовыми удобствами он прозревал гордое стремление человека воцариться вовеки в мире сем вместо Бога – богоборчество, которое в условиях России, да и всего мира означало борьбу с Православием. «Железный Миргород» (1923) – так назвал он свой очерк об Америке. Прямо ссылаясь на известную книгу Гоголя [2, с. 165], Есенин вполне понимает историософскую символику, заложенную в название и содержание этой книги: Мир-город – это Новый Иерусалим (по-еврейски – город мира, средостение мира), но не тот, который согласно Откровению Иоанна Богослова должен спуститься от Бога на землю в Конце Света для жития праведников, а тот, который рукотворно возводят сами люди, становящиеся богами в своем собственном земном рае.
Еще в начале путешествия на Запад, на пароходе посреди океана, едва соприкоснувшись с блеском этой магической культуры, Есенин восхищается: «Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал, и минут через пять чрез огромнейший коридор спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про "дым отечества", про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за "Русь" как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Милостивые государи! С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам как романтик в моих поэмах, – я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве» [5, с. 162–163].
В допечатной рукописи (не подвергнутой правке и сокращениям для издания в «Известиях») были и более сильные выражения с выпадом против Православия: «Милостивые государи! лучше фокстрот с здоровым и чистым телом, чем вечная, раздирающая душу на российских полях, песня грязных, больных и искалеченных людей про "Лазаря". Убирайтесь к чертовой матери с Вашим Богом и с Вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры, чтоб мужик не ходил "до ветру" в чужой огород. С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство» [5, с. 267].
Есенин оправдывает «белого дьявола» [5, с. 167], воцарившегося в «железном Миргороде» Запада путем насилия: «И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой» [5, с. 167]. Он мечтает о воцарении подобной культуры и на Руси, оправдывая уже совершившиеся и грядущие жестокости строителей коммунизма. Он хорошо чувствует мечтательно-прельстительную, колдовскую суть западного процветания: «Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег. Но зато дьявольски здорово!» [5, с. 168]. И в итоге изумления – опять выпад против Православия: «Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость» [5, с. 169].
Простой народ Америки (даже белый по крови) не вызывает сочувствия у нашего поэта, он видит в народе косную и темную силу, управляемую волей и замыслами могущественных архитекторов, устроителей новой жизни: «Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки – только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь» [5, с. 170]. Точно так же (даже хуже) он относится и к русскому народу, подлежащему жестокому правлению со стороны коммунистов: «Бедный русский Гайавата!» – восклицает автор саркастически, подразумевая правильное, с его точки зрения, искоренение краснокожих в Америке и предвкушая судьбу русского народа, приравниваемого к индейцам перед лицом наступающего с Запада «белого дьявола».
Вместе с тем Есенин вполне понимал, куда влечет Америку масонская магия: «Америка – это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества» («Автобиография», 1924) [7, кн. 1, с. 16–17]. Он понимал – и не мог освободиться от этого обаяния, как не мог пресечь и свое «паденье роковое»:
Полевая Россия! Довольно Волочиться сохой по полям! Нищету твою видеть больно И березам и тополям. Я не знаю, что будет со мною… Может, в новую жизнь не гожусь, Но и все же хочу я стальною Видеть бедную, нищую Русь. И, внимая моторному лаю В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, Ни за что я теперь не желаю Слушать песню тележных колес. («Неуютная жидкая лунность…», 1925) [4, с. 221]Российский социализм ближе его собственному магическому вероучению и представляется мирозиждительным, общепланетарным выходом:
И тебе говорю, Америка, Отколотая половина земли, — Страшись по морям безверия Железные пускать корабли! Не отягивай чугунной радугой Нив и гранитом – рек. Только водью свободной Ладоги Просверлит бытие человек! Не вбивай руками синими В пустошь потолок небес: Не построить шляпками гвоздиными Сияние далеких звезд. («Инония», январь 1918) [2, с. 65]В. Ф. Ходасевич отметил, что на социалистические упования Есенина в революционное время повлияли левые эсеры: «Тут Есенину объяснили, что грядущая Русь, мечтавшаяся ему, это и есть новое государство, которое станет тоже на религиозной основе, но не языческой и не христианской, а на социалистической: не на вере в спасающих богов, а на вере в самоустроенного человека. Объяснили ему, что „есть Социализм и социализм“. Что социализм с маленькой буквы – только социально-политическая программа, но есть и Социализм с буквы заглавной: он является „религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства… Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов“.<…>. Эти цитаты взяты из предисловия Иванова-Разумника к есенинской поэме (вышедшей в журнале „Наш путь“ в 1918 году-А. М.). Хронологически статья писана после "Инонии», но внутренняя последовательность их, конечно, обратная. Не «Инония» навела Иванова-Разумника на высказанные в его статье новые или не новые мысли, а «Инония» явилась ярким поэтическим воплощением всех этих мыслей, привитых Есенину Ивановым-Разумником»5.
Уже на последнем году жизни Есенин вспомнил, как в ранней юности первое поэтическое вдохновение у него возникло вместе с осознанием злобного неверия, нараставшего в народе:
Я помню только то, Что мужики роптали, Бранились в черта, В Бога и в царя. Но им в ответ Лишь улыбались дали Да наша жидкая Лимонная заря. Тогда впервые С рифмой я схлестнулся. От сонма чувств Вскружилась голова. («Мой путь», 1925) [2, с. 160–161]Вот и попытался юный поэт творчески возродить древнюю языческую веру, к которой на его глазах сама жизнь подталкивала народ. По его мнению, язычество надо было очистить от копоти веков, взять из него самое лучшее – одушевление и обожествление природы – и оживить с его помощью собственную душу и соборное сознание всего народа.
В череде простых и по видимости бездуховных ранних стихотворений 1910–1911 годов языческая магия начинает прорастать сквозь, казалось бы, поверхностно-чувственные описания природы:
Сыплет черемуха снегом, Зелень в цвету и росе. В поле, склоняясь к побегам, Ходят грачи в полосе. Никнут шелковые травы, Пахнет смолистой сосной. Ой вы, луга и дубравы, — Я одурманен весной. Радугой тайные вести Светятся в душу мою. <…> (1910) [1, с. 34]Вскоре Есенин провозглашает рождение своего языческого сознания как чего-то естественного, изначального, дарованного божественной природой и подлежащего постепенному развитию:
Матушка в купальницу по лесу ходила, Босая с подтыками по росе бродила. Травы ворожбиные ноги ей кололи, Плакала родимая в купырях от боли. <…> Родился я с песнями в травном одеяле. Зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи, Сутемень колдовная счастье мне пророчит. (1912) [1, с. 29]Примечательно, что он сразу осознает колдовскую и мрачно-ночную сущность своего природного дара.
Кроме природных стихий и сельского быта на становление его магического художественного сознания, конечно, влияло чтение. Видимо, уже тогда он познакомился с неоязычеством С. М. Городецкого, ярко выразившимся в книге стихов «Ярь» (1906). Позже, весной 1915, Есенин жил на квартире у Городецкого и они дружески общались. Тот вспоминал, что Есенин восторгался его книгой: «<…> он сказал мне при первом же свидании про мою "Ярь": "Я не знал, что так можно писать". Это "так" могло относиться только к моему опыту беречь старословие, живущее в народе»6 [см.: 5, с. 356].
Важным источником знаний по языческой славянской мифологии стало для Есенина трехтомное исследование А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (М., 1865–1869). «С помещенными в учебную хрестоматию фрагментами труда ученого Есенин мог познакомиться в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе (наблюдение С. И. Субботина)» [см.: 5, с. 356]. В этой школе Есенин учился с 1909 по 1912 год. Более полно исследование Афанасьева поэт мог прочитать, учась с сентября 1913 года в Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского на историко-философском курсе академического отделения.
Другим источником, питающим вызревание мифологической магии Есенина, стало творчество Н. Клюева и живое общение с этим поэтом, которое началось с октября 1915 года в Петрограде. Со стихами Клюева Есенин познакомился еще раньше. Учась у сектантов (хлыстов) вслед за своим наставником в поэзии и жизни, Есенин привыкал видеть черты богомладенца-христа в себе самом7. Клюев в автобиографии пишет о смешанных магических источниках своей веры, воспринятых от «старца с Афона»: «Поведал мне про дальние персидские земли, где серафимы с человеками брашно делят и – многие другие тайны бабидов и христов персидских, духовидцев, пророков и братьев Розы и Креста на Руси. Старец снял с меня вериги и бросил в озерный омут, а вместо креста нательного надел на меня образок из черного агата; по камню был вырезан треугольник и надпись, насколько я помню, „Шамаим“ и еще что-то другое, чего я разобрать и понять в то время не мог»8. Старец и учил, что «нужно во Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому Христом быть»9. Шамаим в пантеизме каббалы – божественное небо, верховное небесное божество10. Вся эта гремучая смесь через Клюева извергалась в душу Есенина.
Кроме Городецкого и Клюева Есенин испытывал духовное воздействие известных поэтов-символ истов: А. Белого, Блока, Мережковского, Гиппиус. Личное знакомство с ними начинается с 1915 года. Они подавали свои – более прямо обращенные к западной культуре – примеры возрождения языческой магии в современном поэтическом сознании. Особенно увлекал Есенина Андрей Белый, а через него – антропософия Штейнера [см.: 3, с. 689] с ее легким и кратким путем вовлечения в космический магизм, соединяющий микрокосм и макрокосм в божественное целое, постигаемое на основе древних магических учений, в частности, каббалы11.
С 1914 года языческое обожествление природы сопрягается у Есенина с сектантством, уповающим на «голубиный дух от Бога». Языческий праздник радуница, прославляющий радость рождения всех в божественной природе, соединяется с сектантскими радениями:
Чую радуницу Божью — Не напрасно я живу, Поклоняюсь придорожью, Припадаю на траву. Между сосен, между елок, Меж берез кудрявых бус, Под венком, в кольце иголок, Мне мерещится Исус. Он зовет меня в дубровы, Как во царствие небес, И горит в парче лиловой Облаками крытый лес. Голубиный дух от Бога, Словно огненный язык, Завладел моей дорогой, Заглушил мой слабый крик. (1914) [1, с. 65–67]«Исус» Христос в язычески-сектантском творчестве Есенина – один из божественных ликов божественной природы:
Сохнет стаявшая глина, На сугорьях гниль опенок. Пляшет ветер по равнинам, Рыжий ласковый осленок. Пахнет вербой и смолою, Синь то дремлет, то вздыхает. У лесного аналоя Воробей псалтырь читает. Прошлогодний лист в овраге Средь кустов, как ворох меди. Кто-то в солнечной сермяге На осленке рыжем едет. Прядь волос нежней кудели, Но лицо его туманно. Никнут сосны, никнут ели И кричат ему: «Осанна!» (1914) [1, с. 55]Христос может являться обезличенно – в «солнечной сермяге» на «осленке» ветра (и «лицо его туманно»), а может и в человеческом обличье, как «христы» у хлыстов:
И впилась в худое тело Спаса кроткого печаль. («Сторона ль моя, сторонка…», 1914) [1, с. 54]Последовательное развитие магического сознания неуклонно ведет к прямому самообожению. С 1916 года у Есенина появляются демиургические порывы: поэт пока еще «смиренно», неуверенно начинает свое мирозиждительное богослужение посреди божественной природы, в единстве с нею:
Твой глас незримый, как дым в избе. Смиренным сердцем молюсь тебе. <…> В незримых пашнях растут слова, Смешалась с думой ковыль-трава. На крепких сгибах воздетых рук Возводит церкви строитель звук. (1916) [1, с. 102]Переход к осознанию оборотнически-демонической природы нового душевного настроения обозначен в растянувшейся с 1916 по 1922 год доработке стихотворения «Нощь и поле, и крик петухов…»:
Нощь и поле, и крик петухов… С златной тучки глядит Саваоф. Хлесткий ветер в равнинную синь Катит яблоки с тощих осин. Вот она, невеселая рябь С журавлиной тоской сентября! Смолкшим колоколом над прудом Опрокинулся отчий дом. <…> Тихо, тихо в божничном углу, Месяц месит кутью на полу… Но тревожит лишь помином тишь Из запечья пугливая мышь. (1916–1922) [1, с. 76–77]В наборной рукописи в первой строке «звон облаков» автор заменил на «крик петухов» [1, с. 494]. Появление «крика петухов» привлекает образы нечистой силы, не могущей выходить за пределы ночи, а также столь важную для Есенина евангельскую тему ночного отречения от Христа. Поздняя доработка вводит образ опрокинутого в водное Зазеркалье «отчего дома». Колокольный благовест в этом вывернутом мире смолк, не осталось даже «звона облаков» из ранней редакции, и поминки по умершему миру творит только нечистое животное – «из запечья пугливая мышь».
Созданный к 1916 году антиправославный, антихристов мир в своей внешней благостности и ладности тронут неизбежными бликами и отсветами будущих крушений и потрясений:
Алый мрак в небесной черни Начертил пожаром грань. Я пришел к твоей вечерне, Полевая глухомань. <…> Разошлись мы в даль и шири Под лазоревым крылом. Но сзовет нас из псалтыри Заревой заре псалом. И придем мы по равнинам К правде сошьего креста Светом книги Голубиной Напоить свои уста. (1915) [1, с. 98]Одно из главных проявлений божественности бытия – Родина, Русь, и она принимается в противовес православному раю и в сопротивлении православному Богу с Его небесной ратью:
Гой ты, Русь, моя родная, Хаты – в ризах образа… Не видать конца и края — Только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, Я смотрю твои поля. <…> Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою». (1914) [1, с. 50–51]Изредка поэт на мгновение прозревает, куда ведет увлечение язычеством, магией его самого и всю Россию. В стихотворном цикле «Русь» (1914) он видит себя и страну вполне во власти нечистой силы, в колдовском круге самоубийства:
Запугала нас сила нечистая, Что ни прорубь – везде колдуны. [2, с. 17]Чтобы понять возникающую здесь игру образов, надо вспомнить признание Есенина в «Автобиографии» 1922 года: «Любимый мой писатель – Гоголь» [7, кн. 1, с. 10]. Гоголевские образы питают его художественное сознание. Если, например, в очерках об Америке он использует символику «Миргорода», то здесь, в «Руси», очевидно влияние «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а именно, повести «Ночь перед Рождеством», где Вакула решает утопиться в проруби, но напоследок пытается испробовать еще одно средство – помощь колдуна («Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»12). Таким образом, взору поэта являются два пути под власть нечистой силы: краткий – через прямое самоубийство – и окольный – через обаяние колдунов (то есть через магию, самоубийство духовное). В отличие от гоголевского Вакулы (иконописца, баса в церковном хоре, церковного старосты) Есенин не был верующим христианином, а потому и не смог справиться с нечистым наваждением, не увидел выхода из мнимо замкнутого круга.
Однажды Есенин искренне выражает предчувствие неминуемой беды, накликанной душевной изменой Христу, «роковым паденьем» в новую веру, и обращается к простой «бедной страннице», идущей в монастырь «поклониться любви и кресту» [1, с. 22] (образ ее, возможно, навеян воспоминанием о богомольной бабушке):
Кроток дух монастырского жителя, Жадно слушаешь ты ектенью, Помолись перед ликом Спасителя За погибшую душу мою. («За горами, за желтыми долами…», 1916) [1, с. 23]Подобные редкие прозрения подавляются волей поэта:
И молиться не учи меня. Не надо! К старому возврата больше нет. («Письмо матери», 1924). [1, с. 180]В состоянии пантеистического радения человек незаметно оказывается за пределами нравственного различения добра и зла, за гранью евангельских заповедей:
Позабыв людское горе, Сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алы зори, Причащаюсь у ручья. («Я пастух, мои палаты…», 1914) [1, с. 52–53] Счастлив, кто в радости убогой, Живя без друга и врага, Пройдет проселочной дорогой, Молясь на копны и стога. («Пойду в скуфье смиренным иноком…», 1914–1922). [1, с. 40–41]Отсюда, от этих по видимости невинных состояний души – меньше шага до разгульных, ветренных, разбойных и богоборческих настроений зрелого Есенина. Как «хулиган» он признает упадочную, испорченную, нечистую суть своего отчизнолюбия:
Я люблю родину. Я очень люблю родину! Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь. Приятны мне свиней испачканные морды И в тишине ночной звенящий голос жаб. [2, с. 86–87] <…> Я пришел, как суровый мастер, Воспеть и прославить крыс. («Исповедь хулигана», 1920). [2, с. 88]Уже на излете жизни озирая сотворенное, он в автобиографии 1922 года признал, что именно падшие люди более всего увлекаются его стихами: «Самые лучшие поклонники нашей поэзии – проститутки и бандиты» [7, кн. 1, с. 10].
Возможное земное осуществление своих вроде бы невинных духовных радений и «роковых падений» поэт искренне представляет как путь преступника:
Я одну мечту, скрывая, нежу, Что я сердцем чист. Но и я кого-нибудь зарежу Под осенний свист. («В том краю, где желтая крапива…», 1915) [1, с. 69]Еще более широко и откровенно мыслит он в «Хулигане» (1919):
Только сам я разбойник и хам И по крови степной конокрад. [1, с. 154]И, наконец, делает вывод о сокровенной сути своего творческого дара:
Все живое особой метой Отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, То, наверно, был мошенник и вор. («Все живое особой метой…», 1922) [1, с. 155]Не забывает он указывать и глубинный корень своего творческого разбоя на жизненном пути – магическое богоборчество:
Долга, крута дорога, Несчетны склоны гор; Но даже с тайной Бога Веду я тайно спор. Сшибаю камнем месяц И на немую дрожь Бросаю, в небо свесясь, Из голенища нож. («О Русь, взмахни крылами…», 1917) [1, с. 110]В революционные годы, когда Россия превратилась в вулкан, извергающий на всю планету не то подземно-адские, не то космические стихии, предаваться вселенскому магизму стало особенно легко: жизнь словно бы тут же откликалась на жизнетворческие порывы поэтической души. Так возникла череда небольших, неистово магических поэм 1917–1919 годов:
Листьями звезды льются В реки на наших полях. Да здравствует революция На земле и на небесах! Души бросаем бомбами, Сеем пурговый свист. Что нам слюна иконная В наши ворота в высь? Нам ли страшны полководцы Белого стада горилл? Взвихренной конницей рвется К новому берегу мир. («Небесный барабанщик», 1918) [2, с. 69]За это разгулье мрачного жизнетворчества автору пришлось платить сразу и с каждым годом все больше. Все чаще подступало тяжкое духовное похмелье, сочетавшееся с похмельем телесным, ибо лечить возраставшую душевную болезнь поэт пытался обычным магическим средством – наркотиком (в его случае – алкоголем). Вино лишь поначалу, да и то временно и призрачно поддерживало угасавший душевный огонь.
Другое средство подогрева души – страстная любовь – также не помогало Есенину, ведь любовь, понимаемая магически, всегда трагична: она ведет к слиянию со всем бытием, а значит, к смерти, пресечению отдельной частной жизни. Это поэт понимал изначально и пытался представить возможность вечной любви. Отсюда, в частности, устойчивая русалочья тема в его лирике.
Поначалу неопытная душа еще уповает на «чары» любовного опьянения:
В цветах любви весна-царевна По роще косы расплела, И с хором птичьего молебна Поют ей гимн колокола. Пьяна под чарами веселья, Она, как дым, скользит в лесах, И золотое ожерелье Блестит в косматых волосах. А вслед ей пьяная русалка Росою плещет на луну. — И я, как страстная фиалка, Хочу любить, любить весну. («Чары», 1913–1915) [4, с. 50]Но когда он пробует проникнуть в само русалочье сознание и понять, как это можно любить после смерти, получается не очень утешительно:
Ты не любишь меня, милый голубь, Не со мной ты воркуешь, с другою. Ах, пойду я к реке под горою, Кинусь с берега в черную прорубь. Не отыщет никто мои кости, Я русалкой вернуся весною. <…> Заману я тебя, заколдую, Уведу коня в струи за холку! <…> На постель я травы натаскаю, Положу я тебя с собой рядом. Буду тешить тебя своим взглядом, Зацелую тебя, заласкаю! («Русалка под новый год», 1915 [4, с. 122–123]Единство животной чувственности и языческого неистовства поэт в духе пантеизма пытался представить как движущую силу творчества, сжигающего душу своим огнем и рождающего к жизни нечто новое. В теоретическом размышлении «Ключи Марии» (1918) он с первых же строк говорит об этой язычески-страст-ной природе творчества, которым зиждется все мироздание: «Орнамент – это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры – какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только „избяной обоз“, что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег» [5, с. 186]. Всё живет, дышит, творится в образной стихии божественного мироздания, всё служит самому себе как божеству, возникая и пропадая – сверхчувственно, сверхразумно, устремляясь за пределы косной ограниченности своей плоти и души к райскому бытию всего во всем под сладостное пение губительных сирен бытия. Божественная вселенская душа в череде смертей и возрождений принимает различные частные обличья, и в этом заключается таинственная суть бытия как творчества, как перехода от жизни к смерти и обратно: «Узлом слияния потустороннего мира с миром видимым является скрытая вера в переселение души. Ничто не дается без жертвы. Ни одной тайны не узнаешь без послания в смерть» [5, с. 190]. Это жизнетворчество трагично и жестоко по отношению ко всему частному бытию, но оно же и прекрасно, неотразимо очаровательно, неудержимо. Каждая древнерусская изба – это «храм-изба, совершающий литургию миру и человеку»; и каждая вещь в обиходе животворится той же божественной душой, что и человек: «Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все предметы» [5, с. 192].
Если же любовь слаба, ее огонь переходит в угасающее тление и далее в тлен, прах. Умирание страстной любви сопрягается в мире Есенина с гнетущей силой Православия, Церкви. Обобщенно это выразилось в образах нищего с паперти и старушки-прихожанки в церкви, которые в юности страстно любили друг друга, но все-таки недостаточно сильно, чтобы сразу сгореть и погибнуть:
Глаза как выцветший лопух, В руках зажатые монеты. Когда-то славный был пастух, Теперь поет про многи лета. А вон старушка из угла, Что слезы льет перед иконой, Она любовь его была И пьяный сок в меже зеленой. <…> Она чужда ему теперь, Забыла звонкую жалейку. И как пойдет, спеша, за дверь, Подаст в ладонь ему копейку. Он не посмотрит ей в глаза, При встрече глаз больнее станет, Но, покрестясь на образа, Рабу по имени помянет. («Нищий с паперти, 1916) [4, с. 131]Так и поэт должен сгорать, выражая подлинную вселенскую любовь. А если этого нет, то наступает тлеющее умирание. М. Д. Ройзман свидетельствует: «Вспоминаю, как он сравнивал себя с Блоком: „Я, как Блок: ярко пою и быстро горю!“ <…> И что больше всего меня поразило, – его глаза. Они всегда у него во время разговора расцветали; теперь же были тусклые, но по-прежнему внимательно глядевшие на собеседника»13.
Поэта страшило угасание сжигающей любви, сжигающей творческой силы. Он возгревал эту силу средствами, обычными для магии: наркотиками (вином), страстной похотью в опьянении – «чувственной вьюгой» («Черный человек»), прямым богоборчеством в попытках самообожения. Но средства действовали все хуже:
Сочинитель бедный, это ты ли Сочиняешь песни о луне? Уж давно глаза мои остыли На любви, на картах и вине. (4/5 октября 1925) [1, с. 286]Магические попытки самообожения неминуемо вели к губительной душевной болезни, при том что само падение в духовную бездну томительно длилось:
Друг мой, друг мой, Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль То ли ветер свистит Над пустым и безлюдным полем, То ль, как рощу в сентябрь, Осыпает мозги алкоголь. («Черный человек», 1923 – 14 ноября 1925) [3, с. 188]Тень упадочного настроения – неизменного спутника магизма – заметна в творчестве Есенина изначально. Его склонность к тоске, тяготение к смерти, самоубийству не раз замечали уже современники (правда, обычно без понимания духовных причин). В частности, под впечатлением его гибели Л. Д. Троцкий пишет: «К смерти Есенин тянулся почти с первых годов творчества <…>, где каждая почти строчка написана кровью пораненных жил»14. Напечатанная в главной большевистской газете, статья эта стала и обобщающим предисловием к сборнику воспоминаний «Памяти Есенина» (1926), навеянных трагическим уходом поэта из жизни.
К такому же выводу приходит поэт-футурист А. Е. Крученых, толкуя образную ткань стихов Есенина, начиная с самых ранних: «<…> Есенин – поэт безнадежности и самоубийства. С самых юных лет, с самых ранних стихов и до трагической смерти поэта – во всех его произведениях чёрной нитью проходит мотив безвыходного отчаяния»15.
Вспоминая смерть Есенина, В. В. Маяковский писал: «Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, – огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подрассеялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:
В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей.После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.
Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно – стих, подведет под петлю или револьвер»16 [см.: 4, с. 452].
А вот раннее признание самого 16-летнего поэта в письме М. П. Бальзамовой (вторая декада июля 1912): «Тяжелая, безнадежная грусть! Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии? Что-либо сделать с собой такое неприятное? Или – жить– или – не жить? И я в отчаянии ломаю руки, что делать? Как жить? Не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить? И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле и так презрительно сказать – самому себе: зачем тебе жить, ненужный, слабый и слепой червяк? Что твоя жизнь?» [6, с. 10–11]
То же настроение в «Исповеди самоубийцы» (1913–1915):
Безумный мир, кошмарный сон, А жизнь есть песня похорон. И вот я кончил жизнь мою, Последний гимн себе пою. А ты с тревогою больной Не плачь напрасно надо мной. [2, с. 48]Даже в самых благостных образах пантеистического овладения всем миром порою, казалось бы, неожиданно, но совершенно неизбежно возникает жажда скорой смерти (а значит, и желание ее приблизить, убить себя не тем, так другим способом):
Край любимый! Сердцу снятся Скирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться В зеленях твоих стозвонных. <…> Все встречаю, все приемлю, Рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, Чтоб скорей ее покинуть. (1914) [1, с. 39]Корень самоубийственного настроения – отречение от Православия:
Не ищи меня ты в Боге, Не зови любить и жить… Я пойду по той дороге Буйну голову сложить. («Наша вера не погасла…», 1915) [4, с. 121]В 1916 году в демоническом парении неудержимо рождаются строки, обнажающие конечную суть запредельного гордого порыва и лишающие надежды:
Слушай, поганое сердце, Сердце собачье мое. Я на тебя, как на вора, Спрятал в руках лезвие. Рано ли, поздно всажу я В ребра холодную сталь. Нет, не могу я стремиться В вечную сгнившую даль. Пусть поглупее болтают, Что их загрызла мета; Если и есть что на свете — Это одна пустота. (3 июля 1916) [4, с. 137]Поэт боится не резкого сведения счетов с жизнью, а медленного умирания:
Мне страшно, – ведь душа проходит, Как молодость и как любовь. («Прощание с Мариенгофом») (1922) [4, с. 185]В магическом сознании самоубийство может оставлять туманную надежду на иное продолжение жизни. Об этом – предсмертные стихи, написанные кровью:
До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье Обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки, без слова, Не грусти и не печаль бровей, — В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей. (1925) [4, с. 244]Порою смерть является утонченно прикровенно, возникая из глубины художественного сознания. Так, Иван Грузинов в воспоминаниях о Есенине 1926 года проницательно приметил в заключительных строчках стихотворения «Сочинитель бедный, это ты ли…» (4/5 октября 1925) предчувствие скорого самоубийства, причем внушенного самим дьяволом, которому продана душа в тщетной попытке овладеть божественным всемогуществом:
Ах, луна влезает через раму, Свет такой, хоть выколи глаза… Ставил я на пиковую даму, А сыграл бубнового туза. [1, с. 286]Грузинову помогло сопоставление строк Есенина с произведениями двух его любимых поэтов: с «Пиковой дамой» Пушкина и «Красным карбункулом» И. Гебеля17. В этом же стихотворении, умирание души означено мимолетным ярким образом: «Свет такой, хоть выколи глаза…» – духовно поэт по сути уже умер и, подобно нечистой силе, не выдерживает Божьего света, даже отраженного, лунного.
Пытаясь справиться с тоской подступающего умирания, Есенин с 1917 года настойчиво уверяет себя, что может, коли захочет, вернуться в счастливое единство с божественной природой – даже посреди кровавого вихря истории и в разгаре своего неистового богоборческого мятежа:
О верю, верю, счастье есть! Еще и солнце не погасло. Заря молитвенником красным Пророчит благостную весть. О верю, верю, счастье есть. (1917) [1, с. 128]Однако он чувствует, что состояние хотя бы краткого блаженства, которое в начале творчества достигалось пантеистическим богослужением в храме природы, теперь уже утрачивается, ускользает безвозвратно:
Вот оно, глупое счастье С белыми окнами в сад! По пруду лебедем красным Плавает тихий закат. Здравствуй, златое затишье С тенью березы в воде! Галочья стая на крыше Служит вечерню звезде. Где-то за садом, несмело, Там, где калина цветет, Нежная девушка в белом Нежную песню поет. Стелется синею рясой С поля ночной холодок… Глупое, милое счастье, Свежая розовость щек! (1918) [1, с. 131]Отчужденно, словно бы сторонним наблюдателем переживает он теперь свое излюбленное, проверенное в раннем творчестве утешение – переход в восприятии мира от плотской чувственности к пантеистической одухотворенности, тихое самоубийство при растворении в божественном бытии, когда все любишь, соединяешься со всем, теряешься во всем и при том не страдаешь, а наслаждаешься безмятежно:
Закружилась листва золотая. В розоватой воде на пруду Словно бабочек легкая стая С замираньем летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, Близок сердцу желтеющий дол. Отрок-ветер по самые плечи Заголил на березке подол. <…> Я еще никогда бережливо Так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, Опрокинуться в розовость вод. Хорошо бы, на стог улыбаясь, Мордой месяца сено жевать… Где ты, где, моя тихая радость — Все любя, ничего не желать? (1918) [1, с. 147–148]Изредка в страхе перед будущим он даже готов вернуться к Православию – надо только очистить душу покаянием, и сама природа выведет единственной дорогой к истинному Богу. Впрочем, и в покаянии звучит гордость, смешанная с сомнением:
Серебристая дорога, Ты зовешь меня куда? Свечкой чисточетверговой Над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь? Иль к безумью правишь бег? Помоги мне сердцем вешним Долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю на дровни, Ветку вербы на узду. Может быть, к вратам Господним Сам себя я приведу. (1917) [1, с. 126]Все чаще на склоне жизни он уповает на чувственность, простую и бездуховную, свободную от магических порывов и мистических надежд. Он в таком случае возвращается к самым ранним своим стихотворным опытам, но только поет сию сентиментальную песнь голосом зрелым, исполненным опыта и создает ряд удивительно красивых и безнадежно печальных стихов:
Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, Я не буду больше молодым. <…> Я теперь скупее стал в желаньях, Жизнь моя! иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь… Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть. (1921) [1, с. 163–164]Сходное настроение звучит и в «Отговорила роща золотая…» (1924) [1, с. 210], «Мы теперь уходим понемногу…» (1924) [1, с. 201–202], «Цветы мне говорят – прощай…» (27 октября 1925) [1, с. 293–294], «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» (28 ноября 1925), [4, с. 233].
С высоты приобретенных знаний он показывает древние кинические (в латинской огласовке – цинические) истоки всякой, даже самой утонченной чувственности:
Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки. Хорошо косою в утренний туман Выводить по долам травяные строчки, Чтобы их читали лошадь и баран. В этих строчках – песня, в этих строчках – слово. Потому и рад я в думах ни о ком, Что читать их может каждая корова, Отдавая плату теплым молоком. («Я иду долиной. На затылке кепи…»,18 июля 1925) [4, с. 224]Он даже прямо провозглашает свой возврат к древнему кинизму:
Ну так что ж, что кажусь я циником, Прицепившим к заднице фонарь! («Исповедь хулигана», 1920) [2, с. 88]Одна из нижних ступеней чувственного воистину кинического схождения в животную бездуховность – попытки вжиться в собачью (и вообще животную и растительную) жизнь. Пантеистическое одушевление мира еще сохраняется, но человек в мировой иерархии сильно опускается, растворяясь в общей обезличенной одушевленности. Так, например, в «Собаке Качалова»:
Дай, Джим, на счастье лапу мне, Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне На тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. <…> Мой милый Джим, среди твоих гостей Так много всяких и невсяких было. Но та, что всех безмолвней и грустней, Сюда случайно вдруг не заходила? Она придет, даю тебе поруку. И без меня, в ее уставясь взгляд, Ты за меня лизни ей нежно руку За все, в чем был и не был виноват. 1925 [1, с. 213–214]Собака в этом падшем мире своей плотью и кровью оказывается ближе сердцу поэта, нежели призраки возлюбленных девушек:
Снова выплыли годы из мрака И шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, Что была моей юности друг. <…> Рад послушать я песню былую, Но не лай ты! Не лай! Не лай! Хочешь, пес, я тебя поцелую За пробуженный в сердце май? Поцелую, прижмусь к тебе телом И как друга введу тебя в дом… Да, мне нравилась девушка в белом, Но теперь я люблю в голубом. («Сукин сын», 31 июля 1924) [1, с. 207–208]Сукиным сыном оказывается не только щенок, похожий на прежнюю, околевшую теперь, собаку, но и сам поэт, вспоминающий свою молодость.
В зверином мире, сочиняя обращенные к животным стихи, поэт пытается найти исцеление и опору для продолжения жизни:
Я усталым таким еще не был. В эту серую морозь и слизь Мне приснилось рязанское небо И моя непутевая жизнь. Много женщин меня любило, Да и сам я любил не одну, Не от этого ль темная сила Приучила меня к вину. <…> В те края, где я рос под кленом, Где резвился на желтой траве, — Шлю привет воробьям, и воронам, И рыдающей в ночь сове. Я кричу им в весенние дали: «Птицы милые, в синюю дрожь Передайте, что я отскандалил, — Пусть хоть ветер теперь начинает Под микитки дубасить рожь». (1923) [1, с. 181–182]Порою чувственность, прожитая до своего смертоносного дна, не оставляет даже слабого мимолетного утешения:
Снова пьют здесь, дерутся и плачут Под гармоники желтую грусть. Проклинают свои неудачи, Вспоминают московскую Русь. И я сам, опустясь головою, Заливаю глаза вином, Чтоб не видеть в лицо роковое, Чтоб подумать хоть миг об ином. Что-то всеми навек утрачено. Май мой синий! Июнь голубой! Не с того ль так чадит мертвячиной Над пропащею этой гульбой. (1922) [1, с. 169]На этом необратимом уровне чувственного разложения и отдельному человеку, и целому народу уже не остановиться, не спастись: «Бесшабашность им гнилью дана» [1, с. 170]. Гниль еще не рассеять по ветру, но потом она переходит в летучий прах:
Ты, Рассея моя… Рас…сея… Азиатская сторона! [1, с. 170]Внезапно мелькающее «лицо роковое» напоминает о духовной расплате, которую поэт пытается забыть в грубой чувственности.
Любовь к одухотворенной «иконной» красоте, пробивавшаяся в детстве, безнадежно гасится слепой животной страстью:
Ты такая ж простая, как все, Как сто тысяч других в России. <…> По-смешному я сердцем влип, Я по-глупому мысли занял. Твой иконный и строгий лик По часовням висел в рязанях. Я на эти иконы плевал <…> Не хочу я лететь в зенит, Слишком многое телу надо. Что ж так имя твое звенит, Словно августовская прохлада? Я не нищий, ни жалок, ни мал И умею расслышать за пылом: С детства нравиться я понимал Кобелям да степным кобылам. Потому и себя не сберег Для тебя, для нее и для этой. Невеселого счастья залог — Сумасшедшее сердце поэта. (1923) [1, с. 189–190]В этом зверином бытии христианство кажется враждебной и губительной силой:
Русь моя! Деревянная Русь! Я один твой певец и глашатай. Звериных стихов моих грусть Я кормил резедой и мятой. Взбрезжи, полночь, луны кувшин Зачерпнуть молока берез! Словно хочет кого придушить Руками крестов погост! («Хулиган», 1919) [1, с. 153–154]Поэт тщетно пытается противопоставить христианству свое былое пантеистическое богослужение природе – надежда даже не теплится:
Я последний поэт деревни, Скромен в песнях дощатый мост. За прощальной стою обедней Кадящих листвой берез. Догорит золотистым пламенем Из телесного воска свеча, И луны часы деревянные Прохрипят мой двенадцатый час. (1920) [1, с. 136]Опускаясь в чувственности до самого дна, Есенин остатками саморазлагающейся души все-таки ощущает духовные корни своей душевной болезни:
Сыпь, гармоника! Скука… Скука… Гармонист пальцы льет волной. Пей со мною, паршивая сука, Пей со мной. <…> Чем больнее, тем звонче, То здесь, то там. Я с собой не покончу, Иди к чертям. К вашей своре собачьей Пора простыть. Дорогая… я плачу… Прости… прости… (1923) [1, с. 171–172]«Черти» здесь – не случайная присказка, а точное указание врагов в попытке вырвать из их когтей душу, уже вроде бы совсем проданную за призрачное ощущение своей божественности. Но вырваться не получается, и остается утешать себя ложным смирением перед непреодолимым действием разрушительной темной силы:
Эх вы, сани! А кони, кони! Видно, черт их на землю принес. В залихватском степном разгоне Колокольчик хохочет до слез. <…> Все прошло. Поредел мой волос. Конь издох, опустел наш двор. Потеряла тальянка голос, Разучившись вести разговор. Но и все же душа не остыла, Так приятны мне снег и мороз, Потому что над всем, что было, Колокольчик хохочет до слез. (19 сентября 1925) [1, с. 277–278]Иногда уставшему поэту где-то на перекрестье обездушенных чувств и рассудка мнится будто бы простой выход их жизненного тупика – тупо следовать за новым молодым поколением:
Я знаю, грусть не утопить в вине, Не вылечить души Пустыней и отколом. Знать, оттого так хочется и мне, Задрав штаны, Бежать за комсомолом. («Русь уходящая», 2 ноября 1924) [2, с. 106]Иногда в очередном припадке саморазрушения ему кажется, что он будто бы ничего не понимает в роковых событиях своей жизни:
Не знали вы, Что я в сплошном дыму, В разворочённом бурей быте С того и мучаюсь, что не пойму — Куда несет нас рок событий. Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на расстояньи. Когда кипит морская гладь, Корабль в плачевном состояньи. («Письмо к женщине», 1924) [2, с. 122–123]Так рождается отчаяние:
На кой мне черт, Что я поэт!.. И без меня в достатке дряни. Пускай я сдохну, Только…… Нет, Не ставьте памятник в Рязани! («Мой путь», 1925) [2, с. 162–163]В итоге все попытки вернуться к простой природной чувственности не приносят утешения. Природа оказывается кладбищем, на котором есть и его могила:
Снежная равнина, белая луна, Саваном покрыта наша сторона. И березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам? (4/5 октября 1925) [4, с. 232]На закате жизни Есенин жил в нарастающей боязни скорой расплаты с потусторонним черным заимодавцем. Так рождается и мучительно долго дорабатывается поэма «Черный человек» (1923 – 14 ноября 1925). Темная, призрачно-олицетворенная сила является из того зазеркального, оборотно-магического мира, который поэт так старательно воплощал в образах18 и который теперь рушится, забирая с собой пропащую душу:
«Черный человек! Ты – прескверный гость! Эта слава давно Про тебя разносится». Я взбешен, разъярен, И летит моя трость Прямо к морде его, В переносицу… ………………………… …Месяц умер, Синеет в окошко рассвет. Ах, ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала! Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один… И – разбитое зеркало… [3, с. 193–194]Примечания
1 Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. М.: Наука; Голос, 1995–2002. Т. 4. С. 124. Ссылки на это издание приводятся в квадратных скобках вслед за выдержками с указанием тома и страниц.
2 Ройзман М.Д. Все, что помню о Есенине. М., 1973.
3 Ройзман М. Д. То, о чем помню // Памяти Сергея Есенина. Издание Всероссийского союза поэтов, 1926. Переиздано: Есенин С. А. Я, Есенин Сергей. М., 2007. (. org/library/read/4484).
4 О чертах гностицизма у Есенина говорится, в частности, в исследованиях Е.О. Вороновой (см. прим. 11).
5 Ходасевич В. Ф. Некрополь: Воспоминания. М., 1991. С. 141.
6 См.: Молдавский Д. М. Притяжение сказки. М., 1980. С. 21.
7 О такой самооценке Клюева см.: Маркова Е.И. Родословие Николая Клюева. Тексты. Интерпретации. Контексты. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009. С. 62–67 и др.
8 Там же. С. 30.
9 Там же.
10 Там же. С. 157.
11 Об источниках духовного становления Есенина см., также: Воронова О. Е. Духовный путь Есенина (религиозно-философские и эстетические искания). Рязань. 1997. 288 с.; Воронова О. Е. Творчество С. А. Есенина в контексте традиций русской духовной культуры. Диссертация на соиск. уч. степ, доктора филологических наук. М., 2000. (http:// -s-esenina-v-kontekste-traditsii-russkoi-dukhovnoi-kultury#ixzz3IKkgCvXm); Воронова О. Е. Сергей Есенин и русская духовная культура: монография / О. Е. Воронова. Рязань: Узорочье, 2002. 520 с. О воздействии православной культуры на поэта: С. А. Есенин и православие: сборник статей о творчестве С. А. Есенина. Москва, 2011. О влиянии масонской эстетики на Есенина см.: Шубникова-Гусева Наталья. Поэма-загадка. Масоны в жизни и творчестве Сергея Есенина // Независимая газета» (НГ), электронная версия (ЭВНГ). № 057 (1628) от 02 апреля 1998, четверг. Полоса 16. http:// www.uni-potsdam.de/u/slavistik/zarchiv/0498wc/n057hl61.htm. Об отношении Есенина к масонству см. также: [3, с. 688–689; 4, с. 451].
12 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. / АН СССР; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 1. 1940. С. 222.
13 Ройзман М. Д. То, о чем помню // Памяти Сергея Есенина. Издание Всероссийского союза поэтов, 1926. Переиздано: Есенин С. А. Я, Есенин Сергей. М., 2007 (. org/library/read/4484).
14 Троцкий Л. Д. Памяти Сергея Есенина // Правда. 1926. 19 янв. № 15. См. прим, к переизданию в качестве предисловия к сборнику воспоминаний «Памяти Сергея Есенина»: «Настоящее письмо Л. Д. Троцкого было оглашено 18 января 1926 г. в Московском Художественном академическом театре на вечере памяти С. Есенина; напечатано в № 16 (2647) газеты „Известия ЦИК СССР и ВЦИК“ от 20 января 1926 г.» (/ library/read/4484).
15 Кручёных А. Черная тайна Есенина. М.: Издание автора, 1926. 54 с. С. 7. (http:// /).
16 Маяковский В. Как делать стихи? // Поли. собр. соч.: В 13 т. Т. 12. М., 1959. С. 95–96.
17 Грузинов И. [Воспоминания о Есенине] // Памяти Сергея Есенина. Издание Всероссийского союза поэтов, 1926. Переиздано: Есенин С. А. Я, Есенин Сергей. М., 2007 (http:// knigosite.org/library/read/4484).
18 О символике зеркала и зеркальности у Есенина см.: [3, с. 695].
«Немыслимая любовь» Владимира Маяковского Е. Ш. Галимова
Владимир Маяковский – и его личность, и творчество – вызывают с момента его появления в литературе и до наших дней самые противоречивые отклики, диаметрально противоположные оценки. Амплитуда оценок такова, что колеблется от признания бесспорной гениальности поэта до утверждения малости его поэтического дарования; от веры в абсолютную искренность Маяковского-человека и поэта до обвинений в конъюнктурности и лукавстве; от оценки его поэзии как воплощения любви к человеку до восприятия её как апофеоза человеконенавистничества.
Вопрос об отношении Маяковского к Богу и к православию также не раз ставился и его биографами, и исследователями его творчества. Отвечали на него авторы по-разному: в зависимости и от своего собственного мировоззрения, и от атмосферы времени, в которое создавались их работы. Вопрос этот, бесспорно, совсем не так прост, как представлялось, например, В. А. Ружиной, безапелляционно утверждавшей: «Владимир Маяковский был воинствующим художником-атеистом»1. Вот уж кем-кем, а просто плоским атеистом, который верит, что Бога нет, а потому и не думает о нем вовсе и не страдает от своего безбожия, Маяковский не был. Напротив, Бог – в центре его лирики, особенно ранней, без обращения к Нему (мольбы ли – что гораздо реже, вызова ли – что сплошь и рядом) поэт не может обходиться. Мысли о Боге тревожат его, не отпускают. «Как и Ницше, – пишет Н. В. Устрялов, – Маяковский – религиозная натура, убившая Бога. О, это совсем не то, что атеист. У атеиста холодная кровь. Бог не мучит его всю жизнь. Он для него просто не существует – «предрассудок незрелого сознания»»2. И все раннее творчество Владимира Маяковского – по сути попытка разобраться со своим отношением к Богу (по Маяковскому – разобраться с Богом, точнее, со своим представлением о Нем).
Очевидно, что тот предельный максимализм требований, который предъявлял лирический герой юного Владимира Маяковского к миру, не мог удовлетвориться малым, бытовым, земным. «Все дороги отдельных идей и переживаний ведут его в Рим предельных ценностей, которые его жгут, не дают ему покоя. Он, несомненно, может сказать о себе словами известного героя Достоевского: "Меня всю жизнь мою Бог мучил"»3. При его обостренной потребности, насущной нужде в любви – вселенской, при той метафизической тоске, «беззвёздной муке», которую не заглушить согласием на судьбу «номера, нанятого тащиться от рождения к смерти», существование без веры было для него невозможно. Вопрос в том – какова была эта вера.
Всё, что опубликовано о детстве Владимира Маяковского его сестрой, матерью, им самим, его учителями и знакомыми, со всей определенностью свидетельствует о том, что рос он в семье безрелигиозной. Даже учитывая, что эти воспоминания написаны и изданы в советское атеистическое время, содержащиеся в них факты не дают основания сомневаться в этом.
Наиболее подробно о детских годах Владимира Маяковского рассказывает его старшая сестра Людмила. В ее книге немало свидетельств того, насколько равнодушными к вопросам веры (а часто и агрессивно нигилистически настроенными) были и родители будущего поэта, и их близкие.
Для русской «передовой» интеллигенции того поколения, к которому принадлежали Владимир Константинович и Александра Алексеевна Маяковские, родители поэта, характерно было отношение к православной Церкви и ее вероучению как к чему-то безнадежно устаревшему и не отвечающему потребностям «современного человека». Вера оставалась, с их точки зрения, уделом малограмотного простонародья и державшихся за отжившие традиции стариков. Л. В. Маяковская свидетельствует: «Дома не было книг религиозного содержания, молитвы не заставляли читать. Следует сказать, что у нас в семье верующей была только бабушка. Ни папа, ни мама не верили в бога и не исполняли религиозных обрядов. Никто, кроме бабушки, не молился, не постился. В церковь ходили только к пасхальной заутрене, большой компанией, относясь к этому как к развлечению»4.
Людмила Владимировна вспоминает о том, как досадовал отец, когда во время поста нигде не мог купить мяса, и передает его иронично-раздраженное высказывание: «Ну, багдадцы обязательно попадут в рай, все посты соблюдают!»5 А во время прогулочного посещения монастыря возле Батуми «отец пристал к монахам, так как не удовлетворился постной монашеской пищей:
– Должно быть, у вас где-нибудь запрятано вино и курица, достаньте, я вас не выдам»6.
Александра Алексеевна Маяковская в ответ на огорченное замечание своей матери, Евдокии Никаноровны, о том, что в великий праздник – первый день Пасхи ее дочь занялась шитьем платья, «спокойно» объяснила невежественной старушке всю нелепость ее веры: «Вот вы молитесь, поститесь, соблюдаете праздники, а что вам дал бог? Ту же нужду, те же невзгоды и те же болезни. Он ничем не помог ни вам, ни тем, кто усердно молится. Значит, нужно надеяться только на себя»7.
«К неверию мама пришла через гуманизм», – замечает Людмила Маяковская и передает объяснение, которое мать давала своим детям, когда они спрашивали, почему и как она стала атеисткой: «Мама рассказала, что, когда ей было десять лет, в Джалал-оглы привезли большие картины религиозного содержания… На одной из них изображался всемирный потоп. В центре на возвышении сидел бог Саваоф, а кругом бушевали волны и в них – борющиеся со стихией люди с лицами, искаженными страхом. А бог бросает в пучину вод даже младенцев. На другой картине был изображен страшный суд над грешниками: они горят на кострах, их жарят и варят черти в аду. <…> – Увидав эти картины, – говорила она, – я решила, что не могу верить, любить и поклоняться такому жестокому богу, который так безжалостно расправляется с людьми и даже с детьми. Потом я думала о том, что если существуют войны, болезни, несчастья, то ни о каком могуществе и благости божьей не может быть речи»8.
То есть, дав сама себе в десятилетнем возрасте (как позже и ее старшая дочь) ответы на все сложнейшие вопросы, Александра Алексеевна далее уже не сомневалась в собственной правоте и могуществе своего разума. «Постепенно, – пишет Людмила Маяковская, – эти воззрения прививались и нам, детям»9.
О своем собственном «молитвенном опыте» Людмила Маяковская рассказывает так: когда ей, десятилетней ученице, грозила переэкзаменовка по русскому языку, она «плакала и, кажется, впервые молилась богу, взывая к его всеблагости, всемогуществу и прочим добродетелям». «Молитва» звучала так: «Что тебе стоит исполнить такую ничтожную просьбу девочки, сделать так, чтобы не отравлять мне жизнь?». То есть по логике «девочки» почему-то получалось, что «отравляла ей жизнь» не собственная неподготовленность по предмету; поэтому выводы из этой первой и последней попытки «молитвы» были сделаны самые радикальные: «Но бог не внял моим мольбам и доказал, что он не могучий и не благий. С этого времени я полностью разуверилась в боге, поняла несостоятельность религиозных учений. Удирала с подругами из церкви и как-то даже получила по закону божьему единицу»10.
Сам Владимир Маяковский ограничился лаконичным и ироническим описанием экзамена при поступлении в гимназию, когда на вопрос священника «что такое "око"» он ответил переводом с грузинского – «три фута». Результаты этой детской ошибки взрослый Маяковский интерпретирует глобально: «Мне объяснили любезные экзаменаторы, что "око" – это "глаз" по-древнему, церковно-славянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу – все древнее, все церковное и все славянское»11.
Даже этих свидетельств достаточно, чтобы убедиться в том, что религиозная, точнее – духовная непросвещенность родителей и детей Маяковских была, можно сказать, абсолютной.
Высшие ценности соотносились для них с социальным переустройством жизни: «Семья Маяковских, включая и маленького Володю, была настоящей революционной семьёй, – свидетельствует их близкий знакомый, революционер Исидор Морчадзе. – В этой семье жили и дышали революцией»12.
Чудом было бы, если бы в такой атмосфере Владимир Маяковский смог обрести веру в Бога, стать христианином. Такие чудеса случались с людьми его поколения, выросшими в подобных семьях, как случалось это и позже, когда дети «физиков»-шестидесятников приходили ко Христу. Но чаще, гораздо чаще, в семьях неверующих родителей вырастали безбожники, а нередко бывало, что революционеры и атеисты происходили из древних иерейских родов…
Владимир Маяковский не знал Христа, хотя и, как все будущие революционеры тех лет, посещал в гимназии уроки Закона Божьего. Его внешние знания («сведения») о Боге, Библии, христианстве впоследствии использовались им весьма активно в образной системе его поэзии, в развитии основного – богоборческого – мотива его творчества.
Картина мира Маяковского, вступившего на путь поэта, в основных своих характеристиках сводится к следующему: жизнь, особенно современная, основанная на капиталистических отношениях, отвратительна; человек несчастен и порабощен, и общественными законами, и религиозной моралью («а на мозгах / верхом / "закон" / на сердце цепь – /"религия"»).
Та гипертрофия чувств (страстей), свойственная Маяковскому, о которой писали все исследователи его творчества и свидетельствовал он сам каждой своей строкой («На мне ж / с ума сошла анатомия. / Сплошное сердце – / гудит повсеместно»), определяла главную особенность его мировосприятия и миро-чувствования: именно субъективная (или, если говорить о поэзии, лирическая) эмоционально-экспрессивная оценка являлась для него мерилом всего сущего.
Как отмечает В. А. Сарычев, Маяковский «сам определил пафос своей жизни и искусства. "Громада любовь" и "громада ненависть", имеющие истоком "сплошное сердце" поэта, – такова единая формула его творчества, одинаково верная для всех периодов его творческой деятельности…»13
В характерологическом очерке, опубликованном вместе с другими материалами следственного дела о самоубийстве Маяковского, говорится, в частности, о том, что поэт был «человеком очень бурного темперамента, человеком сильных чувств и влечений, способным к очень интенсивным и глубоким переживаниям. Наряду с этим высшие сознательно-волевые стороны его личности развиты слабо и отступают на задний план перед бурными порывами его эмоционально-аффективной сферы». В этом очерке также подчеркнуто, что Маяковский «не только не питал никакой склонности к наукам, имеющим отвлеченный характер и требующим способности к абстрагированию, как, например, математике или философии, но само занятие, например, научной или исследовательской деятельностью, требующей объективности анализа и обобщений, было ему в высшей степени несвойственно»14.
Бурные неконтролируемые эмоции делали Маяковского глубоко несчастным человеком, доставляли ему неимоверные страдания. Претензии к Богу, выраженные лирическим героем поэмы «Облако в штанах», по сути, раскрывают главную (даже единственную) причину богоборчества Маяковского:
Всемогущий, ты выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова, — отчего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать?!То есть, по Маяковскому, главная «вина» Бога – в том, что он не избавил человека от страданий.
Уже в ранних стихах и трагедии «Владимир Маяковский» происходит, в терминологии И. Эвентова, «конкретизация понятия» Бога как «воплощения земных несправедливостей» и «самого облика» Бога как «прообраза тупых и жестоких людей»15.
Жизнь хороша и единственно возможна только в том случае, если человек всегда, ежеминутно и постоянно будет счастлив, – вот основополагающее мнение Маяковского.
Максим Горький – самый близкий Владимиру Маяковскому из русских писателей этого поколения характером своего богоборчества и богостроительства – вспоминает о том, как понравились ему «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник», которые он слышал в исполнении поэта в 1915 году, и как «угрюмо ответил» Маяковский на слова Горького о том, что «у него большое, хотя, наверное, очень тяжелое будущее»: «Я хочу будущего сегодня», и добавил: «Без радости не надо мне будущего, а радости я не чувствую»16.
Душевная радость, веселье сердечное – это то, к чему стремится привести человека уже в этой земной жизни православная аскетика, то, что обещал Своим ученикам Иисус Христос: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» [Ин. 15: 11].
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» [Фил. 4: 4]; «Всегда радуйтесь» [1 Фес. 5: 16], – призывает христиан апостол Павел
«Без радости человеку незачем таскать свое тело», – записывал в своем дневнике русский писатель, православный мыслитель Борис Шергин.
Для современного человека смысл призывов апостола Павла, смысл христианской радости раскрыл сербский святой XX века преподобный Иустин (Попович): «Всегда радуйтесь, поскольку зло, смерть, грех, диавол и ад побеждены. А когда все это побеждено, есть ли что-нибудь в этом мире, что может уничтожить нашу радость? Вы – совершенные господа этой вечной радости до тех пор, пока добровольно не предадитесь греху, страсти и смерти.
Но такая истинная радость была неведома Маяковскому, и его тоска оставалась неутолимой. Утолить он её пытался, отвергнув «жестокого» Бога и христианскую религию как «источник грандиозных бедствий людей», «причиняемых человечеству зол»17. Главной из этих бед, самым страшным из зол оказалась для него неутоляемая любовь, в чем молодой Маяковский неустанно обвинял Бога, который, по представлению поэта, предопределил ему мучительно любить женщину-исчадие ада. Об этом откровеннее и пронзительнее всего говорит он во «Флейте-позвоночнике»:
Вот я богохулил. Орал, что бога нет, а бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел: люби!В логике мучимого страстью поэта, если Господь есть («если правда, что есть ты, / боже, / боже мой, / если звезд ковер тобою выткан»), то и пытка «этой боли, ежедневно множимой», ниспослана Им.
Немного в мировой лирике строк, наполненных такой болью, страданием, мукой любви, как в этой поэме, герой которой просит Бога казнить его каким угодно способом, но избавить от страданий:
Млечный Путь перекинув виселицей, возьми и вздерни меня, преступника. Делай, что хочешь. Хочешь, четвертуй. Я сам тебе, праведный, руки вымою. Только — слышишь! — убери проклятую ту, которую сделал моей любимою!Не в силах терпеть эти мучения, лирический герой Маяковского готов «добежать до канала и голову сунуть воде в оскал» или «поставить… точку пули в своем конце». Что в конце концов и случилось с самим поэтом. Но прежде Маяковский предпринимает попытку переделать мир, занявшись собственным богостроительством. Раз уж Бог не дал человеку жизнь без страданий и мук, такую жизнь нужно попытаться построить самому человеку. Конечно, в этом он не был «первопроходцем».
Как пишет Н. В. Устрялов, Маяковский «не принимает Божьего мира, но возвращает свой билет Творцу не "почтительнейше", как Иван Карамазов, а с вызовом и проклятиями, с ненавистью влюбленного безумно… <…> Великую мощь самодовлеющего человека – вот что противопоставляет он старому миру. <…> Бог свергнут – но что же вместо него? Природа духа, как и природа физиков, не терпит пустоты, и религиозная душа спешит воздвигнуть новые алтари»18. Предельно прямо сущность веры Маяковского выражена устами героев его революционной пьесы «Мистерия-буфф»:
Мы сами себе и Христос и спаситель! Мы сами Христос! Мы сами спаситель!В. Альфонсов в своей статье о Маяковском приводит диалог Кириллова со Ставрогиным в «Бесах» Ф.М. Достоевского:
– Он придет, и имя ему человекобог.
– Богочеловек?
– Человекобог, в этом разница, -
и отмечает, что «этот диалог мог бы служить эпиграфом ко всему раннему творчеству Маяковского»19.
Пафосом утверждения Человека с большой буквы, человека, который «величием своим, своими творческими возможностями» выше, «лучше» Бога, ибо он – Человек, Маяковский перекликается с Максимом Горьким.
В поэме Маяковского «Человек» (1916–1917), которую В. А. Сарычев назвал «попыткой создать Евангелие от Человека»20, это «выше», «лучше» утверждается так:
Это я сердце флагом поднял. Небывалое чудо двадцатого века! И отхлынули паломники от гроба господня. Опустела правоверными древняя Мекка.В одноименной поэме Максима Горького, написанной еще в 1903 году, «трагически прекрасный Человек… в моменты утомленья творит богов, в эпохи бодрости – их низвергает». Задолго до обожествления Человека Маяковским Горький сделал это и в своем «Евангелии от Максима» (определение Г. Митина) – романе «Мать».
В. А. Сарычев видит своеобразие Маяковского в том, что концепция человека, утверждаемая им, «резко противопоставлена христианской концепции человека, ибо поэт провозглашает как высшую этическую ценность земное счастье каждой отдельной личности»21. Но так ли уж своеобразен в этом Маяковский?
Еще К. Чуковский отмечал перекличку образа человека-чуда поэмы Маяковского «Человек» с героем Уолта Уитмена из сборника «Листья травы», изданного в 1855 году:
Отчего бы я стал молиться? и благоговеть, и обрядничать? Последовав земные пласты, все до волоска изучив, посоветовавшись с докторами и сделав самый точный подсчет, Я нахожу, что нет мяса милей и дороже, чем у меня на костях. Верую в плоть и ее аппетиты, Слух, осязание, зрение – вот чудеса, и чудо – каждый крохотный мой волосок. Я божество и внутри и снаружи, все становится свято, чего ни коснусь и что ни коснется меня, Запах моих подмышек ароматнее всякой молитвы, Эта голова превыше всех Библий, церквей и вер. Если и чтить одно больше другого, так пусть это будет мое тело и любая частица его, Прозрачная оболочка моя, пусть это будешь ты!И поэзия Уитмена, и роман-утопия Чернышевского «Что делать?» (который был одной из немногих книг в очень маленькой личной библиотеке Маяковского) с его «новыми людьми», пророчеством о грядущем Золотом веке и царящем на всей земле в «вещем сне» Веры Павловны рае; и сверхчеловек Ф. Ницше вместе в его горьковскими вариациями – все это, говоря словами Н. В. Устрялова, «старое дерзание, древнее как мир. <…> Седая, длинная традиция люцеферианства – от соблазна змея и Вавилонской башни до Штирнера, Фейербаха, Ницше»22.
Но это «старое дерзание» в революционную эпоху «облеклось в плоть и кровь, разлилось в ширь бесконечную, стало потрясающим фактом, в масштабе всемирно-историческом»23.
И все-таки богоборчество и богостроительство Маяковского в эту ниспровергающую все прежние ценности эпоху имело и свои особенности. В отличие от М. Горького, превыше всего ценившего человеческий разум и его потенциал, делавшего ставку именно на интеллектуальные способности человека (в его поэме «Человек» «только Мысль – подруга Человека»), Маяковский – «сплошное сердце».
Рай, о котором говорит «самый обыкновенный человек» в «Мистерии-буфф», рай, в котором «залы ломит мебель, / услуг электрических покой фешенебелен», где «на корнях укропа шесть раз в году» растут ананасы, для самого Маяковского имеет ценность лишь в том случае, если в основе его – Любовь.
Он пытался пересоздать мир, сделать его лучше, чем это получилось у Творца, и видеть этот новый мир и нового человека поэт хотел миром любви. Маяковский не верил, что искажение мира, созданного Богом любовью, – результат деятельности поврежденной натуры человека. Что саму любовь сумел сделать адом («куда уйду я, этот ад тая?») именно человек.
«В центре "космоса" Маяковского стоит человек с его земными чувствами и страстями, – пишет В. А. Сарычев, подчеркивая, что поэт противопоставляет "мистической любви" к Богу "подлинно земное чувство любви". – Любовь для поэта, в основе своей являясь чувством природным, в то же время заключает в себе ярко выраженное нравственное содержание, побуждающее человека к творчеству, к самосовершенствованию, к стремлению перестроить мир для счастья. <…> Поэтому любовь, понятая таким образом, становится в поэтической системе
Маяковского своеобразной моделью грядущего мироустройства, основанного, в отличие от теологических концепций мира, на земном счастье человека»24.
Маяковский прибегает к библейским, евангельским мотивам для предельного возвышения, обожествления этого «земного чувства любви», уже самим обращением к этим мотивам словно утверждая истинность своего «благовествования»:
Дней любви моей тысячелистое евангелие целую. («Человек»)
Любовь мою, как апостол во время оно, по тысяче тысяч разнесу дорог. («Флейта-позвоночник»)И делает это вызывающе, богохульно:
…тело твое просто прошу, как просят христиане — «хлеб наш насущный даждь нам днесь». («Облако в штанах»)При этом и ждать Маяковский не мог и не хотел; заклиная в поэме «Война и мир»:
И он, свободный, ору о ком я, человек — придет он, верьте мне, верьте! —сам он нуждался в том, «чтоб всей вселенной шла любовь», сейчас, сегодня, а не в далеком будущем, в которое он пытался верить и которое, как мог, стремился приблизить.
После большевистского переворота Маяковский словно с облегчением отказывается от непосильной роли пророка-предтечи-мессии-тринадцатого апостола и одновременно сумасшедшего-шута-паяца (все эти образы, порой сливаясь, воплощаются в лирическом герое его дореволюционной поэзии), того, кто «сердце флагом поднял», берущего на себя все боли и страдания человечества. Революция дала ему веру, что груз строительства нового мира и нового человека берут на себя те, кто совершил эту революцию и объявил себя строителями нового мира. Поскольку «надо мир сначала переделать, переделав – можно воспевать», Маяковский согласен, готов на все, чтобы приблизить счастливое будущее, он – «ассенизатор и водовоз, / революцией мобилизованный и призванный».
Если в ранней поэзии Маяковского роль мессии возлагалась на лирического героя, то в поэме 1924 года «Владимир Ильич Ленин» она отводится вождю революции, тому, кто «землю всю охватывая разом / видел то, что временем сокрыто», «самому человечному человеку», «самому земному изо всех прошедших по земле людей». Вся предшествующая история человечества – история ожидания этого человека, имя которого народ «спасенной» им России «в сердце вписал любовней, чем в святцы».
Но не случайно и Ленин, и многие бдительные «рапповцы» относились к Маяковскому настороженно. И не случайно Николай Устрялов в 1920 году в эмиграции, в Харбине, писал: «Он или погибнет, как Ницше, или закричит "осанна", как Достоевский, – этот вдохновенный косноязычный поэт Русской Революции, ее пророк и паяц»25.
Маяковский ждал чуда, но чуда не происходило. Человек не становился лучше. «Земное чувство любви» не одухотворялось. Страдания не исчезали. Он не закричал «осанна» и погиб. Маяковский так и ушел, – «любовищу свою волоча», страстную человеческую «любовищу», не преображенную и не ставшую Любовью.
Завершая поэму «Человек», Владимир Маяковский словно действительно провидчески скажет о своей посмертной участи:
Погибнет все. Сойдет на нет. И тот, кто жизнью движет, последний луч над тьмой планет из солнц последних выжжет. И только боль моя острей — стою, огнем обвит, на несгорающем костре немыслимой любви.Та любовь, о господстве которой мечтал поэт – человеческая, слишком человеческая, страстный «праздник тела», которому нужно «вызнакомить душу», любовь земная и при этом не приносящая страданий, любовь без ревности и мук – действительно, немыслима. Пьющий из этого источника не напьется. И обрекает себя на огонь, боль, и несгорающий костер и по смерти.
Литература
1. Ружино В. А. «Золоторождённой кометой…» Кишинев: Штиинца, 1988. С. 49.
2. Устрялов Н. В. Религия революции (Владимир Маяковский) // В. В. Маяковский: pro et contra. СПб., 2006. С. 502.
3. Там же. С. 501.
4. Маяковская Л. В. О Владимире Маяковском. Из воспоминаний сестры. М., 1969. С. 18.
5. Там же. С. 70.
6. Там же. С. 64.
7. Там же. С. 70.
8. Там же. С. 70–71.
9. Там же. С. 71.
10. Там же. С. 34.
11. Маяковский В. В. Я сам // Маяковский В. В. Поли. собр. соч.: в 13 тт. Т. 1. С. 12.
12. Морчадзе И. И. Владимир Владимирович Маяковский // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М.: ГИХЛ, 1963. С. 80.
13. Сарычев В. А. Маяковский: нравственные искания. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1984. С. 5:
14. Поляков Г. И. Характерологический очерк // «В том, что умираю, не вините никого»?.. Следственное дело В. В. Маяковского: Документы. Воспоминания современников. М., 2005. С. 442–448.
15. Эвентов И. Маяковский-сатирик. Л.: Гослитиздат, 1941. С. 66.
16. Архив А. М. Горького. Т. XI. М.: Наука, 1966. С. 228.
17. Эвентов И. Указ. соч. С. 66.
18. Устрялов Н. В. Указ. соч. С. 501–503.
19. Альфонсов В. «Эй, вы! небо!..» (О раннем Маяковском) // В мире Маяковского: Сб. ст. Кн. 1. М.: Сов. писатель, 1984. С. 201.
20. Сарычев В. А. Указ. соч. С. 86.
21. Там же. С. 187
22. Устрялов Н. В. Указ. соч. С. 505.
23. Там же.
24. Сарычев В. А. Указ. соч. С. 11.
25. Устрялов Н. В. Указ. соч. С. 512.
Художественная философия Евгения Замятина Р. Г. Круглов
Творчество одного из крупнейших мастеров русской прозы начала XX века Евгения Ивановича Замятина вызывает значительный интерес исследователей литературы и изучается достаточно активно. До недавнего времени художественную философию Замятина принято было интерпретировать как атеистическую, однако в последние годы усиливается тенденция переоценки отношения писателя к христианству [2]. Такое актуальное направление в науке, как исследование литературы в контексте ее связи с религией, применительно к творчеству Замятина является, по-видимому, одним из наиболее перспективных. В произведениях писателя систематически встречаются христианские темы и мотивы, которые несут большую символическую нагрузку и, зачастую, обуславливают основу концепции того или иного произведения. Даже исследователи, приписывающие автору последовательную апостасию, такие как М. Ю. Любимова, признают, что «Замятин не только обращается к проблемам из религиозной сферы, но и пытается их решить, используя жанровые и стилистические особенности церковной литературы, которую он хорошо знал с детства» [3]. При всей противоречивости свидетельств о взглядах Замятина на христианство и церковь, очевидна огромная значимость связанного с ними поля образов для понимания художественного мира писателя.
В художественной философии Замятина ведущую роль играют духовно-нравственные вопросы, «Главное место в ней занимает проблема человеческой свободы, которую Замятин исследует в традициях русской религиозно-философской мысли и в самой значительной степени под влиянием «Легенды о Великом Инквизиторе» Достоевского» [5]. Антиутопическое неприятие перспективы построения «рая на земле без Бога» («Последняя сказка про Фиту», 1917; «Мы», 1920), изображение неизбежного краха наивной человеческой самоуверенности («Уездное», 1912; «Островитяне», 1917), отрицание самодовлеющего познания («Дрянь-мальчишка», 1915; «Халдей», 1920) и крови по совести («Церковь Божия» 1920 г., «Арапы» 1920 г.), идея о необходимости очистительного раскаяния в совершенных злодеяниях («Наводнение», 1929), – все это свидетельствует о преемственности творчества Замятина по отношению к христианской традиции. В своих самых «антихристианских» произведениях писатель выступает не против религии, а против ее пошлого понимания, например, описывая торжество естественного телесного начала над моральными правилами («Ловец человеков», 1918; «О том, как исцелен был инок Еразм», 1920), Замятин порицает ханжество и косность мышления, бездумное замалчивание эротического начала в человеке, а не высмеивает веру в Бога. Во многих произведениях (в особенности, написанных после революции) очевиден пиетет писателя к церкви; мотивы храма, куполов и объединяющего людей колокольного звона в творчестве Замятина являются константными [2].
Согласно О. Н. Кудрявцевой, в истории изучения интерпретации христианства в творчестве Замятина можно условно выделить два этапа: первый связан с выявлением и анализом отдельных религиозных мотивов, второй этап предполагает целостный взгляд на отношение писателя к религии, «…современные замятиноведы переходят от решения вопроса о «еретичестве» писателя к исследованию религиозных мотивов и образов, их значения и влияния на проблематику произведений» [2]. Однако положение о «еретичестве» писателя является в данном случае отправной точкой; в контексте нашей работы важно, что это именно «еретичество», а не атеизм. Мотивы Бога и церкви широко представлены в творчестве Замятина, посвящено оно, главным образом, нравственным вопросам, область духовного никогда не исчезала из кругозора писателя.
Идейное содержание произведений Замятина (как и многих его современников) выражает, прежде всего, напряженный поиск новых ценностей, это характерная черта основного художественно-философского течения первой половины столетия – модернизма. Как эстетическая концепция модернизм сложился «в результате пересмотра философских основ и творческих принципов художественной культуры XIX в., происходившего на протяжении нескольких десятилетий, вплоть до первой мировой войны» [4, стб. 566]. Для модернизма характерно «восприятие своей эпохи как времени необратимых исторических перемен, сопровождающихся крахом верований и духовных ценностей, которыми жили предшественники. Возникшее на этой почве убеждение в необходимости радикального обновления художественного языка классического реализма дало основной импульс становлению модернизма как эстетической доктрины» (А. М. Зверев) [4, стб. 566–567]. Пафос модернизма заключается в переосмыслении духовных и эстетических ценностей, которое предполагает, в конечном итоге, отрицание ранее существовавших и утверждение новых. Если старые приоритеты были закреплены в традиции, а значит, основывались, прежде всего, на религии, то новые, соответственно, мыслились как изначально еретические (свойственные изменившемуся обществу, состоящему из индивидов-одиночек, лишенных традиционной ценностной опоры). Видение мира такого человека значительно отличалось от домодернистского, в связи с этим художественная реальность старого типа представлялась человеку начала XX века не вполне адекватной внешнему миру. Евгений Замятин – крупнейший художник-модернист-действовал как новатор, представитель антропоцентрической мыслительной модели, разработчик нового художественного инструментария, предполагающего повествование в разных планах, одновременное развитие нескольких сюжетных линий, символизм и аллегоричность, эллиптический стиль, неровный ритм изложения [5].
Последовательный нонконформист, Замятин выступал в своих статьях и художественной прозе против общепринятых на тот момент положений, стандартных взглядов и, главным образом, против любой истины, понятой как окончательная. Это относится как к формальной, так и к содержательной стороне его текстов. Творческий метод писателя тесно связан с идейным наполнением его произведений: поиск нового и развенчание старого. Такой подход основывался, помимо прочего, на подчеркнуто субъективном восприятии и отображении действительности. Поэтика модернизма, как писал М. Ю. Герман, обязана своим существованием, «открытому стремлению к индивидуальному выражению интимных переживаний» [6, с. 31]. Образный язык Замятина выражает самобытный личностный взгляд, обуславливающий художественную новизну.
Кроме внутренней эстетической основы, у пересмотра художественных принципов была и внешняя причина – стремительные темпы технического прогресса, экономические, социальные и политические изменения. Еще на рубеже веков «драматургия времени делалась напряженнее и тревожнее, как в силу роста повсеместной социальной конфронтации, так и благодаря невиданной динамичности той субстанции, которую еще не определили термином «информационное поле» (М. Ю. Герман) [6, с. 25]. Стремительные метаморфозы в окружающем мире и изменения человеческих представлений о нем обусловили переосмысление эстетической парадигмы. Как писал Замятин в статье «О синтетизме» (1922 г.), «в наши дни единственная фантастика – это вчерашняя жизнь на прочных китах» [7]. Однако при этом новаторский художественный инструментарий писателя был ориентирован на достижение сугубо реалистической цели – адекватного изображения действительной жизни (разумеется, в контексте современных ему представлений о ней). Автор утверждал своим творчеством необходимость смелого оригинального взгляда на реальность, вооруженного новейшими достижениями в различных областях знания, – это дало его творчеству модернистскую метафизическую дерзость. Фигура Евгения Замятина типична для своего времени: родившийся в семье священника [6], писатель оттолкнулся от родной культурной традиции, поскольку считал следование ей проявлением стагнации.
Очевидно, Замятин гордился своим пренебрежением к тем или иным нормам и законам, умением сознательно и твердо действовать вопреки существующим обстоятельствам. Так в 1929 г. он писал в письме в управление по делам СНК: «Я никогда не боялся критиковать то, что мне казалось консервативным в нашей современности. Критиковать "старый мир" сейчас, живя в Советской России, – очень удобно и выгодно, этим занимаются многие, – и именно потому я не занимаюсь этим» [8]. В автобиографии Замятин писал о событиях 1905 г.: «…быть большевиком – значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком…» [9], а после революции выступил с рядом художественных и публицистических произведений, критикующих современную ему власть, общество, литературу; эти выступления спровоцировали травлю [10]. Все это свидетельствует о том, что характерной чертой писателя была склонность к преодолению трудностей, испытанию себя. Эта личностная особенность тесно связана со специфической философией жизни Замятина. В статье «Завтра» (1919 г.) Замятин писал: «Сегодня обречено умереть: потому что умерло вчера и потому что родится завтра. Таков жестокий и мудрый закон. Жестокий – потому что он обрекает на вечную неудовлетворенность тех, кто сегодня уже видит далекие вершины завтра; мудрый – потому что только в вечной неудовлетворенности – залог вечного движения вперед, вечного торжества. Тот, кто нашел свой идеал сегодня, – как жена Лота, уже обращен в соляной столп, уже врос в землю и не двигается дальше. Мир жив только еретиками: еретик Христос, еретик Коперник, еретик Толстой. Наш символ веры – ересь: завтра – непременно ересь для сегодня, обращенного в соляной столп, для вчера, рассыпавшегося в пыль. Сегодня отрицает вчера, но является отрицанием отрицания – завтра: все тот же диалектический путь, грандиозной параболой уносящий мир в бесконечность. Тезис-вчера, антитезис-сегодня, и синтез-завтра» [11]. Изложенные автором положения по-своему логичны и внутренне не противоречивы, однако за интеллектуальными построениями скрывается подоплека иного рода: пафос отрицания наличествующей действительности. Форма гегелевского силлогизма в данном случае дала возможность подвести убедительную теоретическую базу под неприятие «сегодня» – несовершенного конечного мира, окружающего человека. Вывод писателя о несовершенстве «вчера» и «завтра» – только логически необходимое продолжение этой мысли (неприятие прошлой и будущей форм «сегодня»). По сути, Замятин отрицал именно середину триады – константное состояние, достигнутый результат. В этом проявилась характерная русская национальная черта, как писал Н. А. Бердяев, «Сложение русской души таково, что она не хочет признать ценности и значения <…> огромной середины человеческой жизни…» [1, с. 373]. Революционность воззрений Замятина типично русская, невозможность принять и быть довольным существующим порядком вещей связана с религиозной по своей природе устремленностью к предельным основаниям бытия, с пафосом долженствования. Неслучайны и религиозные отсылки в приведенной цитате, они необходимы писателю для обозначения всей важности для него утверждаемой позиции: ересь как символ веры.
Однако Замятин рассматривал христианство в контексте человеческой культуры как ее важный, но не первостепенный элемент. Ставя Христа в один ряд с Коперником и Толстым, писатель отрицал тем самым его богочеловеческую природу; более того, христианство в замятинской системе последовательного отрицания непременно должно обозначать «вчера», уже пройденную человечеством ступень развития. Подчиняя свои воззрения диалектическому принципу, автор пришел к необходимости отрицания любых ценностей, в том числе, и глубоко значимых для него самого; кроме того, жестокость обозначенного писателем закона состоит, главным образом, в том, что мудрая бесконечная спираль оказывается, в сущности, бесцельной.
«Бог» Замятина – это вечное движение, непрерывная цепь революций, организованная по гегелевскому диалектическому принципу. Писатель выступает против любого закона, кроме «мудрого и жестокого» бесконечного становления, поскольку все постоянное является для него проявлением гибельного застоя – энтропии, ведущей к пошлости и вырождению человека. Неслучайно именно Замятин стал первооткрывателем такого актуального в XX веке жанра, как антиутопия (роман «Мы», 1920), предполагающего утверждение невозможности построения идеального общества. Устами героини романа 1-330 писатель говорит, что «…последней революции не может быть, как и последнего числа» [12], – целью жизни человека и человечества, по Замятину, является развитие как таковое. Как писал В. Н. Евсеев, «адогматизм, еретизм – идеология Замятина, в философском еретичестве Замятин весьма последователен, а еретичество понимается не как бесцельная скачка "скифа", а целеполагание культуры, самовозобновляющейся в движении идей» [13, с. 32]. Таким образом, принцип эволюционизма применяется писателем к миру в целом: накапливающиеся количественные изменения приводят к качественному скачку и очередному промежуточному результату.
Можно сказать, что в оригинальной системе взглядов Замятина присутствует смешение цели и средства: размышляя о мироздании, писатель в качестве ответа на вопрос «зачем?» рассматривает ответ на вопрос «как?». Замятин боготворит жизнь как таковую – саму существующую во времени диалектическую спираль, а не ее предполагаемые цель, причину, начало и конец. В этом отношении мировидение Замятина близко к языческому – в качестве основного мирового закона выступает цикличность бытия, как в древнегреческой мифологии, согласно которой Урана сверг Крон, Крона сверг Зевс, который тоже непременно будет свергнут [14, с. 15–16]. В такой картине мира бытие человека столь же безысходно, как вечный труд Сизифа. Мировоззрение Замятина глубоко трагично, неслучайно А. М. Ремизов писал о нем, что «…в его глазах кипел нестерпимо щемящий огонь-это был "демон пустыни"-демон одиночества, беспризорности и отчаянья» [15].
Наличествующая в творчестве Замятина нравственная вертикаль существует как бы безотносительно Бога. Его диалектическая триада «вчера-сегодня-завтра» не мотивирована высшим смыслом. Система взглядов писателя соответствует авторскому ее определению – это ересь, авторская форма «энергетического» мировидения, имеющая одним из своих истоков христианство, но, безусловно, не сводящаяся к нему.
Литература
1. Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. СПб., 1998
2. Кудрявцева О. Н. Художественная феноменология Е. И. Замятина: нравственно-религиозный аспект: Дис…. канд. филол. наук: 10.01.01 Тамбов, 2005.164 с. РГБ ОД, 61:06–10/276.
3. Любимова М. Ю. Творческое наследие Е. И. Замятина в истории культуры XX века. Диссертация на соискание ученой степени доктора культурологических наук. 24.00.02 СПб., 2000. 349 с. -nasledie-e-i-zamyatina-v-istorii-kultury-xx-veka.
4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. Николюкина А. Н. Институт научн. информации по общественным наукам РАН. М.: НПК «Интелвак», 2003.
5. Русские писатели XX века: биографический словарь. М.: Большая российская энциклопедия; Рандеву-AM, 2000. .
6. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.: ил.
7. Замятин Е. И. О синтетизме // Замятин Е. И. Сочинения. М.: Книга, 1988. http:// az.lib.ru/z/zamjatin_e_i/text_1922_o_sintetizme.shtml.
8. Замятин Е. И. Я боюсь //Замятин Е. И. Сочинения. М.: Книга, 1988. . ru/z/zamjatin_e_i/text_1921_ya_bous.shtml.
9. Замятин Е. И. Автобиография // Замятин Е. И. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. Лица. М.: Русская книга, 2004.
10. .
11. Замятин Е. И. Письмо Сталину. / Замятин Е. Сочинения, 1986. Т. 4. С. 310–316.
12. Замятин Е. И. Завтра // Замятин Е. И. Сочинения. М.: Книга, 1988. . ru/z/zamjatin_e_i/text_1919_zavtra.shtml.
13. Замятин Е. И. Мы. .
14. Евсеев В. Н. Историософия и поэтика Е.И. Замятина [Текст] / В. Н. Евсеев // Историософия в русской литературе XX и XXI веков: традиции и новый взгляд. XI Шешуковские чтения. М.: Изд-во МПГУ, 2006. С. 30–33.
15. Мифы народов мира / Кун Н. А., Цирнин Ю. Б., Петру В. Я. М.: ACT: Астрель, 2006. 392 с.: ил.
16. Ремизов А. М. Стоять – негасимую свечу. Памяти Евгения Ивановича Замятина / «Наше наследие», 1989, N9 1; «Современные записки», Париж, 1937, т. 64 . ru/z/zamjatin_e_i/text_0450.shtml.
Религиозное сознание классиков русского зарубежья
Дмитрий Мережковский Ю. В. Зобнин
I
«Будем справедливы к Мережковскому, будем благодарны ему, – писал Н. А. Бердяев. – В его лице новая русская литература, русский эстетизм, русская культура перешли к религиозным темам… В час, когда наступит в России жизненное религиозное возрождение, вспомнят и Мережковского, как одного из его предтеч в сфере литературной»1.
Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 (14) августа 1865 года в Петербурге, в одном из флигелей Елагина дворца, где семейство статского советника Сергея Ивановича Мережковского (1821–1908), занимавшего важный пост в придворной канцелярии, традиционно проводило летние месяцы. Дмитрий был поздним ребенком – младше него из девяти детей Сергея Ивановича и Варвары Васильевны (урожденной Чесноковой, 11889) была только сестра Вера. Это был крайне возбудимый и впечатлительный мальчик, очень болезненный и хрупкий. Ребенок с самых первых лет пугал домашних необъяснимыми приступами панического страха – внезапно «белел как мертвец», замечая около себя нечто, и кричал, тыча пальчиком в углы, так что приходилось дежурить возле его постели и ярко освещать спальню лампами.
Малыш был очень религиозен, причем его религиозность сопровождалась какой-то неподдельной и явно не детской мистической экзальтацией. Тому немало способствовала домашняя няня – «почтенная старушка», любившая рассказывать своему питомцу сюжеты Четьих миней:
Мне жития угодников святых Рaсскaзывaлa няня, кaк с бесaми Они боролись в пустынях глухих. Кaк некое зaклятие трикрaты Монaх нaд черным кaмнем произнес И в воздухе рaссыпaлся проклятый, Подобно стaе воронов, утес: Я слушaл няню, трепетом объятый И любопытством, полный чудных грез, От ужaсa я «Отче нaш» в кровaтке Твердил всю ночь в мерцaнии лaмпaдки2Мережковский был замкнутым и нелюдимым ребенком. У него был собственный мир, в который претворяла «скучную казенную квартиру» у Прачечного моста (совр. адрес – наб. Фонтанки, 2) его яркая фантазия, – мир сказочный, чарующе прекрасный и опять-таки пугающе страшный своей таинственностью:
…Чудилась мне тайна в нишах темных, В двух гипсовых амурах, в зеркалах, В чуланах низких, в комнатах огромных, — Все навевало непонятный страх…В гимназические годы большое влияние на духовное становление Мереж-ковского-подростка оказал старший брат Константин, игравший в семействе роль infant terrible. Любимец матери и надежда отца, студент юридического факультета, подававший блестящие надежды на правоведческом поприще, Константин Мережковский увлекся Спенсером и теориями Дарвина, перевелся на факультет естественных наук и, к ужасу родителей, стал горячим сторонником самых радикальных политических учений. Для младшего брата-гимназиста он явился чем-то вроде «мудрого змия-искусителя» при «Адаме в райской сени»:
Он все, во что я верил, разрушал…Дмитрий тайком приходил к Константину в университетскую лабораторию в здании «Двенадцати коллегий». Там при инфернальном голубоватом свете спиртовки, накаляющей шипящую колбу с опаловой дымящейся жидкостью, под сухой треск гальванической машины братья вели долгие страшные «кара-мазовские» разговоры. Константин, «волей тверд в добре и зле, без удержу, без меры», «смеялся над чертом и над Богом», разворачивал перед «дрожащим» от чудовищных кощунств младшим братом жуткие теории социального дарвинизма и демонстрировал ему под микроскопом инфузорий, пожирающих друг друга, что, очевидно, было наглядной иллюстрацией к сказанному:
И любопытство жадное влекло К опасности на крайние ступени, И в первый раз на детское чело Уже недетских дум ложились тени: Пленяет душу человека зло.С. И. Мережковский решил препоручить дело спасения старшего сына некоему «ученому попу», занимающемуся миссионерством (зная связи Сергея Ивановича, легко предположить, что это был кто-то из лучших православных мыслителей того времени). Священник, оказавшийся знатоком новейших естественно-научных теорий и палеонтологии, навещал Мережковских по субботам: «в лиловой рясе с золотым крестом» уютно располагался в гостиной, неспешно угощался чаем с баранками и между прочим в спокойной, дружеской застольной беседе искусно опровергал дарвинистские постулаты Константина, толковал книги Моисея и доказывал наличие Провидения. Мережковский непременно присутствовал при этих «миссионерских чаепитиях»:
И спорам их о Боге без конца Я с жадностью внимал, дохнуть не смея…Если для старшего брата усилия священника, по-видимому, остались втуне, то младший, напротив, оценил встречу с «умным миссионером» как «маленькое чудо», сотворенное Богом лично для него по его молитвам как раз в тот момент, когда его слабый детский ум «изнемог в борьбе с мятежным духом, дьяволом науки». По крайней мере, рано испытав в беседах с братом обаяние безбожия, юный Мережковский столь же рано узнал и то, что его старший современник, великий русский мыслитель Константин Леонтьев называл «мрачно-веселым обаянием Православия, глубокого для ума, простого для сердца»3. И, конечно, главное, что во всей истории отроческих «сомнений» исходом стало не разочарование в религиозных чувствах, не утрата веры, как это часто бывает при переходе от наивного, младенческого мировосприятия в мир взрослых прагматических ценностей, – а мощный импульс к новым исканиям между сердечным убеждением в бытии Божием и рассудочным скепсисом, внушаемым «демоном науки». Большинство сверстников Мережковского в ту пору с легкостью уступали в подобной ситуации логичным и внешне неотразимым доводам рассудка, доводам популярных материалистических учений.
«Общим местом» в истории русской интеллигенции XIX века стало утверждение онтологического неблагополучия ее духовного мира. Биография любого сколь-нибудь выдающегося ее представителя (тем более – представителя литературного «цеха») непредставима без рассказа о «духовном пути», «духовных исканиях», где главнейшим является решение для себя и по совести вопроса о том, есть Бог или нет. Даже Достоевский, уже прошедший каторгу, где он, по его словам, «себя понял, народ понял и Христа понял», признавался в письме Н. Д. Фонвизиной: «Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнений до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных»4.
Мережковский среди своих старших и младших современников – чуть ли не единственное исключение, ни о каких «духовных исканиях», порождаемых сомнением в основе основ личного исповедания веры, у него и речи не было. Гораздо позже, критикуя слишком рассудочную и «ученую» мистику символистов-богоискателей, Мережковский обмолвится о личном опыте переживания присутствия Бога в мире: «Это или совсем легко – "младенцам открыто", – или невозможно понять, так же, как не трудно, а невозможно слепому видеть» («Балаган и трагедия»).
Для самого Мережковского «это» – было «совсем легко». В нем как бы «от рождения», изначально, присутствует не зависящее от чувственного и рационального опыта твердое духовное знание, сообщающее о мироустроении истину абсолютно позитивного характера, – истину о том, что Бог есть. В знаменитом открытом письме Н. А. Бердяеву – статье «О новом религиозном действии» (1905) – Мережковский говорит о двух взаимосвязанных элементах своей «проповеди», двух ее «тайнах»: тайне религиозного сознания и тайне религиозного действия. «Первая тайна» «почти две тысячи лет тому назад сделалась откровением; но откровение это ныне для нас опять сделалосьтайной; это откровение и тайна в том, что человек Иисус, распятый при Пилате Понтийском, был не только Человек, но и Бог, истинный Богочеловек, Единородный Сын Божий, что „вся полнота Божества обитала в Нем телесно" и что „нет иного имени под небом, коим надлежало бы нам спастись"».
Ставя прежде всего в христианстве исповедание Иисуса – Христом, Мережковский сразу же сжигает тем самым все привычные мосты, ведущие к диалогу с интеллигентным читателем5. Не в том дело, «симпатичен» ли нам Иисус или не «симпатичен», «принимаем» ли мы «с высоты» нашего бытового, политического, научного опыта Его заповеди или «не принимаем», – а в том, что вне Него собственно жизнь как человека, так и человечества не состоится ни «метафизически», ни «эмпирически», ни «там», ни «здесь». «Другой» жизни, «жизни без Иисуса Христа» – нет, а есть только смерть: «там» – ад, «здесь» – ад земной, то есть не жизнь, а агония, «помойка», «мерзость запустения», начинающаяся в историческом, земном времени, а затем продолжающаяся в вечности.
«Вторая тайна» Мережковского есть сугубо практический вывод, обращенный ко всем, устрояющим в «прогрессивном» XX веке свое и других существование: коль скоро хотя бы «здесь», в земном бытии, – о жизни вечной, всегда тайно желаемой нами, уместнее будет целомудренно умолчать, – вы хотите жить, а не «агонизировать», любые ваши действия должны воцерковиться. Все позитивные творческие усилия в любой сфере жизнедеятельности – от повседневного быта до большой политики – должны быть прежде всего направлены на воцерковление предпринимаемого шага. Иначе, как и предупреждал Христос, никто не сможет «делать ничего». Все будет с безнадежной неизбежностью превращаться в ужас и тлен, и самые благие намерения, безукоризненные как с этической, так и с эстетической стороны, окажутся пресловутыми камнями, мостящими дорогу в ад.
Весь смысл «проповеди Мережковского» заключается в настойчивом повторении предупреждения: грядущая эпоха крайне опасна! Успехи науки и техники дают в руки человека XX века огромную, невероятную мощь, но духовное состояние его удручающе неразвито. Христианская Церковь чем дальше, тем больше воспринимается прагматическим массовым сознанием как «пережиток старины», а Ее учение – учение Христа – отвлеченным идеализмом, неприменимым к разрешению насущных проблем повседневной жизни. Понятие «греха», влекущего за собой обязательное наказание, утрачивается. Еще немного – и появятся безбожный политик, сосредоточивший в своих руках необъятную власть благодаря невиданным общественным технологиям, безбожный ученый, имеющий доступ к беспредельно-мощным энергиям, безбожный военный, располагающий оружием, затмевающим все прежние средства поражения, безбожный торговец, оперирующий мировыми финансовыми структурами. И не надо строить иллюзий: никакой «альтернативной» христианству позитивной идеологии человечество «из себя» не выработает. Альтернатива христианству только одна – сатанизм, облеченный в самые разные идеологии и политические доктрины, но ведущий всегда к несправедливости, насилию и гибели.
II
«Поворот к христианству» произошел в творчестве Мережковского на рубеже 1880-1890-х годов. К этому времени он с успехом завершил историко-филологический факультет Петербургского университета и сумел громко заявить о себе на страницах столичных журналов как популярный среди молодежи поэт-дебютант и автор острых критических статей о современной литературе. Важным событием как в личном, так и в творческом плане была женитьба (1889) на Зинаиде Николаевне Гиппиус (1869–1945), положившая начало уникальному семейному писательскому союзу Мережковских, который явился динамическим средоточием всего «богоискательского» движения в российской культуре «серебряного века». Их знаменитый литературно-художественный домашний «салон» в «Доме Мурузи» (Литейный, 24) на пятнадцать лет стал одним из духовных центров Петербурга.
Размышления над проблемой «нового религиозного действия» привели Мережковского к изменению взглядов на задачи художественного творчества. Как уже было сказано, грядущая эпоха, сочетающая техническое могущество с духовной скудостью, отчетливо виделась ему апокалипсическим кануном всемирной истории: отпавшее от христианства, духовно «одичавшее» человечество двигалось, по мнению молодого писателя, к мировой катастрофе, тотальному взаимоуничтожению. Катастрофу эту предотвратить было можно, единственно изыскав средства к реальному возрождению и активному действию христианства в общественной жизни. Церковь должна стать действенным и главным орудием в организации общественного бытия. Но для этого христианское вероучение должно вновь стать актуальным в сознании масс, должно быть адаптировано к повседневным проблемам быта. Эту грандиозную духовную работу по изменению отношения общества к Церкви, работу по «воцерковлению» современного постиндустриального мира и должно было, по мысли Мережковского, взять на себя искусство нарождающегося XX века, причем – именно русское искусство. «Русским людям нового религиозного сознания, – писал он, – следует помнить, что от какого-то неуловимого последнего движения воли в каждом из них – от движения атомов, может быть, зависят судьбы европейского мира, что как бы они сами себе ни казались ничтожными… – все-таки от наследия Петра и Пушкина, Л. Толстого и Достоевского нельзя им отречься безнаказанно именно теперь, когда это наследие всего нужнее…» («Л. Толстой и Достоевский»).
Русскому искусству, таким образом, ставились новые и воистину грандиозные задачи. До сего момента отечественный художник если и видел себя «учителем жизни» (как, например, Белинский или «шестидесятники»), то преимущественно в сугубо социальном и национальном масштабе. Теперь же русское искусство становилось средством духовной агитации, инициируя процесс возрождения «нового христианского сознания» во всем мире. Это была воистину модернистская постановка вопроса: серебряный век русской литературы начинался.
Впервые о новых задачах русского искусства Мережковский заговорил в лекциях, объединенных общим (и весьма «наукообразным») названием – «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Читаны эти лекции были 8 и 15 декабря 1892 года в аудитории Соляного городка (в здании нынешней Государственной художественно-промышленной академии имени барона А. Л. Штиглица). Даты, конечно, выбраны не случайно – поклонник декабристов Мережковский ощущал себя революционером, «выходящим на площадь», чтобы сказать «новую истину».
Свое выступление (в начале 1893 года текст будет опубликован в одноименном сборнике критических работ Мережковского) он начал с констатации того факта, что интерес русских читателей к современной литературе в целом – резко падает. Происходит это потому, что отечественные литераторы не понимают (и, большей частью, не хотят понять) высшее, провиденциальное назначение русского искусства, угаданное великими предшественниками – Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Достоевским, – быть инициатором и организатором позитивного идеального бытия личности, пробуждать в читателях «высокие порывы духа», ведущие, как это легко понять, к действенной религиозности. Главными темами для великой русской литературы минувшей эпохи всегда были темы духовные – сейчас же «все поколение конца XIX века носит в душе своей… возмущение против удушающего мертвенного позитивизма, который камнем лежит на нашем сердце». Следовательно, художник, желающий преодолеть «упадок», возникший в российской культуре, должен сознательно, говоря словами Мережковского, расширить свою «художественную впечатлительность», перейти от тем «бытовых» к «высоким», связанным с «непознаваемым мировым началом». Произведения «новой литературы», утверждал Мережковский, должны быть мистическими по содержанию. О чем бы ни говорил писатель, он должен видеть за внешним, случайным, частным присутствием вечного идеального бытия, отношение к которому в конечном счете и решает судьбу как отдельного человека, так и всего мира. В области же формы такое произведение должно быть символическим, ибо передать информацию о «непознаваемом», «идеальном» можно только способом косвенного обозначения, намеком, иносказанием.
Идейная эволюция Мережковского в 1890-е годы получила очень яркое отражение в его художественных произведениях этой поры, прежде всего в его знаменитой «трилогии» «Христос и Антихрист» (романы «Юлиан Отступник», 1895; «Леонардо да Винчи», 1900; «Петр и Алексей», 1904). Знаменательно, что непосредственно в канун начала работы над «трилогией» (первые наброски романа о Юлиане относятся к лету 1890 года) Мережковский переживает «жанровый кризис». Поэзия больше не привлекает его: за книгой «Стихотворений» (1888) и «Символами» (1892) в появлении стихотворных сборников следует шестилетний перерыв – до «Новых стихотворений» (1896), очень небольшой по объему книжки, составленной в основном из философской лирики. Позже он признается В. Я. Брюсову, что с некоторых пор ему «стихи чем-то лишним кажутся. Мне пищу для души подавай, а стихи что, детское»6.
Работая над первым романом будущей трилогии, Мережковский находит свою художественную форму и, главное, находит своего героя. До сих пор не совсем ясно, каким образом его заинтересовала эпоха, почти невозможная, невиданная в тематике отечественной словесности, – Византия, IV век по Рождеству Христову. Император Юлиан, внук Константина Великого, царствовал всего три года (он погиб во время парфянской войны в 363 году), однако это царствование вошло в историю как самая яркая попытка волевого действия «против течения» исторического хода вещей: Юлиан, один из образованнейших людей своего времени (он прошел курс наук в Афинском университете и обладал блестящим литературным дарованием), попытался восстановить в Восточной империи эллинское язычество, потесненное торжествующим после миланского эдикта 313 года христианством. Попытка эта, заранее обреченная на провал, принесла Юлиану прозвище «Апостаса» (отступника), а его предсмертные слова «Ты победил, Галилеянин!» – вошли в свод «исторических речений».
Юлиан в романе Мережковского (заметно отличающийся от своего исторического прототипа) был идеальной фигурой для изображения той ситуации, в которую на рубеже 1880-1890-х годов попадает наш герой. Признавая высокую духовную красоту христианской проповеди, Юлиан не может принять ее, ибо практическое воплощение заповедей христианства кажется ему тотальным отрицанием чувственной, «плотяной» жизни, организация которой в языческой античной культуре достигла высокой гармонии. Трагизм его положения в том, что любой из возможных вариантов выбора между «духовностью» христианства и «плотской» гармонией язычества, по совести, не может принести ему полного удовлетворения. Его идеал – синтез духа и плоти, такое состояние бытия, при котором плотская жизнь была бы одухотворена настолько, что духовные идеалы могли бы беспрепятственно воплощаться в повседневности. Величие Юлиана – как следует из романа – в том, что он нашел в себе силы попытаться этот идеал осуществить на практике. Ничтожество же – в его непонимании чудесной природы подобного синтеза, неосуществимого только человеческими силами, без помощи того Бога, борьбу с Которым Отступник сделал своей главной задачей. Это понимает мудрая подруга императора Арсиноя. «Я знаю, – говорит она Юлиану во время их последней встречи, – ты любишь Его. Молчи, – это так, в этом проклятье твое. Какой ты враг Ему? Когда твои уста проклинают Распятого, сердце твое жаждет Его. Когда ты борешься против имени Его, – ты ближе к духу Его, чем те, кто мертвыми устами повторяет: Господи, Господи! Вот кто твои враги, а не Он».
Позже духовными близнецами Юлиана в поисках гармонии «духа» и «плоти» «на земле, как на небе» станут все, без исключения, главные персонажи Мережковского: Леонардо, Петр, Александр I, Рылеев, Пестель, Наполеон, Франциск Ассизский, Жанна д'Арк, Августин, Павел, Данте, Лютер, Кальвин, святая Тереза Авильская, святой Иоанн Креста и, наконец, героиня последнего (неоконченного) романа – Маленькая Тереза Сердца Иисусова. Это не однообразие и «самоповторение», как часто упрекали Мережковского его строгие (и большей частью) пристрастные критики. Это – сознательное настойчивое стремление укоренить в мировом литературном контексте XX века образ, который, как считал Мережковский, символизирует собой деятельную практическую христианскую религиозность – единственное, что может противостоять надвигающемуся одичанию «цивилизованного мира». «Метафизическое» содержание этого образа восходит к христианскому провиденциализму.
Провиденциализм – христианская философия истории – говорит об историческом процессе как о возможном, но не обязательном состоянии человечества. Человек создавался Богом не для исторического бытия с его жестокостью, страданиями и неизбежной смертью. Назначение человека – прославление своего Творца в вечной любви к Нему. Родина человечества – рай, находящийся вне времени и пространства. Однако первые люди, наделенные главным даром Творца, поставившим их выше всех других творений, – свободой, употребили этот дар для того, чтобы ослушаться Бога, для грехопадения. Тогда-то и возникла история: люди были изгнаны из вечного и бесконечного рая в «земное» время и пространство, в страдания и смерть. Сделано это было для того, чтобы люди научились пользоваться даром свободы правильно. Человек свободно смог ослушаться своего Создателя. Теперь же он точно так же свободно, на основании своего личного опыта, должен прийти к убеждению, что Богу все-таки надо повиноваться. Только как средство получения этого опыта – как каждым отдельным человеком, так и всем человечеством в целом – историческое бытие имеет смысл.
В романах Мережковского мы видим конкретизацию провиденциалистских постулатов: главное содержание жизни человека в истории – страдание, которое проистекает от того, что в человеческом существе присутствуют два взаимоисключающих начала: «духовное» и «плотское». Эти два начала порождают две системы ценностей, и, естественно, все то, что любит «дух», отрицательно сказывается на «плоти», а все «плотское» ужасает «духовное». Какое-то время человеку кажется, что он сам в состоянии разрешить это противоречие, создать «собственный рай», «рай на земле», однако ужасные последствия, к которым приводят подобные попытки (писано это, заметим, за четверть века до «великого эксперимента» коммунистов в России), заставляют наглядно убедиться в том, что вне помощи Творца человек воистину не может «творить ничего» – ничего хорошего. Здесь уместно вспомнить и замечательные слова апостола Павла (героя одной из будущих книг Мережковского): «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но что бы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим» [Рим. 7: 18–25]7.
Урок, который, по Божьей воле, преподает отпавшему от Творца человеку история, – страшный урок. Тот, кто хочет жить «во имя свое», кто горделиво считает себя в силах своею волею решить все проблемы расколотого исторического бытия, запутывается в лабиринте ужасных, нелепых и кровавых противоречий. Это показано в исторических романах Мережковского с такой силой, что некоторые критики упрекали его в садическом цинизме и кощунстве. «Уже те эпохи, которые он выбирает для своих романов, – пишет один из самых непримиримых (и самых талантливых) противников Мережковского И. А. Ильин, – суть неустойчивые, колеблющиеся времена соблазнов и туманов: двусмысленные и раздвоенные. Христианство уже победило, но язычество еще не изжито, – вон он языческий разврат, укрывшийся в христианстве, а вот сущая добродетель в язычестве. Вот эпоха Возрождения в Италии – язычество возрождается, а христианство в лице католицизма вырождается до корня. А вот эпоха просвещения и языческого классицизма вламывается в Россию при Петре. А вот религиозная смута на Крите и в Египте. И всюду, где эпоха смуты и соблазна, – там истинно вожделенное пастбище для Мережковского. <…> Вот благочестивая, искренно-верующая христианка – от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря – он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот святой мученик – с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только и думают, как бы им вырезать всех язычников. От руки найденного идола совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо платить вдвое-„из почтения к Богоматери''. Человек имеет две ладанки – с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа Римский прикладывается к Распятию, – а в Распятии у него Венера. <…> Вот девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку – это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва – на колдовское заклинание <…>. Вы начинаете озираться – и искать себе точку опоры, лицо, на котором можно было бы отдохнуть, отвести душу, посочувствовать, полюбить, и вдруг вы убеждаетесь, что у Мережковского все двусмысленно и фальшиво; все двусветно, двулично, скользко, все холодно и гладко, как тело ужа; все соблазнительно, смутно, неверно – по средневековому выражению, все есть scandalum – скандальный соблазн. Все – душевное, духовное, умственное – таково, что невольно начинаешь молиться – не введи же меня в искушение – и откладываешь книгу»8.
Яростная критика Ильина вряд ли может быть признана справедливой – не Мережковский же выдумал «двусмысленные и раздвоенные» исторические эпохи! Но итог филиппики неожиданно говорит в пользу Мережковского: для того он и громоздит в своих книгах исторические ужасы друг на друга, чтобы, ужаснувшись, читатель «невольно начал молиться». Сам человек, повторим, не сможет сделать в истории ничего. «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения», – недаром поется в начале православной литургии.
К историософской художественной прозе Мережковского идейно примыкают его эссе и историко-литературные «исследования» этого периода. Во вступлении к сборнику «Вечные спутники» (1897) Мережковский писал, что все герои его очерков, такие различные внешне (Марк Аврелий, Плиний Младший, Сервантес, Гёте, Монтень, Достоевский, Пушкин и др.), оказываются связаны внутренним единством в отношении к современному читателю, ибо «они живут, идут за нами, как будто провожают нас к таинственной цели… Для каждого народа они – родные, для каждого времени – современники, и даже более – предвестники будущего».
Легко представить себе, что «таинственная цель», которую «предвозвещают в будущем» «вечные спутники» Мережковского, – уже знакомый нам по «трилогии» итог мирового провиденциального действа, чудесное разрешение антиномии «плоти» и «духа» в человеке, завершение истории и возвращение человечества в райское бытие. Таким образом, под пером Мережковского союзниками русских символистов становились величайшие гении всех времен и народов. Вообще, вплоть до конца 1900-х годов Мережковский-мыслитель предпочитает не обращаться к читателю непосредственно. Учение о «новом религиозном сознании» и «новом религиозном действии» оказывается как бы «зашифрованным» в масштабных историко-литературных «исследованиях», появившихся вслед за «Вечными спутниками». Так, учение об антиномии «духовного» и «плотского» начал в человеке и ее провиденциальном смысле содержится в грандиозном труде «Л. Толстой и Достоевский», над которым Мережковский работал около трех лет (1899–1902). Учение о диалектике «мистического действия» личности, проходящей путь от гуманистической гордыни к подлинному смирению и примирению с Творцом, иллюстрируется примерами из жизни и творчества Лермонтова («Поэт сверхчеловечества», 1908).
Уникальное место в наследии Мережковского занимает «исследование» «Гоголь и черт» (1903–1906), в котором излагается его «демонология». Если высшим смыслом исторического бытия (как уже говорилось выше) оказывается достижение свободного подчинения «твари» – Творцу, то, очевидно, что сила, пытающаяся противостоять божественному замыслу, должна препятствовать самой истории. Однако, коль скоро история с точки зрения провиденциализма – это мучительное изживание эгоистической самонадеянности в человеке, отпавшем от Бога, то отрицание ее – это в первую очередь отрицание страданий, отрицание творческой неудовлетворенности и желания «изменить мир». «Зло видимо всем в великих нарушениях нравственного закона, в редких и необычайных злодействах, в потрясающих развязках трагедий, – постулирует Мережковский. – Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессилии, не в безумных крайностях, а в слишком благополучной середине, не в остроте и глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом». Самым главным и страшным диавольским соблазном, по мнению Мережковского, оказывается соблазн… комфорта. «Так называемый „комфорт", то есть высший культурный цвет современного промышленно-капиталистического и буржуазного строя, комфорт, которому служат все покоренные наукою силы природы – звук, свет, пар, электричество, – все изобретения, все искусства», – этот самый бытовой комфорт в высшем смысле является в системе Мережковского не чем иным, как диавольской «пародией на рай», «недоделанным раем», «раем» в одной отдельно взятой квартире, доме или стране. Диавольская «механика» этой подмены проста, но весьма эффективна: «вместо блаженства – благополучие, вместо благородства – благоприличие… Не восторг, не роскошь, не опьянение, не последний предел счастья – а лишь серединное благополучие, умеренная сытость духа и тела…». В результате же жизнь человека, поддавшегося иллюзии комфорта и «не воспитанного страданием», оказывается обессмысленной, «внеисторичной» и потому как бы и не осуществленной, призрачной. «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» [Откр. 3: 14–17].
Зинаида Гиппиус вспоминает, что в 1900-е годы средоточием всех интересов Мережковского становится вопрос «об охристианении земной плоти мира, как бы постоянном сведении неба на землю, – по слову псалма – „истина проникнет с небес, правда возникнет с земли"». Мережковский утверждал, что эта идея уже заключена в догматах, которые не суть застывшие формулы, какими считают их все ««исторические» церкви, но подлежат раскрытию соответственно росту и развитию человечества»9. Можно сказать, что Мережковский искал возможные способы преодоления застарелого и губительного для России конфликта между русской интеллигенцией и русским православием, способы действенного воцерковления жизни образованного, общественно активного русского человека XX века.
Итогом этих поисков стали знаменитые «Религиозно-философские собрания», возникшие из обычных домашних сходок «единомышленников» Мережковских в «Доме Мурузи». Хозяев вдохновлял пример малороссийских православных «братств» начала XVII века. Эти своеобразные «духовные коммуны», объединяющие активных прихожан вне церковных стен, с успехом противостояли католической экспансии на Украине и были очагами православного просвещения, воспитавшими таких апологетов православия, как Леонтий Карпович, Мелентий Смотрицкий, Кирилл Ставровецкий. Точно так, по мысли Мережковского, участники его домашнего религиозно-философского «клуба» должны были ныне формировать «новое религиозное сознание» творческой интеллигенции, противостоящее нигилизму и материалистическому атеизму предшествующей исторической эпохи. Следует добавить, что подобная инициатива не мыслилась изначально Мережковским вне Русской православной церкви; по «форме» это было не более чем развитие приходского устроения, являющееся одним из путей «свободного» воцерковления интеллигенции.
Несколько петербургских «сезонов» подобные домашние «богословские дискуссии», сопровождаемые общими молитвами а также – чтением и обсуждением евангельских глав, читаемых на богослужениях по мере прохождения Лета Господня, проходили (нерегулярно и, что называется, «с переменным успехом») в салоне Мережковских, а затем Гиппиус предложила «поменять формат». «По-моему, – доказывала она мужу, – нам нельзя теперь говорить о далеком, об отвлеченных каких-то построениях, очень уж мы беспомощны. И ничего мы тут не знаем – я, по крайней мере, чувствую, что чего-то очень важного мне не хватает. Мы в тесном, крошечном уголке, со случайными людьми стараемся слепливать между ними искусственно-умственное соглашение – зачем оно? Не думаешь ли ты, что нам лучше начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, но пошире, и чтоб оно было в условиях жизни, чтоб были… ну, чиновники, деньги, дамы, чтобы оно было явное, и чтобы разные люди сошлись, которые никогда не сходились…»10. Гиппиус предложила придать Собраниям легальный «общественный» статус, испросив благословение петербургского митрополита и получив официальное разрешение Синода. Разговор происходил осенью 1901 года, на даче под Лугой, где супруги завершали летний сезон. Мережковский, по словам Гиппиус, не дослушав даже до конца, вскочил, ударил рукой по столу и закричал: «Верно!» Идея Собраний получила, таким образом, последний, завершающий «штрих».
29 ноября 1901 года Религиозно-философские собрания были торжественно открыты в зале Императорского Географического общества на Театральной улице. Успех превзошел все ожидания. На первом заседании присутствовал весь цвет столичного духовенства – митрополит, настоятели крупнейших храмов, профессора и доценты Академии. Доступ был свободный для всех – присутствовали даже академические студенты и семинаристы. Вообще степень свободы этого форума была невероятной для тогдашней России – не было даже обязательного для всех публичных заседаний полицейского. Стенографические отчеты помещались в журнале «Новый путь», который был создан Мережковскими в рамках этого грандиозного «общественного проекта» Всего за время существования Собраний в 1901–1903 годах было проведено двадцать два заседания.
Как бы ни относиться к Собраниям, нельзя не признать, что все происходившее на них и вокруг них, было в сущности, единственной реальной попыткой мирного соглашения всех группировок образованного общества дореволюционной России. «Да, это воистину были два разных мира, – вспоминала Гиппиус. – Знакомясь ближе с „новыми" людьми, мы переходили от удивления к удивленью. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке, – все это было другое, точно другая культура… Были между ними люди своеобразно глубокие, даже тонкие. Они прекрасно понимали идею Собраний, значение „встречи"»11.
Мережковский переживал «звездный час». В какой-то миг ему начинает казаться, что взятая им на себя «миссия» посредничества между «властью» и Церковью – и противостоящей им до сего момента интеллигенцией – выполнена и теперь начинается некий новый этап истории России. «Помоги нам русская Церковь, помоги нам русский Царь», – взывает он, завершая журнальный вариант «Л. Толстого и Достоевского», а в разговоре с Брюсовым вдруг заявляет: «Я… может быть, избран орудием, голосом. Я – бесноватый. Через меня должно быть все это сказано. Может быть, сам я не спасусь, но других спасу…».
Увы, это было иллюзией! На рубеже 1902–1903 годов звезда Религиознофилософских собраний, так высоко стоявшая, вдруг начала стремительно закатываться. Весь первый год существования этого форума подавляющее большинство участников дискуссий ясно сознавало простой и очень практически-конкретный смысл совместной деятельности – поиск путей к вхождению интеллигенции в русскую Церковь. Отсюда и предельная актуальность поставленных вопросов – отношение «сторон» к свободе слова и совести, браку, общественной жизни, внешней политике и т. д. Дискуссии были хотя и острыми, но очень продуктивными, и потому, сознавая это, «власти предержащие» – как светские, так и духовные – весьма сочувственно относились к Собраниям, демонстративно «закрывая глаза» на возникавшие резкости, резонно полагая их «неизбежным злом». Однако с открытием второго сезона Собраний практическое начало в дискуссиях все больше вытесняется некими отвлеченными и не очень вразумительными словопрениями. Повинны в этом были, прежде всего, писатели-модернисты, игравшие словами: все произносили слова «религия» и «Бог», вкладывая, однако, в них совершенно различное содержание.
Если говорить конкретно о Мережковском, то для него в это время на первый план вдруг выходит проблема «вселенского христианства». У нее есть своя предыстория. В 1890-е годы вопрос о «вселенской Церкви» очень настойчиво ставился в работах Владимира Сергеевича Соловьева, своеобразно трактовавшего идеи своего покойного старшего друга-Достоевского. Соловьев призывал Православную церковь отвергнуть «узкоконфессиональные и национальные интересы», совершить «подвиг смирения» и добровольно присоединиться к Риму. В таком случае, по мнению Соловьева, христианство станет воистину «всемирной религией» и приобретет принципиально новое качество универсального организатора бытия человечества. Тогда возникнет новая историческая ситуация всеобщего духовного (а не политического) соединения, национальные государства будут упразднены и установится всемирная «теократия», общечеловеческое бытие по заповедям Господним. Это будет концом всемирной истории и прологом к мистерии Второго Пришествия, которое окончательно переведет человечество под «новое небо» и «новую землю» – ибо «прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет», и «времени больше не будет» [Откр. 21.1; 10.6].
Мережковский, исходя из той же идеи Достоевского о будущем преображении Государства в Церковь, от которой отталкивался и Соловьев, рисовал зеркально противоположную картину. По его мысли, «теократическое всеединство» вызревает именно в России, стремящейся развить идею православной монархии до превращения властных институтов в церковные по существу. Получалось, что русская Церковь должна была найти в себе силы «вместить» в себя все прочие христианские конфессии, «переплавить» в своем духовном горниле неким «сверхусилием», данным свыше, все противоречия, разделяющие ныне христианский мир, и распространиться на всю вселенную, созидая под эгидой русского Царя (превращающегося, как и «вселенский папа» Соловьева, в нечто качественно иное по отношению к «обычному» монарху) религиозную общественность, упраздняющую законы истории и утверждающую особое «апокалипсическое христианство» в качестве организующего принципа общечеловеческого бытия.
В «Л. Толстом и Достоевском» Мережковский, апеллируя к Евангелию, выводит концепцию «двух Церквей»: Петра (католицизм), миссия которой – устроить историческое бытие человеков, и Иоанна (православие) – на плечи которой ложится предуготовление человечества к концу истории и встрече Второго Пришествия. Соответственно различны и их «алгоритмы существования»: «западная» Церковь оказывается крайне активной на протяжении всей истории христианства, смело соединяя в своей руке «крест» и «меч кесаря» (причем последнему, разумеется, отдается предпочтение). «Восточная» же (греко-русская) Церковь до поры до времени пассивна и созерцательна, она как бы «скрывается» от исторических коллизий, накапливая силы для того, чтобы в канун исполнения сроков, когда «Церковь Петра» истощит свои силы, единым мощным ударом преобразить все человечество во «всемирную теократию», в универсальное «белое христианство» Армагеддона.
Настоящий момент – канун XX века – Мережковский полагал моментом «смены Церквей»: католицизм, выполнив свою миссию, «уходит на покой», а русское православие решительно выдвигается на авансцену исторического бытия, для того чтобы, проникнув во все сферы жизни – политику, экономику, культуру, быт и т. д., «освятив всю плоть», это бытие преодолеть и устроить всему человечеству «новый рай». (Останется ли при этом Церковь собственно «православной», Мережковский умалчивал; Соловьев был откровеннее, говоря, что в момент «всеединения» старые, «исторические, храмовые» формы религиозности как бы «истлеют» и на их месте возникнет «религия сверхчеловечества», качественно иная по отношению к прежнему, «догматическому», христианству и его обрядности.)
К удивлению Мережковского, решившего в канун Религиозно-философских собраний, что «момент настал», картины грядущего «вселенского» величия православия, светочем которого и должна явиться «преображенная» русская Церковь, никакого энтузиазма у иерархов, приходящих в Собрания, не вызвали. Уже на первых заседаниях архиепископ Сергий (Страгородский), пользуясь правом председательствующего, неоднократно деликатно намекал своим светским подопечным о нежелательности обращения к глобальным прожектам, отвлекающим истинно воцерковленного человека от будничного, повседневного, личного духовного «делания».
Никакого действия эти призывы, к сожалению, не возымели. Напротив, с трибуны «Собраний» все чаще звучали речи, явно кощунственные. Масло в огонь подливали литературные и публицистические материалы, которые появлялись в журнале «Новый путь», учрежденном осенью 1902 г. супругами Мережковскими специально для освещения работы петербургского форума. Отчеты о деятельности Собраний появлялись в «Новом пути» в странном окружении откровенно «декадентской» поэзии и прозы – Бальмонта, призывавшего «быть как солнце», Брюсова, мечтавшего ранее восславить во имя свободы «и господа и дьявола», Сологуба с его мрачным исповеданием «злого бога». Уже по закрытии «Нового пути» Блок набросал иронический «проект содержания» возможного номера журнала: здесь упоминались стихотворение Мережковского «Черт с вами!», размышления Розанова «Нечто о давно и однажды женившихся», сочинение теософки А. Шмидт «Несколько слов о моей канонизации». В рубрике «Из частной переписки» Блок поместил «Любовные письма иеромонаха Прокрустия к Мирре Лохвицкой»… Справедливости ради нужно, впрочем, отметить, что и Блок с его пониманием Бога как «несказанного» и чрезвычайно свободной трактовкой мистицизма мало совпадал с доктринальным мистицизмом Церкви.
Весной 1903 года терпение властей лопнуло. «Последней каплей» здесь явилось открытое письмо популярной тогда писательницы Н. А. Лухмановой «Кто дал им право?», помещенное ею 2 апреля в газете «Заря». «Кто звал быть нашими пророками гг. Меньшиковых, Розановых, протоиерея Устьинского, Мережковского и других?… – писала Лухманова. – Мы устали от грязи, клеветы, от всей этой вакханалии, под видом богословских споров, мы жаждем чистоты и простоты, мы жаждем молчания!»
Лухманова писала искренно, но объективно ее статья сыграла роль доноса: с соответствующими комментариями и сопроводительными материалами она была подана Государю. Тот ужаснулся и настоятельно потребовал от духовной власти разобраться с Собраниями и журналом. В это же самое время против «Нового пути» произносит проповедь о. Иоанн Кронштадтский – один из немногих священнослужителей тех лет, к мнению которых прислушивалась вся Россия – как образованная, так и простонародная. Он назвал «Новый путь» – «сатанинским журналом»: «Это сатана открывает эти новые пути, и люди <…> не понимающие, что говорят, губят и себя, и народ, так как свои сатанинские мысли распространяют среди него»12.
5 апреля 1903 года Синод запрещает Религиозно-философские собрания.
III
Неудача «Религиозно-философских собраний» оказалась началом конфликта Мережковского с православным духовенством, крайне обострившимся в 1905–1908 гг., во время первой русской революции. «Новое религиозное действие» Мережковского, Гиппиус и их ближайшего друга и единомышленника Дмитрия Владимировича Философова (1872–1940) обратилось тогда в попытку создания некоей автономной «христианской общины» (т. н. «троебратства»), грозящей превратиться в настоящую секту. Идеологическое обоснование деятельности «троебратства» восходит к богословию Иоахима Флорского, калабрийского монаха, жившего в 1132–1202 годах.
Иоахим, настоятель монастыря Сан Джиованни-ин-Фиоре и толкователь Апокалипсиса, учил о незавершенности божественного откровения человекам. Он основывался на догмате о Троичности Божества, указывая на то, что современный состав Библии (Ветхий и Новый Заветы) не выражает «тройственную» природу Творца. Отец, учил Иоахим, явил Себя в Завете Ветхом, Сын – в Новом, а вот Дух еще не явил себя; поэтому следует ожидать Третьего Завета, Завета от Духа Святого. Точно так, как в Ветхом Завете уже содержатся пророчества о грядущем, Новом Завете (Отец указывает на Сына), в нынешней Библии содержатся элементы, по которым возможно определить черты нового Откровения (Отец и Сын указывают на Духа). В «Истолковании Апокалипсиса» Иоахима эти черты «религии Духа» обозначены рядом символических «триад»: «В первом Завете, Отца, – ночь; во втором Завете, Сына, – утро; в третьем Завете, Духа, – день.
Звездный свет – в первом, рассветный – во втором, солнечный – в третьем.
В первом – страх; во втором – вера; в третьем – любовь.
Рабство – в Отце; послушание – в Сыне; в Духе – свобода»13.
Из этого следует, что человечество должно пройти через три состояния мира, различаемые по степени свободы, символически обозначаемые как «земля» (Древний мир, рабство, неподвижность), «вода» (Христианский мир, послушание, поступательное движение), «огонь» (Новый мир, свобода, абсолютная подвижность). У этих трех состояний будут три истинные религии и три Церкви: первая – «ветхозаветная», вторая – «христианская» и третья – «духовная», которой будет кончаться собственно история человечества и начинаться «новый рай», конца которому не будет. Все эти состояния и религии есть в сущности одно и то же, но в процессе развития. Так ребенок в общении с любящими родителями проходит в своем взрослении три стадии: полного послушания в раннем детстве и начале отрочества; сочетания послушания и самостоятельности в отрочестве и юности; полной самостоятельности и любви – в зрелости. Поэтому и история Вселенской Церкви (то есть образ отношений между Богом и человеком) проходит подобные же этапы: Ветхозаветный (Бог – Отец, а человек – маленький сын), Новозаветный (Бог – Старший Брат, а человек – младший), Третье-заветный или Последний (любовь двух родственных существ). На первом этапе религия и исповедующая ее Церковь основывались на «законе», нарушение которого строго каралось. На втором – Церковь оказалась в качестве «авторитета», которому добровольно подчиняется человек. В грядущем же Третьем Завете ни «закона», ни «авторитета» не будет, а будет только «любовь», – и потому не будет Церкви как таковой, ибо она распространится на все человечество. Все будут любить друг друга и строить свои взаимоотношения исключительно на любовных основаниях.
И, вероятно, самым главным для Мережковского в построениях Иоахима оказывалось положение о том, что как в Ветхозаветной Церкви были пророки, признававшие ее целиком и полностью, но утверждавшие, что грядущее явление Мессии переведет Церковь в новое состояние, – так и в нынешней христианской Церкви, по мере наступления сроков откровения Духа, будут являться подобные же свидетели и исповедники, не отрицающие христианства, но предуготовляющие человечество к его качественному преображению в грядущем. (Этим Иоахим поставил в крайнее затруднение как Святую инквизицию, так и парижских богословов-схоластов, разбиравших его учение в 1255 году: назвать его еретиком было трудно, ибо он не отрицал ничего в существующем вероучении Рима, но и оставить его в покое было невозможно. В конце концов инквизиция постановила Иоахима не трогать – он спокойно дожил свой век и умер в глубокой старости, – но и трудам его хода не давать: за хранение книг Иоахима строго карали.)
Учение Иоахима Флорского о «троичности мироздания» было развито Мережковским в применении к его пониманию метафизической сущности момента, переживаемого человечеством на рубеже XIX–XX веков. Как и Иоахим, Мережковский считал, что христианство содержит Истину, – в той полноте, в какой ее может «вместить» человечество в настоящий момент своего развития. Он даже делал предпочтение именно православию перед Римской церковью и протестантскими конфессиями, считая, что в вероучении Восточной церкви христианство достигло высшего развития, вплотную подойдя к «свободе» Третьего Завета. Однако, по мнению Мережковского, вся полнота «правды Божией» исполнится лишь в будущем, после откровения Духа, – и это откровение будет относиться к откровению христианства так, как само христианство относится к ветхозаветной религии. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон… не нарушить пришел Я, а исполнить» [Мф. 5: 17] – эти слова Христа являются ключевыми для Мережковского в его размышлениях о Третьем Завете. Как для фарисеев Иисус, нарушающий субботу, казался преступником, так, по мнению Мережковского, и образ вероисповедания «пророков Духа» для современных христиан будет казаться не «восполнением», а «отрицанием» христианства. Между тем для «христиан Третьего Завета» нынешние установления христианской Церкви будут лишь такими же «бременами трудноисполнимыми», как для первых христиан времен Апостольского собора в Иерусалиме – соблюдение правил и запретов Ветхозаветной Церкви.
Откровение Духа Мережковский связывал со Вторым Пришествием, которое, по его мнению, уже начинает совершаться (постиндустриальная эпоха с ее чудовищными городами-мегаполисами, глобальные конфликты технократической цивилизации, массовая культура «человека толпы» казались ему вполне подходящим контекстом для событий Армагеддона). Но «конец Истории» для Мережковского не был концом «исторического человечества». По его мнению, после Страшного суда человечество, физически изменившись, останется на «новой земле», пребывая в счастливом Царстве Христа, где не будет смерти, социального неравенства, страданий и ненависти, а все будут объединены в любви и заняты возвышенным творческим созиданием новой «божественной» культуры (эта «футурология» Мережковского восходит к так называемому «хилиазму», древнееврейскому учению о «тысячелетнем царстве святых» на земле во главе с «Царем Христом»; в христианстве хилиастические мотивы неоднократно возникали в трудах Святых Отцов, толковавших апокалипсические пророчества, – у Иринея Лионского, Иустина Философа во II веке, Тертуллиана в III веке).
Дальше следует, пожалуй, самый интересный аспект учения Мережковского о «Третьем Завете». Как уже было сказано выше, вслед за Иоахимом Флорским Мережковский считал, что «люди Третьего Завета», некий первоначальный прообраз будущих «граждан всемирной теократии», появляются уже сейчас, – подобно тому, как являлись пророчествующие о Христе и падении Израиля иудеи в ветхозаветные времена, «христиане до христианства». Мережковский четко выделяет два признака, по которым мы можем отличить этот «вид» среди массы современников, – особое отношение их к собственности и полу.
«Пророки Духа», во-первых, абсолютно равнодушны к материальным благам, они как бы выключены из общей борьбы людей за достаток и бытовое процветание. Это – убежденные бессребреники, «веселые нищие», смысл жизни которых отстоит от погони за наживой настолько, что мотивы их поступков вообще непонятны включенному в «экономический оборот» человеку. В глазах общества это – чудаки, фанатики, люди «не от мира сего».
Во-вторых, «новые люди» Мережковского равнодушны к половой чувственности, в них преодолен и изжит сексуальный инстинкт, толкающий человека на удовлетворение половой страсти и продолжение рода. По идее Мережковского, половая форма проявления любви ограничивает любовные отношения лишь двумя участниками – «мужем» и «женой», тогда как истинная любовь должна простираться на всех людей (естественно, что такая любовь в половой форме – не что иное, как «свальный грех», – не может достигнуть «космических масштабов» просто по физической немощи «любящего»). В существе «нового человека» идея любви перестает быть связана с «сексом» и приобретает новое, высшее качество, становясь повседневной формой его существования.
Отказ от собственности, по мнению Мережковского, есть непосредственный приступ к нравственному преображению человека в «Царстве Духа»; отказ от «пола» – к преображению физическому. В сочетании же оба «преображения» делают уже сейчас, до «прихода сроков», человека истинно свободным, ибо он оставил погоню за золотом и женщинами, которая составляет содержание жизни и порабощает все другие интересы его «рядового» современника.
Особые надежды в этот период Мережковский возлагал на… русских революционеров (!!). С его точки зрения, тот поведенческий этос, который сложился в этих кругах, – бессребреничество, аскетизм, альтруистическое и жертвенное служение великой цели, призванной принести счастье человечеству, – все это прямо соотносится с известными нам признаками «людей Духа». Однако в «бессознательном» состоянии эти качества не только не могут быть в полной мере реализованы в позитивном действии, но даже, по мнению Мережковского, таят в себе опасность.
В программных работах этого времени – статьях «Грядущий Хам» и «Революция и религия» – Мережковский пишет о насущной необходимости преодоления прагматизма революционной идеологии. Революционный порыв рождается из стремления изменить мир, стремления всегда положительно прекрасного, поскольку оно является проявлением неуспокоенной совести, которая не может мириться с вопиющими несправедливостями настоящего мироустроения.
Однако по мере оформления этого порыва в практику революционной политической борьбы неизбежно встает вопрос: во имя чего эта борьба ведется? Если революционное движение преследует только «земные», практические цели, если носителями революционного сознания оказываются люди религиозно невежественные, атеисты и прагматики, – то, по мнению Мережковского, в момент успеха революция неизбежно превратится в свою противоположность. Вместо подлинного торжества справедливости наступает не что иное, как передел собственности, утверждение новых «хозяев жизни», устанавливающих законы «по разумению своему». Подобная идеология приведет к абсолютному смещению нравственных ценностей, к дьявольской диалектике порока и добродетели, к «крови по совести», знакомой еще по «Преступлению и наказанию» Достоевского. Итогом же «безбожной революции» станет не «земной рай», а тотальное рабство, торжество насилия, пошлости и мещанского самодовольства. Чтобы избежать этого, делает вывод Мережковский, необходимо развивать религиозное сознание революционеров. Только та революция добьется реальных успехов «на земле», которая начертит на своих знаменах «небесные» лозунги.
Эта теория оказывалась весьма беспомощной, кол ь скоро речь заходила о ее применении в практике отечественной революционной эпопеи 1905–1917 годов. «Русские студенты и курсистки, образующие революционную партию для насильственной борьбы с правительством в целях осуществления пророчества апостола Иоанна, – эту картину можно было бы счесть карикатурой, но я не вижу, в чем она отступает от воззрений Мережковского», – резюмировал впечатление от публицистики Мережковского этого периода С. Л. Франк14. Разумеется, и для вождей русских революционных партий предлагаемый Мережковским «синтез» революции и религии был, мягко говоря, не самой актуальной задачей. Но во внезапной «революционности» знаменитого писателя они не могли не видеть для себя великую выгоду. Выступая в поддержку революции и революционеров, Мережковский направлял общественное мнение России и Европы в ту сторону, какая была благоприятна его новым «товарищам». Большего от него и не требовалось – а само содержание горячих речей «просветителя» можно было, в конце концов, просто пропустить мимо ушей (чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!)15.
Понимал ли Мережковский, что здесь, в большой политике, его «пророческий энтузиазм» попросту почти неприкрыто используют? В первое время, он прилежно старается уверить как других, так и в первую очередь себя, что «это лучшие русские люди, каких я встречал за всю жизнь», и что «связь русской революции с религией» настолько явственна, что ее можно «осязать руками». «Взять хотя бы наших марксистов, – писал он в 1907 г. – Нет никакого сомнения, что это – превосходнейшие люди. И народ любят они, конечно, не меньше народников. Но когда говорят о „железном законе экономической необходимости", то кажутся свирепыми жрецами Маркса-Молоха, которому готовы принести в жертву весь русский народ. И договорились до чертиков. Не только другим, но и сами себе опротивели. <…> Глядя на все эти невинные умственные игры рядом с глубочайшей нравственной и общественной трагедией, иногда хочется воскликнуть с невольною досадою: золотые сердца, глиняные головы!» («Грядущий хам»).
Четверть века спустя он будет писать о «невинных умственных играх превосходнейших людей» несколько иначе: «Ужас христианского человечества в том, что миром овладели сейчас, как никогда, не злые люди, и не глупые, а совсем нелюди – человекообразные, «плевелы» несущие, не только русские, но и всемирные слуги Мамоновы-Марксовы, гнусная помесь буржуа с пролетарием» («Иисус Неизвестный»). В 1917–1920 гг. ему было суждено испытать на себе ужасы революционного террора и гражданской войны и до конца дней оставаться затем изгнанником, безнадежно тоскующим по утраченной Родине. В эмиграции он вернется (весьма удачно) к литературному творчеству и даже будет иногда пытаться (весьма безуспешно) выстраивать собственную «общественную линию»16. Но «новое религиозное действие» бесповоротно останется для него в прошлом. Можно сказать, что русская смута, весьма круто обошедшаяся с Мережковским, в то же время, оказалась спасительным противоядием против одолевавших его в предреволюционные годы духовных соблазнов. Никакой «революционно-христианской секты» ему создать, к счастью, не удалось – из-за объективной невозможности реального осуществления таковых начинаний в историческом контексте конца 1910-1930-х годов.
Зато «вопросы Мережковского» оказались в полной мере востребованными его современными российскими читателями. Можно сказать, что «миссия среди интеллигенции», о которой он говорил в канун Религиозно-философских собраний, действительно удалась. Нынешнее русское православие интеллектуально, и та же русская литература XX в. (в которой произведения Мережковского играют такую выдающуюся роль) просто непредставима в наши дни вне религиозно-философской проблематики.
«…Мы занимаемся литературой, не желая произносить безответственных слов о религии, христианстве и зная, что в русской литературе заключена такая сила подлинной религиозности, что, говоря только словами, мы скажем все, что нужно, и сделаем свое дело», – говорил Мережковский в начале XX века17, и в правоте этих его слов сейчас, в начале XXI столетия, уже мало кто сомневается.
Примечания
1 Бердяев Н. А. Новое христианство (Д. С. Мережковский) // Д. С. Мережковский: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2001. С. 353. (Русский путь).
2 Здесь и далее цитируется автобиографическая поэма «Старинные октавы» (1906), посвященная детским и юношеским годам писателя.
3 См.: О великом инквизиторе: Достоевский и последующие. М., 1992. С. 189.
4 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 176.
5 Чтобы ясно представить «новизну» этой «тайны Мережковского» для его интеллигентных современников, стоит вновь вспомнить письмо Достоевского Фонвизиной, содержащее знаменитое credo великого писателя: «…Бог посылает мне минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Необыкновенная эмоциональная сила выражения, завораживающая любого читателя Достоевского, мешает видеть допущенную им смысловую ошибку при проставлении на место имени Иисуса – слова «Христос», являющегося в догмате определением. Человек Иисус может быть «вне истины», но вочеловечившийся Бог (то есть – Христос) вне истины быть не может, ибо Он Сам и является воплощенной Истиной. Вряд ли Достоевский хотел сказать, что при возможном доказательстве, обнаруживающем Истину вне истины, ему, Достоевскому, «лучше хотелось бы оставаться с Истиной, нежели с истиной» – в силу очевидной нелепости подобного высказывания. Очевидно, речь шла о том, что этическая и эстетическая привлекательность человека Иисуса для Достоевского столь велика, что даже при обнаружении Иисусовой идейной неправоты Достоевский все же оставался бы с Иисусом. Такая позиция Достоевского делала его «религиозную проповедь» вполне открытой для «секулярных» интеллигентских споров о том, кто из «учителей жизни» более прав – Герцен, Бакунин, Нечаев, Маркс или… Иисус из Назарета. Христианство виделось подавляющему большинству современников Мережковского этической доктриной и, естественно, в качестве таковой обладало относительным, «дискуссионным» характером.
6 Брюсов В. Я. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2002. С. 116 (Эпохи и судьбы).
7 Следует обратить внимание, что в первом романе первой трилогии Мережковского существует некоторая неопределенность в понимании молодым художником как христианской проповеди, так и смысла деятельности Церкви, которая сводится исключительно к пропаганде аскетического жизнеотрицания. «Когда я начинал трилогию „Христос и Антихрист", – свидетельствовал позже сам Мережковский, – мне казалось, что существуют две правды: христианство – правда о небе, и язычество – правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд – полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом – кощунственная ложь; я знал, что обе правды – о небе и о земле – уже соединены во Христе Иисусе… Но теперь я также знаю, что мне надо было пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину». Как мы видим, сам автор трилогии тоже разделил судьбу своих героев.
8 Ильин И. Мережковский-художник // Д. С. Мережковский: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2001. С. 386–387. (Русский путь).
9 Гиппиус 3. Н. Дмитрий Мережковский // Гиппиус 3. Н. Живые лица. В 2 кн. Тбилиси: Мерани, 1991. Кн. 2. С. 221.
10 Гиппиус 3. Н. Дмитрий Мережковский… С. 215.
11 Там же.
12 Анонс об этой проповеди (без всяких сопровождающих комментариев) появился в № 3 «Нового Пути» за 1903 г. Эта публикация вызвала значительный резонанс среди столичной интеллигенции и накалила и без того напряженную общественную атмосферу вокруг «Собраний».
13 См.: Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Лица святых от Иисуса к нам. М.: Республика, 1997. С. 144.
14 Франк С. О так называемом «новом религиозном сознании» // Д. С. Мережковский: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2001. С. 312. (Русский путь).
15 См. подробную характеристику идейных и личных взаимоотношений «троебратства» с русскими революционными кругами в статье Е. И. Гончаровой «Революционное христовство» («Революционное христовство». Письма Мережковских к Борису Савинкову. / Вст. статья, сост. комм. Е. И. Гончаровой. СПб.: «Пушкинский Дом», 2009. С. 5–88).
16 См. подробную характеристику публицистики позднего Мережковского в статье О. А. Коростелева «"Россия без свободы для меня невозможна…" (Статьи Мережковского эмигрантского периода)» (Мережковский Д. С. Царство Антихриста. Статьи периода эмиграции / Под общей ред. А. Н. Николюкина. СПб.: РХГИ, 2001. С. 560–582).
17 Речь на тему «Русская интеллигенция как духовный орден» на заседании лит. объединения «Зеленая лампа» (1927), см.: Мережковский Д. С. Царство Антихриста. Статьи периода эмиграции / Под общей ред. А. Н. Николюкина. СПб.: РХГИ, 2001. С. 254.
Беспочвенность и запредельность Вячеслава Иванова А. В. Моторин
«Беспочвенно я запределен», – чеканно определил Вячеслав Иванов в стихотворении «Земля» (1928) [3, с. 508]1 суть своего бытия, – и все его творчество объясняет, как это возможно.
«Автобиографическая запись о том, как жизнь меня слагала» («Автобиографическое письмо С. А. Венгерову», 1917) [2, с. 7] свидетельствует: слагает поэта некая «жизнь», а не Бог-Творец, и слагает не всего сразу, в живом зерне богозданной души, а по частям как некую мозаику, составляемую из отдельных, малозначащих в самих себе частиц. Однако более существенно продолжение мысли: «<…> о том же, что мне удалось сложить из жизни, пусть судят другие» [2, с. 7]. Сам писатель участвовал в этом жизнетворении самого себя, постоянно пытаясь примирять противоречия и сочетать из них некий целостный, но всегда переменчиво-переливчатый образ. А поскольку в жизни встречаются и непримиримые противоречия, то, будучи насильственно соединяемыми, они вступают в борьбу, завершаемую разрушением целостности. С этим связана склонность Иванова к оправданию хаотических темных сторон бытия и его почитание бога Диониса, дионисийство как жизненная установка и как стремление к запредельному и беспредельному расширению своего Я – к самообожению.
Тяга к сопряжению всего со всем порождает в характере поэта гибкую змеиную лукавость, столь свойственную образу Диониса и столь заметную для современников. Поэту приходилось оправдываться, признавая, впрочем, свою изворотливость и хитрость, как, например, в послании В. Хлебникову:
Нет, робкий мой подстерегатель, Лазутчик милый! Я не бес, Не искуситель, – испытатель, Оселок, циркуль, лот, отвес. Измерить верно, взвесить право Хочу сердца – и в вязкий взор Я погружаю взор, лукаво Стеля, как невод, разговор. («Подстерегателю») [2, с. 340]В заключение поздних поэтических воспоминаний о становлении своей души в детстве (и на всю жизнь) поэт отметил эту неразрешимую и неизбывную противоречивость и двойственность (во образе сочетания двух «кумиров» на церковном клиросе):
Тут ангел медный, гость небес; Там – аггел мрака, медный бес… И два таинственные мира Я научаюсь различать, Приемлю от двоих печать. («Младенчество». 1913–1918) [1, с. 254]Однако известна истина, изреченная Христом: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть» [Мф. 6: 24]. Иванов, в детстве ежедневно читавший с матерью Евангелие, конечно, знал об этом.
Стремясь сохранить и с пользою употребить все мозаичные частицы даруемого жизнью личностного образа, поэт любил указывать на свое сложившееся еще в детстве и никогда не оставлявшее его влечение к пышной, красочной православной обрядности и связывал это с родственной укорененностью в духовном сословии по линии матери:
<…> Живую веру, Народную, она спасла В душе простой от заблуждений. <…> Ей сельский иерей был дедом; Отец же в Кремль ходил, в Сенат. Мне на Москве был в детстве ведом Один, другой священник – брат Ее двоюродный. По женской Я линии – Преображенский; И благолепие люблю, И православную кутью… («Младенчество») [1, с. 232–233]В «Автобиографическом письме…» он вспоминает: «Мне было семь лет, когда мать велела мне читать по утрам акафисты; ежедневно прочитывали мы вместе по главе из Евангелия. Толковать евангельские слова мать считала безвкусным, но подчас мы спорили о том, какое место красивее. <…> Эстетическое переплеталось с религиозным и в наших маленьких паломничествах по обету пешком, летними вечерами, к Иверской или в Кремль <…>» [2, с. 12].
Таковы очертания Православия, изначально сложившиеся в душе будущего поэта: с одной стороны, эстетически, чувственно воспринимаемое «благолепие», с другой – еще более чувственная «кутья». Этот облегченный образ Православия закрепился в детской памяти превратно понятым евангельским стихом: «<…> меня еще властительнее пленял конец 11-ой главы, где говорится о "легком иге". С той поры я полюбил Христа на всю жизнь» [2, с. 12].
Одновременно через душу матери, приглашенной чтицею в дом «немецкой четы» протестантов, ребенок воспринимал и усваивал на всю жизнь влияние разных течений западного еретического христианства:
И на чтеца глядел из рамы Румяный Лютер: одобрял Их рвенье Доктор, что швырял Чернильницей в Веельзевула, <…> С осанкою иноплеменной Библейский посещали дом То квакер в шляпе, гость надменный Учтиво-чопорных хором, То менонит, насельник Юга. Часы высокого досуга Хозяин, дерптский богослов, Все посвящал науке слов Еврейских Ветхого Завета. [1, c. 234]Как выяснилось, это раннее западное влияние на поэта, помноженное на общий западнический уклон российского просвещения в XIX веке, оказалось весьма успешным. Учась в университете, перед отъездом в Германию Иванов уже мечтает о «"стране святых чудес" – Западе» [2, с. 16].
Тяготение к западной культуре и вообще жизни на Западе (где поэт провел большую часть отпущенных ему лет, начав свой отход задолго до крушения царской России) закрепляется еще и тем, что на Западе с ранних веков христианства начала складываться, а в эпоху Возрождения вполне сложилась столь близкая Иванову смесь языческой магии и христианской мистики при скрытом под покровами католичества и протестантства, но с течением веков все более откровенном преобладании магизма. Поэту, принявшему в 1926 году в Риме католичество, не нужно было кривить душой ни перед самим собой, ни перед многочисленными богами, которых он исповедовал. Он находил совершенно родную себе веру не только в западной религиозности, но и в художественной образности классицизма и барокко, рококо и романтизма и, конечно, в новейших течениях западного искусства, включая символизм.
Знаменательны перемены названий лирических сборников в расцвете творчества поэта: от древнеславянского звучания «Кормчих звезд» (1902) через отвлеченную, символизирующую некую очищенность и опустошенность души (но все-таки еще церковнославянскую в корне) «Прозрачность» (1904) к вопиюще пролатинскому наименованию двухтомника «Сог ardens» (1911).
Еще одним источником сильного прозападного влияния в детские годы стал отец, который был в духе времени – «невер» [1, с. 231] и
<…> века сын! Шестидесятых Годов земли российской тип; «Интеллигент», си речь «проклятых Вопросов» жертва – иль Эдип… [1, с. 244]Он «груду вольнодумных книг/ Меж Богом и собой воздвиг» [1, с. 242].
Этим духом неверия, заполнившим все пространство общественной жизни по всей Европе, вполне насытился и сам Иванов, переживший в юности увлечение безбожием (потом это безбожие вытеснилось верой, замешанной на осознанном богоборчестве и самообожении). Перелом от веры к неверию произошел в душе отрока, по видимости, внезапно, накануне убийства Александра II. Как свидетельствует автобиография, в пятом классе гимназии он, «внезапно и безболезненно, осознал себя крайним атеистом и революционером» [2, с. 13]. Конечно, это произошло вследствие копившихся годами, особенно с началом учебы в гимназии, бездуховных влияний. Продолжая внешне высказывать патриотические настроения, юноша вызывал упреки в «лицемерии» со стороны некоторых товарищей, посвященных в его внутреннюю жизнь. Однако он просто следовал, еще не вполне осознавая, общей установке всей своей жизни: сочетать несочетаемое и примирять непримиримое. Противоречия на уровне гражданского сознания сочетались с духовными: «Примечательно, что моя любовь ко Христу и мечты о нем не угасли, а даже разгорелись в пору моего безбожия» [2, с. 14].
Православие Иванова было поверхностно-обрядовым, скорее чувственно и даже страстно переживаемым, нежели затрагивающим и определяющим глубинную духовную сущность души. Не случайно, в самом начале поэтического пути, при переходе от юности к зрелости, он сблизился с уже готовым к уходу из жизни философом-поэтом Владимиром Соловьевым, получив от него благословение на творчество, а главное – восприняв его опыт уклонения от Православия к католичеству и опыт облачения магии пантеистических экстазов в одежды католической обрядности и псевдомистики.
У значительных творцов в начале пути, как в зерне, выражается в свитом виде все дальнейшее развитие. Если не считать первых незрелых стихотворных опытов, Иванов почти сразу выступает как поэт, одержимый трагическим и сладострастным духом языческого бога Диониса. Стихию дионисийства он начал постигать благодаря прославившемуся в те 1890-е годы немецкому философу Фридриху Ницше.
К этому времени, в 1895 году, он охладевает к своей первой жене, с которой уже воспитывал дочь, и среди развалин древнего языческого Рима охватывается страстной любовью к Л. Д. Зиновьевой, замужней женщине с тремя детьми. Много позднее, в 1921 году поэт с горечью вспоминал разрушение первой семьи: «Я развелся с Дмитриевской, очень сурово и жестоко это было, но я тогда был ницшеанцем, и это мне помогло. Теперь я это воспринимаю как убийство, ибо жизнь Дмитриевской оказалась совершенно разбитой, а дочь наша сошла с ума…»2.
Взаимную страсть Иванов и Зиновьева переживают как живое двуединое вхождение в таинственное бытие вновь воскресшего божественного Диониса: «Друг через друга нашли мы – каждый себя и более, чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога. Встреча с нею была подобна могучей весенней дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело» («Автобиографическое письмо…») [2, с. 20]. В 1903 году, после выхода первой поэтической книги, Иванов «читал курс лекций о Дионисе в парижской Высшей школе общественных наук», а Д. Мережковский просил его «дать лекции о Дионисе в "Новый Путь"» [2, с. 21].
Потом на бытовом уровне жизнь влюбленных дионисийцев все более облекалась чертами, которые в свете Православия воспринимались как разврат, смущавший даже упадочное столичное общество начала XX века. С трудом совершив два развода и венчавшись в греческой церкви в Ливорно без благословения русской Церкви, счастливые супруги вскоре стали желать включения в свой священный союз с Дионисом кого-то «третьего», дабы при удачном опыте в таком роде положить начало плотски-чувственно-духовному единению всех со всеми в бесконечном порыве приобщения к божественной жизни. Сначала таким третьим попытались сделать поэта Сергея Городецкого, увлеченного, подобно им, неоязычеством. Трудности намеченного деяния Иванов подробно описывает в дневнике 1906 года. Действовать он решил поначалу вдвоем с Городецким, отдельно от Зиновьевой, бывшей в отъезде (но с подробным посвящением ее в письмах) [2, с. 751–764]. Все сразу же отражается в лирике, в призывах к «Богу-Эросу»:
Дай ведать восторги вершин <…> И сплавь огнежалым перуном Три жертвы в алтарь триедин! («Зодчий») [2, с. 380]Однако сам он в таких искушениях был неопытен, а Городецкий и вообще противился при совершении наиболее сокровенных и ответственных действий на любовном ложе. Опять же и Л. Д. Зиновьева не могла, как ни старалась, преодолеть какой-то нутряной женской ревности. Опытный по части содомских дел поэт М. Кузмин в дневнике 1934 года с насмешкой вспоминает о натужной неловкости Иванова: «Хотя Ивановы, чтобы не отставать от века, тоже мастерили какие-то комбинации (Л. Дм. с Маргаритой Сабашниковой, Вяч. Ив. с Городецким), но, кажется, не имели никакого понятия о том, с какого конца это начинается. Не знаю, кому принадлежала инициатива, но все время у них была тенденция привлечь кого-то третьего для обоюдного супружеского благополучия, но при неукротимой ревности Зиновьевой и неисправимом профессорском
ухаживании за каждой посетительницей (пожалуй, в потенции даже за каждым посетителем, во всяком случае, пол при этом не играл почти никакого значения, была общая эротическая атмосфера лекционного красноречия <…>) со стороны Вяч. Ив., конечно, ничего выйти не могло»3.
Между тем, сам поэт усердно теоретизировал в Дневнике 1906 года, оценивая Кузмина, который месяцами жил у него на квартире – в Башне (дом на пересечении Тверской и Таврической улиц в Петербурге): «В своем роде пионер грядущего века, когда с ростом гомосексуальности не будет более безобразить и расшатывать человечество современная эстетика и этика полов <…> Гомосексуальность неразрывно связана с гуманизмом; но как одностороннее начало, исключающее гетеросексуальность, – оно же противоречит гуманизму <…>» [2, с. 750]. Эта теория в переложении на исповедание Диониса была изложена Ивановым годом ранее: «В этих недрах чреватой ночи, где гнездятся глубинные корни пола, нет разлуки пола. Если мужественно восхождение, и нисхождение отвечает началу женскому, если там лучится Аполлон и здесь улыбается Афродита, – то хаотическая сфера – область двуполого, мужеженского Диониса. В ней становление соединяет оба пола ощупью темных зачатий» («Символика эстетических начал». 1905) [1, с. 829].
Претерпев частичную неудачу с «третьим» мужского пола, супруги решили испытать возможности пола женского, ради чего в круг семьи была вовлечена Маргарита Сабашникова (Волошина) – «Сирена Маргарита» [2, с. 388], которой Иванов посвятил написанный тогда цикл «Золотые завесы» (1907) [2, с. 765]. Поначалу дело, видимо, пошло более успешно. Маргарита даже развелась в 1907 году после двух лет брака с Максимилианом Волошиным, не сумевшим при всем старании примириться с дионисийскими опытами, коснувшимися его семейной жизни (самый пик переживаний отразился в письмах Волошина Иванову летом 1907 года – см.: [2, с. 809–810]. После гибели Лидии Зиновьевой тройственный союз распался и Вячеслав Иванов порвал отношения с Маргаритой, причинив ей страдания [2, с. 809–810].
Сама Маргарита в поздних воспоминаниях смотрит на былые эротические опыте «втроем» уже отстраненно: «Скоро мне стало ясно, что Вячеслав меня любит. Я сказала об этом Лидии, прибавив: "Я должна уехать". Но для нее это было уже давно ясно, и она ответила: "Ты вошла в нашу жизнь и принадлежишь нам. Если ты уйдешь, между нами навсегда останется нечто мертвое. Мы оба уже не можем без тебя". Потом мы говорили втроем. У них была странная идея: когда двое так слились воедино, как они, оба могут любить третьего. Это вроде маски: пригодная для двоих, она может подойти и третьему. Такая любовь есть начало новой человеческой общины, даже Церкви, в которой Эрос воплощается в плоть и кровь. Так вот в чем их новое учение! "А Макс?" – спросила я. <…> "Ты должна выбрать, – сказала Лидия, – ты любишь Вячеслава, а не его". Да, я любила Вячеслава, но эта любовь была такова, что я не понимала – почему Макс должен быть из нее исключен. Я чувствовала себя такой по-детски беспомощной перед этими двумя сильными людьми, так боялась вызвать их неудовольствие, что уже не могла себя чувствовать безмятежно счастливой, как раньше. <…> Вячеслав требовал от меня послушания, в правильности его идей я не должна была сомневаться. <…> А Лидия? Действительно ли она верила в возможность союза трех или она видела в этом единственный способ остаться спутницей мужа на всех его путях? И она, казалось, страдала, так как сказала мне как-то: "Когда я тебя не вижу, во мне поднимается протест против тебя, но когда мы вместе – все опять хорошо и я спокойна"»4.
Словесным памятником внутренних переживаний Л. Зиновьевой-Аннибал (такое писательское имя она себе дала) стала нашумевшая эротическая повесть о лесбийской страсти «Тридцать три урода» (1906). Под уродами разумелись 33 известных столичных художника, которые – каждый по-своему – одновременно писали с натуры образ прекрасной девушки, ставшей до того возлюбленной знаменитой актрисы. Актриса поначалу не хотела делиться своим счастьем с миром, но потом нехотя осознала необходимость безгранично расширить круг своего увлечения, ради чего и были допущены к делу модные художники, каждый из которых по-своему влюбился в дарованную им модель. На взгляд самих любовниц, образы, созданные привлеченными мужчинами, получились уродливыми. В итоге на глазах гаснущая и все более страдающая актриса травит себя ядом, и ее возлюбленная склонна последовать за нею. Таким, по мнению писательницы, должен быть неизбежный конец любовной связи, проникнутой духом античного трагического пантеизма. Она словно бы предчувствовала собственную скорую кончину.
В разгаре этих душевно-плотских исканий, в 1907 году Лидия внезапно умирает. Подозревали, что она намеренно заразила себя скарлатиной во время эпидемии, не выдержав очередного опыта своего возлюбленного супруга, который стал испытывать особое чувство к ее дочери, а своей падчерице Вере Шварсалон. Во всяком случае сам поэт вспоминал, что незадолго до смертельной болезни Лидия указала ему на свою дочь со словами: «Быть может, она…» [1, с. 134]. В Дневнике от 28 июня 1909 года он записываетуслышанные втонком сне слова Лидии: «Мой верный дар тебе моя Дочь. <…> Я мою дочь вижу в тебе. Она в тебе. Она должна волить в тебе. <…> Она нас воздвигнет в Духе» [2, с. 777]. И в этом году он ждет приезда Веры и соединения с ней как «обетованного», «требуемого Лидией» [2, с. 781]. Вскоре Иванов и Вера стали сожительствовать как супруги, а затем (уже после рождения ребенка) венчались зимой 1913 года в той же греческой церкви в Ливорно, где ранее совершилось венчание с Лидией.
Все эти потрясения не мешали Иванову оставаться счастливым человеком и утонченным, знаменитым поэтом. Напротив, страстные переживания духовно подпитывали и вдохновляли его музу.
Иванов стал вождем русского символизма с 1900-х годов. В 1900-м на закате своих дней, его напутствовал один из главных символистов первой волны – Владимир Соловьев. «Он был покровителем моей музы и исповедником моего сердца», – вспоминал поэт [2, с. 20]. Все образы у Иванова символичны. Впрочем, такова природа образов вообще, но Иванов сознательно использовал и преумножал символическую силу их воздействия: «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадэкватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине» («Поэт и чернь», 1904) [1, с. 713].
Его образы – окна в иной, бесконечный и духовный мир, и они – звезды, излучающие в земной мир сверхъестественный свет. Потому в его мире звезды – это вновь воскресшие языческие боги, и сами античные боги – не условность поэтического языка, а порою олицетворенное, иногда же стихийно-безликое действие высших сил бытия. Творец, поэт-«дитя и бог», созидающий священные символы-образы бытия с помощью сродных ему языческих богов:
И ликам реющим их имя нареки Творца безвольным произволом, И Сокровенное Явленьем облеки, И Несказанное Глаголом! Немое таинство неумолимых уз Расторгни пением Орфея, И в обновленный мир простри рукою Муз Дар Огненосца-Прометея! («Творчество») [1, с. 536]Творческое сознание Иванова не только символично, но и мифологично: «В круге искусства символического символ естественно раскрывается как потенция и зародыш мифа. Органический ход развития превращает символизм в мифотворчество. <…> Но миф – не свободный вымысел: истинный миф – постулат коллективного самоопределения, а потому и не вымысел вовсе и отнюдь не аллегория или олицетворение, но ипостась некоторой сущности или энергии» («Предчувствия и предвестия». 1906) [2, с. 90]. «Энергия, имя которой – Искусство <…>» [2, с. 92] как раз и творит новые сущности посредством мифотворчества. Миф – одно из ключевых понятий в теоретических размышлениях поэта: «Только народный миф творит народную песню и храмовую фреску, хоровые действа трагедии и мистерии. Мифу принадлежит господство над миром. Художник, разрешитель уз, новый демиург, наследник творящей матери, склонит послушный мир под свое легкое иго. Ибо миф – постулат мирского сознания, и мифа требовала от Поэта не знавшая сама, чего она хочет, Чернь. Важного, верного, необходимого алкала она: только вымысел мифический – непроизвольный вымысел и вернейший „тьмы низких истин“. К символу же миф относится, как дуб к желудю» («Поэт и чернь», 1904) [1, с. 714]. Поэт (в переводе с греческого – «творец») – это, в понимании Иванова, бог, творящий высшее бытие. Древние мифы – питающие источники для поэзии. Цель истинного творца – «вселенское мифотворчество» («Вагнер и Дионисово действо», 1905) [2, с. 83].
Особенно влекли Иванова мифы о боге Дионисе. Проницательная помощница и биограф поэта Ольга Шор-Дешарт заметила: «Пережив Диониса как Начало новой жизни, В. И. считал духовно полезным и возможным возрождение бога Экстаза на унылой земле, среди скептических, пресыщенных людей рубежа XIX и XX веков. Если воплотится вновь Дионис в сердце человеческом, дрогнут "глухие чары наваждения душного – колдовской полон душ потусклых"» [1, с. 48].
Сам Иванов считал, что культ Диониса возродил Фридрих Ницше: «Ницше возвратил миру Диониса: в этом было его посланничество и его пророческое безумие. Как падение "вод многих", прошумело в устах его Дионисово имя. Обаяние Дионисово сделало его властителем наших дум и ковачем грядущего» («Ницше и Дионис», 1904) [1, с. 716]. Правда, «трагическая вина Ницше в том, что он не уверовал в бога, которого сам открыл миру» [1, с. 725].
Дионис привлекал поэта как бог растительно-породительных сил природы, бог страдающий, умирающий и воскресающий в бесконечной ритмической череде событий бытия: в движении звезд, в смене дней и ночей, но главное – в уходе-возвращении времен года, развитии земной природы с ее расцветанием, плодоношением, увяданием и новым расцветом. Дионис привлекал возможностью жизни в предельном и запредельном напряжении чувственно-страстных душевных сил человека: в «отраде дерзких нег» и в «беспощадных восторгах» («Тризна Диониса») [1, с. 571].
Главные языческие боги античности определяют основной седмичный (недельный) ритм земного и небесного бытия. Действие этих богов всемирно и всечеловечно. В «Днях недели» божественное мироправление отмечено эпиграфом: «Обычай приурочивать дни к семи светилам, именуемым планетами (Солнцу, Луне, Марсу, Меркурию, Юпитеру, Венере и Сатурну), возник у Египтян, но существует у всех людей (Дион Кассий)» [1, с. 577].
Дионис виделся поэту предельно близким и сродным человеку богом. Впрочем, в его пантеоне были и другие особо чтимые властители, среди которых по-своему значимы Пан и Сатурн. Подобно Дионису, они овладевают человеческими душами, входят в них и властно управляют ими, создавая божественную одержимость, даруя свое бессмертие и силу. Они (и люди, им причастные) тоже умирают и воскресают, как восходят и заходят звезды небесные: «Не умирают боги иначе, как для воскресения; и преображенные смертию – воскресают. Воскреснет и великий Пан. И демоническое в индивидуализме, конечно, воскреснет в иные времена» («Кризис индивидуализма, 1905» [1, с. 840].
В «Кормчих Звездах» в стихотворении «Земля» именно умирающий и воскресающий Пан вытесняет крестную жертву Христа:
«И не Земля, – дети, вам мать – Голгофа С оного дня, как распят Он, — С оного дня, как Немезидой неба Распят по мне великий Пан…». Братья! тогда лоно Земли лобзайте, Плачьте над ней: «О, мать, живи!…» – «Бог твой воскрес!» благовестить дерзайте: «Бог твой живет – и ты живи!… [1, c. 551]Владение Диониса у Иванова – это переходная область личностного душевного растворения в божественном всеединстве, когда растворение сменяется сотворением новой или обновленной личности-души. А владение Пана – это ступень более глубокого и для человека уже безвозвратного пропадания в божественном Всебытии. На этой заключительной ступени дионисийская радость-скорбь сменяется паническим ужасом в состоянии запредельного и беспредельного восторга. «Эта область поистине берег „по ту сторону добра и зла“. Она демонична демонизмом стихий, но не зла. <…> Ужас нисхождения в хаотическое зовет нас могущественнейшим из зовов, повелительнейшим из внушений: он зовет нас – потерять самих себя» («Символика эстетических начал», 1905) [1, с. 829].
А с точки зрения богов, постигаемых в экстатическом состоянии, это вселенская печаль о пропадании частных, даже и божественных очертаний:
Я – Полдня вещего крылатая Печаль. Я грезой нисхожу к виденьям сонным Пана: И отлетевшего ему чего-то жаль, И безотзывное – в Элизии тумана. Я, похоронною лазурью осиянна, Шепчу в безмолвии, что совершилась даль. Я – Полдня белого небесная Печаль, Я – Исполнения глубокая Осанна. («Печаль полдня», 1904) [1, с. 780]За смерть как начало бытия в мире Иванова непосредственно отвечает суровый Сатурн:
На безмолвной, долгой тризне Пировать идет Сатурн. («Дни недели») [1, с. 579]При этом он может и веселиться:
Сатурн смеялся из веселых далей <…> И выходили гости на гостины, Могильный сонм веселых Сатурналий. («Розалии») [2, с. 490]Сатурн в составе всех титанов является у Иванова изначально, в первой же стихотворной строке его первой поэтической книги «Кормчие звезды»:
Вчера во мгле неслись Титаны На приступ молнийных бойниц <…> [1, с. 515]Так сходу образами титанов, среди которых важнейший – Сатурн, задается направление дальнейшего творческого развития поэта: титаническое богоборчество, связанное с причинением смерти и обретением ее ради воскресения к дальнейшей жизни. В излюбленной поэтом греческой мифологии Кронос (Сатурн у римлян) возглавил восстание титанов на своего божественного отца Урана и оскопил его. В свою очередь титаны пали жертвой нового поколения богов – олимпийцев. Мифическое античное борение и соперничество богов питается их осознанием своей общей божественной природы. Этот стержень титанического сознания еще до Иванова отмечает и Д. Мережковский в стихотворении «Титаны» (1894).
Иванов следует орфикам в понимании людей как наследников одновременно и титанов и Диониса:
И я, тень сна, Титанов буйных племя, Их пепл живой, — Несу в груди божественное семя, — Я, Матерь, твой! («Pieta») [1, с. 702]О. Шор-Дешарт поясняет эти строки: «По орфическому мифу Зевс испепелил Титанов за растерзание и пожрание Диониса. Из праха их родился человек. Человек двуприроден: в нем жива и буйная кровь титанов и божественное семя поглощенного ими Диониса. „Тенью сна“ называл человека Пиндар» [1, с. 56]. Иванов рассуждает об этом в статье «О действии и действе» (1919). Родственен человек и «Матери скорбей» – «Вселенской Изиде» [1, с. 702], которая в египетской мифологии представлялась дочерью Неба и Земли и супругой своего брата Озириса, растерзанного богом Сетом, но магически воскрешенного Изидой. В египетской богине Иванов склонен видеть то ли супругу, то ли мать Диониса, а значит, прародительницу людей.
Титану Прометею Иванов посвящает трагедию «Прометей» (1914), вспоминает и в стихах «дар Огненосца-Прометея» («Творчество») [1, с. 536], «Творческий пожар <…> В славу Прометея» («Фуга») [1, с. 806].
Прометей пребывает в состоянии трагической борьбы с богами-олимпийца-ми, и он подключает к этой борьбе людей, открывая им возможности обожествления. Он лепит людей из глины и тлеющего праха, оставшегося от сожженной Зевсом смешанной плоти титанов и Диониса, растерзанного ими. Божественный огонь из этого живого праха передается сотворяемым людям, открывая через них путь к возрождению титанов и Диониса, о чем говорит Прометей:
Моих перстов ждала живая персть, Чтоб разрешить богоподобных плен И свету дня вернуть огонь Младенца. Я был творцом их, если тот творец, Чье имя меж богов – Освободитель. («Прометей») [2, с. 112–113]Из богов ближе всех людям в их богоборчестве Дионис: «Но особенность Дионисовой религии составляет отожествление жертвы с богом и жреца с богом. Типы богоборцев в круге дионисийских мифов сами приемлют Дионисов облик. Страдая, они мистически воспроизводят страдания от них пострадавшего» («Ницше и Дионис». 1904) [1, с. 726].
Дионисийство, вера в умирающих и воскресающих богов помогали Иванову осознать свою божественную природу и встроиться в ритмы вселенского богоборчества. Почитание Диониса – самый краткий и успешный путь к само-обожению: «В одной лишь Дионисовой общине все участники экстатического богослужения носят имя своего бога ("вакхи"), то есть таинственно с ним отождествляются» («О существе трагедии», 1912) [2, с. 194]. Из почитания Диониса, умирания и воскресения в слиянии с ним, возникает общий трагизм человеческого бытия, как из обрядов в честь Диониса происходит важнейший вид словесного творчества – трагедия («козлогласование», козлиное песнопение, пение козлообразных существ – сатиров – в честь Диониса во время обрядового богослужения ему: от греч. «трагос», то есть «козел», и «ода», то есть «песнопение»). «"Козлы" были пелопонесскими растительными демонами <…> "Козлами" стали именоваться и мужские религиозные общины, коих назначение было славить Вакха <…>», – поясняет Иванов [2, с. 196].
Сочетая образы растерзанного титанами Диониса-Вакха и растерзанного вакханками-менадами Орфея, Иванов пытается представить вечную жизнь божественного человека в череде смертей-воскресений:
И гармоний возмущенных вопиет из крови стон: Вновь из волн порабощенных красным солнцем встанет он. Строя семя, искра бога сердце будет вновь томить, От порога до порога к невозможному стремить. <…> Вновь разрыв, и исступленья, и растерзан Вакх! Эвой! («Орфей растерзанный») [1, с. 804]Орфей в свою очередь оказывается «вакхоборцем» («Три жала») [2, с. 368].
Дионис-Вакх так же вступает в борьбу с олимпийцами, с Аполлоном, в частности. Противоположность Диониса и Аполлона (соответственно начал множественности и единства, женственности и мужественности) Иванов рассматривает в статье «О существе трагедии» (1912).
Солнце как верховное божество многих языческих культов так же мыслится умирающе-воскресающим:
Вспыхни, Солнце! Бог, воскресни! («Утренняя звезда») [1, с. 525]Люди, избранные народы, по Иванову, тоже включены в бесконечное вселенское богоборчество. М. С. Альтман передает слова Иванова, сказанные в 1921 году: «Русский народ, – заявил В., – верую я, или Богоносец (Христофор), или сатаноносец, но он не себяносец, каковыми являются немец, француз, грек, англичанин»5. Народ, как и отдельный человек, может нести на себе (в себе) дух сатаны, а может нести и Бога, полностью отрешаясь от «себя», то есть становясь богом в круге представлений Иванова. Богоносец у Иванова сам становится богом и потому является носителем духа сатаны – богопротивления: такова «символика теургической тайны и мистической антиномии, чья священная формула и таинственный иероглиф: „богоносец – богоборец“» («Символика эстетических начал», 1905) [1, с. 824].
Богоборчество предполагает разрушение всех возможных границ, преград, заповедей, оно есть неверность в чистом и совершенном виде: «Без противления Божеству нет мистической жизни в человеке, – нет внутренней драмы, нет действия и события, которые отличают религиозное творчество и религиозность динамическую (имя ей – мистика) от неподвижной преданности замкнутому в себе вероучению с его скрижалями нравственных заповедей и обрядовых установлений. <…> Оно несет в себе награду непосредственного общения с Божеством и опасность божественной мести» («Идея неприятия мира», 1906) [3, с. 80].
В мелопее «Человек» (1915–1919) человек – богоравный «Божий сын»:
О, Человек! Я, Человек, измерил Вину твою и тайну: Божий сын, Ты первый был, кто в Бога не поверил. <…> И стал отцеубийца Над Матерью безмужней властелин. [3, с. 200]Люди должны понять, что им следует стать единым Человеком в совокупности со всей природой и так предстать «пред Божиим лицом» [3, с. 238], словно блудному сыну. Бог-творец предстает как пантеистически понимаемое Всё, являемое, в частности, и во Христе, а через Христа (за которым скрыт все тот же Дионис) человечество страдая, умирая и воскресая, вернется в лоно Бога-Отца:
Отчий Сын Единородный, Утверди могилой связь И в твою мой дух свободный Облечется Ипостась. [3, с. 238]В эпилоге мелопеи поэт перелагает с греческого христианскую молитву к Духу Святому, но в общем составе повествования обращение к «Духу Истины» («Повсюду Ты еси») [3, с. 242] звучит пантеистически. «Хоровожатый жизни» должен поспособствовать очищению совокупного человечества и его возвращению в Бога.
Так же Иванов толкует и основную христианскую молитву, заповеданную Господом: «Правая молитва, которой учил Христос, начинается с волевого акта, обращающего наше личное сознание к сверхличному, – с утверждения нашего богосыновства: "Отче наш", – "Ты в нас"» («Ты еси», 1907) [3, с. 267].
Суть всей пространной мелопеи о человекобоге излагается Ивановым в одном отточенном сонете:
И каждое на небо вознесенье — Сошествие в родную глубину; И луч с небес – из гроба воскресенье. Тот луч – ты сам. Мы душу все одну Вселенскую творим. Когда собою Всех ощутишь, душа, – Жених с тобою. («Sacrum sepulcrum», 1917) [3, с. 564]Богоборчество распространяется и на Христа – одного из поздних, в понимании Иванова, умирающих и воскресающих богов, являющих боговоплощение дионисийского рода. Пытаясь поставить язычество в один ряд с христианством, Иванов по сути забывает о Христе и предлагает языческую магию вместо веры в Него. Так возникают и умножаются антихристовы черты в его художественном вероисповедании. В христианском понимании, дух антихриста – это человеческий извод духа сатаны (евр. «противника»), то есть род сатанизма (богопротивления). Греческое «анти-» означает не только «против», но и «вместо»: это сопротивление с попыткою осилить и, вытесняя, заместить. Как Кронос-Сатурн был против и родителя Урана, и позднейших олимпийцев, так и Дионис у Иванова: как против олимпийцев, так и против Христа – вместо них.
Антихристово начало прикровенно выразилось уже в названии первой печатной поэтической книги Иванова. Чуткий к проявлениям духа антихриста В. Соловьев сразу обратил внимание на эту попытку вытесняющего метафорического совмещения. В разговоре с М. Альтманом в 1921 году Иванов вспоминает ту встречу с В. Соловьевым: «Последний раз я видел его в 1900 году, за полтора месяца до его смерти. Мы с ним ехали в фаэтоне, и я ему сказал, что нашел название для своего сборника – "Кормчие звезды". ""Кормчие звезды, – сказал он, – сразу видно, что автор филолог: "Кормчие книги" – "Кормчие звезды", – повторил он, – это хорошо". Он слез с фаэтона и исчез в толпе. Больше я его уже никогда не видал»6. Звезды-боги вместо Христа как кормчего корабля спасения. Языческая астрология вместо православных установлений «Кормчей книги».
Языческие прообразы Христа участвуют во всеобщей и бесконечной схватке богов еще до новозаветного воплощения. Главный из них – Дионис. Но вот мелькает и «венец страстотерпный Христа-Геракла» («Хвала Солнцу») [2, с. 230]. Все мироздание развивается под знаком крестных страданий богов и людей. Русские неудачи в войне 1904 года с японцами объясняются отсутствием веры вообще – все равно какой, будь то вера во Христа или вера в антихриста:
Русь! На тебя дух мести мечной Восстал – и первенцев сразил <…> И скорой казнию конечной Тебе, дрожащей, угрозил — За то, что ты стоишь, немея, У перепутного креста, Ни Зверя скиптр подъять не смея, Ни иго легкое Христа… («Месть мечная») [2, с. 251]Но вот Русь после заминки выбирает-таки веру в «Сатану», а значит, в антихриста, и она сама себя страдальчески распинает – на перекрестье красной революции и черных еврейских погромов:
И ликует, лобзая тебя, Сатана: Вот лежишь ты красна и черна; Что гвоздиные свежие раны – красна, Что гвоздиные язвы – черна. («Язвы гвоздиные», 1906) [2, с. 256]В понимании Иванова трагические страсти распятия в ходе истории неизбежны при любой вере. И вот он обобщает на самом взлете русской революционной трагедии, в 1919 году:
Да, сей костер мы поджигали, И совесть правду говорит, Хотя предчувствия не лгали, Что сердце наше в нем сгорит. <…> Кто развязал Эолов мех, Бурь не кори, не фарисействуй. Поет Трагедия: «Все грех, Что воля деет. Все за всех!» А Воля действенная: «Действуй!» («Г. И. Чулкову») [4, с. 81]Смерть – как обратимая (в дионисийском экстазе, «выходе из себя», но с возвратом в этот мир), так и необратимая (когда экстаз не завершается энстазом, «прихождением в себя» и возвратом в этот, один из многих, мир) – для Иванова является каждой отдельной ступенью (экстазом) и всей лестницей движения к непрестанному расширению своего Я путем перешагивания за его нынешние пределы. Уже в краткотекущей земной жизни, сродной сну и мечтанию, поэт пытался представить и осуществить свое запредельное и бесконечное божественное инобытие.
Теоретически он это представляет так: «Ибо религия Диониса – религия мистическая, и душа мистики – обожествление человека, – чрез благодатное ли приближение Божества к человеческой душе, доходящее до полного их слияния, или чрез внутреннее прозрение на истинную и непреходящую сущность я, на "Самого" в я ("Атман" браманской философии). Дионисийское исступление уже есть человекообожествление, и одержимый богом – уже сверхчеловек (правда, не в том смысле, в каком употребил слово "Uebermensch" его творец – Гете)» («Ницше и Дионис», 1904) [1, с. 723].
Выражая то же самое на языке поэзии, Иванов осуждает обычное человеческое отношение к смерти, отвергающее взаимосвязь и взаимодействие отдельного существа и целой божественной вселенной:
Знай: брачного твой дух не выковал звена С душой вселенскою, в чьем лоне времена.Но он приветствует хотя бы сомнение в отсутствии такой связи и надежду на ее существование, а вместе с тем от надежды предлагает перейти к вере в свое беспредельное божественное величие, обретаемое через смерть в новом рождении:
Не дрогнет твердь. Ты сам, кто был во чреве плод, Раздвинешь ложе сна, чье имя – Небосвод. («Смерть», 1915) [3, с. 542]Одно из замещений веры во Христа осуществляется у поэта за счет магии славянского язычества, проникающей в христианство в виде народной веры духовных стихов. В «Кормчих Звездах» целый отдел «Райская Мать» основан на таком замещении. Показателен «Стих о Святой Горе» (1900). Русское Православие Иванов не видит, зато, прикрываясь слогом и образами народных духовных стихов, видит особую русскую (и вселенскую) веру в новую Церковь, которую уже незримо зиждут на недоступной «Святой горе» «святые угодники»: «Ставят церковь соборную, богомольную» [1, с. 557] («Стих о Святой горе»). А гора сия – таинственное средоточие Матери-Земли как некоего главного божества: «Ты святися, наша мати – Земля Святорусская!» [1, с. 557]. Одним из ее олицетворений оказывается Богородица, «Матерь Пречистая» [1, с. 558]. И поэт, словно древний новгородский стригольник, исповедует грехи свои Матери-Земле:
Укор уж сердца не терзал: Мой умер грех с моей гордыней, — И, вновь родним с родной святыней, Я Землю, Землю лобызал! («Персть») [1, с. 519]В других случаях это верховное женское божество поэт называет «Природой-Всематерью» («День и ночь») [1, с. 635], «Всебогиней» («Laeta») [1, с. 636].
Славянское богопознание – л ишь одно из бесчисленных возможных, и Православие-лишь частное яркое проявление богопознания в сонме не менее значимых языческих:
Единого разноглагольной Хвалой хвалить ревнует тварь. Леп, Господи, в Руси бездольной Твой крест и милостный алтарь! И нужен нам иконостаса, В венцах и славах, горний лик, И Матери скорбящей лик, И лик нерукотворный Спаса. («Милость мира») [1, с. 555–556]Православный Спас у Иванова – это тот же «неведомый бог» («Неведомому богу») [1, с. 540], который проявляет себя и во всех богах языческих пантеонов. Так поэт лукаво оборачивает вспять известное наставление апостола Павла язычникам афинянам: увидев среди их капищ изваяние, посвященное «неведомому богу» [Деян. 17: 23], апостол объяснил, что это и есть обращение ко Христу. По Иванову, Христос – одно из многих богоявлений, и поэт пытается привлечь на свою сторону свидетельство первоверховного апостола.
Соединение с Землей освобождает от тяжести любого последующего греха, воспринимаемого таковым только в ложном свете нравственности, будь то языческой, будь то христианской:
Она ждала, она прощала — И сладок кроткий был залог; И все, что дух сдержать не мог, Она смиренно обещала. («Персть») [1, с. 519]Экстатического соединения с Землей жаждет плоть, персть (но через них и дух). Дух же сам по себе стремится к соединению с Небом. Божественная Любовь позволяет духу человеческому слиться со вселенским Духом и стать всеобъемлющим и безграничным:
Над бездной ночи Дух, горя, Миры водил Любви кормилом; Мой дух, ширяясь и паря, Летел во сретенье светилам. И бездне – бездной отвечал; И твердь держал безбрежным лоном; И разгорался, и звучал С огнеоружным легионом. («Дух»/КЗ) [1, с. 518–519]Обрядовую суть одержимости богом Дионисом и слияния с ним поэт передает устами менады (вакханки):
«Земных обетов и законов Дерзните преступить порог, — И в муке нег, и в пире стонов Воскреснет исступленный бог!…» («Тризна Диониса») [1, с. 572]Поэтика и духовное направление Иванова очень близки масонской культуре. Видимо, он был членом каких-то масонских лож, хотя и скрывал это, как положено настоящему вольному каменщику. М. Кузмин оставил выразительное свидетельство: «Вяч. Ив. был масоном. Узнал я это случайно. Масоны меня всегда интересовали, и по Моцарту, и как тайное общество, и как организация (м<ожет> б<ыть>, это самое главное), где жизнь строится без ориентации на женщину, как в войсках, закрытых уч<ебных> заведениях и монастырях. <…>. Но как бы то ни было, я масонами интересовался, а одно время даже конкретно отыскивал кого-нибудь, кто мог бы меня туда ввести. Попал я на добрейшего Евг. Вас. Аничкова; этот знающий, но легкомысленный и наивный человек, так ясно всем намекал, что он масон, что я сказал ему прямо о своем желании. Разговор этот происходил в погребке Лягра, в уг<лу> Конюшенной и Невского. Тот сразу оживился, разболтал мне, что можно было и чего было нельзя. Сказал, что в России лож нет, что надо ехать в Париж или Прагу. В заключение удивился, почему я так далеко обратился к нему, когда более близкий мне человек – Вяч. Ив. – тоже масон. Правда, Иванов, не скрываясь, носил какое-то черное кольцо с адамовой головой, но я думал, что это декадентская выдумка. Но кроме масонства, он еще более причастен был к Антропософии и к розенкрейцерству»7.
Вполне в масонском духе поэт соединяет магическое чествование вина как божественной крови Диониса и как Крови Христа – через образ священной чаши Грааля, почитаемой в католическом мире. Устами Диониса он поет:
«Вы берите, Скорбь и Мука, ваш, виноградари, острый нож; Вы пожните, Скорбь и Мука, мой первоизбранный виноград! Виноградник свой обходит, свой первоизбранный, Дионис; Кровь сберите гроздий рдяных, слезы кистей моих золотых — Жертву нег в точило скорби, пурпур страданий в точило нег Напоите влагой рьяной алых восторгов мой ярый Граль!» («Виноградник Диониса») [1, с. 539]В «поэтическом жизнеописании» «Младенчество» изображает суть жизни в свете розенкрейцерского масонства:
Ее единая идея — Аминь всех жизней – в розах крест. [1, с. 230]Во второй книге стихов «Прозрачность» (1904) автор попытался отрешиться от почти осязаемой мифологической образности язычества и увидеть божественный мир отрешенным взором, очищенным не без помощи буддийской магии:
Прозрачность! колдуешь ты с солнцем, Сквозной раскаленностью тонкой Лелея пожар летучий; <…> Прозрачность! улыбчивой сказкой Соделай видения жизни, Сквозным – покрывало Майи! Яви нам бледные раи За листвою кущ осенних; За радугой легкой – обеты; Вечерние скорбные светы За цветом садов весенних! Прозрачность! божественной маской Утишь изволения жизни. («Прозрачность») [1, с. 738]Впрочем, поэт помнит, что эта одушевленная «Тишина таит богов» («Душа сумерек») [1, с. 740]. И в череде последующих стихотворений они вновь появляются в своем античном великолепии: «Персефона» [1, с. 745], «Дриады» [1, с. 746], «Пан и Психея» [1, с. 747]. И уже предчувствуется воскрешение новых дионисийских восторгов:
Сердце изменится. Взор удаленнее, Песнь умиленнее В тонкой тиши. Пещь распаленнее — Огнь убеленнее: Вейся прозрачнее, Пламень души! («Лето Господне») [1, с. 750]И вот уже к стихотворению «Хмель» появляется эпиграф из романа «Пламенники» Лидии Зиновьевой-Аннибал: «– «Ах, это было пьянство белого луча!» – «Хмель, это – тайная душа нашей жизни. Мир – хмель божества» [1, с. 753]. И в «Раскаянии» поэт вновь призывает отринутого было «демона» Диониса [1, с. 761]. Раскаиваясь в отступничестве от язычества, Иванов готов привечать в своей душе даже противоположность Диониса, «Аполлона влюбленного», и от имени Харит взывает к нему как своему вдохновителю (сближая его образ с Дионисом):
«Нег порою скоротечной Тайну сладостную крой; Поминая пыл сердечный, Золотую лиру строй!» [1, с. 769]Третий сборник стихов – «Сог ardens» (лат. «Пламенеющее сердце») (1911) являет миру уже вполне разгоревшийся пожар дионисийских страстей.
Первая часть сборника отражает экстатические переживания поэта, относящиеся к последним годам жизни с женою Лидией Зиновьевой (по 1907 год включительно).
Первая книга первой части, названная так же «Сог ardens», посвящается «Бессмертному Свету Лидии Димитриевны Зиновьевой-Аннибал» – возлюбленной «Мэнаде» поэта [2, с. 225, 699]. Венчается книга стихами, написанными 8 ктября 1907 года, за несколько дней до внезапной болезни и скоропостижной смерти Лидии. В них слышится прощание с земной дионисийской оргией и перевод миросозерцания при помощи христианской литургической образности на уровень бесплотных, но по-прежнему языческих страстей:
Моя любовь – осенний небосвод Над радостью отпразднованной пира. Гляди: в краях глубокого потира Закатных зорь смесился желтый мед И тусклый мак, что в пажитях эфира Расцвел луной. И благость темных вод Творит вино божественных свобод Причастием на повечерьи мира… («Exit cor ardens») [2, с. 281–282]В этих стихах предчувствие всей будущей жизни – в России и далее в Италии, с переходом в католичество. А пока что последующие книги в составе сборника вновь повергают творческое сознание в пучины язычества и магии всех времен и народов.
Третья книга 1 части красноречиво именуется по названиям входящих циклов: «Эрос», «Золотые завесы». После печально-смиренного прозрения будущего в «Exit cor ardens» в композиции двухтомника «Сог ardens» происходит обычное для Иванова возвращение, воскресение старых настроений. Заглавное начальное стихотворение третьей книги – «Змея» – посвящено «Диотиме» (так в честь жрицы любви из диалога Платона «Пир» Иванов и его окружение звали Лидию Зиновьеву-Аннибал). К ней, но и ко всем страстным увлечениям поэта, обращены строки:
Виясь, ползешь ко мне на грудь — Из уст в уста передохнуть Свой яд бесовств и порч <…> [2, с. 363]Поэт чувствует губительность и вселенскую неизбежность дионисийской любви:
В пещерах смутных ловит слух Полночных волн прибой, Ток звездный на земную мель, — И с ним поет мой чарый хмель, Развязанный тобой. [2,с. 363]Общее настроение книги выразилось в «Зазывании Вакха»:
«Чаровал я, волховал я, Бога Вакха зазывал я <…> [2, с. 368]Вторая часть сборника «Сог ardens» передает переживания 1909–1910 годов, отражающие воспоминания об ушедшей Лидии при постепенном любовном сближении с падчерицей Верой. [2, с. 808].
Дионисийская страстная любовь сопряжена с крестными страданиями: «Мы – две руки единого креста» [2, с. 411] – так в новом сборнике автор воспроизводит сонет «Любовь» из «Кормчих звезд» (отражение счастливой поры любви с Лидией) и пишет теперь в его развитие венок сонетов, утверждая неизменность своего дионисийского понимания людей и мироздания. Заключительный сонет в венке откровенно являет страшное существо, порождаемое слиянием человеческих душ и запредельного Дионисова духа:
Мы две руки единого креста; На древо мук воздвигнутого Змия Два древние крыла, два огневые. Как чешуя текучих риз чиста!… [2, с. 418] <…> Бог-Дух, тебе, земли Креститель рдяный, Излили сок медвяный, полднем пьяный, Мы, два грозой зажженные ствола. [2, с. 419]В этом венке сонетов предвидится и прописывается будущий католический по видимости (как ранее был по видимости православный) жизнетворческий дионисийский путь Иванова:
Мы бросили довременное семя В твои бразды, беременное Время, — Иакха сев для вечери Христа; [2, с. 417] И рдяных роз к подножию Креста Рассыпали пылающее бремя. [2, с. 418]Пламенное неистовство демонической дионисийской («иакхической») страсти мешало поэту постичь искупление грехов рода человеческого в крестном страдании Христа и Его воскресении. Упоминание христианской по внешности символики не должно вводить в заблуждение – это тайнопись, как у масонов.
Мнимо христианская образность Иванова – это символы, указывающие на пантеистическое восприятие божественной природы в духе дионисийства:
Разубрана, светла моя обитель… А на востоке кровь багряных роз Кипит чрез край… Осанна, мой Спаситель! («Утренняя молитва») [2, с. 496]Именно в ключе такой тайнописи следует понимать нескромную запись в Дневнике Иванова в 1908 году, где говорится о его собственной первой книге стихов и последних сочинениях его жены: «<…> продолжаю я писать в этой святой книжечке <…>, когда <…> работаю на новой Башне, уже давно осиротелой <…> с милым и гениальным Кузминым над устроением Ее труда, поистине в небеса выросшего из темной земли во славу Духа Святого и огня Его. И как тогда мы шли к людям с благовестием Кормчих Звезд, так и теперь идем с благовестием Великого Колокола и заветом Пламенников» [2, с. 771].
«Вечная память» – ключевое понятие православной мистики – также переосмысливается пантеистически и становится дионисийским символом: «<…> художник только тогда наиболее творец, когда пробуждает в нас живое чувствование кровной связи нашей с Матерями Сущего и древнюю восстанавливает память Мировой Души» («Древний ужас», 1909) [3, с. 93].
«Розариум» (вторая часть сборника «Сог ardens», книга пятая) посвящен падчерице Вере (и через нее-Лидии): «Единой и нашей Вере» [2, с. 448, 811]. По авторскому посвятительному определению большого включенного цикла «Газ-элы» всю эту книгу можно назвать «снами об Афродите небесной» [2, с. 451].
Вообще после смерти Лидии, со второй части «Сог ardens» дионисийство все более обретает очертания сновидческого, воображаемого бытия и несколько усмиряется в страстности, отрываясь от земной плоти и крови, но не меняя при этом своей духовной языческой сущности. В падчерице Вере поэт вообразительно видит умершую Лидию, ее живое соприсутствие, и любовь к Вере оказывается той самой любовью втроем, о которой Вячеслав с Лидией так мечтали на самом взлете их единого земного бытия.
Сборник «Нежная тайна» (1912) отражает на духовном уровне итог постепенного сближения поэта с падчерицей Верой. В Дневнике от 26 июня 1909 года Иванов пишет о своем общении с душою покойной жены: «"Лидия, скажи, зачем ты ушла?" Ее голос: "Я ушла на богомолье <…> Отец волит в нас другое. Отец дает воскресенье в теле мне. Дар мой тебе дочь моя, в ней приду"» [3, с. 695]. И такое общение многократно повторялось во снах. «Нежная тайна» писалась на одном дыхании летом 1912 года во Франции, когда Вера уже ждала ребенка от своего отчима [3, с. 697], и эта книга, по выражению О. Шор-Дешарт, «славит участие ушедших в жизни живых и "Нежную Тайну" рожденья» [3, с. 697].
Посвящая книгу и начинательные стихи Блоку, Иванов указывает, что художественное сознание его (и Блока) развивается в духе внушений В. Соловьева – на основе античного пантеизма с почитанием божественной премудрости Софии во внешнем обличье воссоединенного под эгидой католичества христианства:
Затем, что оба Соловьевым Таинственно мы крещены; Затем, что обрученьем новым С Единою обручены. Убрус положен на икону: Незримо тайное лицо. [3, с. 10]Иванову легко и радостно видеть мир в духе своей изначальной веры, находясь в самом сердце Запада:
И по всем путям – обетных тонких тополей четы; На урочищах – Мадонны; у распутия – Христы. Что ни склон – Голгофа Вакха: крест объятий простерев, Виноград распяли мощи обезглавленных дерев. («Предгорье») [3, с. 14]Здесь же проявляется преобладающее в его закатном творчестве возведение дионисийского пантеизма на мечтательно-вообразительный, бесплотный уровень:
И с высот знакомых вижу вновь раздельным водосклон Рек души, текущих в вечность – и в земной старинный сон. [3, с. 14]Впрочем, как всегда на земле, дионисийская страстность угасает, чтобы вновь воскреснуть в очередном рождении:
Тайна нежна, – вот слово мое, – а жизнь колыбельна; Смерть – повитуха; в земле – новая нам колыбель. («Нежная тайна») [3, с. 30]В предисловии к сборнику автор особо оправдывает свое «пристрастие» к античной языческой мифологии: «<…> античное предание насущно нужно России и Славянству, – ибо стихийно им родственно <…>» [3,с. 7].
В мелопее «Человек» (1915–1919) люди у Иванова – по-прежнему богоборцы, являющие естественное продолжение своего божественного отца:
Затем, что ангела и зверя И лики всех стихий навек В себе замкнул, кто, лицемеря, Назвал личину: Человек. [3, с. 198]Стихотворный сборник «Римский дневник 1944 года» (1937, 1944) отличает детская простота и мнимо поверхностная описательность с полушутливым покаянным настроением относительно своего прежнего дионисийского витийства:
К неофитам у порога Я вещал за мистагога. Покаянья плод творю: Просторечьем говорю. [3, с. 593]То есть поэт по-простому говорит все о том же, о чем более сложно толковал всю жизнь. Поэтому сосредоточенные в основном на первых страницах видимые признаки христианского мировосприятия не должны вводить в заблуждение: автор вновь занимается любимым делом – прельщает непосвященных в таинства читателей-неофитов, вовлекает их в свой обаятельный мир, где разнообразные символы говорят все о том же языческом богопочитании, только говорят теперь не сложно, а просто, доступно для всех.
С одной стороны:
Мы к смертному искусу Приблизились и ждем; Пречистой, Иисусу Живот наш предаем. [3, с. 598]С другой стороны, в этом же мире гремит «воздушных Гарпий гром» [3, с. 598] и к вдохновению поэта несет «заоблачный Пегас» [3, с. 599], а без вдохновения не понять, «что поверяют боги снам» [3, с. 599].
«Жизнь» в этом таинственном магическом мире – «грешница святая» [3, с. 600], здесь все возможно и все во все превращается:
Детству снящиеся смутно Чарования не ложны, И всеместно, всеминутно Превращения возможны. [3, с. 600]Взаимообратны и христианство с язычеством:
Язы́ков правду, христиане, Мы чтим: со всей землей она В новозаветном Иордане Очищена и крещена. <…> И шепчет элевсинский колос: «Не встанет, не истлев, зерно». Так говорило Откровенье Эллады набожным сынам, И вера нам благоговенье Внушает к их рассветным снам. [3, с. 632]«Рассветные сны» по природе своей наступают вновь и вновь.
Так и в жизни поэта, и в заключении всего цикла «лирического <…> Года» язычество торжествует:
«<…> К Афине Вернись!» – мне шепчет Муза: «ныне Она зовет <…>. О чем задумалася Дева, Главой склонившись на копье, Пойдем гадать, Ее запева Ждет баснословие твое». [3, c. 644]Над последним своим сборником «Свет вечерний» (1949) поэт работал, правя разновременные тексты, вплоть до своей кончины. В сборник вошли стихи, написанные после 1912 года, и на всех лежит печать заключительного, предсмертного авторского утверждения.
Название затрагивает древнее православное песнопение «Свете тихий», которое поется на вечерне: «<…> пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога». Но первое же стихотворение «Поэзия», задающее тон, подтверждает: христианские образы у Иванова – это символы языческого мировосприятия и душа его растет в составе мифологического древа мироздания:
Весенние ветви души, Побеги от древнего древа.На древе единой мировой жизни «извечная Ева» сосуществует с языческими богами:
Лепечет, резвясь, Гесперидам: «Кидайте мне мяч золотой». И кличет морским нереидам: Плещитесь лазурью со мной». [3, с. 487]Включая это стихотворение 1915 года в поздний сборник спустя сорок с лишним лет и снабжая текст отсутствовавшим ранее и столь ответственным названием «Поэзия», поэт подтвердил неизменность своего творческого и духовного направления. Об этом же говорит и стихотворение «Рубка леса» (1913), где звучит эхо положенного в название всего сборника песнопения: «Пел „Свете тихий“, – длясь, – в парчах осенних день» [3, с. 514].
И монастырь в этом мире соответствующий:
Напой душе слепой, Певучая псалтирь, Какою тайною тропой Приду я в монастырь, Где сердцу милая живет, Где вешний сад цветет? («Монастырь», 1917) [3, с. 517]Проясняется и природа «вечернего света», озаряющего жизнь поэта на закате. Он, конечно, божественный, но излучается двуединым образом усопшей жены и возлюбленной падчерицы Веры (которая ко времени составления сборника тоже ушла в мир иной):
Когда в твоих чертах, Мелькнет неуловимый Тот свет, что я зову <…> («Ее дочери», 1914) [3, с. 520]Цикл сонетов «De Profundis amavi» («Из глубины возлюбил») (1920–1949) можно считать последним словом поэта, обращенным к Богу, а по сути к себе (ибо себя он мыслит уже в глубинах Бога, в слиянии с Ним). Поэт использует богословие любви из Евангелия от Иоанна и мыслит себя в Боге, а Бога – в себе. Однако это богословие прикрывает технику пантеистического самообожения, которая была изложена еще в заключительной дневниковой записи от 14 апреля 1910 года: «При каждом взгляде на окружающее, при каждом прикосновении к вещам должно осознавать, что ты общаешься с Богом <…>. Благословением и благоговением должно стать каждое движение твоих чувств, устремленных вовне тебя, и твоего тела, плывущего в Боге. Так славя непрерывно Бога, во внешней данности, душа твоя будет сливаться со всем, ибо ее хвала будет утверждением божественной реальности в тебе самом» [2, с. 806].
Восемь сонетов цикла написаны летом 1920 года, незадолго до внезапной смерти последней земной любви автора – Веры. Еще один, девятый сонет, был написан почти через 30 лет, в 1949 году. За два дня до смерти поэт завершил доработку этого сонета, поставив его среди прочих третьим по счету, а с тем довершилась и правка всего состава. [3, с. 848].
В этом цикле дионисийская страстность, а с нею и вся жизнь, окончательно утрачивает плотское заземление, переходя в область воображения:
О, сновиденье жизни, долгий морок, К чему ты примечталось и к чему Я ближнему примнился моему? К добру ли? К худу ль? Расточися, ворог! [3, с. 574]Говоря с Богом, поэт говорит с собой, пытаясь в очередной раз умереть и воскреснуть вместе со смертью и воскресением любви:
Воскресни Бог!… Уже давно не дорог Очам узор, хитро заткавший тьму. Что ткач был я, в последний срок пойму; Судье «Ты прав» – скажу без оговорок.В переливах из сонета в сонет Бог порой оказывается «Фебом»-Солнцем, изрекающим непреложные «заклятья» и отсекающим различные жизненные возможности (VIII сонет) [3, с. 577]. Это мешает поэту вполне осознать себя всесильным Богом, и он борется с непослушной частью, казалось бы, уже освоенного божества силою воображения:
Но духу чужд, враждебен этот суд, — И крылья Памяти меня несут В край душ вослед несбыточной Надежде. Там обнимаю мертвую Любовь, И в части сердца, трепетные прежде, Лью жарких сил остаточную кровь. [3, с. 577]Так продолжается бесконечное богопротивление.
IX сонет, оборванный еще в 1920 году посередине, – невозможностью своего продолжения словно бы ознаменовал внезапную гибель супруги Веры, наступившую через три дня после остановки работы над ним. И тут поэт все так же видит себя частью Бога, в котором все едино и в котором следует любить только Его, не забывая, что Он во всем (забвение Его – и есть пресечение любви к Нему):
Из глубины Тебя любил я, Боже, Сквозь бред земных пристрастий и страстей <…> Когда лобзал любимую, я ложе С Тобой делил <…> Так не ревнуй же!………………………..[3, с. 578]Снова и снова любовь к Богу оборачивается сопротивлением Ему, и запредельное слияние с Богом – смертью. В этом настроении Вячеслав Иванов и оставил бренный земной мир.
Примечания
1 Иванов В. И. Собрание сочинений / под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Т. 1–4. Брюссель, 1971–1987. Ссылки на это издание приводятся в квадратных скобках с указанием тома и страниц.
2 Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 48. Текст при водится по электронному переизданию, в котором сохранена нумерация страниц, но сделаны уточнения по автографу: .
3 Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1998. С. 93.
4 Волошина М. В. Зеленая Змея: история одной жизни / Маргарита Волошина (М.В. Сабашникова); Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой. М.: Энигма, 1993. http://bdn-steiner. ru/modules.php?go=page&name=Books&pid=5702.
5 Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 17.
6 Там же.
7 Кузмин М. Дневник 1934 года. С. 110–111. Об отношении Иванова к масонству см. также прим. 66 в этом издании на с. 305.
Боги Бунина А. В. Моторин
Однажды в разговоре Бунин признался: «Для меня был Богом Л. Н. Толстой» [13, с. 31]1. В словах этих нет условного обожания, но есть прямое обожение, поклонение кумиру, божеству. Такое отношение к любимому писателю Бунин выражал многократно в течение всей жизни. Философический итог своим размышлениям он подвел в книге «Освобождение Толстого» (1937). В начале приводится выдержка из «Поучений Будды»: «<…> освобождение от смерти найдено» [8, с. 15]. Тем самым дается пантеистическая установка мировосприятия (а по сути – веры): освобождение от смерти достигается через смерть данного частного земного существа. Далее Бунин приводит слова самого Толстого на ту же тему, но уже с отпечатком кантианства: «Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть (все) большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них» [8, с. 15]. И тут же делает вывод уже своими словами, опережая весь ход дальнейшего повествования: «Для Толстого не осталось в годы его высшей мудрости не только ни града, ни отечества, но даже мира; осталось одно: бог; осталось «освобождение», уход, возврат к богу, растворение – снова растворение – в нем» [8, с. 15].
Естественно, что именно так Бунин мыслил и о себе, и о всяком выдающемся, великом человеке. Умозрительно пантеизм позволяет видеть в составе всеобщего, всепроникающего божества его частные проявления, обличья – «бога» в любом человеке, существе, сущности. Однако в большинстве людей такое начало проявляется исчезающе ничтожно (кроме особых случаев их жизни). Вот и писателей Бунин за исключением Толстого (и себя самого) не относил к настоящим «богам». О себе же говорил не раз и достаточно откровенно, например, так:
Один я был во всей вселенной, Я был как бог ее – и мне, Лишь мне звучал тот довременный Глас бездны в гулкой тишине. («Один я был в полночном мире…», 1938) [2, с. 182]Или так:
Никого в подлунной нет, Только я да Бог. Знает только Он мою Мертвую печаль <…> («Ночь», 1952) [2, с. 134]Гордость, столь свойственная магическому сознанию, побуждает Бунина превозноситься над всеми, даже над собственным кумиром – Львом Толстым. Это сокровенное стремление однажды выразилось прямо: «Хочется мне Толстого за пояс заткнуть да и только!» (письмо М. П. Чеховой от 7 июля 1901) [13, с. 59].
На высотах гордого одиночества бывает скучно и тоскливо. Так и мир Бунина пуст, уныл, печален на уровне обобщающего божественного восприятия – на лезвии того разделяющего пограничного хребта, переступление за который означает смерть частного, пусть и божественного, существа для всего пестрого, ярко разнообразного земного бытия, столь привлекательного и прелестного и столь разнообразно воплотившегося в подавляющем большинстве сочинений писателя. Для избавления от скуки и тоски приходится возвращаться в яркий мир долин, лесов, морей. С поспешной ненасытностью в течение всей своей некраткой жизни Бунин старался увидеть, постичь, образно запечатлеть как можно больше стран, народов, людей, природных явлений: «Жизнь моя – трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, Боже, сроки мои!» («Воды многие», 1914–1926) [4, с. 8]. «Бог» здесь (как обычно у Бунина) – таинственное безликое существо, бесконечно разнообразно являющее себя в природных ликах и позволяющее непрестанно причащаться своей благодати всем сущим на земле, покуда они живут. Это обычный пантеистический «Бог»:
Волна, шумя, вела беседу с Богом. <…> А Бог был ясен, радостен и прост: Он в ветре был, в моей душе бездомной — И содрогался синим блеском звезд <…> («Бог», 1908) [1, с. 221]Высшие воплощения этого божества, к которым Бунин относил и себя, способны охватить и присвоить себе бесконечно много проявлений такого жизненного многообразия: «Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне». («Вечер», 1909) [1, с. 241]. Впрочем, длящийся во времени захват должен длиться бесконечно, а если попытаться захватить все и сразу, тут же окажешься на той опасной грани, за которой – смерть как вход в бессмертие, но только уже бессмертие всеобщее, всеохватное, а не личное (как в христианстве). Из такого бессмертия обратно в частное существование явиться можно, но уже каким-то иным существом, а ну как собакой или червяком? Пантеизм, в частности, буддизм, почитаемый Буниным и Толстым, не исключает таких неприятных возможностей. Отсюда и моление: «Продли, Боже, сроки мои!». Отсюда же и тоска, порой перебивающая радостное восприятие жизненной круговерти:
Я человек: как Бог, я обречен Познать тоску всех стран и всех времен. («Собака», 1909) [1, с. 238]Впрочем, нередко экстатически-радостное восприятие красот мира действует как наркотик и заглушает страх смертельного конечного обожествления:
И растворись, исчезни в небе чистом — Вернись на родину, душа! —восклицает безмятежный поэт посреди Индийского океана, вспоминая о таинственной лесной жизни и ссылаясь в эпиграфе на индийских «браминов»-панте-истов («Ночлег», 1911) [1, с. 251].
В прозаическом состоянии души и особенно при созерцании частных образов смерти Бунин временно утрачивает состояние божественного всеведения и старается вновь обрести его: «Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным – думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один Бог, – тайну ненужности и в то же время значительности всего земного» («Сосны», 1901) [1, с. 440].
Порою, особенно с годами, с угасанием творческих сил, пантеистическая духовность (как это вообще часто с нею случается) переливается у Бунина в глухую материалистическую бездуховность, и тогда рассудочный ступор перед образами смерти становится временно безысходным и пугающим, от него писателя не спасает даже самая жизнеутверждающая вера – Православие. Это видно, когда он переживает и описывает отпевание в церквях. Символом непреодолевае-мой мертвенности для него становится венчик, полагаемый на чело покойника: «этот венчик на костяном лимонном лбу» («Окаянные дни», 1918–1920) [6, с. 382] просто преследует писателя долгие годы, и в 1916 он отражается в целом стихотворении «Венчик»:
Кадили на открытый гроб — И венчик розовый лепили На костяной лимонный лоб. [2, с. 161]Этот символический венчик в позднем стихотворении «Венки» (1950) возвышенно преображается, но оттого не становится менее безнадежным:
Жду нового венка – и помню, что сплетен Из мирта темного он будет: В чертоге гробовом, где вечный мрак и сон, Он навсегда чело мое остудит. [2, с. 183]Даже в образе некой святой на иконе (возможно, Богородицы с Младенцем) – образе, казалось бы, излучающем веру в вечную жизнь, Бунин видит символику смерти и прежде всего – тот самый венчик (видоизмененный в венец):
Она стоит в серебряном венце, С закрытыми глазами. Ни кровинки Нет в голубом младенческом лице, И ручки – как иссохшие тростинки.Надежду же поэт обретает только при созерцании той части иконы, где изображены небо, облака – излюбленные им образы божественной природы:
Но ангелы ликуют в вышине: Бессильны, Смерть, твои угрозы! И облака в предутреннем огне Цветут и округляются, как розы. («Древний образ», 1919–1924) [2, с. 132]Восприятие древней иконы в этом стихотворении достаточно полно и емко представляет отношение Бунина к христианству. Прежде всего, не проясняется, кто изображен (кто такая «она»), а без имени икона лишена благодати. Облик святости – мертвенный, обезличенный (что в корне противоречит христианской вере в личное бессмертие). Единственное существо, названное по имени и с прописной буквы – «Смерть». Божественная жизнь, означенная некими ангелами, играет и ликует в природе. На природных образах и успокаивается взор автора. Сама икона словесным описанием превращается в живописное символическое изображение жизни, какою она представляется поэту. В этом бунинском образе жизни Православию отводится определенное, но отнюдь не привлекательное и не главное место. В таком воззрении Бунин был сыном своей эпохи и своего народа. Подобно многим современникам, он отражает и выражает заметное уклонение русского самосознания от Православия.
В «Автобиографической заметке» (1915) писатель несколькими точными штрихами определяет источники своего творческого мировосприятия и веры. Прежде всего, от матери и дворовых он «много наслушался и песен, и рассказов, слышал, между прочим, "Аленький цветочек", "О трех старцах", – то, что потом читал» [1, с. 7]. Важно, что припомнились ему вольные обработки С. Т. Аксаковым и Л. Н. Толстым народных сказок, сказаний. В первом случае нравственная ценность жертвенной любви соотносится с неопределенным, невоцерковленным христианством (купец изредка молится, крестится, младшая дочь его временами признает волю Бога, приговаривая: «Бог даст»), равно как и во втором – некая стихийно-могучая, чудотворная вера народа (явленная в трех старцах) противопоставлена вере православной Церкви, представленной «архиереем».
Так в раннем детстве намечается исходное и неизбывное в жизни Бунина противоречие между верою вообще и верой в Церковь православную, в частности. Это противоречие почти сразу же обострилось и осложнилось веянием западной культуры: «лет с семи» главным «воспитателем» будущего писателя стал спившийся «сын предводителя дворянства»: «Он мгновенно выучил меня читать (по «Одиссее» Гомера), распалял мое воображение, рассказывая то о медвежьих осташковских лесах, то о Дон-Кихоте, – и я положительно бредил рыцарством!»; при этом, обучая языкам, «он больше всего налегал почему-то на латынь» [1, с. 12]. По старому русскому обычаю, обучали чтению на Псалтыри и Часослове (так было, например, еще в жизни Горького). Однако в дворянстве этот обычай стал отмирать с XVIII века. В мир письменного слова и чтения Бунин вошел по-новому: вратами греко-языческой «Одиссеи», которую перевел с немецкого подстрочника В. А. Жуковский, поэт, выучившийся в школе западноевропейского романтизма. Не случайно в памяти писателя Гомер оказался связанным с рыцарством. Естественным плодом такого магически-мифологиче-ского, прозападного воспитания стало первое стихотворение мальчика: «<…> о каких-то духах в горной долине, в лунную полночь. Мне было тогда лет восемь, но я до сих пор так ясно помню эту долину, точно вчера видел ее наяву» [1, с. 12]. Здесь очевидно смешение западной языческой мифологии и западного христианства в духе поэзии В. А. Жуковского (кровное родство с которым Бунин отмечает в самом начале своей заметки).
Годом позднее мальчик пережил «еще одну страсть – к житиям святых, и начал поститься, молиться»: «Страсть эта, вначале сладостная, превратилась затем, благодаря смерти моей маленькой сестры Нади, в мучительную, в тоску, длившуюся целую зиму, в постоянную мысль о том, что за гробом. Излечила меня, помню, весна. Отзвуком этого осталось то упоение, с каким отдавался я иногда печали всенощных бдений в елецких церквах, куда водило нас, гимназистов, наше начальство, хотя вообще церковных служб я не любил. (Теперь люблю – в древних русских церквах и иноверческие, то есть католические, мусульманские, буддийские-хотя никакой ортодоксальной веры не держусь)» [1, с. 12–13]. В этом свидетельстве значимо и весомо каждое слово. Жития святых как самое яркое, образное проявление Православия мальчик, видимо, воспринял поначалу в пересказах «матери и дворовых» [1, с. 7], поэтому влияние было хотя и сильным, но искаженным, неверно представляющим значение смерти в жизни человека. Личная трагедия – смерть сестры – способствовала разрушению и без того зыбких православных представлений, а «излечение» души совершила «весна», связанная в мире Бунина с языческим культом природной жизни. Навсегда осталась у него нелюбовь к православной («ортодоксальной») Церкви, церковным службам, предпочтение всяческого «иноверия»: от старообрядчества до буддизма – все это сорастворялось с откровенно языческими мифологическими образами в общем пантеизме авторского сознания, проявляясь в творчестве изначально и вполне устойчиво.
Одно из главных противостояний в бунинском творчестве – очевидная (для него) мертвенность мрачного христианства (и вообще обрядового богослужения, например, исламского) как некоего культа смерти, закоснения жизни, с одной стороны, и, с другой – яркое, пиршественно-праздничное играние и цветение природной жизни, осмысляемой в некоем пантеистическом исповедании как нечто божественное и вечное. Всякий вероисповедный обряд, по убеждению Бунина, препятствует живому богообщению, являет собою преграду между человеком и Богом (причем, Богом, пребывающим и вовне, и в самом же человеке). Православие как самый близкий и в этом смысле навязчивый вид церковной обрядности он недолюбливал и уничижал более всего. Но вот точно так же и в католическом костеле ложность богослужения противопоставляется почитанию Бога в храме божественной природы:
И тебе ли мгла куренья, Холод темноты, Запах воска, запах тленья, Мертвые цветы? Дивен мир твой! Расцветает Он, тобой согрет, В небесах твоих сияет Солнца вечный свет, Гимн природы животворный Льется к небесам… В ней твой храм нерукотворный, Твой великий храм! («В костеле», 1889) [1, с. 34]Столь же мертвенно мусульманское обрядовое богослужение, во время которого «купол необъятный / В угрюмом мраке пропадал», зато после него мечеть (бывший храм Святой Софии) оказывается вовлеченной в божественную жизнь природы вне всякого вероисповедания:
А утром храм был светел. Все молчало В смиренной и священной тишине, И солнце ярко купол озаряло В непостижимой вышине. И голуби в нем, рея, ворковали, И с вышины, из каждого окна, Простор небес и воздух сладко звали К тебе, Любовь, к тебе, Весна! («Айя-София», 1903–1906) [1, с. 177]В мире Бунина христианские символы отрываются от живой целостности вероисповедания и включаются, врастают в образ боготворимой природы. Поэт видит, как «Ангел, радугой сияющий, / Золотым взмахнул крестом» (1891) [1, с. 35], как «к вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей» («Окаянные дни») [6, с. 286]; он любуется «ясным небом в арках колокольни» («Над городом», 1900) [1, с. 426], равно как радуется тому же божественному небу в просветах деревьев:
О радость красок! Снова, снова Лазурь сквозь яркий желтый сад Горит так дивно и лилово, Как будто ангелы глядят. (1917) [2, с. 111]Природные стихии у Бунина проникают в мир церковного сознания, растаскивают его на куски, растворяют в своей обволакивающей бессловесности. И Сам Христос, Божественное Слово, не представляется таковым и не называется по имени, но воспринимается как немой «Свете тихий вечерний» – отнюдь не в духе одноименного церковного песнопения, но как некое языческое солнечное божество, умирающее на закате («Вход в Иерусалим», 1922) [2, с. 127]. Такому умирающему божеству естественно и воскресать – на рассвете:
Христос воскрес! Опять с зарею Редеет долгой ночи тень, Опять зажегся над землею Для новой жизни новый день. (1896)) [1, с. 53]Писатель прямо противоречит богословию святого апостола Иоанна о Христе как неизменном и лично явленном «Свете истинном» [Ин. 1: 9]. Еще более откровенно возражение звучит в стихотворении «Свет» (1916): «Есть всюду свет, предвечный и безликий» [2, с. 164]. И этот «некий свет» проникает извне через «узкое окно» во тьму храма, туда -
Где черный запрестольный крест Воздвиг свои тяжелые объятья. [2, с. 164].Примечательно, что в другом случае, осмысляя «наш дар бессмертный – речь» («Слово», 1915) [2, с. 35], Бунин так же перечит богословию святого апостола Иоанна, так как никоим образом не вспоминает об источнике словесного дара – Христе как «Слове» [Ин. 1: 1–3].
В редких случаях благосклонного отношения ко Христу Бунин мыслит Его как одного из «богов» – земных преходящих воплощений безликого всеобъемлющего божества («Бога»). Это божество может воплощаться (и воплощается) в чем угодно: «После бури и молний Бог пришел в пещеру Илии в сладостном веянье ветра. Сладостным ветром было и пришествие в мир Иисуса» («Тень птицы», 1907–1911) [3, с. 430].
Внутреннее пространство церквей, часовен писатель видит, как правило, в мрачных, гнетущих красках, и его взор ищет окна, через которые поступает успокоительный и животворный природный свет. Но особенно утешительны для него внешние виды церквей, монастырей в обрамлении поглощающей их природы: «Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса, сверкал золотой звездой купол церкви. Но я едва взглянул туда. Передо мной, в огромной, глубокой долине, открылся Донец» («Святые горы», 1895) [1, с. 349]. Между тем, в самой монастырской церкви все мрачно и мертвенно: «Я успел сходить и на вершину горы, в верхнюю церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину. Монах, как привидение, стоял за ящиком с свечами» [1, с. 351].
Один из ярких поздних образов этого длинного ряда противостояний природы и Церкви явлен в рассказе «Часовня» (1944). Здесь детским (подразумевается – неиспорченным) взглядом наблюдается снаружи, из царства солнечного дня, внутренность часовни: «Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно <…>. И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна» [6, с. 201].
Пожалуй, единожды Бунин с некоторой теплотой отнесся к церковному богослужению. Это случилось, когда он в эпоху крушения державной и церковной жизни чаял спасения в Одессе: «Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах!» («Окаянные дни», 1918–1920) [6, с. 381–382]. Впрочем, даже здесь в самом сожалении о невоцерковленности, равно как и в описании службы, звучит некоторая изящная отстраненность, смешанная с взысканием врачебного воздействия.
Охлаждение к Православию в русском образованном обществе Бунин живописал уже в начале творческого пути, например, в повести «Учитель» (1894), где сын дьячка, недоучившийся семинарист, сдавший экзамены на учителя сельской школы, безуспешно и с позором пытается вписаться в жизнь местной образованной знати, имевшей и столичные связи.
Веру представителей подобной знати (по сути и свою) Бунин изображал порою едко (осуждая скорее саму приверженность обрядам, нежели душевную хладность): «Корнет молится рассеянно. Он, юный, красиво наряженный, выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую головку с той не доведенной до конца почтительностью, с которой кланяются святым и прикладываются к ним люди, мало думающие о святых, но все-таки боящиеся испортить свою счастливую жизнь их немилостью» («Иоанн Рыдалец», 1913) [3, с. 259]. Видимо, как-то так надо понимать подоплеку крестного знамения в лирическом признании поэта:
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце, горестно и громко, Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом С своей уж ветхою котомкой! [2, с. 123]Во всяком случае «о святых» писатель думал гораздо пренебрежительнее описанного им корнета. Так, в дневнике под 1 ноября 1943 года он записывает: «"День всех святых", завтра самый страшный праздник – „день всех мертвых“» [9, с. 403].
Иногда язвительные уколы Православию писатель наносит словно бы неосознанно и походя, в частности, на уровне запечатления веры в языке, в кириллическом письме: по поводу новой советской орфографии он вскользь замечает в разговоре со своим секретарем А.В. Бахрахом, что «в "бесе" через "е" уже исчезло все дьявольское!» [14, с. 453] (в дореволюционный орфографии это слово писалось через букву «Ъ», напоминавшую начертанием крест – главный символ христианства). В мимолетности подобных выпадов обнаруживается глубокая укорененность неприязни к Православию.
Важнейшей жизненной силой, а значит, и силой божественной, в понимании Бунина, является творчество, которое он мыслил в духе пантеизма. Созидание образов, возможность произвольно менять или даже полностью заменять, подменять окружающий мир в человеческом образном восприятии (а иного мира людям не дано) – эта магия воображения неизменно прельщала писателя. У кого такой магии не хватает, вынуждены пробавляться тем, что дают им более сильные творцы и, значит, подчиняться им, втягиваться в творимые ими образные миры. И над собою времен детства и юности писатель также признавал власть миров чужого магического воображения, о чем размышляет в очерке «Книга» (1924): «Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалями, как своими собственными <…>. И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня? <…> И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, – главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах» [2, с. 259]. Здесь писатель изъясняется языком, понятным для посторонних, непосвященных людей – своих читателей, которые тоже ведь втягиваются в магический мир его воображения. В зрелые годы он отказывается жить в мирах, творимых иными сочинителями (прежде всего потому что они плохо это делают, с его нынешней точки зрения), но вместе с тем он пытается жить в своем художественном мире, выражать, творить его словом – создает свое «книжное наваждение» и предлагает его читателям.
Для объяснения природы творчества Бунин обращался к платонической и буддийской философии. Он скрещивал два этих философских направления, стараясь оставаться на их перекрестье.
С платонической точки зрения, идеальное духовное бытие, проистекающее из божественного источника, существует вне человека, но душа человеческая, будучи причастной божественному всеединству, может соучаствовать в творении новых образов бытия. Отвлеченных сущностей нет в частных материальных воплощениях, но они есть в духовном мире как идеи, мысли о частных вещах. С буддийской точки зрения, весь по видимости внешний мир есть внутреннее играние божественной творческой силы, именуемой майей, и человек, который духовно сопричастен всеединому божеству, может участвовать в этой творческой игре, созидающей призрачный мир, причем созидаемый им мир будет заключаться внутри него. На перекрестье этих философских учений возникает такое видение-ведение:
Нет Колеса на свете, Господин: Нет Колеса: есть обод, втулок, спицы, Есть лошадь, путь, желание возницы, Есть грохот, стук и блеск железных шин. А мир, а мы? Мы разве не похожи На Колесо? Похож и ты – как все. Но есть и то, что всех Колес дороже: Есть Мысль о Колесе. (1916) [2, с. 167]Получается так: художник-творец – бог, то есть частное проявление божественного всеединства, пребывающего в постоянном творческом саморазвитии. Он творит свое новое, пользуясь тем, что уже возникло, будучи сотворенным до него. Однако и все сотворенное до него, равно как и сотворенное им, заключено в круге (в колесе) его зиждительного воображения. Он волен и властен менять то, что было, есть и будет силою своего образотворения.
Уже в 1895 году начатки этого ведения выразились стихотворно:
Что в том, что где-то, на далеком Морском прибрежье, валуны Блестят на солнце мокрым боком Из набегающей волны? Не я ли сам, по чьей-то воле, Вообразил тот край морской, Осенний ветер, запах соли И белых чаек шумный рой? О, сколько их – невыразимых, Ненужных миру чувств и снов, Душою в сладкой муке зримых, — И что они? И чей в них зов? [1, с. 46–47]Платон помогал Бунину созерцать духовный божественный порядок в пестроте и мельтешении земного воплощенного мира. Помогал, даже когда играние жизни оборачивалось откровенным хаосом. Так, переживая угар гражданской войны писатель признался в «Окаянных днях» (1918–1920): «И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю «Пир Платона», поглядывая иногда вокруг себя недоумевающими и, конечно, тоже сумасшедшими глазами…» [4, с. 355]. Здесь стирается граница между сумасшедшим миром снаружи и внутри души, между пиром Платона, безумным пиршеством войны и «Пиром во время чумы» Пушкина.
Со своей стороны, буддизм помогал писателю подняться над мелькающими образами земного бытия и готовиться к главному итогу сей жизни: к смерти как переходу в мир вечности. Будда достиг такого перехода в рощах Урвелы, и Бунин в одноименном стихотворении касается самой сути вопроса, называя при этом мать Будды Майей в соответствии с буддийским преданием и включая таким образом смысловую перекличку с восточным философским понятием «майи», то есть творческой рождающей силы божества, создающей призрачное земное бытие:
«Ты ль повинна, Майя, что презрел Сын родной твое земное лоно, — Рощи, реки, радость небосклона, Красоту и сладость женских тел? Ты ль повинна, Майя, что один Человек отраву слез роняет?» Майя очи долу преклоняет: «Может быть, мудрей меня мой Сын?» («В рощах Урвелы», 1916) [2, с. 167]Уйдя в божественное всеединство, просветленный Будда вернулся, чтобы учить такому уходу других людей. Бунин также временами пытался совершить подобный путь (и отчасти ему в этом помогало христианство, понятое односторонне – как вероисповедание смерти).
Стояние на грани смерти, грани между, с одной стороны, отказом от мира сего, который весь открыт и дан божественному творцу в миг просветления, и, с другой стороны – непреодолимым тяготением к этому миру, который весь лежит во власти играющего магического воображения (майи), чеканно запечатлелось в строчках:
На всякой высоте прельщает Сатана. Вот всё внизу, все царства мира — И я преображен. Душе моей дана Как бы незримая порфира. Не я ли Царь и Бог? Не мне ли честь и дань? – Каким великим кругозором Синеет даль окрест! И где меж ними грань — Горой Соблазна и Фавором? (1916) [2, с. 168]Поэт примеряет на себя состояние Христа, а вместе с тем, на его взгляд, и состояние Будды – накануне решающего в их земной жизни выбора. Всю свою жизнь он стремился стоять на этой высшей, как считал, грани бытия и сохранять равновесие между земным и потусторонним миром, не переступая черту смерти (возможно, из боязни утратить хотя бы мечту о столь лестном божественном достоинстве). Бунин пытался сблизить буддизм и христианство, усматривая в том и другом проповедь смерти для мира сего. Так возникают мимолетные, едва намеченные, но очень важные сопоставления Христа и Будды, Богородицы и матери Будды – Майи. Мгновение смерти как перехода в вечность одновременно привлекало и пугало Бунина.
Однако гораздо чаще писателя манило очарование земной жизни с возможностью ее всевластного творческого духовного преображения. В его понимании наделенный магическим воображением творец способен прозревать суть того, что уже есть и было, а также предопределять, прописывать будущее. На уровне бытового общения Бунин любил признаваться в своей ясновидческой способности прозревать характер человека и всю его судьбу по неприметным для других подробностям внешности. Секретарь писателя А. В. Бахрах вспоминает его слова: «Каждого прохожего, едва на него взглянув, я вижу насквозь и могу написать о нем рассказ. От этого мне иногда становится даже как-то не по себе. Хотите, я вам расскажу биографию человека, который сидит рядом…». С некоторым сомнением секретарь поясняет: «Он был твердо уверен, что с первого взгляда способен раскусить любого встречного-поперечного и по каким-то смутным, едва уловимым, едва запоминающимся признакам нарисовать его психологический портрет» (А. В. Бахрах. «Бунин в халате») [14, с. 453].
Это давало возможность создания бесчисленного множества рассказов, повестей. Писатель признавался в неисчислимости подобных своих заготовок, из которых он смог и еще сможет осуществить лишь ничтожно малую часть.
Вместе с тем, Бунин всегда отмечал, что не предается совершенно беспочвенной и самочинной игре творческого воображения. В ответ на неотступную просьбу своего А. В. Бахраха написать рассказ о «филистимлянке» он, в конце концов, заметил: «Нет, не могу, честно хотел выполнить обещание, но ничего не выходит. Не знаю достаточно хорошо их быта и не могу влезть в шкуру такой женщины. А как же тогда писать?» («Бунин в халате») [14, с. 408]. Ему всегда был потребен какой-то материал внешнего уже существующего мира, в который он с наслаждением вживался, ясновидчески проникал в самую суть, перевоплощался в людей, богов (говорил от их имени!), в животных (например, в собаку в «Снах Чанга», 1916), в неодушевленные (лишь по видимости) предметы и явления природы… Несомненно, образцом творческого самосознания был для него мифический певец-оборотень Боян из столь любимого им «Слова о полку Игореве».
Одно из обыденных проявлений этой склонности к магическому творческому воображению отмечено А. В. Бахрахом: «<…> часто он говорил одному одно, а другому другое – о том же самом, смотря по настроению» («Бунин в халате») [14, с. 364].
С магической точки зрения, закоснение в образах уже созданных, в образах прошлого – в воспоминаниях – свидетельствует об опасном угасании жизненной силы. Воспоминания не совсем подвластны воле вспоминающего, поэтому с ними надо работать, творчески обрабатывать их, преображать, и Бунин пишет объемистый автобиографический роман «Жизнь Арсеньева» (1927–1930), призванный закрепить его власть над прошлым. А. В. Бахрах проницательно указал на ключевую мысль всей книги: «<…> читатели "Жизни Арсеньева" едва ли обратили должное внимание на как бы случайно вкрапленную фразу о том, что "воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже молитва о спасении от них"» (А. В. Бахрах. «Бунин в халате») [14, с. 363]. Ясно, что здесь имеются в виду именно неподвластные воле вспоминающего и неотступные образы прошлого.
Писатель любил подчеркивать, что его художественные творения обычно возникали из каких-то мимолетных воспоминаний о частных случайных событиях, порою никак не связанных с рождающимся повествованием, и неизменно добавлял что-то вроде: «Все остальное выдумал» («Происхождение моих рассказов», 1953) [13, с. 177].
В письме Б. Г. Пантелеймонову от 6 января 1948 года Бунин учит: «<…> сядьте спокойно и надолго за спокойное, честное, простое повествование, за большую повесть, положивши в основу ее какую-нибудь часть пережитого Вами в жизни, преобразивши ее вымыслом и всем прочим, что полагается!» [13, с. 182]. А о собственных произведениях он признается в письме М. А. Алданову от 23 августа 1947 года: <«…> клянусь, что 9/10 этого не с натуры, а из вымыслов: лежишь, напр., читаешь – и вдруг ни с того, ни с сего представишь себе что-нибудь, до дикости не связанное с тем, что читаешь и вообще со всем, что кругом. И опять, опять твержу (бесстыдно хвастаясь и, верно, уже будучи тем противен Вам): <…> 9/10 всего написанного мною на 99 процентов выдумано» [13, с. 140].
По мнению Бунина, в мире творческого воображения время упраздняется: прошлое, настоящее и будущее сливаются в мгновениях переживаемой вечности. Эту свою веру он утонченно передает в стихотворении «Луна и Нил. По берегу, к пещерам…» (1916):
И полдень был, и светел в знойном свете Был сад царя, и к югу, в блеске дня, Терялся Нил… И пять тысячелетий Прошли с тех пор… Прошли и для меня: Луна и ночь, но все на том же Ниле, И вновь царю сияет лунный Нил — И разве мы в тот полдень с ним не жили, И разве я тот полдень позабыл? [2, c. 165–166]Именно в таком состоянии самообожения и самообожания Бунин создал значительное количество произведений. Он вживается душою в разнообразные языческие (в основе пантеистические) вероисповедания, посещает страны, где они бытуют (или бытовали), читает выражающие их священные писания. Видимая пестрота язычества греет душу Бунина, но одновременно и преодолевается слиянием всевозможных вероисповеданий в едином пантеизме. Обычное для него дело: одновременно проникнуться древним хтоническим сознанием («О дикое исчадье древней тьмы») [1, с. 171] и увидеть, что поклонение отдельным богам – слабость человека, не позволяющая ему напрямую поклоняться самому себе: «Не Бог, не Бог нас создал. / Это мы Богов творили рабским сердцем» («Каменная баба», 1903–1906) [1, с. 171]. Это понимает грек-язычник Эсхил в одноименном стихотворении (1903–1906): «<…> с такою мощью духа, / Какая подобает лишь богам» [1, с. 171]. Это понимает поклонник индийского бога Агни, поглощаемый его огненной стихией на погребальном костре: «Бог взял меня и жертвою простер» («Агни», 1903–1906) [1, с. 172]. Иудейский Ягве внушает такое же самосознание, являясь то «столпом туманным», то огненным («Столп огненный», 1903–1906) [1, с. 172]. И видение Бога апостолом Иоанном в переложении «Сын человеческий. Апокалипсис. 1 глава» (1903–1906) [1, с. 173] – это видение божественной природы и божественного человека как венца ее.
В другом случае божественность природы является в виде духа титана Атланта, и поэт, общаясь с этим духом на краю земли, верует в него и сливается с ним, упоенный его «первозданной непостижимой силою» («Атлант», 1903–1906) [1, с. 175]. С тем же настроением Бунин вживается в египетскую магию («За гробом», 1906. С эпиграфом из «Книги мертвых»), в сознание Авраама, увиденного сквозь строки Корана («Авраам», 1903–1906), в сознание сатаны, увиденного сквозь ту же книгу («Сатана Богу», 1903–1906) – всё это неисчислимоликие проявления единого безликого божества – Жизни природной, приобщение к которой достигается через смерть. И каждый великий человек-творец в своем роде – «бог».
Среди языческих ликов божества Бунин особенно чтит Солнце. Он видит в нем самое очевидное и убедительное проявление божественной силы. Все языческие верования включают поклонение Солнцу и по сути так или иначе сводятся к нему. Так, об Эгейском море писатель заметил: «И над всем этим морем, видевшим на берегах своих все служения богу, всегда имевшие в основе своей служение только Солнцу, стоит как бы голубой дым: дым каждения ему» («Море богов», 1907) [3, с. 397].
Посетив долину Баальбек, писатель проникается самыми почтительными мыслями: «Баальбек есть таким образом "долина Ваала-Солнца". Слово Сирия – санскритское – значит опять-таки – солнце. Но мало того: эта долина, средоточие солнечных служений, связана еще с именем Рая, близость которого к Баальбеку была неоспорима в древности» («Тень птицы», 1907–1911) [3, с. 444]. В этой долине Бунин созерцает останки самого величественного храма Солнца, где соединялись основные вероисповедания древности: «<…> в святилищах его сливались в служение единому Солнцу служения Арамеи и Египта, Ассирии и Финикии, Греции и Рима. Баальбеку уступали не только все финикийские, но даже египетские храмы. Там лик Солнца дробился: там были боги, нисходившие до людских распрей, воплощавшиеся в царях и вождях; здесь был единый Бог» [3, с. 444].
Поклонение Солнцу заметно во множестве произведений Бунина. Показателен рассказ «Солнечный удар» (1925): это песнь любви как солнечному дару (у-дару). Этот дар животворящий и одновременно убивающий: через сильную любовь можно слиться с божеством, а значит прекратить или хотя бы сильно расстроить свое частное временное существование на земле. Это и понятно, ведь «Солнце – полубог, полудьявол» [3, с. 441]. Как всякое божество пантеизма, оно соединяет в себе начала жизни и смерти, добра и зла. Вот почему и подлинная глубокая любовь в мире Бунина смертоносна. Так, в «Митиной любви» (1924) герой, в конце концов, «поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил» [4, с. 431]. Герой «Солнечного удара», по видимости, легко отделался: «Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет» [4, с. 440]. Но в подсмысле рассказа ему грозит судьба Мити. В «Часовне» (1944) смысл истинной любви объясняется обобщенно: «Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя» [6, с. 201].
И Солнце, и любовь, и вообще вся пестрая яркость одушевленной природной жизни скрывают под своей прельстительной поверхностью пугающий мрак уничтожения. Бунин острым взором часто углубляется в суть явлений и обнаруживает в глубине языческого сознания единый культ смерти. Это проникновение делает его художественный мир внутренне безысходным и трагичным – при всем тщетном желании автора не вникать, оставаться на светлой поверхности бытия. Уже одно из самых ранних его стихотворений являет мир под знаком трагизма: «В полночь выхожу один из дома, / <…> Звездами осыпан черный сад <…> / Трауры полночные лежат» (1888) [1, с. 27]. Христианство в мире Бунина не преодолевает этот трагизм: богослужение в церкви (причем, не православное – такое его больше влечет) не разрешает смертную скорбь бытия: «Под орган душа тоскует…» (1889) [1, с. 28]. Природа порою видится под покровом погребальной плащаницы. Так он часто видит свое любимое море: как «лежащее Всемирной плащаницею млеко» (1916) [2, с. 98]. Или так:
И моря гробовая плащаница Была черна, недвижна и черна. [2,180]В божественном природном мире всё отдельное, возникающее из всеобщего, роковым образом предопределено пройти через смерть к слиянию с общим бытием. Об этом у Бунина в равной мере ведают единобожие, многобожие и объединяющее всебожие. Об этом говорят пророки: древнегреческий язычник Эсхил («Рок неотвратим, / Все в мире предначертано Судьбою») [1, с. 171], – и пророк Триединого Бога Иоанн, передающий Божий «могучий глас: „Я Альфа и Омега“» [1, с. 173], – и пророк единого Бога Магомет:
На всех на вас – на каждой багрянице, На каждом пыльном рубище раба — Есть амулет, подобный вещей птице, Есть тайный знак, и этот знак – Судьба. От древности, когда он путь свой начал, Он совершал его среди гробов: Он, проходя, свои следы означил Зловещей белизною черепов. («Птица», 1903–1906) [1, с. 182]Нашел ли Бунин какое-то утешение под конец жизни? Христианства он так и не принял, а языческая магия утешает слабо и лишь временами. Сохранились его дневниковые записи 1953 года, последнего года жизни – сухой остаток жизненного опыта: «Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь и чаще всего все об одном и том же в прошлом: об утерянном, пропущенном, счастливом, неоцененном, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, недальновидности и о неотмщенности за эти оскорбления, о том, что слишком многое, многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все, все поглотит могила» (в ночь с 27 на 28 января) [9, с. 414]. Здесь нет света Христовой Истины, нет желания прощать обиды и думать о вечной участи души. Такое состояние завершается бессильным сокрушением в последней из сохранившихся записей: «2 мая 53 г. Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое очень малое время меня не будет – и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвестны! И я приобщусь к Финикову, Роговскому, Шмелеву, Пантелеймонову!.. И я только тупо, умом стараюсь изумиться, устрашиться!» [9, с. 414].
Десятью годами ранее, в 1943 году, Бунин записал в дневнике: «23/10 окт. Суббота. Господи, сохрани и помилуй. День моего рождения» [9, с. 402]. К какому Богу он обращался?
Примечания
1 Здесь и далее в квадратных скобках после выдержек указываются том и страницы по изданию: Бунин И. А. Полное собрание сочинений: в 13 (16) т. (т. 14–16 дополнительные). М.: Воскресенье, 2006–2007.
Кроткий Куприн М. А. Дмитриева
Революция и эмиграция повлияли на творчество А. И. Куприна решительным образом. Из его текстов уходит свойственный ему прежде либеральный гуманизм, недоверие к экзистенциальной стороне бытия. Куприн отступил, наконец, от темы русского Молоха, пожирающего жизнь «мелюзги». Исследователи отмечают возрастание в зарубежной прозе Куприна элегичности, меланхолии, несвойственной ранее писателю бессюжетности, импрессионизма фразы. На обновление художественного настроения повлияла болезненная ностальгия, – автор так и не стал представителем «парижской богемы». «Есть, конечно, – отмечал Куприн, – писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение – они и там будут писать роман за романом. А мне все надо родное, всякое – хорошее, плохое, – только родное» (Цит. по: [1, с. 186]).
Из писателя критического реализма «русский Джек Лондон» в эмиграции превратился в кроткого и терпеливого созерцателя-бытовика. Предпосылки к этой душевной мягкости возникли ещё дома, в России. Рассказы Куприна духовной тематики – «Ночлег» (1895), «По-семейному» (1910), «Телеграфист» (1911), «Святая ложь» (1914) запоминаются искренней, чистой нотой. Еще задолго до отъезда Куприн начал разочаровываться в революционно-демократическом движении, у него всю жизнь было отвращение к толпе. Сразу после Октября он мягко заявил, что учение о диктатуре пролетариата «перешло в дело не вовремя» [2].
В эмиграцию Куприн вошел спонтанно, даже как бы нечаянно. Осенью 1919 года войска Юденича заняли Гатчину. Куприн был мобилизован в Белую Армию и вместе с отступающими войсками покинул Россию. В начале он попадает в Эстонию, затем – в Финляндию, а с 1920 года с женой и дочерью поселяется в Париже. В эмиграции он проведет семнадцать лет.
Трудно найти более миролюбивые и спокойные мемуары о потере родины и дома, нежели автобиографическая повесть «Купол Исаакия Далматского» (1928). Это достойный венок памяти героям добровольческих армий и отрядов, положивших бескорыстно и самоотверженно душу свою «за други своя», а также мирному населению, в лихолетье погибшему, и даже так называемым «мешочникам», в пору «пайковых жмыхов» поддерживающих организм народа [3, с. 285]. В фокусе повествователя быстро сменяющиеся картины «новой» жизни, высадка в Гатчине тяжелой артиллерии Красной Армии, голод и смерть людей, обыски и ожидание расстрелов. В этом трагическом бытии оставался один прочный ориентир – видимый вдали купол главного храма Петербурга – Исаакиев-ского собора.
Название повести, безусловно, символично. В нем надежда на будущее восстановление имперской России – под защитой старинных символов. Ведь «русскому человеку вовсе не мудрено прожить годы разбойником, а после внезапно раздать награбленное нищим и, поступив в монастырь, принять схиму» [3, с. 316]. В эту способность к духовному обновлению русского человека Куприн верил от всего сердца.
Один из запоминающихся эпизодов повести – веселый и тревожный сбор картофеля в собственном огороде с малолетней дочерью Ксенией под гром пушечной пальбы. «Души были ясны и покорны. Мы никогда в эти тяжелые годы и мертвые дни не пытались обогнать или пересилить судьбу» [3, с. 312]. Автор эпически бесстрастен, сообщая, что, все, нажитое им в России, безвозвратно погибло. Не проклинает он тех, кому это добро досталось, жаль только своей малой земли: «Еще в ту пору я понял тщету и малое значение вещей сравнительно с великой ценностью простого ржаного хлеба (…) Но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубничка Виктория и парниковые дыни-канталупы Жени Линд – вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь» [3, с. 288].
Осень 1919 года была горько поучительна для Куприна в плане восприятия человека как существа неустойчивого, нравственно нелогичного, отмеченного «метафизической прорехой». Ранее он винил тяжелые обстоятельства, слепую силу, «беспощадным и роковым образом» расправлявшуюся с индивидуумом, описывал «животный страх и инстинктивный ужас, который овладевал человеком в иные минуты» [4, т. 1, с. 444]. Теперь ему предстояло убедиться, что человек сам с удовольствием склоняется ко злу, даже без особой надобности, стоит только подвинуться туда стрелкам исторического маятника. Ослабли социальные колки, люди перестали «помнить себя», и каждый стал сам себе «богом», – мыслится в подтексте «гатчинской» повести.
«Попили нашей кровушки. Будя», – шипит какая-то старуха, проходя мимо забора купринского огорода. А вот солдаты в караулке разряжают ружье в окно, от скуки, куда Бог пошлет. Среди православного народа появились любители истязать, мучить, доводить до смерти. Все это дано видеть Куприну, для того, чтобы ослабить пафос, связанный с человеком. Вспоминает он, как с женой пригрели они одну из обитательниц сиротского приюта в Гатчине: жалкую «одичалую» девочку Зину, белым платочком и печальным выражением лица похожую на старушку. За Зиной вскоре явилась большевистская воспитательница, девица со следами былых страстей. Она грубо схватила девочку за руку и заорала на Куприных: «Буржуи! Кровопийцы! Сволочь! Заманивают малолетних с гнусными целями! Когда вас перестреляют, паршивых сукиных детей!» [3, с. 302]. Через некоторое время Куприн увидел, как та же надзирательница везла на тачке наскоро сколоченный детский гробик. Колесо тачки наскочило на камень, швы гробика разошлись. Куприн помог заколотить гроб. «Вбивая последний гвоздь, спросил:
– Это не Зина?
Она ответила, точно злая сучка брехнула:
– Нет, другая стерва. Та давно подохла.
– А эту как звать?
– А черт ее знает?…
Я только подумал про себя:
– Упокой, Господи, душу неизвестного младенца, имя его Ты сам знаешь» [3, с. 303].
Эти картины из «новой жизни» исподволь подготавливали отъезд Куприна. Перед эмиграцией за многое ему пришлось рассчитаться. Тень смерти, как говорится, лежала на нем, – ему намекнули, что он включен в расстрельные списки. Куприн был умным человеком, но не хитрым, не дипломатичным, с большевистской властью говорить не умел и не научился. Сотрудничавший в эсеровской печати, в газете «Молва», он напечатал статью «Михаил Александрович», в защиту великого князя Романова. О своем герое Куприн много был наслышан от француженки Барле, которая обучала иностранному языку его дочь Ксению, а также, ранее, детей великого князя. Статья «Михаил Александрович» выглядела настолько смело и нелепо для уцелевшей буржуазной печати, что редакторы «Молвы» – Муйжель и Василевский-Небуква сочли необходимым сопроводить ее припиской: «Помещая эту статью А. И. Куприна, редакция оставляет ее на ответственности высокоталантливого автора» [5]. В спокойной и умной статье Куприн подчеркивал «истинный прирожденный демократизм» «последнего» Романова. На допросе в ЧК по поводу своей статьи говорил об искреннем желании великого князя следовать «воле народа» и т. д. Удивительно, что этот разговор не стоил Куприну жизни. А бедному Михаилу Александровичу, как известно, статья не помогла, в ночь с 12 на 13 июня 1918 года он был тайно похищен и расстрелян под Пермью группой местных чекистов.
Начиная с вышеупомянутой статьи, в творчество Куприна внедряется царская тема. Так, в романе «Юнкера» образ царя станет неким солнечным центром повествования. Дочь Куприна, Ксения Александровна, утверждала, что отец создавал в «Юнкерах» сказку о прошлом, мифологизировал имперскую жизнь. Однако проникнуться уважением к царской власти с милующим, солнечным, лицом, Куприна заставила сама судьба: в 1918 году – лицезрел он – по контрасту с царем – В. И. Ленина. Попал к нему на прием по совету Горького, ради выпуска газеты для крестьян. «В первый и, вероятно, последний раз за всю жизнь я пошел к человеку с единственной целью – поглядеть на него», – признавался он [3, с. 383]. Эта словесная «моментальная фотография», сделанная писателем, несомненно, представляет интерес не только для историка, но и для психолога. Описание Куприна, безусловно, нарушает все «каноны» Ленинианы [6]. Тень Ильича явилась потом автору ночью, как демоническое наваждение. «С необычайной ясностью вызвал я его образ и испугался» [3, с. 388]. В очерке своем Куприн заявил, что вождь пролетариата будет пострашней Грозного и Робеспьера, ибо в нем он не заметил ни капризов, ни колебания характера, ни человеческих желаний. Это было странное сочетание зверя, камня и демона. «Лишь прошлым летом, в парижском Зоологическом саду, увидев золото-красные глаза обезьяны-лемура, я сказал себе удовлетворенно: «Вот, наконец-то, я нашел цвет ленинских глаз!» [3, с. 387]. «Разница оказывалась только в том, что у лемура зрачки большие, беспокойные, а у Ленина они – точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и из них точно выскакивают синие искры» [3, с. 387]. Куприну показалось даже, что он на минуту вжился в Ленина, почувствовал себя им: «Нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути. И при том – подумайте! – камень, в силу какого-то волшебства – мыслящий! Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая – уничтожаю» [3, с. 388].
Эмигрантские испытания прояснили для Куприна значение для человека православной веры. Яркие описания праздников, дорогих для русского сердца монастырей найдем мы в очерках «Родина», «Московская Пасха» (1925), «У Троице-Сергия» (1930), «Молитва Господня» (1928), «Красное крыльцо» (1924), «Пасхальные колокола» (1928). Что-то от прозы Шмелева есть в этом светлом описании радости. И у Куприна это получается также ярко, бойко, лирично, реалистично. Зелень распустившихся деревьев, и «обряд» пасхального поцелуя, и красота кондовой, прочной, древней Москвы – все это пережито Куприным с детства. Именно с образа московского мальчишки, в пасхальный колокол бьющего, начинается очерк «Московская Пасха». Любовь к Москве у Куприна была настолько сердечной и проникновенной, что даже в летний день он, ребенком, тайком от матери, иногда пробирался из дачных мест, из Химок или Петровского-Разумовского, пешком в Москву. Пасхальный сюжет Куприн изящно соединяет со своим любимым жанром – коротким рассказцем-анекдотом. Вот, например, одна юная москвичка стесняется христосоваться с юнкером Александровского училища, а маменька, сидя у окна, покачиваясь в плетеной качалке, советует не огорчать юнкера и поцеловать его ради Светлого дня («Московская Пасха»).
Документально ярок рассказ «У Троице-Сергия», в котором автор вспоминает, как отправлялись поклоняться Сергию Преподобному молитвенники из народа. Кто шел честно, по пятнадцати – двадцати верст в день, кто передвигался в колясках и экипажах, солидно нагруженных снедью, кто чинно ехал по железной дороге. Да, и в паломничестве имелось свое разделение на классы, и это с ироничной грустью замечает Куприн-реалист. На станции «шустрые кучера узнают мгновенно и безошибочно общественное положение всех людей, теснящихся на платформе со своими чемоданами, узлами, баулами и корзинами» [3, с. 242]. А кто-то из паломников и не добирается до монастыря, выбравшись на свободу из домашней кабалы да от злой жены.
Паломничества в Троицкую Лавру самому Куприну запомнились с малолетства. Ездили они туда с матерью. В сказочной фольклорной манере виделось Куприну, что вот появится «седой согбенный старичок», святой Сергий Радонежский. «Идет он, сгорбившись, в беленьких одеждах по лесу, а рядом с ним большущий медведь» [3, с. 240]. Думается мальчику про себя: «Вот я и упрям, и зол. И непослушен, и утянул чужую свинчатку, и матери грублю, но ты, дедушка, попроси кого-нибудь, чтобы меня там простили. А я больше никогда не буду» [3, с. 240]. Говоря о Лаврском посаде, Куприн вспоминал двух маменькиных знакомцев, хохотушку-барыню Елену Александровну, оказавшуюся человеком высокой духовной жизни, и монаха Леонида, имевшего несчастную слабость выпивать и заключенного за это в наказание монастырским начальством в келье. Куприну жаль своего героя, который и в святом месте не может или не хочет исправиться. «Оленушка, сестра моя! Разлучили нас с тобой»! – жалобно кричит монах Леонид из своей грустной кельи, обращаясь к сестре-паломнице [3, с. 250]. Описывая мать на богомолье, автор вспоминает, что она и ее подруга никогда не целовали рук у духовенства: «отпечаток вольнодумства шестидесятых годов» [3, с. 247].
Человек у Куприна вносит свое, несовершенное, в пространство святости. На фоне большого праздника или умилительного настроения писатель обязательно покажет грустную человеческую слабинку, психологическую несостоятельность, которая мешает герою преодолеть грех. Вот училищный духовник, протоиерей Михаил, призванный утихомирить взбунтовавшегося юнкера, обиженного на грубость офицера-воспитателя, просит молодого буяна не то что бы даже раскаяться или смириться (это было бы слишком серьезное и «нудное» в ту минуту требование), а просто пожалеть мамашу, которая много ради своего сына вынесла и нового удара не переживет. «Только я у него извинения не буду просить», – замечает юнкер Александров, имея в виду капитана Яблукинского, своего обидчика. «Да и не надо, дурачок, совсем не надо», – добродушно шепчет батюшка [4, т. 4, с. 15]. Горячего юнца ждет в карцере – в утешение- котлета на ужин. Священник сострадателен и мягок, а его подопечный нехотя откликается на его доброту, еще не поняв, что откликается на зов Бога.
В эмигрантском творчестве писатель преодолеет прежнюю тенденциозность в создании образа священнослужителя, которая имела место, например, в рассказе «Анафема» (1913). Не понимает дьякон Олимпий различия между человеческим талантом и верностью церковным заповедям, душой и духом; не видит разницы между художественным творчеством графа Толстого и его грубой антицерковной пропагандой. Да и выведен в рассказе скорее какой-то неустроенный, стихийный человек, который в церковь идет как в театр, чтобы прихвастнуть своим голосом. Голос Олимпия был «мощный и звериный», а храм «старинный и темный». Вообще, надо сказать, до эмиграции Куприн регулярно использовал эпитет «темный», характеризуя внутреннее убранство церкви. Может быть, указывал на старину храма, может быть, на след греха, тянущийся за человеком. Чин анафемствования, в котором участвует отец Олимпий, представлен в рассказе как карикатурный, бесчеловечный, безумный: «Потом пошли проклятия категорические: не приемлющим благодати искупления, отмещущим все таинства святые <…> и на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными, стонущими, ангельскими голосами: «Анафема» [4, т. 4, с. 355]. В конце рассказа отец Олимпий объявляет супруге-дьяконице о желании снять с себя чин, как будто уже давно на это решившись: «Верую истинно, по символу веры, во Христа и в апостольскую церковь. Но злобы не приемлю». Под «злобой» он понимает строгую духовную логику, с помощью которой Православие защищает себя от ересей. Уходит Олимпий из рассказа «необъятно огромный, черный(!) и величественный, как монумент [4, т. 4, с. 359]. Вот только куда уходит, не ясно.
Свободолюбие, обидчивость, требовательность и несговорчивость были свойственны с детства самому писателю. Вспомним, что Куприн всю юность проскитался по военным учреждениям и «наработал» там соответствующий ершистый характер. На его вспыльчивый, «народный» характер намекал Бунин, называя Куприна «дворянином «по матушке» [6], – отец писателя, в отличие от матери, татарской княжны, был мещанином.
Еще маленьким мальчиком Александр Иванович просил Бога сотворить Чудо, – подарить ему другую внешность, сделать белокурым и голубоглазым. И хотя мать объяснила ему всю безосновательность просьбы, будущий писатель пришел к обидному выводу: «Я убедился в том, что Он никогда и ни одной просьбы моей не исполняет. Тогда я обиделся на Него, и я считаю, что с этого времени моя детская наивная вера в Него пошатнулась, и я все дальше уходил по пути неверия» [6]. Однако его рассказы свидетельствуют о другом. Куприн верит в некое добро, которое по Божьему Помыслу существует в мире. Правда, в добро, которое происходит просто так, без молитвы, по страстному желанию человека.
Особую роль в рассказах писателя играет Чудо, т. е. неожиданный разворот жизненных обстоятельств в пользу страдающего героя. Это чудо диккенсовского толка, оно всегда «рукотворно». Проводником Чудесного становится в рассказах Куприна добрый человек, отзывчивость которого соседствует с каким-либо талантом или дарованием (вспомним дореволюционные рассказы «Чудесный доктор» (1897), «Тапер» (1900)). Преодолевает примитивные законы жизни великая любовь отца к больной дочери «Слон», (1907). В мире Куприна от выбора человека зависит очень многое, будет он просто крещеным потребителем, выпрашивающим для себя благ, или добрым ратником, совершающим дело любви.
От встречи с добрым человеком может измениться судьба сиротливого ребенка, стоит только ему убедиться, что добро существует не только в книжках. Этому посвящен рассказ «Храбрые беглецы» (1917). Воспитанник казенного сиротского пансиона Нельгин подбивает товарищей бежать в Америку (отсылка к «Мальчикам» А. П. Чехова); побег, конечно, не удается, товарищи Нельгина быстро раскисают, идут на попятную и возвращаются в пансион. Беглецов отводят в лазарет, рассаживают в разные комнаты. Судьбу Нельгина решает начальница пансиона и ее новая помощница, молодая княжна. «Конечно, надо было бы отдать его в арестантские роты. Поглядите, какое ужасное лицо. К нам присылают, Бог знает, каких детей!» – восклицает начальница, а новая воспитательница, дама «с милым толстым и добрым лицом» возражает ей вежливо, всматриваясь в лицо мальчика: «Широкий лоб, зоркие глаза. Вероятно, упрямая воля. Очень возможно, он и пропадет, но, может быть…» Оставшись наедине с ребенком, княжна обещает ему быть заступницей: «Ты, мальчик, ничего не бойся. Сейчас тебе пришлют бульона и красного вина. Ты, видно, давно ничего не ел и совсем бледный <…> А что экзамены ты выдержишь прекрасно, я в этом уверена <…> Ну, непоседа., живи как хочешь. Только не делай ничего нечестного. Прощай, бунтарь» [4, т. 3, с. 467]. Это была первая в жизни Нельгина ласка, воспринятая от чужого человека. Отныне для этой новой воспитательницы-княжны он готов был перевернуть мир. «Он прижал обе руки к середине груди и прошептал восторженно со слезами на глазах:
– Для тебя!.. Все!… [4, т. 3, с. 467]
Подчеркивая внимание к свободному выбору человека, к его личности, Куприн не раз обращался к контрапункту судьбы. В понятие судьбы он вкладывал некое старинное покорное отношение к жизни, выказывая тем самым уверенность, что от нас зависит не все. Ведь и в «русской народной религиозной стихии идея Божьей воли есть представление о всесильной личности Бога в качестве субъекта, определяющего судьбу человека» [7]. Во всяком случае, речь идет о более сложном понятии, чем просто фатализм. Так, рассказ «Судьба» (1923) есть притча о «счастливчике», который требует суда и испытания над собой.
О ходе судьбы говорится и в трогательном рассказе «Инна» (1928), в основу которого положен мелодраматический любовный анекдот. Молодой человек полюбил девушку, влюбленные ведут переписку, поверяют друг другу душевные тайны, однако юноше без всяких объяснений отказывают от дома. Он объясняет это своим слабым материальным положением, страдает, каждую Пасху ждет свою Инну на паперти Десятинной церкви в Киеве, любимой ее церкви, чтобы издали посмотреть на возлюбленную. Причина разлада раскрывается только через три года. Но Инна уже успела за это время полюбить другого человека. Видимо, так было нужно Судьбе (Богу). В пасхальную ночь у церкви она просит прощения у бывшего жениха и предлагает свою дружбу и поддержку. «Она ушла, – вспоминает потрясенный герой, – я долго еще сидел на Владимирской горке. Душа моя была чиста и спокойна. Всемогущая судьба прошла надо мною». Этот ход судьбы воспринимается героем как Промысл Божий, против которого у него нет ропота, в ответ возникает только благодарность и восхищение божественным сценарием жизни.
Конфликт интересов судьбы и человека проявляется и в таких рассказах, как «Винная бочка» (1914), «Гемма» (1932), «Удод» (1932), «Система» (1932) и т. д. Сюжет этих коротких новелл сводится к тому, что герой ищет и находит возможность изменить не устраивающие его обстоятельства, но вскоре убеждается, что поторопился. В рассказе «Система» Ювеналий Алексеевич Абэг применяет в игорных домах Лазурного берега блистательную систему беспроигрышных партий. Вскоре его «тайну» разоблачают «прозорливые инспектора» и «решают избавиться» от смелого игрока, запретив ему посещение казино под благовидным предлогом. В новелле обыгрывается пушкинский сюжет «Пиковой дамы». Графиня Вадбольская открывает Абэгу «систему» – с условием не гоняться за «ротшильдовскими» миллионами. Герой нарушает слово и теряет все.
В новелле «Гемма» полковник Лосев мечтает выгодно продать в Париже старинную печатку с птичкой, сделанную в Италии, да еще побывавшую в руках новгородских чудо-мастеров. Но узнает у специалиста – старообрядца, что чудесная гемма охраняет человека от роковой скоропостижной любви и оставляет вещицу у себя, отметая мысль «нажиться» на безделушке.
Куприн любил обращаться к легендам, связанным с теми или иными предметами быта и украшениями, оказывался во власти магии вещей. Эти таинственные детали – отголосок романтической поэтики в текстах писателя-реалиста. Куприн указывает на то, что на бытовых вещах и украшениях роковым образом отражается нравственный облик их владельцев.
Особенное место в творчестве Куприна занимает мотив страстного любовного переживания, с неизменным интересом исследует автор эротическую тематику, поведение русского человека на любовном рандеву. Писатель был навсегда очарован романтической тайной двоих, которую не соглашался ни развенчивать, ни «заземлять». Однако сложно представить Куприна автором «Темных аллей». В любовных сюжетах он близок Чехову, с его грустной иронией или комедийным фарсом. Так, в рассказе, «Груня» (1916) молодой писатель Гущин только было устраивает «пароходное знакомство» с молодой краснощекой белицей Груней, но получает резкую, как пощечина, отповедь от дядьки будущей монахини. Родственник монахини покрывает презрением «гугнявых писателей». В результате Гущин долго не может заснуть, ему «хотелось плакать от сознания того, что он такой бессильный, трусливый, скупой, гаденький, бездарный и глупый, и что нет у него ни воли, ни желаний» [4, т. 5, с. 371]. Если Куприн и упоминает о сближении героев, то это дается намеком, через туман философских рассуждений. В основном его интересуют высокие смыслы, единственная в жизни встреча. Многие его рассказы о любви написаны прямо в евангельском духе. Допущенный в юности любодейный грех навсегда очерняет душу, преследует героев (рассказ «Ночлег» (1895)).
Ориентируясь на высокую романтику, на единственную встречу, купринские персонажи часто остаются одинокими, – судьба ведет их от земной любви к небесной, от мыслей о человеке к мыслям о небе. Никогда не изобразит писатель счастливый финал любовной истории с венчанием и браком. Да, в его творчестве немало семейных персонажей, но они уже женатыми входят в повествование. Чуда Канны Галлилейской автор не решался или не хотел коснуться. Он был готов писать о чистом и святом одиночестве, о страстной мистерии чувства, о досадном раскаянии после необдуманного свидания, но не нашлось в его творчестве места для тихого и кроткого соединения двоих в брачном святом союзе. В любви Куприн оставался мистиком. Настоящая любовь переживается им как озарение, как тяга к вечному идеалу, лишь отчасти осуществленному в том или ином человеке.
Не без влияния эстетики серебряного века Куприн создает свою «Олесю» (1898), «Суламифь» (1908) и т. д. В «Гранатовом браслете» (1911) он проговаривает любовное кредо своих персонажей устами Якова Михайловича Аносова, генерала, деда княжны Верочки: «А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как смерть». Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость. <…> любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты, и компромиссы не должны ее касаться!» [4, т. 3, с. 253]. Выводя любовь из мира человеческого бытия, видя в любви только высокую трагедию, Куприн изначально приговаривает себя к описанию прекрасных, но одиноких людей.
Яркой любовной встрече русского инженера и молодой красавицы француженки посвящен роман А. И. Куприна «Колесо времени» (1930). Он построен как вольный монолог-воспоминание. Куприн избирает местом действия шумный, пестрый и красочный Марсель. С первых страниц романа герой признается, что «опустела душа, остался <…> один только телесный чехол. Живу по непреложному закону инерции. Есть дело, есть деньги. Здоров, по утрам читаю газеты и пью кофе, все в порядке. Вино вкушаю лишь при случае, в компании, хотя сама компания меня ничуть не веселит. Но душа отлетела. Созерцаю течение дней равнодушно, как давно знакомую фильму» [8].
«Мишика», как зовет своего русского друга мадам Мари Дюрон, эгоистично ведет себя на любовном рандеву, находясь во власти интеллигентского сплина. Инженер радуется любви как священному гимну, но действительность разочаровывает тонкого эстета. Его коробит приземленное ремесло француженки, которая зарабатывает на жизнь вышиванием, пусть даже искусным. «Самые слова "ручная работа" показались мне какими-то уж очень прозаичными, будничными, жалкими, годными для швей и портних. И весь роман как бы замутился, потускнел, сузился и обесцветился. <…> Не знаю сам, когда и как это случилось, но вскоре я почувствовал, что проклятая сила привычки уничтожила мое преклонение перед Марией и обесцветила мое обожание. Пафос и жест вообще недолговечны. Молодой и пламенный жрец сам не замечает, каким образом и когда обратился он в холодного скептического хитреца» [8].
После разлуки с любовницей герой будет корить себя за проявление «русского характера», за неровность чувства, холодную разумность, сменяющую страсть. Но брак с французской Прекрасной дамой не получился. Живого человека полюбить оказалось сложней, нежели отвлеченную идею о любви – восхождении к небесам. «Красива ли была она? Этого я не сумею сказать. Она была прекрасна. Если бы я был беллетристом – черт бы их всех побрал, – я бы смог ее описать: губы коралловые, зубы жемчужные, глаза как черные бриллианты или бархат, роскошное тело и так далее, и так далее, и так далее. <…> Хороша ли она была? И опять я скажу – не знаю. Знаю только, что о ней одной я мечтал с самых ранних, с самых мальчишеских дней. Мне показалось, что я знаю ее очень давно, лет двадцать, и как будто бы она была всегда моей женой или сестрой, и если я и любил других женщин, то лишь – в поисках за ней» [8]. Финал «Колеса времени» почти по-тургеневски традиционен, – утонченные воспоминания о любви заменяют саму любовь, самого человека.
Тема любовного соблазна и искушения воплотится в рассказе «Ночная фиалка» (1933), от несчастной и нечистой любви героя отмаливают, отчитывают. Мать героя с иконой в руках в праздник архангела Гавриила, отправляет свою прислугу, немолодую красавицу Агату, любовницу сына, вон из барской усадьбы, «для обзаведения собственным хозяйством». Но та, не взяв ничего из вещей, которые ей подарили за многолетнее служение, как будто рассеивается в предрассветной тьме. Рассказчик удивляется: «странно, никто в доме не замечал нашей наглой, отчаянной, неистовой влюбленности. Или, в самом деле, у дерзких любовников есть какие-то свои тайные духи – покровители? Но милая матушка моя чутким родительским инстинктом давно догадалась, что меня борет какая-то дьявольская сила» [4, т. 4, с. 403].
Итак, Куприн предлагает единственное средство от незаконной любви – разлуку и молитву, в духе православной традиции. Ностальгии и русскому одиночеству посвящен автобиографический роман «Жанета» («Принцесса четырех улиц», 1933). В центре повествования – судьба старого профессора Симонова, русского эмигранта в Париже. Молодость и зрелость его прошла на Родине, совпала с декадентством и серебряным веком. Культуру модерна профессор невзлюбил, защищал на собраниях светлое имя Пушкина, в результате разошелся с женой, изменившей ему с одним из новоявленных поэтов. В Париже Симонов живет скромно, в узкой и длинной чердачной мансарде [4, т. 4, с. 334]. Содержатели лавочек и бистро давно привыкли к странному добродушному посетителю с плохим французским произношением. В силу своей любви к обширному научному знанию и абсолютной нерасчетливости, Симонов не успел создать на родине научной школы, не успел написать хотя бы одной строго научной книги [4, т. 4, с. 337]. В романе обозначен конфликт цивилизаций – русской и западной. Профессорского легкомыслия – («тужур промне» – «все прогуливаетесь»? – М. Д.) французы никак не могут осмыслить: почему он позволяет себе праздно проводить часы, вовсе не приспособленные для прогулки?
«Профессор же снует по улицам без всяких почтенных причин и утром, и днем, и поздно ночью. Это удивительно. Все-таки ам-сляв» (славянская душа. – М. Д.) [4, т. 4, с. 336]. Последняя привязанность Симонова – полунищая девочка, дочь владелицы газетного киоска, Жанета, которую он спасает в Булонском лесу от грозы. Жанета напоминает ему собственных дочерей в младенчестве, но дружить с юной парижанкой затруднительно. Французы не понимают, с какой стати иностранец-старик дарит чужим детям игрушки, это у них совершенно не принято. В Париже подозревают порок там, где его нет. Когда судьба отнимет у Симонова его последнюю привязанность, – Жанета и ее мать переедут в Бретань, – в друзьях у профессора останется только полудикий кот Пятница. Если кот назван в романе Пятницей, то, по логике вещей, следует смысловая параллель – Симонов и Робинзон Крузо. В земле «чуждей», на острове «эмиграция», Симонову открываются высокие смыслы жизни, укрепляется вера в Провидение.
Куприн дает честный, психологически точный портрет русского интеллигента эмигрантской поры, не обладающего сильной волей, но обладающего совестью. Такие «неустроенные люди» Куприну были гораздо милей сытых и богатых «бывших» соотечественников. «Ему, вечному бессребренику, всегда находившемуся в долгах, все более претят толстосумы, владельцы огромных состояний. В памфлете «Холощеные души» (1921) он писал о таких эмигрантах: «Есть… эмигранты, бывшие владельцы огромных животов в прямом и переносном смысле. Купая свои застарелые родовые подагры и ожирелые холодные сердца в Спа, Висбадене и Контрессевиле, эти показные хапуги кощунственно и злорадно свидетельствуют: "Ага! Землю захватили? Пограбили? Пожгли? Вот вам преступление и наказание. Не сказано ли в евангелии: «Мне отмщение и Аз воздам?"» [5].
Доминантой эмигрантского творчества Куприна стал победный, солнечный, дающий надежду на русское будущее роман «Юнкера» (1928–1932), который вместе с повестью «На переломе» (1900) («Кадеты») и «Поединком» (1905) воспринимается как трилогия о военном поприще. Счастье молодых юнкеров, и прежде всего, главного героя, юнкера Александрова дано в формуле труда, учения, любви и вдохновения. Перед нами воспоминание об Александровском военном училище, последний рывок перед посвящением в офицеры. Роман начинается главой об училищном духовнике («Отец Михаил»), а завершается главой «Напутствие», в которой старый генерал Анчутин завещает военной молодежи главное нравственное правило службы, – «не сплетничать», так как нет более «отвратительного грибка» и «гнусной тли» в армии» [4, т. 4, с. 244]. Так обозначена духовная константа романа.
«Александровский» эпос Куприна есть повествование о «венчании» молодых русских офицеров с Россией. События в романе даны в динамике – от юношеских забав, первых поэтических опытов, первых балов, любовных увлечений – к служению Отечеству, от тяжелого каждодневного учения – к готовности к подвигу. Надо отметить, что Куприн, воспитанный военным училищем, как ни один наш писатель чувствовал и знал радость быть сильным, выносливым, умел передавать радость стремительного движения. Он сетовал, что «среди людей интеллигентных профессий» он редко встречал любителей спорта и физических упражнений. «А наши литераторы, на кого они похожи – редко встретишь среди них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство сутулы или кривобоки, при ходьбе вихляются всем туловищем, загребают ногами или волочат их-смотреть противно. И почти все они без исключения носят пенсне, которое часто сваливается с их носа» [б]. В «Юнкерах» эта физическая зрелость, статность, молодость, лихость поданы убедительно и эффектно.
Возвращение Куприна в Россию в 1937 году было в своем роде Чудом, в которое он верил всегда. Куприн вернулся домой чистый сердцем, никого не предав и никому не изменив. Дочь писателя, К. А. Куприна, рассказывала о последних днях отца перед отъездом в Россию: «Александр Иванович находился в величайшем волнении. Он ходил по комнате и беспрестанно твердил: "Еду, еду, еду". Сказал матери: "Лиза, если мы завтра не уедем, я пойду пешком по шпалам!.."».
В полной тайне, никем не провожаемые, родители уехали на Северный вокзал. И вот отец сидит в вагоне, в стареньком, поношенном пальтишке, по лицу текут слезы. «Куська, – говорит мне отец, – понимаешь, домой еду, – и улыбается невыразимо – счастливой улыбкой. – Домой!..» [9].
31 мая 1937 года Куприн был уже в Москве, на родине, с которой, как он выразился, у него была «не вражда, а семейная ссора». Приехав совершенно больным, он не написал в Советской России ни одной новой вещи. Да и трудно было ему объединить и согласовать открывшееся перед ним. Смотрел удивленно на красноармейцев, спортивную молодежь, детвору, развернувшееся в Москве строительство, любовался Ленинградом и своей дорогой Гатчиной. Пробовал понять и полюбить, найти душу в этой новой для него стране. «Конечно, очень легко упразднить душу и рассчитать за ненадобностью Бога, возглавив над миром интересы желудка и пола: гораздо становится удобнее и проще протянуть временное земное бытие, чем перейти потом навсегда в черное "ничто"» [10].
Куприн свою душу не упразднил.
Литература
1. Михайлов О. Н. Литература Русского Зарубежья. М.: Просвещение, 2001.
2. Дружников Ю. Куприн в дегте и патоке. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 24 февраля. 1989. . htm (дата обращения 15.11.2015 года).
3. Куприн. А. И. Повести и рассказы. Классика русской духовной прозы. М.: Никея, 2015.
4. Куприн А. И. Романы и рассказы. СПб.: Лисе, 1994. Собр соч. в б тт.
5. О. Михайлов. Куприн. Серия ЖЗЛ, Молодая гвардия, 1981. С. 48.
6. Александрова Т. Л. Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. Виноград. № 1 (21) 2008 г. . (дата обращения 06.10. 2015).
7. Высоцкий А. П. Автореферат диссертации на степень канд. философ, наук. «Концептуализация судьбы в русской культуре на примере философии религиозного экзистенциализма». Волгоград, 2007. -sudby-v-russkoi-kulture-na-primere-filosofii-religioznogo-ekzistentsiali#ixzz3qAM LdASo.
8. Куприн А. И. «Колесо времени»// (дата обращения 14.11.2015).
9. Лесс А. Рядом с Куприным // Дон, 1958, № 5. С. 181.
10. Куприн А. И. Русская душа // Купол святого Исаакия Далматского. М.: Дар, 2005. С. 456.
Духовный реализм в советской прозе 1930-х годов
«Социалистический» реализм Вячеслава Шишкова Р. Г. Круглов
Вячеслав Яковлевич Шишков (1873–1945 гг.) – один из самых популярных и читаемых прозаиков 1930–1970 гг., однако творчество его незаслуженно забыто в наши дни1. Очевидно, это связано с переоценкой идеологических приоритетов в перестроечное и постперестроечное время. Удостоенного ордена Ленина (1943 г.) и Сталинской премии 1-й степени (посмертно – 1946 г.) писателя традиционно принято было рассматривать в качестве социалистического реалиста. Вкупе с огромными тиражами и популярностью это способствовало впоследствии, как ни парадоксально, спаду читательского внимания.
В период «перестройки», по словам М. Ю. Елизарова, «буржуазная реставрация мешала с грязью весь советский проект целиком»2, это справедливо и по отношению к литературе. Активно насаждаемые в обществе антисоветские настроения предполагали, что факт травли со стороны власти является как бы необходимым подтверждением таланта того или иного автора, а одобрение идеологической цензурой должно восприниматься как клеймо бездарности или безнравственности. Как удачно выразился Захар Прилепин, «история литературы XX века в России зачастую воспринимается как история борьбы писателей с советской властью… чем больше в писателе антисоветского – тем больше его шансы попасть в литературные святцы»3. К сожалению, сфабрикованные либеральной пропагандой стереотипы до сих пор не изжиты в массовом сознании. С этим связана одна из наиболее актуальных задач современного литературоведения – непредвзятая оценка и реабилитация подцензурной, официальной советской литературы. Пересмотра требует, помимо прочего, вопрос об отношении принявших революцию писателей к духовной традиции и о реализации в их творчестве христианских тем и мотивов. В этом отношении несомненный интерес представляеттворчество В. Я. Шишкова.
Как писал профессор В. А. Редькин, монография которого «Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова» (1999) стала поворотным моментом в изучении наследия автора, «…издавали далеко не все, что он написал, часть его творчества критикой полностью отвергалась, а главное, извращалась суть, смысл его произведений, его мировидение, его чаяния и устремления»4. Подобно тому, как интерпретация в традиции работ В. Г. Белинского творчества Н. В. Гоголя сохранила его для советских читателей, но исказила его понимание5, так же не вполне адекватная оценка критиков позволила Шишкову стать известным автором, и одновременно обусловила однобокое прочтение его произведений. Самым существенным искажением художественного мира Шишкова в его соцреалистической интерпретации является приписываемая писателю антирелигиозность. Догматически соцреализм, как основной признанный на государственном уровне метод советской литературы и искусства, противопоставлял свои «эстетические принципы (принцип партийности, народность, исторический оптимизм, социалистический гуманизм, интернационализм) всем иным идейно-художественным принципам»6 (А. А. Ревякина). Однако принципы соцреализма неоднократно переосмыслялись; в наши дни является очевидным тот факт, что значительная часть произведений соцреализма обозначенным выше принципам не вполне соответствует или не ограничивается ими. Современные исследователи классифицируют творческий метод Шишкова как духовный реализм. Как справедливо отметила Е. В. Громова, «духовные основы творчества писателя… в настоящее время не вызывают сомнения»7. Однако несомненно и то, что в творчестве Шишкова реализуются унаследованные социалистическим реализмом у духовной традиции русской литературы принципы народности, исторического оптимизма, интернационализма. Творчество и судьба Шишкова наглядно иллюстрируют несостоятельность противопоставления русской революции и православной традиции. Человек поколения Бунина и Куприна, он сформировался как писатель уже после октября, восторженно принял революцию8 и был патриотом СССР, оставаясь при этом христианским художником.
Приписывание Шишкову антирелигиозных позиций в советской критике было обосновано, прежде всего, тем, что в творчестве писателя широко представлено критическое или сатирическое изображение священнослужителей, формального отношения к религии в народе или использования ее авторитета в корыстных целях. Однако анализ текстов показывает, что эти и другие поднимаемые писателем темы решаются в его произведениях в русле духовной традиций русской литературы, для которой характерно «осмысление христианской сущности человека и православной картины мира»9 (И. А. Есаулов). Писательское осуждение неизменно направлено не на христианство как таковое, а на его профанацию. Автор с болью свидетельствует нравственное падение своих героев, подчеркивает ответственность перед людьми (и Богом) каждого человека и в особенности – священника. Ярким примером этого является описание затерянного села Ербохомохля в романе «Угрюм-река» (1933): «…раз в год приедет благочинный, отпоет на погосте всех огулом, кого зарыли в землю, окрестит ребят, потом пойдут своим чередом веселые свадьбы; благочинный как следует дорвется до дарового угощенья и, весь опухший от вина, возвращается домой.
А в народе – горький смех, глумленье, истинные слезы: верующий стал невером, маловерный на все рукой махнул: "Обман, мошенство"»10.
Тема морального облика представителей церкви появилась уже в первом опубликованном рассказе писателя «Помолились» (1912), описывающем бесстыдное грабительство православными жителями Сибири простосердечных аборигенов. В рассказе для старика-тунгуса, лишившегося имущества и едва спасшего свою жизнь, долгожданный рождественский праздник оборачивается горькой безысходной обидой: «Поп-батька как-то толковал ему, что есть великий русский бог, светлый и милостивый. <…> Пожалуйста, давай защиту. Пускай подохнут все купцы, и чтобы все начальство околело! <…> закапали слезы. Взглянул на небо… Но там звезд не было»11. В этом рассказе, как и во многих других произведениях, христианские идеалы Шишкова кореллируют с революционными. Автор выступает против греховного уклада жизни и шире – общественного устройства, его симпатии всегда на стороне угнетенных. Необходимо отметить, что при этом Шишков не принимал «ту сторону революции, которая несла насилие, обнищание народа, разорение и ослабление России»12 (В. А. Редькин). Особенно ярко авторское неприятие революционного насилия обнаружилось в повести «Ватага» (1923).
Антиклерикальные мотивы в творчестве Шишкова всегда связаны с несоответствием конкретного человека с его греховными слабостями священническому сану. Условно можно выделить два типа таких мотивов: серьезные и комические. Первый тип – это изображение греховности священника (например, обжорство, пьянство и блуд попа в повести «Тайга»13, 1916) и ее страшных последствий. Такими последствиями является обман людей именем церкви (например, в первой книге исторического повествования «Емельян Пугачев» (1935–1939) в главе VI «Чудо, пир во время чумы» изображаются попы-мздо-имцы, наживающиеся на религиозных чувствах народа14), потеря веры паствой и материальные проявления зла. Так по прихоти попа становится калекой главный герой одноименного рассказа Ванька Хлюст, но гораздо страшнее увечий и нищеты для него становится сомнение в Боге и людях. «Ванька Хлюст» (1914) – одно из сильнейших произведений раннего Шишкова, показывающее глубины духовной жизни человека; по выражению А. Д. Ахматова, «этот драматический рассказ… отсылает… к лучшим лесковским повестям и рассказам о русских людях. О вере, человеческом падении, о терпении и совести»15. Антипоповские мотивы комического типа в творчестве Шишкова связаны с народной традицией сатирических сказок, в которых они повсеместно распространены. Как писала Е. В. Громова, «в произведениях Шишкова образы священников близки фольклорным»16, примеры этого видны в «Шутейных рассказах» 20-х гг., или в образе отца Ипата в романе «Угрюм-река». И смех над священниками, и их осуждение писателем неизменно связаны с изображением их человеческих слабостей, которые, зачастую, показываются с сочувствием (так в романе «Угрюм-река»
Шишков показывает переживания блестяще образованного отца Александра, неспособного объяснить основы христианского вероучения диким полуязычникам тунгусам17). Как справедливо отметила Е. В. Громова, «писатель вовсе не занимался антирелигиозной пропагандой, как считали многие советские исследователи. Обладая православным религиозно-философским мировосприятием, всегда верный высоким христианским идеалам, он изображал сатирически именно служителей церкви, а не Русскую православную церковь в целом и тем более идеи православия»18. Однако автор утверждает своими произведениями, что ни священнический сан, ни соблюдение обрядов или внешнее благочестие не определяют нравственную природу человека, не гарантируют от грехов – как мелких, так и самых страшных (яркий пример этого – образ богомольной «мучительницы и душегубицы» Салтычихи19 в историческом повествовании «Емельян Пугачев»).
Кроме изображения противоречия между внешним благочестием и сущностной нравственностью как священников, так и их паствы, поводом для приписывания Шишкову антирелигиозных позиций служила широко представленная в его творчестве тема бесчеловечного отношения русских христиан к представителям малых народов России. Наиболее ярко она раскрыта в знаменитой повести «Страшный кам» (1919), по сюжету которой алтайский шаман Чалбак замучен русскими как язычник – служитель дьявола. В зеркале социалистической критики проблематика повести связана с осуждением религии. В контексте сугубо критического отношения к истории СССР сюжет провоцирует читателя на размышления о том, «во что выльется нетерпимость диктатуры к инакомыслию, к религии»20. Однако прочтение этого и других произведений Шишкова в русле той или иной идеологии обречено на неточность, поскольку ориентировано на выявление «правильного» или «неправильного» взгляда писателя на ту или иную проблему. Художественное мировидение Шишкова, как и любого крупного мастера слова, несводимо к определенной идеологии.
Главный герой повести «Страшный кам» посредством многочисленных евангельских аллюзий (прежде всего, на Гефсиманский сад, крестный путь и распятие) символически связывается с Иисусом Христом. В тексте есть и прямое указание на отождествление шамана и Спасителя: перед арестом и пытками шамана старушонка Федосья упросила Богородицу «Хошь во снях, увидеть страдания Иисусика <…> И сказал ей однажды голос <…>: "Услышана молитва твоя. Наяву узришь"21». При этом на протяжении всего произведения Чалбак, будучи крещеным, физически и нравственно страдает от своего двоеверия: «две веры у меня, два бога. Бог русский да свой – Ульгень»22, за душу кама борются святитель Никола и калмыцкий дьявол – черный Эрлик: «"Бей в бубен, бей, Чалбак!" „Он не Чабак, он Павел“»23. Во время камлания в тело кама входит Сатана, однако целью этого обряда является бескорыстная помощь людям24. Подвластные Чалбаку демоны долго и страшно мстят убившим его мужикам – братьям Брюхановым, их семьям и всей деревне, о чем шаман, умирая, предупредил своих убийц. Вместо раскаяния в совершенном злодеянии, Брюхановы испытывают только страх; когда же последний выживший из них просит у мертвого кама прощения, то проклятие теряет силу. Все это говорит о сложности и неоднозначности трактовки темы и отношения самого писателя к вере.
Чалбак выступает как новый Иисус именно в силу глубины своего страдания, а также честности и простоты, с которыми он его принимает. Чудеса, которые творит Чалбак, имеют языческую природу, но мучительная внутренняя борьба и казнь без вины, которую он принимает, будучи в силах ее предотвратить, говорят о том, что он выбрал христианство. Более того, страдания и гибель становятся искупительной жертвой, благодаря которой герой находит желанный покой. Приведенный к попу для суда, Чалбак (хоть и предвидит заранее свою судьбу) говорит ему: «Я верю в бога. Я Павел, крещеный. Как брошу камлание? Шайтан душит меня <…> Сам не рад <…> Голова моя горит, сердце плачет. Пожалеть надо. <…> Да, я грешный… Верно. Сам грешу, сам отвечу богу. Не приказывай бить меня. Пусти в горы25». Проклятие преследует убийц-Брюхановых еще и потому, что они учинили самосуд, тогда как священник наказал только уничтожить магические принадлежности и ходить шаману в церковь на каждую службу. Важно, что фамилия братьев указывает на сквозной в творчестве Шишкова мотив брюха как символа греха, в творчестве писателя многократно упоминается противопоставление и борьба духа и брюха («С котомкой»26 (1922), «Алые сугробы»27 (1925), «Угрюм-река»28 и др.), это одна из основных его тем. Смысловые акценты до конца расставлены в финале повести, когда успокаивается душа Павла, и даже душа его помешавшейся от горя вдовы, над могилой которой шепчет отгоняющий демонов-курмесов кедр: «Прочь отсюда! Здесь нет калмычки Казанчи, здесь Катерина»29. Автор показывает, как один грех порождает другой (колдовство провоцирует убийство), но языческое проклятие заканчивается христианским прощением. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что шаман отождествляется с Христом, писатель вовсе не уравнивает христианство с язычеством. Мертвый шаман говорит своему убийце в финале повести: «Не Чалбак тебя… прощает, а Павел»30, а чалбаковы курмесы продолжают бить в бубен в ночных горах, охотясь за душой Казанчи.
Несмотря на то, что повесть «Страшный кам» реминисцирует историю распятия, наиболее полно и последовательно духовная проблематика в творчестве Шишкова раскрыта в романе «Угрюм-река». Как христианский художник, Шишков в наибольшей степени преуспел в изображении извечной невидимой брани – борьбы «духа и брюха» в душе человека. В уязвимой позиции в этой борьбе по Шишкову неизменно оказываются купцы, богачи, капиталисты – зачастую достаток в его произведениях является имманентным эгоизму, цинизму, потворству греховным слабостям. Для русской культуры в исторической перспективе, несомненно, характерно нестяжательное отношение к материальным благам и отрицательное – к корысти. В этом отношении советское искусство и творчество Шишкова в частности является продолжением исконной православной традиции.
Роман «Угрюм-река» не без оснований традиционно рассматривается как произведение о вырождении буржуазии и зарождении рабочего движения в Сибири. Однако если роман и можно отнести к социалистическому реализму, то с оговоркой, что это соцреализм с ярко выраженной христианской духовной основой. Революция приветствуется писателем как бескорыстное служение людям и правдоискательство, а богачи-мироеды осуждаются как закоренелые эгоисты, рабски служащие «брюху» и терпящие за это, прежде всего, духовную кару. Как писала Т. Н. Закаблукова, «автор акцентирует внимание на болезненном психическом состоянии главного героя, причиной которого становятся его необузданные страсти и гордыня, генетически заложенная греховность и власть "дела", основанного на эксплуатации и не одухотворенного высокой идеей. Это проявляется и в семейных отношениях, и в деловой сфере»31. Оговоренное болезненное психическое состояние Прохора – это материалистическое обоснование его духовного крушения; в романе неоднократно возникают прямые указания на то, что болезнь Прохора имеет духовную, а не психическую природу. Также, как и психическое расстройство, капиталистическое хищничество Прохора является только внешним выражением того, что он в силу естественного самолюбия, страха, а впоследствии и сознательного выбора («Мораль для дельца – слюнтяйство»32) идет путем греха; вся логика романного повествования подчинена этой идее. Выбор в пользу зла, совершаемый Прохором, это медленное духовное самоубийство, которое заканчивается страшным прозрением: «Кто я? Выродок из выродков? <…> Я верю только в смерть, только в смерть, как избавительницу от всякого безверия <…> Будь проклято чрево, родившее меня!»33.
Характерно, что поворотным моментом в судьбе Прохора становится сперва убийство любимой Анфисы (из страха перед тем, что она выдаст тайну награбленного богатства Громовых), а затем клеветническое обвинение на суде своего самого близкого друга Ибрагима с целью выгородить себя. Шишков описывает произошедшие в момент предательства в Прохоре перемены как победу темной стороны его души: «– Анфиса Петровна убита… Ибрагимом-Оглы. Над Прохором взмахнули два крыла – белое и черное. Он вскрикнул и упал. <…> Ослабевший от изнеможения, жары и духоты черкес борется с дремой, стараясь понять, что говорит его джигит Прохор. А подсудимый Прохор Громов, овладев собой, показывает теперь спокойным, твердым голосом, наивно дивясь своему спокойствию и твердости. Посторонняя темная сила, которая вошла в него, все крепче овладевала его волей, и сердце Прохора превратилось в лед»34. Именно насилие над своей нравственной природой во имя интересов «брюха» становится началом пути Прохора-капиталиста, тем выбором, после которого душа героя все более и более коснеет в грехе. Во многих других произведениях Шишкова также греху сопутствует страх за сохранность своей жизни или имущества, а бесстрашие, как и бескорыстность, является проявлением победы духа.
В романе «Угрюм-река», как писал Н. Н. Яновский, «широко представлен индивидуализм российского буржуа в самых различных его проявлениях – от мелкого дельца Ильи Сохатых до Прохора Громова, попытавшегося… философски обосновать свое право на аморальность и зашедшего в тупик»35. Отмеченная Н. Н. Яновским особенность Прохора Громова роднит его с героями-идеолога-ми Ф. М. Достоевского, неслучайно Прохор еще юношей восторгается «смелостью» Раскольникова36. В романе прослеживаются аллюзии на произведения Ф. М. Достоевского, указывающие на сознательную преемственность по отношению к его идеям. Особенно обращает на себя внимание в этом отношении сквозной мотив двойственности человеческой души, в которой, как говорит Анфиса (образ которой явно перекликается с Грушенькой из романа «Братья Карамазовы»), «Черт с ангелом… сочетались»37. Помешательство главного героя Прохора Громова, который не только в чужих, но и собственных глазах становится чертом («Я – дьявол!»38), является в художественном мировидении автора закономерным результатом попустительства греху. Все это говорит о том, что, как выразился В. А. Редькин, «творчество Вячеслава Яковлевича Шишкова никак не укладывается в прокрустово ложе социалистического реализма с его диалектико-материалистической мировоззренческой основой. У него особый реализм с элементами романтизма, глубоким психологизмом, религиозно-философским осмыслением бытия и патриотической направленностью»39.
В романе неверующий, но глубоко нравственный, жертвующий собой революционер Протасов противопоставляется не только Прохору, но и его жене – набожной капиталистке Нине Громовой, которая в решающий момент отказывается от деятельной любви к ближнему в пользу собственных интересов40. Бескорыстная борьба революционера за будущее счастье других людей для писателя оказывается как бы превращенной формой религиозного служения, однако формой изначально не совершенной. Устами другого героя, старца Назария, автор дает философскую оценку устремлениям Протасова: «И как же ты, неразумный, считаешь себя революционером, а в пути вечной правды не веришь? Ведь ты рад душу свою положить за други своя и положишь. Ведь ты же не для себя счастья ищешь, а для других. Нет, ты от света рожден, милый мой, а не от обезьяны»41. Вера Шишкова, отраженная в его произведениях, это, прежде всего, стремление к вечной правде, которая не может быть вполне постигнута человеком. Писатель положительно оценивает революцию как строительство справедливого будущего для народа, но не считает ее подлинным смыслом существования. Так в повести «Пейпус-озеро» (1923) «новоявленный пророк» денщик Сидоров говорит: «у каждого человека своя правденка, маленькая, плохонькая. А только чем проще человек, тем правда его крепче. Мужицкая правда крепкая»42. Принявший активное участие в революционных боях главный герой повести «Таежный волк» (1926) также размышляет о правде: «…Людская правда – круг на оси вертится, как колесо. Идет колесо – хватай! А через сто лет другую правду схватишь; а та правда, старая, уж кривдой будет. <…> А настоящая-то, не межеумочная, не сегодняшняя правда не на колесе скользящем, а на оси незыблемой. Только не дотянешься до той оси, ось ту солнце стережет: глазыньки от света лопнут»43. Словами своих героев «мудрецов» из народа Шишков высказывает собственные воззрения, согласно которым социалистические преобразования (человеческая правда) становятся внешним временным проявлением стремления человека к правде вечной. Это стремление неизменно реализуется в ожесточенной борьбе героев со злом в собственной душе.
В творчестве Шишкова широко раскрыта тема того, насколько сложно сохранить веру, быть нравственным человеком и, тем более, праведником. Возникновение такой проблематики, конечно, обусловлено не только традицией, но и личным опытом верующего человека; в юности будущий писатель встречался с отцом Иоанном Кронштадтским и после этого решил стать проповедником, о чем потом написал в автобиографии (1943): «…я занялся спасением народа. Из скудного своего жалованья я покупал беднякам сапоги… В свободное от работы время, глубокими вечерами и праздниками, я ходил в окрестных деревнях, собирал народ в избы и поучал от Евангелия. Бабы плакали. Слава моя крепла… Мое апостольство закончилось большим для меня конфузом: я влюбился в красивую молодую бабу, притом же замужнюю. Тут я понял, что праведником в девятнадцать лет быть очень трудно»44. Ироничность этого высказывания свидетельствует о личной скромности, а само «апостольство» – о глубине веры. Характерно, что писатель не скрывал своих религиозных взглядов, «нимало не опасаясь… „безбожной“ власти и атеистических настроений в обществе»45 (А. Д. Ахматов). Существуют многочисленные свидетельства того, что Шишков соблюдал религиозный календарь, регулярно посещал монастыри и храмы; как писал В. А. Редькин, «вера человека – явление очень личное, интимное, а иногда и тайное. Но некоторые факты свидетельствуют, что В. Я. Шишков пронес ее через всю жизнь»46. Однако в контексте истории культуры первостепенное значение имеет то, что писатель утверждал христианские ценности в своих произведениях. В определенном смысле литературная деятельность стала для Шишкова той формой проповедничества, которую он счел для себя возможной.
Христианские темы и мотивы повсеместно представлены в небольших и чрезвычайно насыщенных рассказах и повестях, показывающих правдоискательство и борьбу духа с грехом в жизни человека. Наиболее развернуто эта тема представлена в романе «Угрюм-река». В самом большом по объему произведении автора «Емельян Пугачев» она прослеживаются не столь явно; это связано, прежде всего, с жанровым своеобразием (историческое повествование) – специфика темы сподвигла автора отказаться от романного типа сюже-тосложения, позволяющего исследовать развитие человеческой души. В той или иной степени духовная проблематика представлена почти во всем корпусе его художественных текстов, не исключая «Шутейные рассказы», в которых как писала Е. В. Громова, «писатель остается верным своему творческому методу – духовному реализму»47 и драматургии, которая «несмотря на некоторые художественные несовершенства, представляет интерес как этап его творческой эволюции, отражение его духовной жизни»48. В письмах Шишкова отражена неоднозначность понимания веры, судьбы и возможности человека повлиять на нее49. Однако идейные искания писателя не противоречат духовной традиции русской литературы, несмотря на то, что в его творческом мировидении сочетается православная основа и социалистические убеждения. Творческий путь Шишкова в контексте эпохи примечателен тем, что писатель традиционных взглядов, далекий от модернистской философии, не бежав за рубеж, не работая «в стол», не предавая своих принципов служил Родине, утверждая в своих книгах христианские ценности.
Примечания
1 Громова Е. В. «Шутейные» рассказы и пьесы В. Я. Шишкова 1920-х годов (жанровый аспект). Автореф. дис…. канд. филол. наук. Тверь, 2011. 24 с. С. 1.
2 Литературная матрица: Советская Атлантида. СПб.: Лимбус Пресс, 2014. 528 с. С. 50–51.
3 Литературная матрица: Советская Атлантида. СПб.: Лимбус Пресс, 2014. 528 с. С. 278.
4 Редькин В. А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1999. 152 с. С. 3–4.
5 Машинский С. Н. В. Гоголь в оценке русской критики // Н. В. Гоголь в русской критике и воспоминаниях современников. М.: Детгиз, 1959. [Эл. ресурс] URL: (дата обращения: 4.09.2015).
6 Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. Николюкина А. Н. Институт научн. информации по общественным наукам РАН. М.: Интелвак, 2003. 800 с. Стб.1011
7 Громова Е. В. Чеховский интертекст в «шутейных рассказах» В. Я. Шишкова // Вестник Удмуртского университета, 2011. Вып. 4. С. 110–113. С. 111.
8 Еселев Н. X. Шишков. М. 1976 [Эл. ресурс] Электронная библиотека ЛитМир. URL: (дата обращения: 3.09.2015).
9 Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. Николюкина А. Н. Институт научн. информации по общественным наукам РАН. М.: Интелвак, 2003. 800 с. Стб. 254.
10 Шишков В. Я. Угрюм-река [Эл. ресурс] Электронная библиотека bookz.ru. URL: -va4eslav/ugrum-re_095.html (дата обращения: 24.08.2015).
11 Шишков В. Я. Повести и рассказы. Л.: Лениздат, 1982. 640 с. С. 167.
12 Редькин В. А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1999. 152 с. С. 4.
13 Шишков В. Я. Повести и рассказы. Л.: Лениздат, 1982. 640 с. С. 68.
14 Шишков В. Я. Емельян Пугачев. Историческое повествование. Книга первая. М.: Правда, 1985. 640 с. С. 519–538.
15 Литературная матрица: Советская Атлантида. СПб.: Лимбус Пресс, 2014. 528 с. С. 205
16 Громова Е. В. «Шутейные» рассказы и пьесы В. Я. Шишкова 1920-х годов (жанровый аспект). Автореф. дис…. канд. филол. наук. Тверь, 2011. 24 с. С. 17.
17 Шишков В. Я. Угрюм-река [Эл. ресурс] Электронная библиотека bookz.ru. URL: -va4eslav/ugrum-re_095.html (дата обращения: 24.08.2015).
18 Громова Е. В. «Шутейные» рассказы и пьесы В.Я. Шишкова 1920-х годов (жанровый аспект). Автореф. дис…. канд. филол. наук. Тверь, 2011. 24 с. С. 17.
19 Шишков В. Я. Емельян Пугачев. Историческое повествование. Книга первая. М.: Правда, 1985. 640 с. С. 347–359.
20 Черкасов-Георгиевский В. На стрежне Угрюм-реки: Жизнь и творчество писателя Вячеслава Шишкова: Роман. М., 1996. 448 с. С. 43.
21 Шишков В. Я. Повести и рассказы. Л.: Лениздат, 1982. 640 с С. 285.
26 Шишков В. Я. С котомкой [Эл. ресурс] Электронная библиотека РуЛит URL: http:// /s-kotomkoj-read-2806-16.html (дата обращения: 5.09.2015).
27 Шишков В. Я. Повести и рассказы. Л.: Лениздат, 1982. 640 с. С. 346.
28 Шишков В. Я. Угрюм-река [Эл. ресурс] Электронная библиотека bookz.ru. URL: -va4eslav/ugrum-re_095.html (дата обращения: 24.08.2015).
29 Шишков В. Я. Повести и рассказы. Л.: Лениздат, 1982. 640 с. С. 328.
30 Там же. С. 327.
31 Закаблукова Т. Н. Семейная хроника как сюжетно-типологическая основа романов «Чураевы» Г. Д. Гребенщикова и «Угрюм-река» В. Я. Шишкова. Автореф. дис…. канд. филол. наук. Красноярск, 2008. 24 с. С. 15.
32 Шишков В. Я. Угрюм-река [Эл. ресурс] Электронная библиотека bookz.ru. URL: -va4eslav/ugrum-re_095.html (дата обращения: 24.08.2015).
33 Там же.
34 Там же..
35 Яновский Н. Н. Вячеслав Шишков: очерк творчества. М.: Худож. лит., 1984. 272 с. С. 196.
36 Шишков В. Я. Угрюм-река [Эл. ресурс] Электронная библиотека bookz.ru. URL: -va4eslav/ugrum-re_095.html (дата обращения: 24.08.2015).
37 Там же..
38 Там же..
39. Редькин В. А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1999. 152 с. С. 10.
40 Шишков В. Я. Угрюм-река [Эл. ресурс] Электронная библиотека bookz.ru. URL: -va4eslav/ugrum-re_095.html (дата обращения: 24.08.2015).
41 Шишков В. Я. Угрюм-река [Эл. ресурс] Электронная библиотека bookz.ru. URL: -va4eslav/ugrum-re_095.html (дата обращения: 24.08.2015).
42 Шишков В. Я. Повести и рассказы. Л.: Лениздат, 1982. 640 с. С. 502.
43 Там же. С. 375.
44 АВТО Муравлев А. Символы жизни // Природа Сибири № 6 (222) 2014. с. 70.
45 Литературная матрица: Советская Атлантида. СПб.: Лимбус Пресс, 2014. 528 с. С. 202–203.
46 Редькин В. А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1999. 152 с. С. 32.
47 Громова Е. В. «Шутейные» рассказы и пьесы В. Я. Шишкова 1920-х. годов (жанровый аспект). Автореф. дис…. канд. филол. наук. Тверь, 2011. 18 с.
48 Там же. 24 с.
49 Редькин В. А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова. Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1999. 152 с. С. 28.
Философия человека в творчестве М. М. Пришвина Р. Г. Круглов
Наследие признанного классика русской литературы Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) до недавнего времени не было доступно читателям в полном объеме. Это связано с тем, что писатель опасался идеологической цензуры и, по выражению В. А. Фатеева, «отдал основные творческие силы „Дневникам“, которые из обычной творческой лаборатории стали превращаться в уникальную как по масштабам, так и по значению потаенную „летопись“ эпохи»1. Однако значение этого корпуса текстов состоит, главным образом, в том, что именно в нем Пришвин раскрывается как христианский мыслитель. Его «Дневники», как писала М. С. Штерн, «являются образцами не столько документальной, сколько лирико-философской прозы»2. В них наиболее явно, полно и последовательно изложены взгляды автора (которые он выражал и в предназначавшихся для печати произведениях). В записях, которые писатель вел с 1905 г. до 1954 г., отражено временами противоречивое развитие авторских идей, однако их объединяет целостное мировоззрение, основанное на православной традиции.
В «Дневниках» духовная проблематика представлена более явно, чем в большей части опубликованных при жизни автора произведений, однако и в «Дневниках» практически нет отвлеченных теологических размышлений – автор мыслит в тексте как художник. «Дневники» Пришвина – в полном смысле слова художественная литература. Творческий принцип этих записей точно характеризует фраза из книги «Глаза земли», собранной из дневниковых записей 1946–1950 гг.: «Мое "я" в дневнике должно быть таким же, как и в художественном произведении, т. е. глядеться в зеркало вечности, выступать всегда победителем текущего времени»3. И в личных записях, и в знаменитых прозаических миниатюрах, и в почти публицистических по интонации повестях революционного периода автор занимается не интеллектуальными построениями, а лирическим (то есть, прежде всего, личным) созерцанием и отображением мира и человека в мире. Наследие Пришвина как писателя-философа в последние годы активно изучается, совокупность произведений и исследований о них позволяет говорить о его единой динамической художественно-философской системе.
Уже в первых произведениях Пришвина – «В краю непуганых птиц» (1907) и «За волшебным колобком» (1908) – проявилась самобытность его прозы: простой и выпуклый язык, поэтическая точность наблюдений, притчевое или вспомогательное значение сюжета. И особенности поэтики, и сама натуралистическая тематика значительной части произведений Пришвина связаны с его изначально гармоничным мировидением – любовное внимание к предмету и вектор авторской рефлексии свидетельствуют о благодарном приятии мира.
Пришвин писал в дневнике от 28 апреля 1929 г.: «Верю, что существует мир, созданный богом, и человек его душа»4. Созерцание природы в произведениях Пришвина связано с осознанием творческой роли человека в мире, сущностного единства мира и человека. Согласно Г. П. Климовой, именно невозможность по цензурным соображениям говорить о религиозном подтексте творчества Пришвина привела к тому, что в освещении критики (и, как следствие, в восприятии читателей) он фигурировал, в основном, как бесконфликтный писатель-очеркист, знаток природы и путешественник5. Духовная проблематика (прежде всего, темы пути художника, поиска смысла, творчества как жизнестроительства) в той или иной степени характерна для творчества Пришвина на всех его этапах. В связи с этим философ С. П. Иваненков говорит о Пришвине как о представителе редкого исторического типа личности, для которого свойственно «полное сознание и развитие всех своих личностных задатков на протяжении всей жизни»6; в этом исследователь сравнивает Пришвина с А. Ф. Лосевым.
Совокупность произведений Пришвина создает своего рода автобиографический миф писателя: «как все крупные художники начала века, он наполнил культурный миф собственным содержанием. В основе этой модели – становление творческой личности (не исключительной, избранной, а всякого человека, открывающего в себе творческое начало)»7. Условно в автобиографическом мифе Пришвина можно выделить три крупных цикла.
Первый цикл становления личности отражен в раннем творчестве, в котором писатель отдает дань веяниям времени, ищет и находит собственный голос. Для этого периода творчества писателя характерен «интерес к народной вере»8. В начале века Пришвин посещал заседания Религиозно-философского общества и с 1909 г. числился его действительным членом. Как писал автор в очерке «Голубиная книга» (1924), «я очень интересовался русским человеком в отношении его к церкви, с одной стороны, и той природой религиозности, которую называют „язычеством“»9, Несомненным является и интерес Пришвина к сектантству. Эти увлечения отразились в специфике использования религиозных тем и мотивов в прозе этого периода; в ранних произведениях Пришвина присутствуют элементы поэтики серебряного века – как стилистические, так и содержательные («Иван-Осляничек», 1913; «Саморок», 1914). Своеобразным промежуточным итогом исканий и пережитых разочарований становится приход к спасению и утешению в общении с прекрасной и мудрой природой, чувствуя которую, художник находит путь к самому себе.
Второй цикл связан с революцией и гражданской войной. В молодости Пришвин увлекался марксизмом, положительно отнесся к февральской революции, но, как писал А. М. Подоксенов, «октябрьский переворот художник воспринял не просто как очередную русскую смуту, но и как библейский апокалипсис, как время распятия Христа»10. В этот период Пришвин активно занимается публицистикой, в его художественном творчестве и дневниковых записях также отражены мучительные размышления о значении и цели происходящего. В дневниках, а также в повести «Цвет и крест» (1918) автор выражает смещение всех привычных представлений и полную растерянность в «подзаборной молитве»: «Господи, помоги все понять, ничего не забыть и ничего не простить!»11. Писатель, и прежде не склонный к идеализации народа, констатирует страшные перемены в людях: «…раздумываю о двух „мы“: мы – товарищи и мы – православные. И о том, как это странно и неестественно сочеталось в одно: мы, товарищи, православные. А в итоге из русского человека, природу которого во всем мире считали за мягкую, женственную, вышла Горилла»12 («Цвет и крест»). Писатель утверждается в идее необходимости защиты бытия природы, народа, личности. Творческая деятельность в этот период мыслится Пришвиным прежде всего как преодоление разрушительных стихий, стремление сохранить хрупкую гармонию: «природа остается могучей только внутри нас, в борьбе с личными целями, но то, что мы обыкновенно называем природой – леса, озера, реки, все это слабо, как ребенок, и умоляет доброго человека о защите от человека-зве-ря»13 («Мирская чаша», 1919).
Зачастую революция в произведениях Пришвина показана как противостояние между утратившими человеческий облик мужиками и не менее страшными большевиками, которые одни своими жесткими мерами способны обуздать разгульную вольницу. Автобиографический герой Пришвина старается примириться с революцией как с тяжелым, но необходимым для народа очистительным испытанием: «Пришел ко мне простой человек и такими словами сказал о нашей беде: – Цари наши не думали о человеке, их царское дело было собирать вокруг себя как можно больше земли и морей. Задавила земля человека, стряхнулся он, и царь пал. Тогда все бросились разбирать по карманам рассыпанное царство, а <про> то, из-за чего свергли царя, – про человека – забыли. Так и осталось славное русское царство и без царя, и без земли, и без человека. <…> Смирение русского народа достигло последнего предела, оно перешло по ту сторону черты, за которой нет креста: народ отверг и крест свой, и цвет свой и присягнул во тьму. – Что же нам делать? – спросил я. Он ответил: – Нужно собирать человека, как землю собирали цари. На это я возразил: – Теперь все говорят про человека. – Про французского человека, – перебил меня гость, – я же говорю про человека, пример которого дал нам Господь Иисус Христос»14 («Цвет и крест», вторая редакция, 1918). Осознание и принятие революции Пришвиным происходит постепенно и не полностью – напуганный ее разрушительной силой, писатель относится к ней с тревогой и недоверием. В этот период утверждается характерная пришвинская мысль о том, что жизнь осознающей себя и мир личности это, во многом, тайная жизнь: «…я, может быть, больше многих знаю и чувствую конец на кресте, но крест – моя тайна, моя ночь, для других я виден, как день, как цветы»15 («Дневники», 1918–1919). Опорой, помогающей сохранять твердость духа и видеть в мире гармоничное начало, для Пришвина остаются краеведение, изучение народа и общение с природой.
Третий цикл автобиографического мифа Пришвина характеризуется стремлением к личному спасению через приобщение к общей правде. Как писал автор в 1946 г., «Из клочков моих признаний в дневнике, в конце концов, должна выйти книга ''Дорога к другу" <…> Весь путь мой был из одиночества в люди. Мелькает мысль, чтобы бросить все лишнее… и заниматься только тем, чтобы свести концы с концами, т. е. написать книгу о себе со своими всеми дневниками»16 («Глаза земли»). Для Пришвина «свести концы с концами» значит обрести себя в единении с миром. Если итогом второго цикла является охранительная позиция (молчание и попытки сохранить хрупкую естественную гармонию), то третий цикл знаменуется возвращением к людям. Как обобщила А. Ю. Павлова, «в дневниковых записях 20-30-х годов три темы оказываются на переднем плане: революция, религия, концепция личности (человек в реализации своих сущностных качеств)»17. Пришвин пытается примирить два начала – «христианское» и «советское» (социалистическое) в обретении себя и служении людям, при этом христианское начало для писателя приоритетно (неслучайно Пришвин на переписи населения в 1937 г. назвал себя православным христианином18). Однако необходимо отметить, что, по выражению А. А. Дырдина, «Пришвин принимает православное учение далеко не полностью, не исключительно в церковном обряде и культе, а в качестве морального закона и материала для изучения человека в его многообразных связях с действительностью»19. «Сближаясь с христианством, Пришвин стремится остаться советским писателем, который синтезирует даже не конкретность идей, а интуиции, позволяющие двигаться к позитивному решению проблемы человека»20. Поздний период творчества Пришвина характеризуется стремлением к примирению различных начал, осознанию мира в его целостности. Необходимо отметить, что при всей противоречивой сложности мироощущения Пришвина, для него характерен онтологический оптимизм, источниками которого является внутренний опыт личностного роста, а также ощущение вечной мировой гармонии, приобщение к ритмам жизни природы.
Творчеству Пришвина чужд проповеднический пафос, однако автобиографический миф Пришвина, несомненно, имеет большую дидактическую ценность (неслучайно творчество Пришвина давно входит в школьную учебную программу по русскому языку и литературе). По выражению Г. П. Климовой, Пришвин «провозглашает спасение себя и мира в природе. Все его творчество наполнено спасительным призывом не просто уйти в природу, но и желанием сохранить природу, спасти человека. Пришвин хочет указать нам путь, на котором жизнь становится творчеством, не зависящим от трудных, невероятных обстоятельств.
Человек как бы находит тот образ, по которому его создал Бог, и в своем творчестве становится ему подобным. Но одиночество и величие всемогущего Бога должны учить человека лишь терпению и стремлению быть со всеми по своей воле (соборности)»21. В художественном мире Пришвина главную роль играет тема становления творческой личности, творчество как жизнестроительство.
Пришвинское восприятие и переживание христианства проявляется, помимо прочего, в своеобразии пришвинской концепции таланта. В лирико-философском комментарии к роману «Кащеева цепь» (1927) «Журавлиная родина» (1930) Пришвин писал о литературной ситуации начала XX века: «Трагедия автора сверхчеловека общеизвестна… Вслед за первым поэтом, посмевшим объявить себя богом, появилось бесчисленное множество богов. <…> Тогда началась новая форма морально-эстетической болезни: богоискательство. Какой-то наивный, внушенный мне с детства страх божий не дал мне возможности проделать вполне серьезно опыты самообожествления и последующего богоискательства, но, конечно, все было так любопытно, что и я отдавал дань своему времени <…> Подражая богам, я тоже стал писать о себе, но в совершенно обратном направлении с декадентами: поскольку в этом "Я" было общего всему миру»22. Упомянутый «наивный страх божий» впоследствии определил уникальность антимодернистских, по сути, взглядов и творческого метода Пришвина в контексте современной ему литературы. Писатель ориентировался на сближение и приобщение художника к изображаемой реальности. По Пришвину, скромность является как бы критерием художественной точности, поскольку позволяет наиболее адекватно судить о собственной роли художника в мире. В книге «Глаза земли» дана исчерпывающая формулировка отношения Пришвина к художественному «Я»: «О себе я говорю не для себя: я по себе других людей узнаю и природу, и если ставлю "я", то это не есть мое "я" бытовое, а".я" производственное, не менее рознящееся от моего индивидуального "я", чем если бы я сказал «мы»»23. Более того, с точки зрения писателя скромность, даже определенное самозабвение являются неисключаемыми атрибутами таланта. В рассказе «Мои тетрадки» (1940) Пришвин в свойственной ему манере аналогий с природой писал: «на высокой елке, на самом верхнем ее пальчике, сидит маленький птичик. Я догадался, что птичик этот поет, потому что клювик его маленький то откроется, то закроется. Но такой он маленький, птичик, что песенка его до земли не доходит и остается вся там, наверху. Птичик этот крохотный пел, чтобы славить зарю, но не для того он пел, чтобы песенка славила птичку. Так я тогда в этом птичике и нашел ответ себе на вопрос: что такое талант. Это, по-моему, есть способность делать больше, чем нужно только себе: это способность славить зарю, но не самому славиться. Вот еще что я думаю о таланте: эта птичка поет не только у поэтов, музыкантов и всякого рода артистов; в каждом деле движение к лучшему непременно совершается под песенку такой птички»24.
В исследовательской литературе существуют различные оценки религиозности Пришвина как христианского писателя и как писателя, приближающегося к христианству. Эта разница формулировок обусловлена не только разными взглядами на творчество писателя, но и разными подходами к тому, что именно делает писателя христианином. Согласно А. Ю. Павловой, «ни художественные тексты, ни Дневник не позволяют говорить о четкой христианской позиции художника, но очевиден интерес к христианской проблеме <…> Пришвинская религиозность – в литературности, в философии творчества, которая определяет становление человека в "соборных" масштабах без утраты личностной доминанты»25. Действительно, материал произведений Пришвина говорит о неоднозначном понимании веры – одни и те же высказывания могут быть интерпретированы как проявление веры или самобытной философии. Сам писатель скептически оценивал степень своей религиозности: «Какой же я православный, если лет 50 не говел! <…> православие – это моя связь со всей моей родиной, и в нем таится для моего нравственного сознания готовность идти к желаемому счастью через страдание и, если понадобится, через смерть»26.
Несомненно то, что Пришвин был православным по воспитанию человеком, и большая часть его произведений продолжает духовную традицию русской литературы. Специфическая пришвинская концепция творческой личности является, по сути, своеобразным продолжением христианского гуманизма: ценность славящего мировую гармонию, не самодостаточного скромного созидателя – это авторское уточнение к тому, что человек представляет высшую ценность как образ и подобие Божье. В мировидении Пришвина нашли свое отражение, прежде всего, наиболее созидательные, оптимистические, синтезирующие стороны христианской духовности.
Примечания
1 Пришвин М. М. Цвет и крест / Сост., вступ. статья, подготовка текста и коммент. В. А. Фатеева. СПб.: Росток, 2004. 608 с. С. 7.
2 Штерн М. С. Основы автобиографического мифа М. М. Пришвина. // Вестник Омского университета. 2012, № 2. С. 354.
3 Пришвин М. М. Глаза земли [Эл. ресурс] Электронная библиотека РуЛит. URL: -zennli-korabelnaya-chashcha-read-225679-l.htnnl (дата обращения: 11.09.2015).
4 Пришвин М. М. Дневники 1928–1929 гг. [Эл. ресурс] Электронная библиотека Royallib.ru URL: (дата обращения: 10.09.2015).
5 Климова Г. П. Творчество И. А. Бунина и М. М. Пришвина в контексте христианской культуры. Автореф. дис…. док. филол. наук. М., 1993. 53 с.
6 Иваненков С. П. М. М. Пришвин: Бремя мира и личности [Эл. ресурс] Теоретический журнал Credo New URL: / (дата обращения 11.09.2015).
7 Штерн М. С. Основы автобиографического мифа М. М. Пришвина. // Вестник Омского университета. 2012, № 2. С. 355.
8 Пришвин М. М. Цвет и крест / Сост., вступ. статья, подготовка текста и коммент. В. А. Фатеева. СПб.: Росток, 2004. 608 с. С. 9.
9 Там же. С. 553.
10 Подоксенов А. М. Библейские мотивы в повести «Мирская чаша» и дневнике М. М. Пришвина. [Эл. ресурс] Журнальный клуб Интелрос «Credo New» № 2, 2014. URL: -2014/24578-bibleyskie-motivy-v-povesti-mirskaya-chasha-i-dnevnike-mm-prishvina.html (дата обращения: 8.09.2015).
11 Пришвин М. М. Цвет и крест / Сост., вступ. статья, подготовка текста и коммент. В. А. Фатеева. СПб.: Росток, 2004. 608 с. С. 35.
12 Там же. С. 49–50.
13 Там же. С. 359.
14 Там же. С. 50–51.
15 Пришвин М. М. Дневники 1918–1919 гг. [Эл. ресурс] URL: . php?book=11931&page=156 (дата обращения: 11.09.2015).
16 Пришвин М. М. Глаза земли [Эл. ресурс] Электронная библиотека РуЛит. URL: -zemli-korabelnaya-chashcha-read-225679-l.html (дата обращения: 11.09.2015).
17 Павлова А. Ю. Художественная концепция личности и нравственно-философские контексты ее становления в прозе М. М. Пришвина советского периода. Автореф. дис… канд. филол. наук. Краснодар, 2011. 23 с. С. 18.
18 Варламов А. Н. Пришвин. М.: Молодая гвардия, 2008. 548 с. [Эл. ресурс] Электронная библиотека ЛитМир URL: (дата обращения 11.09.2015).
19 Дырдин А. А. Духовное и эстетическое в русской философской прозе XX века: А. Платонов, М. Пришвин, Л. Леонов. Ульяновск, 2004. С. 198.
20 Павлова А. Ю. Художественная концепция личности и нравственно-философские контексты ее становления в прозе М. М. Пришвина советского периода. Автореф. дис…. канд. филол. наук. Краснодар, 2011. 23 с. С. 19.
21 Климова Г. П. Творчество И. А. Бунина и М. М. Пришвина в контексте христианской культуры. Автореф. дис…. док. филол. наук. М., 1993. 53 с. С. 7.
22 Пришвин М. М. Журавлиная родина [Эл. ресурс] URL: -info.ru/ prishvin/proza/zhuravlinaya-rodina/vi-klad.htm (дата обращения: 10.09.2015).
23 Пришвин М. М. Глаза земли [Эл. ресурс] Электронная библиотека РуЛит. URL: -zemli-korabelnaya-chashcha-read-225679-l.html (дата обращения: 11.09.2015).
24 Пришвин М. М. Дневники [Эл. ресурс] URL: http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/ authors/prishvin/pri-1914.htm (дата обращения: 11.09.2015).
25 Павлова А. Ю. Художественная концепция личности и нравственно-философские контексты ее становления в прозе М. М. Пришвина советского периода. Автореф. дис…. канд. филол. наук. Краснодар, 2011. 23 с. С. 19.
26 Варламов А. Н. Пришвин. М.: Молодая гвардия, 2008. 548 с. [Эл. ресурс] Электронная библиотека ЛитМир URL: (дата обращения 11.09.2015).
«Детское богословие» в прозе и поэзии Сергея Дурылина Т. Н. Резвых
Корпус художественных произведений священника, писателя, богослова, искусствоведа, фольклориста Сергея Николаевича Дурылина (1886–1954), не слишком велик. Большая часть его прозы уместилась в один том1. Это цикл «Рассказы Сергея Раевского» (1913–1923), рассказы «Сладость ангелов» (1922), «Четвертый волхв» (1923), «Роб-Рой» (1924), «Сирень» (1925), повести «Хивинка», «Сударь-кот» (1924), хроники «Колокола» (1928), «Чертог памяти моей» (1928). Дурылин – автор ряда стихотворных циклов «Бесы разны» (1912–1924), «Венец лета» (1910–1924)2 «Христос Воскресе» (1930) и др. К этой потаенной прозе и поэзии близко примыкают записки мемуарно-дневникового характера «В своем углу» (1924–1942), воспоминания «В родном углу» (1939–1954), немногочисленные дошедшие до нас дневники «Олонецкие записки»3, «Абрамцевские записки» (1917)4, «Оптинский дневник» (1918)5, «Троицкие записки» (1918–1919)6, фрагменты дневника 1921–1922 гг.7
В своем художественном творчестве Дурылин решал ту же задачу, что и М. А. Новоселов в религиозно-философских работах: вспомнить «забытый путь опытного Богопознания». Но если Новоселов стремился вернуться к святоотеческой традиции, то Дурылин предлагал пристальнее всмотреться в русскую культуру. Как и многие другие неравнодушные к проблемам Церкви современники, он пришел к выводу о необходимости кардинального изменения способа апологетики и даже самого языка христианского просвещения. С точки зрения Дурылина, светская литература, философия и искусство внесли гораздо больший вклад в христианскую проповедь, чем все «Православные Собеседники» и «Душеполезные Чтения» вместе взятые. «Рассказцам» «Благонравова, Све-товидова, Просвирнина, Крещенского» «жить >2 минуты, а Пушкину – века»8. «"Душеполезному Собеседнику" всегда только мешало существование Канта, Шеллинга, Фихте и мешало бы существование Ничше, Бергсона и всякого мыслителя, камнем падающего в „душеполезную“ тишь да гладь (приравниваемую обычно к „Божьей благодати“, – без всякого, впрочем, на то основания…»9. Нравоучительная семинарская гомилетика своей критикой светской культуры («я всегда думал, что „семинаризм“ сыграл в русской культуре (и литературе) роль более печальную, чем „николаевские жандармы“»10) наносила вред русскому православию и фактически способствовала распространению атеизма. С точки зрения Дурылина, язык «Современника», «Русского Слова», «Отечественных записок», язык Белинского, Чернышевского, Михайловского и Скабичевского ничем не отличался от языка «рассказцов Елеонских и Христорождественских»11 и был «догматическим богословием Макария, вывернутым наоборот»12. И «Современник», и «Душеполезное чтение» одинаково были журналами позитивистскими, т. е. давали эмпирическую науку вместо богословия. Иронизируя, Дурылин писал, что и официальное богословие, и шестидесятническая критика издавали одни журнал: «Умозрительное Богатство»13.
В своем творчестве писатель размышлял о сущности христианской культуры. Идея эта была одной из ключевых в серебряном веке, но если большинство его деятелей писали о задаче ее создания в будущем (такова, скажем, позиция участников сборника «Вехи» и русских символистов), то Дурылин, находившийся с середины 1910-х гг. под влиянием леонтьевского пессимизма14, уже не сомневался, что историческое время ее прошло. Носителями христианской культуры для него была, с одной стороны, русская литература XVIII–XIX вв., а, с другой, культура русского народа. Они тесно связаны друг с другом, первая невозможна без второй. Таким образом, язык христианской проповеди – это язык лучших образцов русской литературы. «Луг» же народной культуры питается теми же корнями, что и «цветник» литературы т. е., христианством. Описанный во многих произведениях сад, переходящий в лес, чащу, сочетание «роз Афродиты с бедными, смиренными васильками»15, отсылает у Дурылина к культуре, уходящей в устное народное творчество (обряд, историческая песня, духовный стих, былина, колыбельная), в свое время успешно выполнявшее задачу христианского просвещения. Подобно саду, где посыпанные песком дорожки теряются в лесной чаще, христианская культура есть единая «кошница» для «роз Афродиты, галилейских лилий полевых и русских простых васильков»16. Это означает, что православие не вмещается в границы церковных стен, как это видно в русской иконе, сохранившей в себе целый ряд апокрифических сюжетов17; в языческих мотивах в быту русского крестьянина. Например, Дурылин принимает как должное соединение церковного почитания Ильи пророка, взнесшегося на небо на огненной колеснице, с празднованием Ильинской пятницы, связанным с «громовыми ключами», т. е. с языческим почитанием стихий воды и огня18. «В свете галилейской правды так нетруден переход от роз к василькам, и так по-новому дороги те и другие. Пышный и яркий цветник по-прежнему насажден и цветет, но благоухает и тихий, в покое и без помощи возросший луг»19. Понимая, что в полной мере это соединение осуществил только Пушкин, Дурылин, тем не менее, стремился повторить этот пушкинский синтез в своем творчестве. Так, приступая к рассказу о трех бесах, Дурылин писал, что эта история «записана здесь так, как рассказала ее няня, но не ее языком: наш язык немощнее, худосочнее, бедней ее языка, и нечего пытаться примениться к его меткости, прихватить его сил, набраться его красочной гущины, этого словесного здоровья, тайна которого нами утеряна навсегда и безвозвратно. Остается нам только не лукавить перед прошлым и быть простыми писцами его неумолкших речей и еле слышных слов»20. В силу этого Дурылин ориентировался на жанры духовного стиха, «старинки» (былины), народной песни, щедро включая их мотивы в свою прозу. Писатель стремился максимально сблизить свой язык с народным, насыщая речь «живым словом»: архаическими и местными словами, образами духовных стихов и легендами. Скажем, отец Павел в рассказе «Крестная» держит в доме птиц, из которых больше всего чтил клеста, поскольку «клест на язвы Христовы устремился и стал клювом гвозди жидовские вытаскивать»21, а торговец Петр Петрович утверждает, что нужно «клеста за нетленного угодника почитать, потому что тело у него не гниет»22. Дело объясняется тем, что, «как гласит русская легенда, клест вынул гвоздь из тела распятого Христа и за это стал нетленным. Тело его после смерти не подвержено гниению»23. Русский верующий народ лучше всякого катехизиса может объяснить и сущность христианской веры. Так, вовсе не родители, не приходской батюшка, а «неграмотная, „людская“ Арина», кухарка, доносит до ребенка значение поста («Сладость ангелов»). Поскольку мотивы народного христианства в наиболее архаичной форме сохранились в старообрядчестве (скажем, жанр духовного стиха), Дурылин с симпатией относится к старообрядцам и вводит в произведения старообрядческие образы: «крест медный, как у староверов» («Крестная»), приказчик, постоянно читающий толстые книги и знающий, что придет Антихрист («Сударь-кот»), «книжник в медных очках», благословенный образ «медного Спаса» («Колокола»), служба в беспоповской моленной («Хивинка»).
Дурылин обращается к народному «мифомышлению» и в стихах. В 1913 г. в сборнике «Лирика» под псевдонимом «С. Раевский» им были опубликованы стихи «Плачет ветер», «На Руси», «Сорок мучеников», «Св. Серафим Саровский», «Богоматерь», в качестве фрагментов поэтической агиологии русского народа24. Тогда же Дурылин начал писать стихотворный цикл «Венец лета» (написаны были части «Светлая седмица», «Сливное дерево», «Покрой покровом», «Кузьма и Демьян»). В цикле «Сливное дерево» – стихи, посвященные прав. Симеону Богоприимцу, «матери-пустыне», прав. Иоакиму и Анне, Крестовоздвиженью, св. князю Михаилу Черниговскому, свт. Димитрию Ростовскому, преп. Сергию Радонежскому, апостолу Иоанну Богослову25. К «Венцу лета» примыкает сборник «Христос Воскресе» (1930) со следующими заглавиями стихотворений: «Святого пророка Захария Серповидца (8 февраля)», «Преподобного Прохора Печерского» (10 февраля)», «Святого священномученика Власия (11 февраля)», «Преподобного Тимофея иже в Символех (21 февраля)», «Преподобного Прокопия Декаполита (27 февраля)», «Преподобного Василия Исповедника (28 февраля)», «Святой преподобномученицы Евдокии (1 марта)», «Алексия Божия человека (17 марта)» «Вербное Воскресенье», «Пасха Господня»26. Все эти стихи навеяны соответствующими духовными стихами.
Народное богословие близко «детскому богословию». Герои целого ряда рассказов Дурылина вспоминают детские переживания веры, детский мистический опыт. Их богословие было неправильно с точки зрения катехизиса, но истинно с точки зрения высшей истины. Архиерей в рассказе «Сладость ангелов», вспоминает свое младенчество. Он мечтал попасть в алтарь и, услышав однажды, стоя в храме, Богородичен «Сладость ангелов», решил, что это «ангелы служат там, в алтаре, и подается им некая "сладость ангелов"»27. Герой хроники «Чертог памяти моей», маленький Прокопий, видит в церкви Святого Духа в виде голубя: «Услышал я над собою ворк голубиный и он меня ободрил и возвеселил. Я оглянулся – и вижу: передо мною воркует голубок небольшой, белый, будто весь в серебре, зобок в голубизну ударяет, и будто ведет голубок меня за собой»28. Изображение Святого Духа в «виде голубине» было запрещено еще VII Вселенским собором, но, несмотря на это, оно не ушло из иконографии Троицы (например, на иконе «Отечество»). Ребенок видит неканоническое, но утвердившееся в традиции, а, следовательно, по мысли Дурылина, истинное изображение Святого Духа. Именно это, детское богословие «извлекает Божественное из самого простого и ангелов видит там, где они суть, но никому не зримы и недоступны, кроме как действующим богословам»29. С другой стороны, главные принципы христианской веры молитва и пост – это и есть детское богословие.
Бог – Тайна, Неведомое, Непостижимое разумом, неизмеримое никакой мерой. Интуиция смиренно сознающего свою беспомощность разума выражена Дурылиным в образе «недомерка», с которым писатель соотносил и себя, и любимых писателей, и всю Святую Русь. «Меня любили недомерочные люди, но большие, не мне чета, наделенные силою быть недомерками: Василий Васильевич (Розанов – Т. Р.), Перцов, Нестеров. Эти – особенно последний – сами сшили на себя и одежду, и обувь, и не пытаясь найти ее в продаже»30. Недомерком называет себя alter ego автора, поп-расстрига, Серафим Геликонский в «Колоколах». В «недомерочности», «неправильности», смирении – величие Руси. «Великие гадатели мы, русские люди: все загадываем загадки: к чему, да отчего, а ничего у себя на русской земле не разгадали и сами себя не поймем: кто мы? Куда и откуда? И пред землей своей стоим – землеописания ее не знаем, а загадку знаем: зачем ты, русская земля, – к добру или к худу? Недомерок ты. Людьми ли недомерена, царями и вождями своими, – или Бог тебя мерил на твое испытание: шире пустил, или в воле твоей сузил, а в просторе далеко развернул? Ничего не знаем»31.
Главные онтологические категории Дурылина: бытие и бывание. Быва-ние – это мирское, не освященное Богом существование, скудное и горькое земное временное бытие. Категория бытия относится к вечному горнему, трансцендентному. Существование человека в мире бывания обусловлено грехом, и только память о Боге может придать смысл существованию в бывании. Дурылин эти два мира настолько резко разделяет, что их оппозиция ближе всего неоплатонической модели бытия, с точки зрения которой существование космоса обусловлено погружением Ума (организм идей) в идеальную материю и образованием Мировой души, а затем приходом Мировой души в движение и рождением собственно космоса. Вечный Ум рассеивается на уровне Мировой
Души, поэтому она существует как временный образ вечного Ума. Ум идеален и бестелесен, а Душа несет в себе материальное начало. Рождаемое всегда несовершеннее рождающего, поэтому космос есть низший уровень бытия. Он обязан своим существованием соединению образов вечных идей (а не самих идей) и материи. Итак, Ум это вечность, собранность, целостность, единство, Душа, а тем более космос – рассредоточенность, разъятость, временность. Материя же, по Плотину, – зло. Сходно и Дурылин описывает различие бытия и бывания. Категория бытия связана с идеальным, духовным, бестелесным. Так у Дурылина появляется тема ангелов. Ангельское-это идеальное до погружения в материю, невоплощенное. Отпадение отдельных умов от идеального мира, погружение в материю, с точки зрения Дурылина, является причиной греха32.
Значимостью темы воплощения, соединения духа и материи, обусловлено частое обращение Дурылина к иконописному образу «Ангел Благое Молчание»33. Стихотворение 1912 г. с таким заголовком посвящено этой иконе Христа.
«Спас Благое Молчание – один из иконографических типов Спаса, имеющий несколько названий в зависимости от характера надписи на иконе: в частности "Истинное благое молчание" и "Благое молчание Господь Саваоф". В первом случае Христос изображается в Ангельском чине как юноша в белой далматике с оплечьем и широкими рукавами, во втором – облаченным в саккос как Великий Архиерей. В обоих случаях руки Его сложены и прижаты к груди, за спиной – опущенные крылья. Нимб с восьмиконечной звездой, как у Саваофа. По сторонам – инициалы Иисуса Христа: ИС ХС. Это Ангельский образ Иисуса Христа – Христос до воплощения, Ангел Великого Совета»34. Хотя второе название должно подразумевать изображение Бога-Отца, тем не менее, существует устойчивая традиция видеть в «Ангеле Благое Молчание» именно Сына. Итак, на иконе изображен молчащий и еще не пришедший в мир Христос.
Именно поэтому в рассказе «Крестная» младенцы умирают вскоре после рождения – их души не хотят жить в этом мире, сразу возвращаются назад. Этот мотив восходит к платоновскому «Федру», в котором описано, как душа «парит в вышине», «если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что-нибудь твердое, – тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собою; а что зовется живым существом, – все вместе, т. е. сопряжение души и тела, получило прозвание смертного»35. Душа, видевшая хотя бы частицу занебесной сущности, т. е. божественного Ума, ни за что ни утратит крылья и не падет. Но если душа «не будет в силах сопутствовать и видеть, но, постигнутая какой-нибудь случайностью, исполнится забвения и зла и отяжелеет, а, отяжелев, утратит крылья и падет на землю, тогда есть закон, чтобы при первом рождении не вселялась она ни в какое животное»36. Итак, воплощение души в теле, по Платону, – трагическая случайность. Однако если у Платона ни одна душа не может вернуться на небо раньше десяти тысяч лет, то у Дурылина все души видят истину на небесах, и некоторые из них не в силах отказаться от небесных видений и поэтому не желают задерживаться в земных телах. В христианском богословии победила креационистская точка зрения (душа творится в момент зачатия) но в доникейский период существовало представление о предсуществовании (гностики, Климент Александрийский и Ориген). По Оригену, Бог сотворил наперед определенное количество тварей, причем одинаково безгрешными. Но существует свобода воли, одних приведшая к падению, других к совершенству через подражание Богу. Духи сначала жили нематериальной жизнью, и только после падения некоторых из них был сотворен космос. Следовательно, чувственный мир произошел в результате грехопадения. Неотпавшие от Бога души стали ангелами, их воплощение в телах и приводит к рождению людей.
По Дурылину, сущность человека – нематериальное, душа. Совершенная душа отказывается жить в теле. Мать умерших младенцев в рассказе «Троицын день» говорит о них: «Они глазком одним в щелочку на Божий свет подсмотрели, и увидеть-то в щелочку им, как мушкам, все равно ничего не пришлось, а все-таки, как увидели, слезами плакали, да назад попросились»37. Если же душа задержалась в теле, но не может забыть свою небесную родину, она тоскует, а потом бежит из мира странствовать или в монастырь. В рассказе «Троицын день» умерший ребенок зовет мать к себе, и она больше не может существовать в этом падшем мире, хочет куда-то «идти и идти, – на край света идти безостанно…»38. Этот мотив можно сопоставить с большим интересом Дурылина к беспоповской секте бегунов, дружбой с последователями поэта А. М. Добролюбова, восхищением предсмертным бегством Льва Толстого39. Это пространственное перемещение, бегство, может открыть путь в горний мир. Человек есть ангел, пришедший в этот мир и стремящийся обратно. Не случайно одним из любимых стихотворений Дурылина был лермонтовский «Ангел».
В христианской антропологии, начиная с Нового Завета, святой нередко сопоставляется с ангелом: «А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, И умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» [Лк. 20: 36]. Эпитеты «равноангельский» и «ангелоподобный» часто применяются к Адаму, и к монашеству40, первый из терминов обычен для акафистов. В написанном во Владимирской тюрьме фрагменте «Об ангелах» (1922) Дурылин приводит сначала эпизод из книги Товита о благодатной помощи Ангела Божия [Тов. 12], а затем из прп. Иоанна Лествичника: «70. Кто победил тело, тот естество победил; победивший же естество, без сомнения, стал выше естества; а такой человек малым чем, или, если можно так сказать, ничем не умален от Ангел [Пс. 8: 6]». Христос не только потому принимает образ Ангела, что сами люди могут иметь образ Ангельский, быть Ангелами во плоти, но и в силу того, что первый человек в раю и был «иным Ангелом». Сближение Адама и ангела у Дурылина не означает ни онтологического тождества их сущностей (как это было у Я. Беме), ни символического замещения Адама ангелом (Адам лишь «словно» ангел), оно основывается на подлинном нетлении обоих, возможности Богообщения для обоих, с другой стороны, их сотворенности по одному образу Божию41. Для Дурылина исходное, райское состояние заключается в великолепной собранности сил», «неразложимой существенной цельности»42. Это – равноангельское состояние. Далее в «Об ангелах» Дурылин называет человека в этом, райском, состоянии «первой зари второй светлостью»43. Этот образ «второго света» в богослужении прилагается к апостолам, как к первым святым, первым, стяжавшим второй свет. Так, первоверховные апостолы суть «светы вторыя Твоея светлости, и молния блещаяся, апостолы и ученики Твоя»44, апостол Иуда, брат Господень: «свет вторый первого сияньми сообразуяся, досточудне»45. Отождествление святого и Ангела, появившееся впервые в дневнике «Троицкие записки», также восходит к церковной традиции. Эпитет «второй свет» применяют к ангелам не только блаж. Августин, но и свт. Григорий Богослов. Последний в «Слове на Богоявление» прямо указывает на равенство человека и Ангела: «Художническое Слово созидает <…> как бы некоторый второй мир – в малом великий; поставляет на земле иного Ангела, из разных природ составленного поклонника, зрителя видимой твари, таинника твари умосозерцаемой, царя над тем, что на земле, подчиненного горнему царству, земного и небесного, временного и бессмертного, видимого и умосозерцаемого, Ангела, который занимает средину между величием и низостию, один и тот же есть дух и плоть-дух ради благодати, плоть ради превозношения, дух, чтобы пребывать и прославлять Благодетеля, плоть, чтобы страдать, и страдая припоминать и поучаться, сколько ущедрен он величием; творить живое существо, здесь предуготовляемое и преселяемое в иной мир, и (что составляет конец тайны) через стремление к Богу достигающее обожения»46. Описывая положение Адама в раю, систематизатор и последователь свт. Григория, преп. Иоанн Дамаскин, ставит Адама очень близко к Ангелам: в раю человеку было дано одно дело с Ангелами, и Адам, мало отличался от Ангелов, если телом находился в земном раю, душою – в мысленном, «Бога имея свои жилищем и Его также имея своим славным покровом, и будучи облечен Его благодатию, и наслаждаясь одним только сладчайшим плодом: созерцанием Его, подобно тому как какой-либо иной Ангел, – и питаясь этим созерцанием, что именно, конечно, и названо достойно древом жизни»47. В гомилиях свт. Григория Паламы Ангелы сотворены ради нас48, пост превращает людей в Ангелов49. Итак, богословие усваивает и святому, и человеку вообще именование «иного Ангела». И у Дурылина человек в своем первоначальном, замысленном Богом, неповрежденном грехом, состоянии, неотрывен от своего Ангела-Хранителя. После же грехопадения «это, утерянное, но не исчезнувшее "я" его и есть его ангел-хранитель, „хранящий“ его от окончательного распадения, от гееннского разложения, и, несмотря на свое самоутверждение, не имеющего никакого действительного бытия, и даже бывания»50. Ангел-Хранитель в том виде, как он понимается Церковью, есть иное бытие образа Божия, затемненного в результате грехопадения. Поскольку Христос принимал вид ангельский, а человек сотворен по образу Божию, для Дурылина оказывается возможным связать человека и ангела. Образ Божий в человеке есть его подлинное «я», в падшем состоянии отрывающееся от человека, становясь его Ангелом-Хранителем. Эта модель человека, с одной стороны, онтологически сближает человека и ангелов, с другой же стороны, отчетливо их разделяет, помогая обосновать вполне традиционную для святых отцов мысль об особом призвании человека в космосе.
«Образы вечного бытия» Божия помрачены в человеке грехопадением. Произошло как бы затмение существа, определенного к бессмертию, призванного светиться светом от вечного Света»51. Действующие лица рассказа «Жалостник» видят роспись в покоях настоятеля монастыря: «Она изображала лестницу, соединявшую земной шар в виде глиняного комка с райской оградой на синем фоне. По лестнице взбирался вверх монах, а огромный седой седобородый чорт крюком тянул его за мантию вниз. Ангел сверху протягивал руку монаху, но рука не доставала до него»52. На традиционном изображении видения преп. Иоанна Лествичника наверху лестницы Христос протягивает руку самому преп. Иоанну, держащему в руках свиток «Лествицы», бесы крючьями сталкивают монахов вниз, а группа ангелов бездействует, скорбно смотря на падающих монахов. У Дурылина речь идет о борьбе ангела и беса в душе человека. Для него, несколько лет мечтавшего о монашестве и готовившегося к нему, была важна идея монашеских искушений. Поэтому тема духовной брани в его творчестве – одна из ключевых: «А монашеские бесы самые злые: налягут на сердце человеческое – корой обрастет: звериным мохом подернется»53.
Дурылин прибегает к концепции возникновения зла в результате отрыва «я» от своей онтологической первоосновы (Я. Беме, Ф. Баадер, В. Ф. Й. Шеллинг, Н. А. Бердяев) (хотя у Дурылина, разумеется, нет никакой метафизики божественной Urgrund, и потому прямой онтологизации зла не происходит). Как только «я» воображает себя вполне самодостаточным, забывает о своей почве, мгновенно происходит извращение его природы, грехопадение, «я» мгновенно превращается из Ангела в Яшку54. Особенностью дурылинской антропологии является та мысль, что после грехопадения началась брань не между человеком и бесом, а между ангелом и бесом, стремящимся окончательно занять место ангела и завладеть желаниями, действиями, всею жизнью человека55. «"Хлеб ангел Божий сеял, ангел дождем поил, ангел и житницу хранил, – а ты ногами, милый, попираешь". Это Арина надо мной стояла, черная, „людская“ кухарка. Я остановился и слезы осеклись. „Как ангел сеял?“ – спрашиваю. – „А так, незримо“. – „А мужик?“ – „А мужик только семена бросал“. – „А кто ангела видел?“ – „А кто свят; кто ангельский хлеб ест“. – „А какой ангельский?“ – „А животный“»56. Ангел-Хранитель есть ядро, вокруг которого прирастает личность, зерно, из которого она возникает в ситуации падшего мира. По мысли Дурылина, семена высшего в нас может посеять только ангел, посланец горнего мира. «Человеческого» нет: оно или в Божие или в бесово входит и часто мы мир Божий и человека видим в Божией оболочке: оттого мерзит мир, ненавистен человек. А на самом деле – ненавистен не мир и не человек, а бес»57. В детском же богословии «вовсе Яшки нет: там не Яшка, там Ангел богословствует и предлагает нам снедь „ангелов сладость“»58.
Мотив духовной брани присутствует в дурылинской прозе, начиная с «Рассказов Сергея Раевского». Признаки бесовского одержания: пустота, муть, лень, скука, нелюдимость, бессонница, шум, мышиная возня. Трилогия «Три беса» («Дедов бес», 1918–1919; «Бабушкин бес», 1921; «Гришкин бес», 1923) посвящена борьбе ангела и беса за душу человеческую. Рассказ «Дедов бес» несет в себе аллюзии из «Пиковой дамы» Пушкина, однако завершается изживанием карточной страсти, победой над бесом. Бес мучит дедушку рассказчика – Па-трикия Древлянинова. Помощь приходит от чтимого в Москве юродивого59. Избавиться от зеленого карточного беса помогли кресты, которыми слуга Пафнутьич отметил все предметы в комнате, и молитва «Живый в помощи Вышнего». В конце концов, герой покидает Москву, поселяется в деревне, уезжает на богомолье и не возвращается из него: «нарочный-послушник прискакал из знаменитого в летописях нашего края пустынного монастыря с известием, что дедушка скончался от сильнейшей простуды, успев принять перед смертью постриг от монастырского старца»60. Здесь содержится отсылка к концу жизни и к смерти К. Н. Леонтьева, принявшего постриг от преп. Амвросия Оптинского в Оптиной пустыни и скончавшегося от простуды через несколько месяцев после пострижения, в гостинице Троице-Сергиевой лавры. Героиня второго рассказа триптиха, бабушка погибает, одержимая бесом любовной тоски по умершему мужу, Григорий из «Гришкина беса», умеющий «выводить» крыс игрой на дудочке, доводит девушку Оганю до самоубийства и сам погибает61. Детское богословие в полном согласии с народным учит: «с правой стороны у каждого человека ангел стоит, а с левой – бес; ангел близко, а бес далеко»62. Герой рассказа «Недомерок», ребенок, верит, что «ангел поет, а бес лает на звезду небесную, когда ангел ее по небу с песней несет и людям ею путь освещает»63.
Расщепление человека, разъединение «внутреннего» и «внешнего» человека есть и отвлечение ума от Бога, и отделение ангельского от человеческого, кладет начало непрерывной борьбе между Ангелом и бесом. Анна Ефимовна, героиня рассказа «Крестная», дающая явиться на свет ангелам, но искушаемая полуденным бесом (страстью тоски), перед смертью просит принести ей моченой морошки. Такова была и предсмертная просьба Пушкина, который, с точки зрения Дурылина, «Бога и чёрта соединил»64. В биографиях писателей Дурылин искал тип «кающегося грешника», отсюда его любовь к Лермонтову, Гоголю, Лескову, Леонтьеву, Розанову. У каждого не только свой ангел, но и свой бес: «Гоголь не спит и черта боится, или Достоевский – бродит по комнате ночью, – в туфлях на босу ногу, в халате, злой, зеленый (словно бес. – Т. Р.)…»65. Евангельский образ благоразумного разбойника, первым попавшего в рай, писатель считал наиболее адекватным символом смирения и раскаяния, трудной веры русского мужика, требующей христианского усилия. Ангельский глас внутри нас – это голос совести, и именно благоразумный разбойник отличается тем «повышенным „пульсом совести“ в организме человека», который «и есть христианство»»66. Бесы – отпавшие ангелы, но если ангелы обладают свободой воли, то и бесы ей обладают, а, следовательно, они могут спастить. Молитва за бесов возможна. Скрытая надежда на апокатастасис – тема программного рассказа «Жалостник» и стихотворения «Закрестил меня попик седенький» из цикла «Бесы разны», написанного от имени беса, страдающего от бессилия победить молящегося «седенького попика» и мечтающего сбежать к кому-нибудь более податливому. Очевидно влияние на Дурылина не только Оригена, но и преп. Ефрема Сирина, молившегося за всю тварь.
Борьба приобретает особую остроту в момент смерти и во время мытарств. Тема этой борьбы настолько волновала Дурылина, что он, начиная еще с 1918 года, собирал материалы о смертях самых разных людей. Сохранилась папка материалов с выписками из воспоминаний о смерти Н. В. Гоголя, A. И. Герцена, А. П. Юшневского, А. Я Бестужева (Марлинского), В. Л. Пушкина,
B. Ф. Одоевского, мужиков в 1812 году, собранных для так и ненаписанной книги «Как умирают». Характер выписок показывает, что Дурылина интересовали мистические события, вмешательство неземных сил при смерти. Один листок содержит следующую выписку из воспоминаний Н. Н. Мордвиновой: «Таков же был отец графа Мордвинова (род. 1701 г.) (адмирала, известного деятеля эпохи Александра I. – Т. Р.). «Семен Иванович был ума необыкновенного, нравственности примерной и отличался всеми христианскими добродетелями, кротости нрава был удивительной. Отец мой считал его святым человеком; окружающие его сохраняли к нему безпредельную преданность; прислуга считала душу его столь чистою, что много раз в детстве рассказывали мои нянюшки легенду о его смерти: когда он умирал, так много Ангелов окружали его, что когда они улетели с его душою, все окна задрожали»»67.
Единство человеческого «я» на протяжении всей жизни сохраняет память. Память это, с одной стороны, бытие с Богом лично меня, мое «ангельское» «я», а, с другой стороны, память-это Церковь, объединяющая святых, ангелов, апостолов, мучеников, преподобных, живых и мертвых. Что осталось от прежнего меня, от ребенка Жени, размышляет архимандрит (прототипом его послужил близко знакомый С. Н. Дурылину о. Павел Флоренский, но в нем есть черты и самого автора) в рассказе «Сладость ангелов»: «Помню! Вспоминаю! Что же это? Чём же, чём же я помню? Чем-то, очевидно, жёниным, а не моим, что еще осталось во мне, все-таки во мне. Между мной и Женей есть некая ниточка, – тонкая, о, совсем тонкая! – но если бы ее не было, я не вспомнил бы жёнина "хлеба ангел ьского". Эта ниточка – память <…> Что же это Помнящее во мне, – хранящее в себе "хлеб ангельский"? Безумный, безумный: как же я не понимаю этого? – да ведь это так просто – это – моя бессмертная душа»68. Многие произведения Дурылина написаны в форме рассказа о прошлом: «Хивинка», «Сударь-кот», «Недомерок», «Чертог памяти моей». Помнить дни памяти родных-значит не только помнить ушедших, но и их бессмертные души, их Ангелов, сам горний мир, беречь онтологическое единство горнего и дольнего. Беспамятность, забывание приводит мир к отпадению и гибели человека. От нашей памятливости зависит и сохранение бытия, мы его непрерывно восстанавливаем, созидаем, вечно творим, мы за него отвечаем: «Все гибнет, если уже ни в ком не возбуждает любви к себе. Все разрушается, если перестает вызывать почитание и священный трепет, стоящий у корня бытия: когда он теряет власть и силу, этот корень сохнет…»69.
Человек потерялся в бывании, найти себя можно только в горнем мире. Для ее осуществления служит устав, «чин», «дисциплина». Дурылин нередко цитирует новозаветные слова «Вся по чину Вам да бывают» [1 Кор. 14: 40]. Мирские уставы (купеческий, военный, семейный) суть символы уставов церковных и монашеских, они – бывание, стремящееся обрести бытие в уподоблении образцу. Поэтому хранение обряда обеспечивает сохранение бытия. Оттого в изобилии наполняют произведения Дурылина образы священников, монахов и купцов неукоснительно исполняющих церковные и бытовые обряды, смысл которых – «координация» бытия и бывания. Прокопий Иваныч Подшивалов, купец, будучи за границей, отмечал в дневнике отсутствие этой координации: «"Николин день", – пишет прадед, – а здесь никому не ведомо"»70. В повести «Сударь-кот» Дурылин уподобляет правила работы приказчика в лавке монашеским правилам. Как нельзя брать грязными руками белый шелк, так и будущая послушница должна пройти все монастырские послушания, прежде чем постричься, т. е. предстать перед Христом. Подлинно христианская жизнь должна завершаться монашеством, оттого част у Дурылина образ купца, ушедшего в монахи. Купец Иван Парфеныч Подшивалов из повести «Сударь-кот» умер «в каком-то лесном отдаленном монастыре»71. Брат прадеда рассказчика из «Сударя-кота» «однажды отправился Андрей Иваныч в подгородный захудалый монастырек на богомолье от всех братьев общую пудовую свечу поставить чудотворцу, да и не вернулся с богомолья домой. Года через два в Лукове получили письмо с Афона, извещавшее, что Андрея Иваныча Подшивалова больше не стало, а прибавился в одном из бедных скитов афонских новопостриженный монах Анфим»72. Купец Иван Филимонович Холстомеров («Колокола») в конце жизни оставляет своей купечество и уходит в звонари. Он объясняет сыну, что ничего не нажил к концу жизни, «банкрут». Этот образ купца восходит к евангельским притчам: стяжание богатства подобно стяжанию Царства Небесного («Подобно есть царствие небесное сокровищу» [Мф. 13: 44], потому купец ищет добрых бисеров («Подобно есть царствие небесное человеку купцу» [Мф. 13: 46]. Купец Иван Павлович
Грузов из «Недомерка», ушедший на послушание в монастырь, перед смертью «все жемчуг в бреду искал и руками все шарил, собирал», а затем «пошел купец на иной торг, небесный жемчуг покупать»73. Кроме того, архетип – вышедший из купцов преп. Серафим Саровский.
Центральная мифологема для Дурылина – Святая Русь, бытием которой держалась Россия. Так, дворянский дом в рассказе «Роб-Рой» неслучайно «строен из бревен разоренной беспоповщинской моленной»74, а дом в Болшево, где Дурылин жил последние 18 лет своей жизни, будет выстроен из бревен хозяйственных построек Московского Страстного монастыря. С образом Святой Руси связана проблематика рая, имеющая три образа: сад, монастырь и град. Это лики Царства Небесного, проросшие Божьи семена, память о Боге, иначе говоря, пути преодоления все увеличивающегося разрыва Бога и мира, «таянья» христианства в мире. Они переплетены друг с другом. Русская пустыня, дремучий лес, северная Фиваида («постница глухая», «черная риза», «глухая листыня»), да и вся природа уподобляется в его стихах чудесному Божьему саду75.
Господь земной град оборонил, — Пречистой сад оживил: Иней свеялись, Росы рассеялись, — Неотцветный цвет Точит тихий свет, Херувимский глас До земли идет — Градозаступнице славу поет76.В стихотворении «Строили каменную Москву…» (1912) изображение Москвы вызывает в памяти икону Симона Ушакова «Насаждение древа Государства Российского»:
Святитель Петр землю копал, Коренной камень клал — Потом да трудом ВоздвизалНо Дурылин уже предсказывает ее гибель:
Покуда Москва стоит — Строителям славу вестит, А Москва падет, Сгинет Третий Рим, Небесный Иерусалим Святителям славу вознесет77.Внешние исторические успехи России также обусловлены лишь ее связью со Святой Русью. Своим величием Россия обязана военным, крепким в вере, строгим «отцам солдат» (образ восходит к «полковнику» из поэмы М. Ю. Лермонтова «Бородино»78), часто изображаемым Дурылиным («Жалостник», «Дедов бес», «Бабушкин бес», «Колокола»). С ними связана и тема русско-турецких войн как важнейших вех в историческом прошлом России. Мотивы Турции навеяны восточными повестями Леонтьева, ноуДурылина создается амбивалентный образ Турции и Востока в целом. С одной стороны, писатель говорит о «турке, стесняющей путь», изображает одержимого бесами некрещеного «окаяшку» Турку, с другой стороны, губернатор в повести «Сударь-кот» говорит, что «есть только два стоящих народа на свете – русский да турок, а остальные – хлам»79. Описывая с любовью «лазоревую бирюзу», «бухарские кунганы, персидские и текинские ковры»80, Дурылин, тем не менее, говорит о бухарских купцах как «басурманах», пребыванию русской женщины в тягостном среднеазиатском плену посвящает повесть «Хивинка» (тема восходит к «Очарованному страннику» Лескова). Восток притягателен, но притягателен как нечто дьявольское, нечистое.
Влияние безбожной эпохи Просвещения, символом которого для Дурылина неизменно является Вольтер, разорвало связь России и Руси. Образ «невера и франкмасона», «кума Вольтерова», поклонника «дряхлого безбожника фернейского», который «всех заезжавших к князю» «заставлял прежде всего отдать глубокий поклон фернейскому мудрецу, а уж потом приветствовать самого князя» («Бабушкин бес»)81, совершившего обратный культурный поворот от Просвещения к вере отцов, от России к Руси, мы найдем практически в каждом дурылинском произведении. Писатель в стихотворении «Купец» вспоминал, что и в его родном доме:
Когда-то в доме жил Василий Львович Пушкин, В амбаре погребен в зерне Вольтеров бюст82.В «Послании старому поэту», написанном 29 октября 1911 г., Дурылин набрасывает портрет русского поэта екатерининских времен, сменившего Вольтера и Ферней на Псалтирь:
Для вольномыслия ты не был нелюдим: В сафьянах палевых, с обрезом золотым Философических хранил ты книг набор, Беспечной Франции кощунственный собор. Ты, отходя ко сну, читал, смеясь, Вольтера, Но отчая в тебе не потухала вера: Безбожьем оскудев, грозя судом Афею, Вольтера и Дидро сменял ты на Минею И блюл рачительно в пяток и среду пост83.Эта проблема смены или выбора между «Вольтером» и «Минеей», между эстетическим и религиозным, была унаследована С. Н. Дурылиным от К. Н. Леонтьева84.
Однако под влиянием безбожия XVIII века и позитивизма второй половины XIX в. связь России и Руси разорвалась, слышен только звон китежских колоколов:
И только смутно слышу весть, Что город, Господу угодный, Под сенью вод безмолвных есть И не умолкнул гул подводный85.Апокалипсис произошел, связь бывания с бытием нарушилась, потому отныне осталась только незримая Россия, как это описано в дурылинской притче «В те дни». Святая Русь молится, празднует Пасху, а зримая окончательно погибла. Самое крупное прозаическое произведение Дурылин-хроника «Колокола». Внешняя история города Темьяна это история колоколов, появляющихся друг за другом на соборной колокольне, от основания города при Борисе Годунове, и завершается снятием колоколов при большевиках, внутренняя – история России, пребывавшей в единстве со Святой Русью и отпавшей от нее. Снятые колокола при попытке их увезти, утонули в близлежащем озере, незримая Русь ушла под воду Светлого озера, оставив Россию без благодати. Герои, сохранившие веру в Бога, слышат подводный звон: «И вдруг Испуганная, отстранилась на малое расстояние от воды, – и молвила:
– Звон это цельный. В Княжин благовестят, и древний Царев звонит. Не к вечерне это. Ко всенощной звон. В граде Темьяне храмы отверсты, служба идет, а водах-звонница сокровенная. Звон неувядаемый и неприглушимый!
Она протянула от воды и подняла лицо к небу – высокому, синему, золотимому вечереющим солнцем. Девушки смотрели ей в лицо – со страхом и счастьем, изменившим их бедные и бледные черты.
– Неугасим, неугасим звон града Господня! – воскликнула она, смотря на заходящее солнце. – "Яко глас вод многих и яко глас громов крепких! Радуемся и дадим славу ему"!»86.
Однако ниспадение человека в сферу бывания произошло «в противоположность остальной твари»87. Природа осталась все тем же райским садом, где птицы «поют небесным гласом», пустыней, молящейся Богу. «Травка с травкой христосуется; от земли пар, как от кадила фимиам, идет к небу»88. Февроньюшка из рассказа «Крестная» обладает святой душой (с ней «легкий ангел»), поскольку она пчельница, а пчела – символ божественной чистоты, «чистоту любит». Другой поэтический символ творения, созданного для прославления Бога и служащего Ему, наиболее полное воплощение идеальной твари в мире, – это птицы. Одержимый бесом гордыни Григорий принимался «стрелять в кого попало, перебьет много птицы зря и всякой: кукушек, синиц, дятлов, раз даже соловья убил»89. Сад, птицы, пчелы, кошки, тишина – все это образы идеальной твари, координации Бога и человека, образы чувственные, земные, но указывающие на Царство Небесное. Начиная с «Рассказов Сергея Раевского», они не сходят со страниц дурылинской прозы и статей. Это те символы Царства Божия, что хранят о нем память, как-то связывают нас с Богом в «сохнущем и вянущем Божьем мире»90. Они указывают на то, что первобытное, райское, «ангельское» «я» еще присутствует в мире, что насажденные Богом, посеянные им семена не погибли, а продолжают расти. Бог не простит мучений животных, «на страшном суде Господу весь звериный счет покажет, сколько какой зверь от человека потерпел и слез пролил, и с человека того Господь каждую слезу звериную взыщет…»91.
Дурылин не оставляет надежды на возвращение России к Святой Руси. Возможно, что Русь – не прошлое, а лишь будущее России, ее задание. Во всяком случае, Бог милостив и уж если человеку свойственна жалость, т. е. способность понимать и прощать другого, то Бог простит всех. Дурылин не отказывается от идеи окончательного всеобщего прощения и спасения.
Примечания
1 Дурылин С. Н. Рассказы, повести и хроники / Сост., вступ. статья и коммент. А. И. Резниченко, Т. Н. Резвых. СПб., 2014 (Далее сокращено: Дурылин-1). В том не вошли некоторые не найденные ко времени подготовки тома произведения (скажем, рассказ «Недомерок» и неоконченный роман «Сухая тень»), а также рассказы «В те дни», ранее опубликованный в «Московском журнале (№ 8.1991. С. 20–27) и «Николин труд» (1927), опубликованный в: «Я никому не пишу так, как Вам…»: Переписка С. Н. Дурылина и Е. В. Гениевой. М., 2010. С. 451–471. Появление новых, неизвестных пока исследователям, произведений не исключено. Сам Дурылин писал в 1928 г., начав писать «Колокола»: «Вы думаете, я дебютирую романом? Милый друг, у меня ТРИ ТОМА, не меньше, печатных, накопилось повестей и рассказов: первые писаны еще в 1909 г. Есть и небольшой роман (1924 г.)» («Я никому не пишу так, как Вам…»: Переписка С. Н. Дурылина и Е. В. Гениевой. М., 2010. С. 147).
2 Части «Сентябрь» и «Май» опубликованы: «Я никому не пишу так, как Вам…»: Переписка С. Н. Дурылина и Е. В. Гениевой. М., 2010. С. 487–526. См. также: Резниченко А. И., Дурылин С. Н. (Сергей Раевский): к реконструкции ландшафта. «Антропология»: кристаллизация «я». Ворожитная формула языка //Дисс. на соискание уч. степ, доктора филос. наук. М.: РГГУ, 2013. С. 279–288; Резниченко А. И. К истории «Несбывшихся событий». Сергей Раевский и его стихотворный цикл «Венец лета». Тезисы доклада // Международная конференция «Маргиналии-2014: границы культуры и текста», Елец (Липецкой обл. России). 5–7 сентября 2014 г. Тезисы докладов / Сост. М. Ю. Михеев, Б. П. Иванюк, А. Г. Кравецкий. М., 2014. С. 90–91.
3 РГАЛИ. Ф. 2980. On. 1. Ед. хр. 293.
4 Там же.
5 НИОР РГБ. Ф. 872 К. 1. Ед. хр. 31.
6 МАДМД. КП-2057/1.
7 РГАЛИ. Ф. 2980. On. 1. Ед. хр. 297.
8 Дурылин С. Н. В своем углу // МА ДМД. КП-265/24. Л. 76.
9 Там же. Л. 75.
10 Там же. Л. 79.
11 Там же. Л. 77.
12 Там же. Л. 79.
13 Там же. Л. 77.
14 Резвых Т. Н. «Я чувствовал себя как бы его внуком – через сына – через о. Иосифа…». Отец Сергий Дурылин – исследователь творчества К. Н. Леонтьева // Христианство и русская литература. СПб., 2012. Сб. 7.
15 Дурылин С. Н. Статьи и исследования 1900–1920 годов / Сост., вступ. статья и коммент. А. И. Резниченко, Т. Н. Резвых. СПб., 2014. С. 143. (Далее сокращено: Дурылин-2).
16 Дурылин С. Н. Луг и цветник. О поэзии Сергея Соловьева // Дурылин-2. С. 143.
17 Дурылин посвятил этой теме статью «Древнерусская иконопись и Олонецкий край» (1913).
18 Максимов С. В. Собр. соч. СПб., 1912. Т. 18. С. 245.
19 Дурылин С. Н. Луг и цветник. О поэзии Сергея Соловьева // Дурылин-2. С. 144.
20 Дурылин-1. С. 133.
21 Там же. С. 55.
22 Там же. С. 56.
23 Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997. С. 644.
24 Участниками сборника были Ю. П. Анисимов, Н. Н. Асеев, С. П. Бобров, К. Г. Локс, Б. Л. Пастернак, С. Я. Рубанович, А. А. Сидоров, В. О. Станевич. Молодых поэтов объединяло участие в символистском кружке «Молодой Мусагет». Планировался второй сборник лирики, где авторы должны были выступать в качестве переводчиков (Дурылин намеревался перевести католические гимны XII–XIV вв.), но в 1914 г. объединение распалось из-за идейных разногласий. См.: Локс К. Повесть об одном десятилетии (1907–1917) // Минувшее. М.-СПб., 1994. Вып. 15.
25 Дурылин С. Н. Сливное дерево. Венец лета. Сентябрь-декабрь // МА ДМД. КП-262/8. Л. 14.
26 Дурылин С. Н. Христос Воскресе. Стихотворения. 1930. Томск // МА ДМД. КП-262/10.
27 Дурылин-1. С. 223.
28 Там же. С. 693.
29 Там же. С. 224.
30 Дурылин С. Н. В своем углу // МА ДМД. КП-265/19. Л. 136.
31 Мемориальный архив Мемориального Дома-музея С. Н. Дурылина. КП-4333/1. Л. 6 (далее сокращено: МАДМД).
32 Христианское богословие никогда не рассматривало материю как зло, напротив, оно боролось с гностицизмом и оригенизмом.
33 В свое время на этот образ обратил внимание Н. С. Лесков, упомянув его в «Очарованном страннике».
34 Филатов В. В. Словарь изографа. М., 1997. С. 213.
35 Платон. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 155.
36 Платон. Соч.: В 2 т. С. 157.
37 Дурылин-1. С. 57.
38 Там же. С. 107.
39 Дурылин С. Н. Бегун //Дурылин-2. С. 808–810.
40 См. напр.: Киприан (Керн), архим. Антропология свт. Григория Паламы. М., 1996. С. 353–385.
41 Это утверждал уже прп. Иоанн, который особо подчеркивал сродство человека и Ангелов, например в том, что Ангелы обладают свободной волей, могут изменяться к добру или злу. Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. С. 118.
42 Дурылин-2. С. 539.
43 Там же.
44 30 июня. Канон. Стихира на хвалитех. Гл. 4.
45 19 июня. Канон. Гл. 1. Песнь 1; 30 июня. Стихира на хвалитех. Гл. 4. Седален. Гл. 4; 19 июня. Канон. Гл. 1. Песнь 1; 11 июля. Канон. Гл. 7; Песнь 5. См. также каноны 30 апреля, 9 октября, 16 ноября, 30 ноября и др.
46 Григорий Богослов, свт. Собрание творений. В: 2-х т. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Т. 1. С. 527. Ср.: Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. С. 118.
47 Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. СПб., 1894. С. 148.
48 Палама Григорий, свт. Беседы (Омилии) / Пер. с греч.: архим. Амвросий (Погодин). Монреаль, 1965. С. 32.
49 Там же. С. 79.
50 Дурылин С. Н. Об ангелах // Дурылин-2. С. 540.
51 Там же. С. 539.
52 Дурылин-1. С. 66.
53 Дурылин С. Н. Недомерок // МА ДМД. КП-4333/1 Л. 3.
54 Дурылин С. Н. Сладость ангелов // Дурылин-1. С. 227–229.
55 Об этом пишет архиеп. Василий (Кривошеин) в работе «Ангелы и бесы в духовной жизни»: «Весьма замечательно, что наша духовная борьба очень редко изображается как сражение Ангелов с бесами, но обычно как война человека с сатаной» (Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. 1952–1983. Нижний Новгород, 1996. С. 73.
56 Дурылин С. Н. Сладость ангелов // Дурылин-1. С. 224–225.
57 Дурылин С. Н. Троицкие записки // МА ДМД. КП-2075. Л. 8.
58 Дурылин С. Н. Сладость ангелов // Дурылин-1. С. 228.
59 А. И. Резниченко считает, что прототипом юродивого послужил Иван Яковлевич Корейша.
60 Дурылин-1. С. 149.
61 Через два года после «Гришкина беса» Марина Цветаева напишет поэму «Крысолов», в которой обманщик одурачивает не только детей, но и крыс.
62 Дурылин С. Н. Недомерок // МА ДМД. КП-4333/1. С. 12. Ср. в народных представлениях: Максимов С. В. Собрание сочинений. Т. 18. СПб., 1912. С. 28.
63 Дурылин С. Н. Недомерок // МА ДМД. КП-4333/1. С. 13
64 Буткевич Т. А. Воспоминания о Сергее Николаевиче Дурылине. 1903–1916 // КП-611/28. Л. 22.
65 Дурылин С. Н. Мышья беготня // Дурылин-1. С. 98.
66 Дурылин С. Н. В своем углу // МА ДМД. КП-265/17. Л. 119.
67 МА ДМД. КП-325/1. Л. 21.
68 Дурылин С. Н. Сладость ангелов // Дурылин-1. С. 233.
69 Дурылин С. Н. В своем углу // МА ДМД. КП-265/10. Л. 4.
70 Дурылин-1. С. 279.
71 Там же. С. 276.
72 Там же. С. 283.
73 Дурылин С. Н. Недомерок // МА ДМД. КП-4333/1. С. 6.
74 Дурылин-1. С. 366.
75 КП-262/7. Л. 8-12.
76 Дурылин С. Н. Покрой покровом // МА ДМД. КП-262/6. Л. 16.
77 Там же. Л. 6.
78 См.: Дурылин С. Н. К. Леонтьев-художник. Заметки. «Подлипки» // РГАЛИ. Ф. 1980. On. 1. Ед. хр. 21.
79 Дурылин-1. С. 277.
80 Там же. С. 281.
81 Там же. С. 159, 161.
82 Дурылин С. Н. Купец // МА ДМД. КП-262/17. Л. 8.
83 Дурылин С. Н. Послание к старому поэту // МА ДМД. КП-262/4. Л. 78.
84 См. письмо К. Н. Леонтьева В. В. Розанову от 13 августа 1891 // Русский вестник. 1903. № 6.
85 Дурылин С. Н. Эллису // МА ДМД. КП-262/4. Л. 78. Стихотворение датировано 1911 г.
86 Дурылин-1. С. 685.
87 Дурылин С. Н. Об ангелах // Дурылин-2. С. 543.
88 Дурылин С. Н. Сударь-кот // Дурылин-1. С. 329.
89 Дурылин С. Н. Гришкин бес//Дурылин-1. С. 169.
90 Дурылин С. Н. В своем углу // МА ДМД. КП-265/7. Л. 83.
91 Дурылин С. Н. Сударь-кот//Дурылин-1. С. 270.
Дар веры
Православные писатели русского Зарубежья А. М. Любомудров
Проза
В данном разделе рассматривается бытование и эволюция христианской традиции в русской литературе XX столетия. То, что элементы христианской традиции присутствуют в художественной литературе Нового времени, включая XX век, не вызывает сомнений. Но есть ли примеры, когда эта традиция была усвоена художником вполне сознательно? Возникает вопрос, способна ли в принципе христианская традиция стать определяющей в творчестве художника, то есть стать его основой и, соответственно, воплотиться в художественном тексте. По отношении к отечественной словесности вопрос формулируется так: возможна ли православная художественная литература?
Сегодня можно встретить противоположные ответы на этот вопрос. Одни утверждают, что духовная художественная литература несостоятельна. Религия и светское творчество – слишком разные, внеположные сферы, попытки их соединения ведут к утрате художественности, превращают литературу в проповедь, порождают безвкусицу и банальность. Другие подчас едва ли не всю отечественную классику называют христианской, но благое намерение исследователей – отстоять ценности веры – приводит к насильственному и неоправданному «укладыванию» литературного произведения в христианскую парадигму. Это другая крайность – «православие без берегов». Говорить о том, что вся русская классика опиралась на евангельские истины, конечно, нельзя, а присутствие отдельных элементов (например, этических) вероучения еще не делает произведение всецело «христианским».
Какую же литературу можно в точном смысле слова называть православной? На наш взгляд, главный признак – воплощенное автором православное мироотношение. То есть миропонимание, которое основывается на христианском учении о мире, о человеке, об истории и вечности. Такое произведение так или иначе отражает высшую, духовную реальность, учитывает ее действительное присутствие в бытии.
Как известно, с наступлением Нового времени пути культуры и Церкви разошлись. Движение литературы происходило уже вне сферы религиозной: взгляд на мир, понимание человека все более отдалялись от христианских. И Церковь как богочеловеческий организм, и православное мироотношение оказывались вне сферы художественного внимания. Но, выйдя из храма, литература искала пути в храм, и этот поиск, со своими блужданиями и обретениями, отчетливо прослеживается в судьбе русских классиков XIX века.
Если быть точным в определениях, придется признать, что никто из этих классиков не может безоговорочно называться «православным писателем». То есть таким писателем, в художественном творчестве которого последовательно выражено христианское мироотношение. Например, Пушкина можно назвать христианским поэтом только в том отношении, что в некоторых его творениях воплощены некоторые (местами очень глубокие) христианские смыслы, есть прозрения, касающиеся человеческой души, основ бытия. Но нельзя всерьез называть Пушкина «православным художником». Гоголь, человек глубокой веры, аскетической молитвенной жизни, сознательно стремился создать образцы христианского творчества, но потерпел неудачу. Его шедевры, «Мертвые души» и «Ревизор», никто не называет «православными книгами». Философско-религиозные открытия Достоевского поражают дерзновенными вопрошаниями, глубинами духа. Этот писатель привлек внимание образованного общества к метафизике христианства, поставил религиозные вопросы, важнейший из которых – теодицея. Но мир художника слишком индивидуален, его тезисы слишком субъективны и порой далеки от христианского учения, его мироощущение слишком «достоевское», чтобы можно было без оговорок называть его носителя «православным писателем». Много справедливого в оценках К. Леонтьева, который иронически зачислил Достоевского в разряд «наших новых христиан».
Не замечала Православную Русь и интеллигенция рубежа XIX–XX веков. В литературе возобладали две традиции, в равной степени принадлежащих к модерну (в том значении этого слова, которое постулировано в данной монографии). Реалистическая, «знаниевская» литература провозглашала человекобожие и принципиально игнорировала мистическую реальность Церкви. Поэзия серебряного века была увлечена внецерковной мистикой, поисками третьего завета, разного рода оккультными и теософскими проектами. Диалог Церкви и светской культуры, едва начавшись, зашел в тупик. Участники религиозно-философских собраний предъявляли Церкви давние претензии, видели в ней лишь чиновничью организацию и не вникали в ее мистическую суть.
Красота и истина православной культуры в начале XX века только начинала приоткрываться, но происходило это в иных, нежели литература, сферах, – прежде всего в изучении древнерусской культуры, когда, например, был осознан духовный смысл русской иконы.
Исторический парадокс: православные русские писатели появились вне пределов России. Надо было стать свидетелями «невиданных перемен и неслыханных мятежей», пройти через море страданий, оказаться выброшенными далеко за пределы родины, чтобы открыть чистый источник православной веры.
Совершилось уникальное событие в истории всей русской литературы Нового времени: возникла плеяда литераторов, в чьем творчестве христианская традиция не просто «проявлялась», но обрела центральное, основополагающее место. Навсегда лишенные родины, вдали от ее пределов, остро переживающие российскую катастрофу, они открыли «Россию Святой Руси» и воплотили ее образы на страницах своих книг. Но самое важное: впервые в отечественной словесности в их художественном мире проявилось целостное православное мироотношение. Православная вера стала не только центром их личности, главным жизненным ориентиром, но и основой духовных координат их художественного мира.
Таких писателей в литературной эмиграции первой волны было немного. Среди них выделяются два ярких имени. Это классики, чей вклад в отечественную литературу велик и бесспорен – Иван Шмелев и Борис Зайцев. К ним примыкает ряд прозаиков, оставивших менее объемное литературное наследство, но несомненно талантливых – Л. Буров, В. Никифоров-Волгин, Н. Фёдорова, П. Краснов. Русская эмиграция породила плеяду поэтов, твердо вставших на почву православной веры – Туроверов, Гессен, Бехтеев, Савин и другие. Своеобычен был путь молодой писательницы Н. Городецкой: ее приобщение к православию было настолько глубоким, что она, оставив беллетристику, обратилась к богословию и миссионерской деятельности.
Развитие христианской традиции в творчестве этих художников и будет рассмотрено в настоящем разделе.
И. С. Шмелев
Духовный путь Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950) тернист, полон срывов и восхождений, необычайно драматичен, но и в той же степени показателен. Самый православный, казалось бы, из русских классиков, он в действительности до конца дней находился под влиянием разных социальных, философских, религиозных доктрин, и страстность, с которой отстаивают его персонажи свои позиции, – следствие той внутренней борьбы, что проходила в душе художника между светским и церковно-христианским началами. Хорошо знавшая писателя, К. В. Деникина точно назвала его «богоищущей душой».
Детство Шмелев провел в атмосфере воцерковленного замоскворецкого быта, под благим водительством верующих родителей и плотника Горкина, приобщивших маленького Ивана к Православию. В юности, увлекшись идеями дарвинизма, толстовства, разного рода проектами социального переустройства общества, Шмелев на долгие годы отошел от Церкви и стал, по собственному определению, «никаким по вере». Творчество Шмелева с 1900-х и примерно до середины 1920-х годов далеко отстоит от каких-либо метафизических проблем. В нем практически не затрагиваются вопросы бытия Божия, религиозного сознания. Гуманистические по духу дооктябрьские произведения вдохновлены надеждами на земное счастье людей в «светлом будущем», упованиями на социальный прогресс и «просвещение» народа. Писателя занимают социальные и нравственно-психологические аспекты личного и народного бытия. Однако уже в раннем творчестве Шмелева присутствует глубочайшая любовь и сострадание к человеку. Писательский дар Шмелева изначально был предрасположен к отображению позитивных начал, отмечен способностью обнаруживать их в обыденной действительности.
Восторг, с которым Шмелев встретил февральскую революцию, быстро сник. Октябрьский переворот, ужасы крымской резни 1920–1921 годов, расстрел сына привели к тяжелой душевной депрессии.
Картина гибели всего живого в Крыму в период красного террора открывается в эпопее Шмелева «Солнце мертвых» (1924). В этой книге он рисует торжество зла, голод, бандитизм, постепенную утрату людьми человеческого облика. Стиль повествования отражает запредельное отчаяние. Рефреном проходит через эпопею образ «пустых небес»: «Бога у меня нет: синее небо пусто». Автор оказывается бессилен найти ответ на вопрос, как мог осуществиться в мире такой разгул безнаказанного зла, «куда свалился великий человеческий путь» и почему вновь настал «каменный век». «Лица Твоего не вижу, Господи! Чую безмерность страдания и тоски… ужасом постигаю Зло, облекшееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его рык зычный, звериный язык…». Вместо Солнца Правды восходит Солнце Мертвых, которое играет «и на штыке», которое «и в мертвых глазах смеется»1. Покинул ли Бог человека? Или человек не может разглядеть Его во мгле торжествующего зла? Эти вопросы – главные для Шмелева первых лет эмиграции.
Рассказы и повести 1920-х годов отражают крушение просветительско-народнической идеологии. Одной из магистральных тем его творчества становится беспощадный суд над либеральной интеллигенцией, которая соблазнила народ, «отняла» у него Бога и пробудила разгул низменных страстей, жертвой которых сама же и пала. Творчество этих лет проникнуто острой болью за поруганную родину и ее оскверненные святыни, за народ, на который излилось море нечеловеческих страданий. Вместе с тем Шмелев резко осуждает европейский мир, который также способствовал разрушению России. Он обличает бездуховность, приземленность современной западной цивилизации, в которой комфорт, удобства и развлечения стали главной целью существования.
До середины 1920-х годов христианство для Шмелева не связано с жизнью Церкви. Заметки Шмелева, где религиозные мотивы были бы на первом плане, немногочисленны. В статье «Пути мертвые и живые» (1924) автор утверждает, что возрождение России должно происходить «на основе религиозной, на основе высоконравственной, – Евангельское учение деятельной любви» [7, с. 329]. Выбирая из Евангелия только нравственную составляющую и прилагая ее к земному, национально-государственному устроению России, Шмелев остается далек от мистической и догматической полноты христианства. Публицистика Шмелева – это философия возрождения России, но не проповедь христианской веры. Высшая ценность для писателя, единственная его настоящая вера – вера в родину и родной народ. Святыни России, ее религия воспринимаются им как атрибуты, а не сущностные основы. Православие выступает элементом русской культуры, а православная вера, живущая в народе, – чертой национального характера. Сама святость русских подвижников рассматривается им не как таинственная сопричастность Богу, но как воплощение духа и плоти народа, «народного Идеала, русского Идеала, народной Правды» [2, с. 435].
Все творчество Шмелева зрелой поры – не воплощение устоявшегося мировоззрения и мироотношения, но поиск ответов на вопросы, мучительное желание постичь тайны бытия. Творчество было для Шмелева целительным процессом, где он изливал всю боль и страдание души и, как верно подметил И. А. Ильин, пытался «заклясть» тьму и зло.
Чтобы как-то утишить боль от созерцания поруганной, разоренной России, избавиться от мучительных картин пережитого кровавого кошмара, Шмелев обращается к годам далекого детства. Отбросив багаж юношеских идей, более поздних теорий и представлений, открывает заново то, что некогда наполняло и питало его душу. Он всматривается в себя самого, когда-то по-детски доверчиво принявшего истину, и запечатлевает мировосприятие верующего ребенка. Так, начиная с 1927 года, появляются рассказы, впоследствии составившие самую знаменитую его книгу-«Лето Господне» (1927–1944). К ней вполне применимы евангельские слова: «…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» [Мф. 18: 3]. Повествование ведется от лица ребенка, поэтому отсутствует «взрослая» рефлексия: восприятия, переживания, мысли героя именно детские, но в то же время они очень серьезны и онтологичны.
В «Лете Господнем» Шмелев чрезвычайно полно и глубоко воссоздает церковно-религиозный пласт народного бытия. Он рисует жизнь людей, неразрывно связанную с жизнью церковной и богослужением. Смысл и красота православных праздников, обрядов, треб, обычаев, остающихся неизменными из века в век, раскрыт настолько точно, что книга и в эмиграции, и дойдя до современного русского читателя, стала для многих верующих настольной книгой, своеобразной энциклопедией. Именно здесь, впервые в творчестве Шмелева, в психологических переживаниях, эмоциях, молитвенных состояниях персонажей, среди которых есть и грешники, и святые, открывается душевно-духовная жизнь православного христианина.
И. А. Ильин отмечал, что Шмелев создал «художественное произведение национального и метафизического значения», запечатлевшее «источники нашей национальной духовной силы»2. Эти же слова можно отнести и к повести «Богомолье» (1931), где в картинах паломничества в Троице-Сергиеву Лавру предстают все сословия верующей России. Подвижническое служение «старца-утешителя» Варнавы Гефсиманского воссоздано Шмелевым с признательной любовью. Ведь именно этот старец прозрел и укрепил писательский дар в юноше-«невере», приехавшем в скит за благословением лишь по настоянию молодой супруги (см. очерк «У старца Варнавы»). В «Богомолье» Шмелев описал живое соприкосновение с миром святости. И это воспоминание оказалось спасительным для самого художника.
Христианская традиция постоянно развивается и углубляется на протяжении всего эмигрантского периода художника.
Лирический, отчасти автобиографический роман Шмелева «История любовная» (1927) повествует о драматических чувствах подростка, в котором идеальная романтическая любовь вступает в конфликт с греховным плотским желанием. Книга насыщена православной символикой. В этом романе, как отмечает Е. Осьминина, поэтика обретает новые качества под влиянием становления религиозного мировоззрения: «…наряду с прежним натурализмом и бытописательством появляется символика, связанная с православным каноном. Она проявляется на всех уровнях художественного текста: в композиции, образах, сценах, деталях, языке»3.
Роман «Няня из Москвы» (1934), написанный в излюбленной Шмелевым форме сказа (в которой писатель достиг непревзойденного мастерства), – это повествование бесхитростной русской женщины, попавшей в бурный водоворот событий истории XX века и оказавшейся на чужбине. Глубокая вера, внутреннее спокойствие, безграничная доброта и духовное здоровье позволяют Дарье Степановне трезво оценивать все происходящее с людьми и страной. В простых словах няни о грехе и воздаянии открывается смысл страданий России – необходимой и спасительной кары для ее очищения и воскрешения. Ласковое, певучее народное слово, меткое и образное, с неслучайными оговорками и поговорками высвечивает пустоту либеральных фраз ученого профессора, уродливо-извращенный мир декаданса, пошлость и механистичность американской цивилизации. С добрым юмором показан беспечный, своенравно-капризный характер воспитанницы няни, запутавшейся в своих любовных переживаниях; с сочувствием – нелегкие судьбы солдат Добровольческой армии в эмиграции.
Существенно новое в творчестве писателя – то, что роман выявляет не просто «красоту народной души», но именно цельное православное мировоззрение, подлинно христианские взгляды на мир, человека и все происходящее с ним. Бесхитростный рассказ няни о пережитых событиях позволяет оценить замечательные черты ее личности: деятельную любовь и самоотверженное служение ближним, поразительное незлобие и поистине христианское всепрощение и терпение. Центральное место в ее сознании занимает понятие греха; и все, происходящее с ней, с окружающими, она воспринимает в координатах: грех – наказание за грех – искупление его через страдание. Это относится как к отдельным людям, так и к судьбе всей России; тот ответ, который Шмелев мучительно искал долгие годы, пытаясь понять, почему произошла русская катастрофа, он находит в христианском взгляде на историю. В простых фразах няни открывается и великий смысл страдания – то, перед чем прежде в недоумении останавливался Шмелев. Голгофа России оказывается заслуженной карой, необходимой для ее очищения и воскрешения. В страданиях, теряя подчас здоровье и богатство, герои романа обретают душу, приходят к Истине.
Поэтический очерк «Старый Валаам» (1936) вводит читателя в мир православного русского монастыря, рисует жизнь, погруженную в атмосферу святости. С светлой грустью вспоминая свою юношескую поездку на остров, Шмелев показывает, как монашеское бытие озаряет человеческую жизнь светом вечности, претворяет скорбь в высокую радость. На святом острове открываются иные измерения жизни, иные категории бытия, которые за мирской суетой трудно разглядеть. Монахи, пишет Шмелев, оказываются «неизмеримо богаче меня духовно, несмотря на мои "брошюрки" и "философии"»; «они как-то достигли тайны – объединить в душе, слить в себе нераздельно два разных мира – земное и небесное» [2, с. 381].
Образы Святой Руси наполняют многие рассказы, повести и очерки Шмелева.
В очерке «Милость преподобного Серафима» Шмелев рассказал, как после горячей молитвы преподобному он имел некое видение во сне, реально ощутил присутствие и поддержку святого и получил вскоре облегчение в болезни, так что намеченная операция была отменена. «Во мне укрепилась вера в мир иной, незнаемый нами, лишь чуемый, но – существующий подлинно» [2, с. 341]. Реальность вхождения небесных сил в земную действительность – вот что с воодушевлением переживает Шмелев: «А Он все видит, все знает и направляет так, как надо. Ибо Он в разряде ином, где наши все законы Ему яснее всех профессоров, и у Него другие, высшие законы, по которым можно законы наши так направлять, что «невозможное» становится возможным» [2, с. 344].
Цельностью и совершенством построения сюжета отличается повесть «Куликово поле» (1939) – о чудесном явлении в Советской России преп. Сергия Радонежского, ободряющего и укрепляющего оставшихся там христиан.
Тема реальности действия Божественного Промысла в земном мире получила широкое воплощение в итоговом произведении писателя – романе «Пути небесные» (т. I – 1937; т. II – 1948). Роман воссоздает судьбы реальных людей, выведенных под своими собственными именами, – скептика-позитивиста, инженера В. А. Вейденгаммера (родственника жены Шмелева) и глубоко верующей, кроткой и внутренне сильной Дарьи Королевой – послушницы Страстного монастыря в Москве, покинувшей обитель, чтобы связать свою жизнь с Вейденгаммером. Книга посвящена таинственному пути соединения человека с Богом, спасению души. В письмах Шмелев неоднократно говорил о том, что его захватило «чудо перерождения. Да, на моих глазах, невер – стал вером, до… клобука! Это – действительность. Меня всегда мучил (и теперь, о, как еще!) этот таинственный процесс преображения. <…> Этот путь всегда меня пытал, нудил… – приоткрой ход… познай хоть «чуть-чуть», как это делается».4
Шмелев, ставил задачи, которые, по его мнению, не удалось решить русской классике: показать путь обретения веры интеллигентом-скептиком и воплотить образ воцерковленной, глубоко верующей женщины: «Знаю: такое не удалось ни Достоевскому, ни Леонтьеву, ни Лескову, ни Гоголю».5
В истоках замысла книги лежал и глубоко личный мотив. Роман для Шмелева – «опыт», поставленный, чтобы ответить самому себе на мучавшие его вопросы. «Я – до сей поры – Бога ищу и своей работой, и сердцем (рассудком нельзя!). Мне надо завершить мой опыт духовного романа…»6 – признавался он Ксении Деникиной.
Шмелев задумал новый тип романа, который был бы основан на сознательно-православном мировоззрении. Он называл его «опытом духовного романа». И «Пути небесные» действительно стали уникальным явлением в русской литературе: в основе раскрытия судеб и характеров лежит святоотеческая культура, православное аскетическое мировоззрение. Вместо столь привычного для классики психологизма мы встречаем здесь отражение именно духовной жизни души. В основе раскрытия судеб и характеров героев лежит святоотеческая духовная культура, православное аскетическое мировоззрение – те традиции, которые оставались чуждыми для секуляризованной светской культуры XIX–XX веков.
Внутренним сюжетом книги является невидимая «духовная брань» героев со страстями, искушениями и нападениями злых сил. Даринька – новый для русской классики тип глубоко воцерковленного человека. Молитвенный подвиг, упорная и жестокая борьба с грехом в себе и внешними соблазнами, скорбь от тяжких падений и духовная радость побед, благодатные озарения – эти моменты нашли проникновенное и многогранное воплощение на страницах последнего романа писателя. Шмелев раскрывает самые глубины духовной жизни героини, для которой вера не какая-то внешняя идея, но основа бытия, определяющая все ее существование. Такой тип – православного церковного человека – был до Шмелева незнаком русской классике. Отражение церковного бытия христианина стало новым для русской литературы явлением.
Еще одна тема романа – смиренное следование человека божественной воле. Героям постепенно открывается тайна промысла Божия. Пути небесные, которыми они ведутся к спасению, – это цепь таинственных совпадений, знаков, вразумлений, их смысл постепенно обнаруживается со временем.
При всех достоинствах книги, ее, однако, нельзя оценивать как идеальное православное художественное произведение. Некоторых творческих «соблазнов и искушений» оказался не чужд и сам Шмелев.
В реальности все, что происходило с героями после ухода Дариньки из монастыря, было расплатой за их грехи. Эта история закончилась трагической гибелью Дарьи и последующим преображением Виктора Алексеевича, который по совету старца поступил в монастырь. Все эти события должны были составить сюжет четырех томов романа, из которых Шмелев успел написать только два.
Тема покаяния, в христианской этике необходимо предполагающего отказ от греха, осталась не до конца реализованной в книге. Более того, нарушение заповеди, нераскаянный грех начинает художественно оправдываться. «И, закрыв последнюю страницу, не зная того, что было потом, читатель вправе подумать, что можно совершать "путь восхождения", преступая заповедь Божию», – справедливо пишет прот. Сергий Гомаюнов.7 Вымышленный автором совет старца Варнавы Дариньке «не оставлять» Виктора Алексеевича, то есть продолжать беззаконное сожительство, не находит аналогий в опыте православного духов-ничества. В жизнеописании старца приводится много советов, иногда парадоксальных, но нет ни одного, хотя бы отдаленно напоминающего тот, который он дает героям в романе. В аналогичных ситуациях старец своими наставлениями и молитвой всегда оберегал святость венчанного брака, восстанавливал его.
Во втором томе духовная составляющая романа все более отдаляется от христианского миропонимания. Образ Дариньки, кающейся и смиренной грешницы, постепенно вытесняется образом святой, творящей даже чудеса. Героиня, скромная золотошвейка, молитвенница, предстает теперь – в глазах и автора, и героев – одним из воплощений Вечной Женственности. Истоки такого видения коренятся в значительной мере в эстетических и философских составляющих русского символизма начала XX века. Искусительная идея Вечной Женственности оказала воздействие на творчество многих литераторов начала XX века, не избежал его и Шмелев. Влияние серебряного века с его утонченной образностью, душевностью, нецерковной мистикой, наследие эстетики символизма – вот что прямо и косвенно сказалось на «духовном романе» писателя.
Далеким от христианского оказывается и понимание Промысла, который герои и автор видят как предопределение свыше и часто называют «Планом». Мысль о предназначении каждого явления уводит от представления о Промысле и свободной синергии Бога и человека. Персонажи «Путей небесных» часто склоняются к мысли о фатальной предначертанности явлений. Виктор Алексеевич постоянно упоминает о «Божественных чертежах» и усматривает Божественный План «даже в грехопадениях, ибо грехопадения неизбежно вели к страданиям, а страдания заставляли искать путей» [5, с. 183]. Исследователи справедливо заключают, что «герои оказываются беспомощными перед страстями, а в самом понятии Пути начинает отсвечивать едва ли не фатальность»8. Но Божественная воля не может вести к совершению греховных дел, хорошо комментирует этот момент С. Гомаюнов: «Не став супругой, Даша лишается затем и дара материнства, что сопровождается гибелью младенца. А затем и сама трагически погибает (так было в реальности, так должно было быть показано и в романе). И странно думать, что вот таким и должен был стать ее путь, таков и был Промысл Божий о ней. Потому что Сам Господь говорил Своим ученикам: „Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“ [Лк. 9: 56]».9
Но несомненно, что во многих отношениях роман «Пути небесные» стал уникальным феноменом в русской литературе. Согласимся с оценкой, данной ему И. Ильиным: «Это первый <…> сознательно-православный роман в русской литературе. <…> Это роман ищущий и находящий; в этом его духовная сила. Это роман миро– и Богосозерцающего борения, и в этом его захват».10
И. Шмелева отличала особая любовь к атмосфере монастырской жизни. Совершая в 1936 г. поездку по Прибалтике, он останавливался в Псково-Печерском монастыре, дважды (в 1937 и 1938 гг.) посещал обитель преп. Иова Почаевского в Карпатах, а после войны планировал уехать в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилль (США). В письмах он признавался: «мне надо или родной воздух – монастырь, – или – не двинусь. <…> Меня влечет – туда, где я нашел бы „воздух» и волю… и – отсвет Руси… Здешним – уже не могу дышать»11.
Кончина писателя-подвижника глубоко символична: 24 июня 1950 г. в день именин старца Варнавы, некогда благословившего его «на путь», Шмелев приехал в русский монастырь Покрова Божией Матери (местечко Бюсси-ан-От) и в тот же день тихо предал душу Богу. Он был похоронен на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В 2000 г. исполнено завещание писателя: останки его и его супруги перенесены на родину и погребены рядом с могилами родных в московском Донском монастыре.
В чем же значение Шмелева в аспекте интересующей нас темы?
И. С. Шмелев убедительно продемонстрировал, что художественная литература может быть одновременно и церковно-православной. Он впервые в русской литературе широко и полно запечатлел воцерковленное бытие. Жизнь его персонажей неразрывно сопряжена с Церковью. Церковь и православная вера – главный ориентир, главная ценность воссозданного мира. Одна из важнейших особенностей духовного реализма Шмелева – прямое отображение участия Промысла в судьбах людей. Персональная воля Божия непосредственно становится одной из действующих сил, можно даже сказать, «действующим лицом» художественного произведения («Няня из Москвы», «Пути небесные», «Куликово поле»). Шмелев впервые широко ввел в литературу чудо как духовную реальность. Чудесные явления становятся в его творчестве предметом и рационального, и духовного исследования, доказательством явного и спасительного действия надмирной силы.
В своих книгах Шмелев касается вопросов о наличии в мире зла и страданий. Религиозное осмысление этих тем, высокий накал сострадания к человеку сближают его с Достоевским. Особенность духовного реализма Шмелева – до-кументализм: практически все персонажи и сюжеты главных его книг являются художественно переработанными образами и историями реальных людей и событий. Шмелев воссоздает не только социально-психологическую, эмоционально-душевную сферу, но именно духовную жизнь личности. Понимание человека, взаимодействия его телесной, душевной и духовной составляющих, картины «духовной брани» – все это представлено в свете именно православной антропологии, святоотеческого учения, – и этим книги Шмелева также выделяются на общем литературном фоне.
Эстетическая особенность духовного реализма Шмелева – в его повышенной эмоциональности, необычайной силе вещной образной выразительности. Важнейшим стилистическим приемом является сказ, для которого характерны мастерское перевоплощение автора в персонажей, способность объективировать их миропонимание, освободив его от авторской тенденции, выразительный язык, ориентированный на богатство народной речи. Художественная специфика творчества Шмелева – своеобразное мышление в образах, которое, учитывая его христианскую направленность, справедливо получило наименование «богословия в образах».
Шмелев отразил страстное борение человеческой души в поисках Бога. Христианское осмысление зла и страдания – доминанты его художественного мира, это хорошо почувствовал И. Ильин: «Через мрак он по-новому увидел свет и стал искать путей к нему <…>. И символом его творчества стал человек, восходящий через чистилище скорби к молитвенному просветлению».12
Итак, наследие Шмелева – значительный шаг на пути воцерковления творчества. Именно в этом смысле можно говорить не только о всероссийском, но и мировом значении этого художника. Вклад Шмелева в мировую культуру – художественное воплощение Православия.
Б. К.Зайцев
«В очень черной ночи церковь видна далеко; слишком светлы окна»13 – такой образ-символ нарисовал Борис Константинович Зайцев (1881–1972) в одном из ранних рассказов («Священник Кронид»). Художник был устремлен к этому свету уже в начале творческого пути. Кровавый ужас революции, захлестнувший Россию, окончательно привел Зайцева в Православную Церковь, верным чадом которой он оставался всю жизнь. Он увидел и принял сердцем Христову Истину, к которой его душа тянулась с юных лет. «Кровь, сколько крови! Но и лазурь чище. Если мы до всего этого смутно лишь тосковали и наверно не знали, где она, лазурь эта, то теперь, потрясенные и какие бы грешные ни были, ясней, без унылой этой мглы видим, что всего выше: не только малых наших дел, но вообще жизни, самого мира…» [9, с. 17]. С этого момента и до последнего дня в его творчестве, по собственным словам писателя, «хаосу, крови и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, Церкви» («О себе», [4, с. 589]).
Здесь важно каждое из названных писателем слов. Евангелие (понимаемое часто лишь как свод моральных наставлений или социальных доктрин) в той или иной мере принималось многими деятелями русской культуры XIX–XX веков. Но это отнюдь не делало их христианами в полном и точном смысле слова. Именно приобщение к Церкви было камнем преткновения для русской интеллигенции Нового времени. Б. Зайцев, войдя в Церковь в бурную эпоху революции, всю последующую жизнь оставался православным христианином в личном бытии и православным писателем в творчестве.
Оказавшись в 1922 году в эмиграции, Зайцев открывает «Россию Святой Руси, которую без страданий революции, может быть, не увидел бы и никогда» [9, с. 17]. Отныне свою миссию русского писателя-изгнанника он осознает как приобщение и соотечественников, и западного мира к тому величайшему сокровищу, которое хранила Святая Русь, – православию; как «просачивание в Европу и в мир, своеобразная прививка Западу чудодейственного «глазка» с древа России…» [9, с. 87].
Эту задачу художнику удалось реализовать едва ли не во всех жанрах прозы: романы, рассказы, повести, жития святых, паломничества, автобиографическая и мемуарная проза, литературные портреты, критика, очерки, публицистика.
Для Зайцева характерна плавность внутреннего духовного развития. В автобиографической заметке «О себе» (1943) он писал: «Владимир Соловьев <…> пробивал пантеистическое одеяние моей юности и давал толчок к вере <…> Вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные <…> в христианском духе», но полные еще «молодой восторженности, некоторого прекраснодушия наивного» [4, с. 588–589]. Определяющий мотив дореволюционных произведений художника – «смиренное принятие жизни». Критика тех лет отмечала, что лирической прозе Зайцева присущи «доверие к жизни и оправдание ее», «душевное равновесие», «просветленный оптимизм».
Сам стиль зайцевской прозы оказался адекватен для выражения православного мировоззрения. Он лишен напористой активности, художник не ищет выражения своей личности, самости. Он никогда не подчиняет объективный мир творческой субъективной воле, не пытается пересоздать или сконструировать его. Состояние автора иное: созерцание, слушание, запечатление в своей душе – и затем в слове – тех звуков, красок, ощущений, которыми наполнено бытие. Но важно еще, что и как «слушает» художник. Все творчество Зайцева пронизано устремленностью к иному, горнему миру. Образы неба, звезд, вечности, отзвуки мировой гармонии, столь характерные для раннего творчества, впоследствии конкретизируются в понятиях мира Божьего, Небесного Царства. Земная суета, биение человеческих страстей, быт знакомы, но малоинтересны писателю. Не случайно критики отмечали в его прозе некую облегченность от вещественной плоти, особую «прозрачность» бытия.
Не только стремление к «иному» делает Зайцева своеобразным «иноком» в литературе. От своих собратьев по «серебряному веку» его отличает особая умиротворенность и смирение. Смирение – главнейшая добродетель христианина, противоположная главному и страшному греху– гордости. Смирение, проявляющееся как принятие, оправдание жизни на ранних этапах творчества, позже, в христианском периоде (обнимающем полстолетия эмигрантской жизни), выступает как всеохватное мировоззрение. Это полное предание себя в волю Божию и твердое упование, что Господь Ему ведомыми путями ведет и спасает человека: «…верю, что все происходит не напрасно, планы и чертежи жизней наших вычерчены не зря и для нашего же блага. А самим нам – не судить о них, а принимать беспрекословно» [4, с. 591].
«Люди Божии» (так назван цикл миниатюр 1916–1919 годов) будут привлекать внимание писателя на протяжении всего творчества. Но это будут уже граждане не «иной республики», а Царства Небесного; и не просто «люди», но угодники Божии – православные святые.
Первая книга, написанная Зайцевым в эмиграции – «Преподобный Сергей Радонежский». Перелагая известный труд епископа Никона (Рождественского), рисуя труды и подвиги «игумена земли Русской», Зайцев ободрял своих соотечественников, изгнанных из России, часто впадавших в отчаяние, бедствовавших. Терпением, полаганием на волю Божию была исполнена жизнь подвижника, его смирение и молитвой духовно укреплялась Русь. Зайцев избежал политизации образа Сергия, обычной для сочинений иных писателей, историков, публицистов: в его книге отчетливо выражена мысль о том, что Сергий уходил в пустынь и основывал монастырь ради единственного, самого главного дела – спасения души, но Промыслом Божиим был призван к участию и в национально-государственном устроении Руси. «Сергий не особенно ценил печальные дела земли. <…> Но не его стихия – крайность. <…> Он не за войну, но раз она случилась, за народ, и за Россию, православных. Как наставник и утешитель <…> он не может оставаться безучастным» [7, с. 58]. Зайцев стремился показать облик русской православной духовности: устоявшемуся представлению, что все русское-«гримаса, истерия и юродство, достоевщина», Зайцев противополагает духовную трезвенность Сергия – примера «ясности, света прозрачного и ровного» [7, с. 69].
В 1925 году увидел свет роман Зайцева «Золотой узор». Беспечная, нравственно надломленная жизнь образованных слоев предреволюционной России сменяется страшной обстановкой расстрелов, лишений, террора Лубянки. Зайцев обнаруживает истоки национальной трагедии и те силы, которые способны противостоять ей. Этот роман – «суд и над революцией, и над тем складом жизни, теми людьми, кто от нее пострадал. Это одновременно и осуждение, и покаяние – признание вины» («О себе», [4, с. 590]). «Золотой узор» – книга о движении человеческой души к Богу, об обретении Истины и искуплении греха. Символична сцена, где Маркел и Наташа несут крест к могиле расстрелянного сына: «…крест мне показался даже легок. Было ощущенье – пусть еще потяжелей, пусть я иду, сгибаюсь, падаю под ним, так ведь и надо, и пора, давно пора мне взять на плечи слишком беззаботные сей крест» [3, с. 184]. Герои образуют «союз людей», творящих дела любви и смиренно несущих крест неслыханных испытаний, выпавших на их долю. Этот роман еще недооценен современной критикой. Между тем его вполне можно назвать «православным романом»: он написан православным автором и отчетливо выражает православный взгляд на мир. Впрочем, эти качества присущи всей прозе Зайцева эмигрантского периода (продолжавшегося более полувека).
Облик России трагической, «терзающей и терзаемой», воссоздан и в «повестях смертей» конца 1920-х: «Странное путешествие» (1926), «Авдотья-смерть» (1927), «Анна» (1929), которые критикой были признаны лучшими в художественном отношении произведениями Зайцева, однако сам писатель их «не любил». В его творчестве они, действительно, резко выделяются мрачным колоритом, жестким письмом, обилием жестоких сцен. Но трагизм их не безысходен: в темноте, под рев метели, опустившейся на Россию, молится «за всех» в своей комнатке хрупкая девушка, смиренная непреклонность которой является тем камнем, на котором утверждается Россия («Авдотья-смерть»).
На протяжении двадцати лет Зайцев создавал автобиографическую тетралогию «Путешествие Глеба», состоящую из книг «Заря», «Тишина», «Юность» и «Древо жизни» (1934–1953), охватывающую период с 1880-х по 1930-е годы. Автор определял ее жанр как «роман-хроника-поэма» и говорил, что главное действующее лицо в ней – Россия, «тогдашняя ее жизнь, склад, люди, пейзажи, безмерность ее…» [4, с. 591–592]. «Осмысляя образ Глеба, Зайцев подчеркивает в нем <…> черты, характерные для всего поколения в целом. <…> Созерцательный, пассивный и отчасти жертвенный характер героя соответствует облику его небесного покровителя – св. Глеба (наряду со св. Борисом), первого русского святого-мученика, завещавшего России свой "образ кротости"», – пишет Е. Воропаева.14 И здесь Зайцев воплощал идею доверия Творцу: «Вот он, Божий мир. <…> Да, пред нами. А над ним и над нами Бог. <…> И с нами. И в нас. Всегда. <…> Доверяйтесь, доверяйтесь Ему. И любите. Все придет. Знайте, плохо Он устроить не может. Ни мира, ни вашей жизни» [4, с. 288].
Вера в Божественный Промысел была присуща Зайцеву с юности до конца жизни. «Достоинство человека есть вольное следование пути Божию» [9, с. 372], – скажет он в напутствии молодым соотечественникам. Доверием Творцу проникнуты все работы Зайцева: ничто происходящее с человеком не является бессмысленным; в мире не бывает случайностей. Смысл происходящего подчас загадочен, непостижим и открывается только со временем.
С миром русского монашества Зайцев был знаком не только по книгам или историческим описаниям. В эмиграции он сближается с русскими церковнослужителями, многие из которых имели монашеский сан, часто бывает в православных обителях и братствах, созданных во Франции русскими эмигрантами. Несколько заметок писатель посвящает Сергиевому Подворью. Создает портреты церковных деятелей: митрополита Западно-Европейских Церквей Евлогия (Георгиевского), архимандрита Киприана (Керна), о. Георгия Спасского, епископа Кассиана (Безобразова). В очерке, посвященном 25-летию епископского служения Евлогия, с которым Зайцев был близко знаком, воссоздан духовный путь Владыки, благословленного еще в юности старцем Амвросием Оптинским и св. Иоанном Кронштадтским на принятие монашества. Зайцев находит общие черты в облике Евлогия и Патриарха Тихона: «Какая-то общая простая и спокойная, неброская, круглая и корневая Русь глядит из обоих, далекая от крайностей, бури, блеска»; «не будучи мучениками в прямом смысле, оба несут в себе некоторую Голгофу», причем в лице и деятельности Владыки Евлогия «православие как бы внедряется бесшумно, показывает себя Западу – совершается великий выход его на мировой простор»15.
К годовщине со дня кончины Святейшего Патриарха Тихона Зайцев написал очерк «Венец Патриарха», где вспоминает, как видел Патриарха во время церковного торжества в Москве в мае 1918 года. Зайцев подчеркивает приниципиальную позицию Святителя Тихона, его завет страдающей, распинаемой Руси: смиренно неся Крест Господень, «побеждать не оружием, а духом». В непримиримой вселенской битве «мира креста» и «мира звезды» победа предрешена, и Россия, по мысли Зайцева, останется недоступной для самых яростных врагов, если только будет прибегать к этой защите – Животворящему Кресту, «победе непобедимой».
Борис Зайцев оставил непревзойденные шедевры паломнической прозы. Его описания Св. Горы Афон и Валаамского монастыря – лучшие в русской литературе XX столетия.
Паломничество на Афон в мае 1927 года Зайцев считал впоследствии провиденциальным, важнейшим событием в своей биографии. При создании книги «Афон» (1928) перед Б. Зайцевым возникла та же трудность, что стоит перед каждым литератором, пишущим о духовных реалиях. Сам писатель, несомненно, в полной мере ощущал святость Афона, благодать, наполняющую его монастыри и келии. Но как передать этот опыт в словесной форме?
В книге «Афон» отчетливо видны характерные черты художественного метода Зайцева, который воплощает в своих очерках преимущественно эстетическую, внешнюю сторону святынь (связанную, конечно, с их внутренней красотой), передает впечатления и ощущения «путешественника», надеясь, что читатель заинтересуется малоизвестными ему «объектами» и через эстетику, может быть, получит толчок к более глубокому и опытному познанию православного христианства. Очерки Зайцева принципиально отличны от собственно религиозной литературы, и во вступлении к «Афону» мы находим его программное заявление: «…Богословского в моем писании нет. Я был на Афоне православным человеком и русским художником. <…> Я пытаюсь дать ощущение Афона, как я его видел, слышал, вдыхал» [7, с. 76]. Собственно, ко всем книгам и очеркам Зайцева применимы слова, раскрывающие его метод: «…тайная миссионерская "сверхзадача" книги – приобщить читателя к миру православного монашества – глубоко скрыта под внешне ярким, как бы сугубо светским описанием…»16.
В книге «Афон» есть важное место, где открывается смысл происходящего с Россией. В беседе со старцем-отшельником, к которому добирался трудно и долго, Зайцев получил подтверждение своим раздумьям о промыслительном значении русской катастрофы. Старец говорит, что Россия страдает за грехи, а в ответ на недоумение собеседников, почему не наказана также Европа, давно отвернувшаяся от Бога, поясняет: «Потому что возлюбил (Господь Россию. – А. 77.) больше. И больше послал несчастий. Чтобы дать нам скорее опомниться. И покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на чей не похожий» [7, с. 109]. Эта беседа со старцем, живущим на вершине горы, – одна из главных духовных вершин книги.
Книга «Валаам» (1936), написанная по впечатлениям от этой поездки, представляет собой глубоко лирическое, исполненное поэзии описание валаамского архипелага. Как и в «Афоне», Зайцева привлекает «внутренняя, духовная и поэтическая сторона Валаама». Автор не говорит о ней прямо – она открывается как отклик в душе читателя на те настроения, пейзажи, портреты, которые рисует художник. Метод писателя – не «разъяснять» отдельные моменты монашеского жития, а дать читателю возможность почувствовать этот мир, пережить вместе с автором минуты тихого созерцания.
Духовный путь Бориса Зайцева отмечен характерной особенностью: его детство, юность прошли вблизи величайших святынь русского православия, но он оставался вполне равнодушен к ним. Зайцев несколько лет жил неподалеку от Оптиной Пустыни, но ни разу не побывал в ней; часто проезжал в имение отца через Саровский лес, но Саровская обитель не вызывала у него никакого интереса. И только в эмиграции, навсегда лишенный возможности поклониться этим святым местам, Зайцев постигает их великое духовное значение и в своих очерках совершает мысленные паломничества в них. Небольшой очерк-эссе «Оптина Пустынь» (1929) проникнут любовью и благоговением к великим оп-тинским старцам. Зайцев размышляет о том, как могло бы протекать его путешествие в Оптину в конце прошлого века, представляет в воображении свою встречу со старцем Амвросием – человеком, «от которого ничто в тебе не скрыто»: «Как взглянул бы он на меня? Что сказал бы?». Писатель преклоняется перед безмерной любовью старца к людям, «расточавшего», «раздававшего» себя «не меряя и не считая». Завершается очерк скорбными словами о запустении Оптиной. Но сегодня мы видим, сколь провидческими оказались строки очерка о том, что Оптина ушла «на дно таинственного озера – до времени» [7, с. 330, 332].
Очерк «Около св. Серафима. (К столетию его кончины)» (1933) проникнут чувствами сокрушения и раскаяния автора, только в эмиграции осознавшего величие этого святого. Писатель строит свой рассказ на книжных источниках, приводя примеры поразительных чудотворений Старца из «Дивеевской летописи», свидетельство Н. А. Мотовилова об одном из высочайших мистических откровений, когда собеседникам по молитве святого на минуту приоткрылась тайна преображенного Духом Святым бытия, произошло явление Царства Божия на земле. Автор находит художественный образ, который помог бы лучше ощутить личность святого. Если в книге о преподобном Сергии Радонежском чудотворец представал как «святой плотник с благоуханием смол русских сосен», слегка «суховатый» и «прохладный», то в св. Серафиме художник подчеркивает ослепительное сияние его личности, «раскаленный свет Любви», вокруг него как вокруг солнца – «сияющая атмосфера с протуберанцами». Очерк Зайцева завершается словами: «Может быть, и скорей почувствуешь, душою встретишь св. Серафима на улицах рабочего Бианкура, чем некогда в богатом и комфортабельном доме Балыковского завода» [7, с. 370].
Темы монашества проходят через все творчество писателя.
Впервые в русской литературе главным героем романа стал монах. Речь идет об одном из лучших романов Б. Зайцева – «Дом в Пасси».
В одном из узловых мест книги, в беседе-исповеди генерала с монахом Мельхиседеком, затронут один из самых трудных вопросов христианского исповедания – о смирении, отношении к злу, о любви к ближним и прощении врагов. Генерал не прощает не только тем, кто «Россию распял». Он не может примириться и с тем, что «дурные торжествуют, богатые объедаются, сильные мира сего продажны». Это, однако, не карамазовский бунт против Творца, а мучительное недоумение, оттого что «зла и безобразия в мире слишком много». В ответ Мельхиседек предлагает разрешить этот вопрос не теоретически, а практически – путем молитвы: эта великая тайна постигается не рационально, а в опыте мистического откровения. Именно в этой беседе Мельхиседек произносит слова, которые являются главными в романе: «И смириться, и полюбить ближнего цели столь высокие, что о достижении их где же и мечтать… Но устремление в ту сторону есть вечный наш путь. Последние тайны справедливости Божией, зла, судеб мира для нас закрыты. Скажем лишь так: любим Бога и верим, что плохо он не устроит…» [3, с. 313]. Эту столь дорогую для него мысль Зайцев повторял во многих своих творениях.
Присутствие иного мира, невидимой реальности, чьего-то взгляда свыше, внимательно следящего за всем происходящим в мире земном, говоря конкретнее, присутствие в мире Бога, «ощущаемое» в произведении, позволяет определить реализм Зайцева не просто как «новый» или «импрессионистический», но именно как христианский, духовный. Этот реализм отражает реальность
Божией правды, духовных законов, реальность свободной воли человека, избирающего путь спасения – или служения плоти, угашающего дух.
Закономерно, что последним художественным произведением писателя стало повествование о монахах – рассказ «Река времен» (1964). Зайцев рисует два монашеских типа, у каждого из которых – свои достоинства и свои немощи. Архимандрит Савватий – человек неколебимой и простой веры. Он монах «кондовый, коренной», из народа, всегда бодр и весел, бесхитростно мечтает о епископской митре. Архимандрит Андроник пришел в монашество из интеллигенции. У него душа ученого и художника, тонко чувствующего поэзию мира (прототипом послужил духовник семьи Зайцевых архимандрит Киприан Керн). Монашеский подвиг дается ему с трудом: он молод, испытывает приступы тоски и уныния, мучается нерешенными вопросами бытия, разбирается в своей «запутанной душе»… Автору, пожалуй, ближе этот тип отрешенного от плоти земли мечтателя, любящего звездное небо, чувствующего вечность.
Зайцев всегда особенно чутко относился к страданиям за Христа, поэтому столь значима в его творчестве тема современного мученичества. И в далекой России, и в современной Франции он видит и всегда откликается на примеры реальных страданий за веру. Тема Креста, новой Голгофы остро волнует художника. Он часто пишет о том, что в нынешнее время, в XX веке, как бы возвращаются времена первохристианства, когда Церковь снова становится беспощадно гонимой, а подлинные христиане бедствуют и нищенствуют, идут на страдания и смерть за исповедание своей веры. И он стремится увековечить память тех, кто принял муки от безбожных гонителей.
Таковы отклик на кончину в Крыму Аделаиды Герцык «Светлый путь (Памяти А. Г.)» – поэтессы, которая во время террора и голода, посреди смерти и беззакония слагала стихи – гимны Богу; заметки «Крест» – о похищении советскими агентами в Париже генерала А. Кутепова, «У Короля» – о злодейском убийстве короля Югославии Александра. В зарисовке «Спас на Крови» Зайцев вспоминает близких ему людей, погибших в годы революции, и надеется, что рано или поздно, в память всех замученных и невинно убиенных, всех новомучеников Российских будет воздвигнут в Москве, в сердце новой России, храм «на крови».
Тема России звучит в каждой строке Б. Зайцева, чаще всего подспудно, но и в открыто публицистических словах – размышлениях о ее историческом пути, мировом значении. Эти мысли можно прочесть в заметках писательского дневника – «Странник», «Дни», «Дневник писателя» и других. В России Зайцев видит страну «терзаемую и терзающую». Но в судорогах и кровавых вихрях истории он различает и Святую Русь, воплощающуюся в подвижниках, праведниках, мучениках. Она живет, по мысли художника, и в России Советской, не поглощаясь и не смешиваясь с нею, а как бы проникая сквозь нее. Православие – вот ее главная опора, источник ее бытия. И подлинная Россия может существовать только озаряемая светом Христовой веры, только воцерковленная: «Политические формы старой России рухнули легко: видимо, себя пережили. Дух России оказался вечно жив. В бедах, крушениях он еще сильней расцвел. Насколько есть в нем дуновение Духа Святого, настолько и жизнь» [9, с. 87].
У России – «Голгофской страны» – особый путь, который невозможно понять мирским разумом. Судьбу ее писатель сравнивает с судьбой Иова – а она может быть постигнута только в свете Нового Завета, искупительной жертвы Спасителя. Для Зайцева важно, что Россия идет путем Христовым, на Крест, и это является залогом ее воскресения.
Вера в грядущее возрождение России никогда не оставляла Зайцева. «Так расцветет мой дом, но не заглохнет» [2, с. 329], – писал он в страшные годы «голода, холода и всяческого зверства», видя образ исторического движения Родины в кротком вознице Миколке, и веря, что сам святой Николай Чудотворец поможет в этом пути. Зайцев уповает на грядущее возрождение Родины именно как христианской страны. И видит особое значение России и для всего мира: «Истина все-таки придет из России <…> "Святою Русью" – в новых ее формах, в бедности и простоте, тишине, чистоте, незаметно, без «парадов» и завоеваний. Придет <…> чтобы просветить усталый мир» [9, с. 55].
Значение Бориса Зайцева для развития христианской традиции в искусстве слова трудно переоценить. Этому писателю удалось показать, что христианская вера может стать как предметом искусства слова, так и миросозерцательной основой художественного произведения.
Художественным предметом Б. Зайцева стала «Святая Русь» – комплекс эстетических, мировоззренческих, религиозных, философских, национальных, культурных компонентов, базирующийся на православном христианстве как абсолютной Истине. Преимущественное внимание художника сосредоточено на передаче таких граней православия, как смирение, кротость, духовная красота, покой. В центре творческих интересов писателя – православное монашество, смысл аскетического делания. В идейной атмосфере доминирует мысль о доверии Творцу и Его премудрому Промыслу, направляющему человека на путь спасения.
Открывать миру спасительные духовные сокровища Святой Руси, нести частицы евангельской Истины собратьям, выполнять духовно-просветительскую работу – сложно для любого мирянина, но вдвойне сложно для художника. «Светский, но православный» – вот точное самоопределение Зайцева, который действительно стал проповедником Евангелия в новую эпоху.
Свою проповедь он осуществлял эстетическими средствами, среди которых на первом плане неизменно оказывается передача чувства, ощущения, впечатления. «Полнейший образ красоты, искусства всегда говорит "да", всегда за Божье дело, если у него и нет напора боевого. Оно радует, веселит сердце чистым и возвышенным веселием» [9, с. 37], – писал Зайцев о Пушкине, но эти же слова всецело относятся и к его собственному творчеству.
Художественным способом православного миссионерства в творчестве Зайцева стал импрессионизм как ведущая черта стиля. Установка на переживание Истины была вполне сознательна, и среди заметок писателя встречается ее теоретическое обоснование: истину христианства человек может (и должен) почувствовать и пережить.
Духовный реализм Зайцева – тонко настроенный инструмент, которым он владел в совершенстве. Свои художественные принципы освоения духовной реальности он излагает в одной из исповедальных дневниковых заметок: «Есть истины, которые созерцаются, есть истины, которые переживаются. <…> Нельзя объяснить, что такое добро, свет, любовь (можно лишь подвести к этому). Я должен сам почувствовать. Что-то в глуби существа моего должно – сцепиться, расцепиться, отплыть, причалить… Я помню ту минуту, более пятнадцати лет назад, когда я вдруг почувствовал весь свет Евангелия, когда эта книга в первый раз раскрылась мне как чудо. А ведь я же с детства знал ее» [9, с. 58].
Задача искусства, по Зайцеву, не объяснить, а показать Истину, подвести к ней. Это развитие одной из глубоких традиций православной эстетики, воплощенной и в средневековом искусстве иконописи, и выраженной, например, в мысли Достоевского о том, что Истину нельзя доказать, но можно увидеть. Идея о красоте как качестве Божьего мира, как свидетельстве онтологического существования Творца, родственна и святоотеческой концепции «филокалии», и идеям Ф. М. Достоевского о том, что «мир станет красота Христова».17
Главными средствами в «апостольской» работе были для Зайцева всегда положительные, созидательные начала. Всякой критике он предпочитал предложение добра, света и радости, которые дает людям Истина. Зайцев не обличает и не поучает. Неизменно кроткий, смиренный и благодушный, он приглашает собеседника – и читателя – войти в русский храм.
Л. Ф. Буров
Имя Леонида Федоровича Зурова (1902–1971) долгое время оставалось в тени Ивана Бунина – его покровителя, давшего молодому писателю «путевку» в большую литературу и приютившего в своем доме в Грассе. Сегодня, с публикацией в России его книг, становится все очевиднее, что это был талантливый мастер прозы, превосходный стилист. Для нашей темы важно, что он был глубоко воцерковленным человеком, и православное мировоззрение отчетливо проявилось в его творчестве.
На протяжении полувековой жизни вдали от родины Зуров оставался подлинно русским человеком, жил Россией и ее судьбами. Он хорошо знал и любил свой родной край – Псковскую землю, его интересовала русская деревня, ее быт и люди. В 1935, 1937 и 1938 годах он совершил археолого-этнографические поездки по русским районам Прибалтики (не входившей тогда в СССР), опубликовал статьи и заметки историко-этнографического характера. В предвоенные годы Зуров занимал пост председателя Союза молодых писателей в Париже, оставив память о себе как о доброжелательном и справедливом человеке.
Молодой автор вошел в литературу вполне зрелым художником, со своим сформировавшимся стилем и мировоззрением. Известно, сколь большую роль в судьбе Гоголя и Достоевского, Шмелева и Зайцева играли монастыри. Не стал исключением и Зуров – он несколько раз посещал Псково-Печерскую обитель, где работал в архиве, изучал летописи, а также провел реставрацию древней надвратной церкви Николы Ратного и звонницы, чем заслужил благодарность братии. Паломнические впечатления писателя отображены им в зарисовках, объединенных заглавием «Обитель».
Живое общение с русскими крестьянами в Эстонии и Латвии, работа в монастырском архиве отразились и в первой художественной книге Зурова – «Отчина» (1928). Повесть посвящена истории монастыря в трудные годы Ливонской войны, походу Ивана Грозного на Псков, убийству игумена Корнилия. Тональность книге задает эпиграф: «Из крестов скована Русская земля, и чрез кресты восходит солнце». Написана она в стилистике летописи, древнего сказания. «„Отчина" посвящена обще-русской теме самостояния Руси, теме стремления к смиренному („в страхе Божием"), трудовому и мирному житию, нарушаемому чужими воителями, теме военной беды и обороны Русской земли…».18
Открывается повесть картиной разорения родного края («В эти годы был страшен дальний храп коней и шум пустых обозов. В чужих следах были поля. По весне не зацвели посеченные сады, пчелы не прилетели на разоренные пасеки»), сопрягаемой с гимном псковской земле («Славна земля Твоя, Святая Троица. Каменные пригороды сторожат на холмах Твои воды и земли, крестьянскою молитвою тянутся к Тебе монастырьки озерные и луговые церкви») – в нем очевидны переклички с зачином древнего «Слова о погибели русской земли». Писатель запечатлел крестный путь Руси, которая предстает у Зурова как земля святая, осеняемая иконами, оглашаемая колокольным звоном и молитвенным пением. В оригинальном стиле сочетаются богатство народного слова и язык древних хроник.
В историю русской литературы Зуров вошел как автор повести «Кадет» (1928) и романов «Древний путь» (1933), «Поле» (1938). Эти произведения посвящены эпохе русского лихолетья, годам Первой мировой и Гражданской войн. Они стали бесценным свидетельством большого художника, запечатлевшего образ родины на разломе русской истории. Трагический раскол народа, вакханалия братоубийства, когда смерть человека становится заурядным явлением, крушение вековых нравственных устоев – таково содержание его произведений. Как могло случиться, что русский труженик-крестьянин стал убийцей и грабителем, усвоившим мораль: «А только слово одно, что буржуй. Все потомство бить надо»? Об этом мучительно размышляет молодой офицер, герой рассказа «Дозор» – представитель «потерянного поколения» русской молодежи, часть которого сложила головы в борьбе с большевиками, часть сгинула в застенках НКВД или влачила одинокое существование в изгнании.
Сопрягаются, противопоставляются, борются два мира: света, чистоты и радости – и насилия, ужаса, террора. Революция предстает как разгул жестоких древних стихий. Звучит тема быстрого расшатывания нравственных опор, на которых держалась жизнь, в том числе и в самой консервативной, крестьянской среде. «Его влечет та таинственная соборность, которая составляет силу и прелесть необъятного русского поля, исторического древнего пути России, та первозданная суровость, почти инстинктивная слитность с природой, которая присуща русскому человеку. Отсюда острейшее внимание писателя к стихийным явлениям человеческой психологии, порождаемым от века любовью, соприкосновением со смертью, ненавистью, подвигом, войной, революцией», – отмечал хорошо знавший писателя Н. Андреев.19
Для Зурова характерно широкое, обобщенное изображение исторического времени. Ему удалось передать «чувство русской земли», в центре всех его книг – «Россия. Ее поле. Ее небо, дыхание»20. Стихийное движение огромных масс людей, панорама «страшных лет» России, экзистенциальная тема человека, захваченного кровавым вихрем истории и пытающегося сохранить свою человечность, свою веру на «трудной земле», особый реализм Зурова, когда отстраненное авторское повествование контрастирует с катастрофичностью совершающихся событий, сила чувственного восприятия мира, конкретность и метафорическое богатство письма – все эти моменты роднят его книги с художественным миром эпопеи М. Шолохова «Тихий Дон».
По-шолоховски сильно выписана, например, следующая сцена в романе «Поле». Богатый и набожный мужик Ермолай с женой спасаются от преследующих красноармейцев, прячутся в лесу. «Но земля была холодна, и трудно было на ней иззябшему, раненому, бежавшему от людей, потерявшему много крови человеку, и единственно, что можно было делать, это греться на этой земле друг другом, человеческой, единственной, живой, родственной теплотой». В чем-то сходны судьбы Ермолая и Григория Мелехова – человека из самой гущи народа, также бежавшего от людей. Но принципиально различны символические образы двух прозаиков. У Шолохова герой видит «черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца» (и в финале еще раз упомянуто холодное солнце) – своеобразное «антисолнце», восторжествовавший и на земле, и на небе ад (на память приходит образ шмелевского равнодушно-зловещего «солнца мертвых», тоже «холодного и пустого»). У Зурова герой также поднимает взгляд от земли вверх, но ему открывается видение рая: «…очистилось небо, и нем возникали освещенные уходящим солнцем белые облака – какая-то теплая, блаженная обитель, где проходит все – и усталость, и холод и боли, и скорбь»21. Очевиден парафраз заупокойной молитвы «Со святыми упокой…», с ее прошением обрести душе место, где «несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание».
Эпический взгляд автора постоянно сопрягает происходящее не только с историей России, но и с промыслительным действием высших сил. Православное мироотношение отличает Зурова от многих его собратьев по перу, в том числе и от его покровителя Бунина.
Поэтому в его книгах нет ни размышлений о «бессмысленности» бытия, ни «проклятий» миру. Надо мужественно со-пережить с народом посланное Богом – вот позиция автора. Отличает Зурова твердая вера в присутствие Всевышнего и Его Промысел, который не всегда постижим человеческим разумом, это вера в надземный, светлый Божий мир, в котором рано или поздно окажутся страдальцы и праведники. Частное событие, судьба человека вписываются в высший план. Ничто не случайно, все имеет свою предысторию и, самое главное, имеет свое будущее. Человеческая душа предстоит перед лицом вечности. Герои Зурова – как правило, люди верующие, в них живет сопричастность высокой радости, Божественной тайне бытия.
В русской прозе, – как советской, так и эмигрантской, – посвященной годам первой мировой войны, революции и войны гражданской, на удивление мало верующих героев. В эпопеях М. Шолохова, А. Толстого, М. Горького, прозе И. Бунина и др. нечасто можно встретить образ русского православного человека. Может сложиться впечатление, что и в исторической реальности тех лет он словно бы исчез, растворился.
Леонид Зуров опровергает такой вывод: персонажи его книг – люди глубокой веры. Действительно, у кого еще из его старших собратьев по перу можно прочесть такие, например, строки: кадеты «познали чистую силу древних слов молитв, освобождавших их от гнета и делавших души крепкими и ясными. После молитвы спокойнее билось сердце». Не карикатурно и не отстраненно-внешне воссозданы сцены причащения молодых героев повести «Кадет»:
«Утром, готовясь к исповеди, они усердно молились. В церковном полумраке мерцали редкие огни. С купола падал острый тонкий луч, а у аналоя стояли люди, безмолвно опускались на колени, крестились, клали земные поклоны и робко подходили к священнику. Учащенно билось Митино сердце, и ему казалось, что много накопилось грехов, и страстно хотелось стать чистым и хорошим на всю жизнь. Они со Степой разом крестились, разом опускались на колени.
Приближался тот волнующий, исполненный смирения час приобщения к чистоте, и Мите этот час казался нездешним, обвеянным тихим светом. Они, сложив руки крестом на груди, стояли перед поблескивавшей золотом Чашей.
– Димитрий.
– Степан.
После Причастия то злое и тяжелое, что мучило Митю целый год, отлегло. Светлая звезда его молодости победила. И так было легко, радостно и чисто в те дни в обновленном для него миру»22.
Более века русская классика мучительно искала ответ на вопрос: как сохранить человечность, как избегнуть губительных страстей, где искать утешения от скорбей. Зуров (вместе с православными собратьями по писательскому цеху) напомнил о том, о чем забыла или что не пожелала принять русская литература: исцеление и спасение – в христианском таинстве. Евхаристия – вот что реально делает возможным обновление человеческой души.
В прозе Зурова современность постоянно соотносится со страданиями и крестной жертвой Спасителя. Символ России, пошедшей «древним путем» Христа – на Голгофу, России распинаемой и погребаемой, видится в Плащанице, к которой приникает герой в романе «Древний путь».
Одна из работ о писателе не случайно названа «Леонид Зуров: героика и благочестие». Жизнь самого писателя была наполнена и героикой, и благочестием, эти составляющие оказались главными и в его творчестве. Несмотря на пережитые скорби, ему удалось сохранить светлую душу, радость о мире Божием (по завету апостола: «всегда радуйтесь…»).
Зуров публиковался и в послевоенные годы, лучшие его рассказы 1930-1950-х годов вошли в сборник «Марьянка» (1958). В этой книге «так много поэзии, света и свежести, она пронизана такой любовью к православной Родине, что хочется ее страницы знать наизусть. Рассказы «Град», «Ксана», «Гуси-лебеди» – несомненно шедевры русской прозы»23. Эти короткие новеллы исполнены чистой светлой любви к России. Вот автор созерцает, как над родной землей летит стая гусей:
«И мы смотрели им вслед, как смотрят на отправляющихся в путь родных братьев, и мы их провожали глазами, как провожают близких, отплывающих в далекий и неведомый путь, в той радостной светлой печали.
И в это время мне казалось, что сердце осветило наши глаза, и в сердце нашем начинают тоже играть и биться свободные когда-то, но жизнью утесненные радостные светлые крылья»24.
Непревзойденный стилист, мастер психологических интонаций в изображении характеров и пейзажа, писатель, при всем лаконизме и скупости изобразительных средств, умеет наполнить свои произведения свежестью лирических чувств. Можно доверять высокой оценке Зурова Буниным, данной еще в 1929 году: «Подлинный, настоящий художественный талант – именно художественный, а не литературный только, как это чаще всего бывает…»25.
Близко знавшие Зурова люди вспоминали: «Во всем облике его сквозило что-то светлое, стремительное. <…> Зуров был глубоко верующим человеком. Он остро переживал трагизм положения христиан в советской России, разрушение церквей, гонения на пастырей и паству и подавление исконного русского духа. <…> Он мог писать только о России, о ее исторических путях и судьбах, о русском народе с его возможностями высшего духовного подъема и крайнего падения»26. Писатель полагал, что освобождение России «придет вследствие религиозно-духовного возрождения нашего народа, придет изнутри, и этот процесс возрождения потребует значительного количества времени»27.
В. А. Никифоров-Волгин
Драматично сложилась судьба Василия Акимовича Никифорова (1900–1941), писавшего под псевдонимом «Василий Волгин». В 1930-х годах он жил в Эстонии, где публиковал свои рассказы, статьи, очерки, этюды, лирические миниатюры. Хорошо знавший и любивший православное богослужение, он служил псаломщиком в нарвском Спасо-Преображенском соборе, участвовал в съездах Русского студенческого христианского движения, проходивших в Псково-Печерском и Пюхтицком монастырях. К середине 30-х годов Волгин становится известным писателем в среде всего Русского зарубежья. Сборники его православной прозы «Земля именинница» (1937) и «Дорожный посох» (1938) потрясли русских изгнанников своей правдивостью и смелостью. Его творчество, как отмечала критика, есть «отражение и отзвук исканий Бога, чистая, горняя мечта по невидимому граду благодати и успокоения»28. С приходом большевиков Волгин был арестован и вскоре расстрелян (14 декабря 1941 г.) «за издание книг… антисоветского содержания». Антисоветскими же в его творчестве были отнюдь не политические взгляды, но лишь глубокая христианская вера. Это тот редкий случай, когда писателя лишили жизни именно за православность его книг.
Христианская традиция в его творчестве проявилась в камерных жанрах. Если Зуров – преимущественно эпик, овладевший крупной романной формой, то Волгин – мастер миниатюры, этюда, лирической задушевной прозы. Ее отличают тонкий отточенный стиль, колоритная образность, напевная тональность.
Эпиграфом к творческому наследию Волгина могут послужить тютчевские строки: «Утомленный ношей крестной, / Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь Небесный / Исходил, благословляя». Многочисленные рассказы, зарисовки, миниатюры складываются в тихую задушевную песню о России.
Во времена беззаконий, гонений, обрушившихся на родную землю, среди моря страданий Волгин отыскивает зерна христианской любви, рисует персонажей, которые хранят Святую Русь в своем сердце. Это – странники, богомольцы, церковнослужители, юродивые, которые утешают страдающий народ, лечат души, очищают сердца.
«Странничество и – раздумья, скитанья и вздохи. На бескрайних, молчаливых русских дорогах ранним утром и сумеречными вечерами совершаются незримые чудеса. С дорожным посохом, с котомкой за плечами проходят богомольные люди, погруженные в святое созерцание и беспокойные, печальные думы. Их прекрасно улавливает, тонко слышит, глубоко чувствует В. Никифоров-Волгин, очень русский писатель, отдавший свое сердце, преклонивший свой слух земле», – писал С. Нарышкин29.
В безмятежно-радостные, светлые тона окрашены рассказы цикла «Земля именинница», где мир увиден глазами ребенка, приобщающегося к Православию. Христианская вера, церковь являются для Волгина теми опорами, которые придают бытию целостность и гармоничность. Подобно И. Шмелеву – автору «Лета Господня» – Волгин передает поэзию православных праздников, сочетает в своих рассказах яркую, образную простонародную речь с элементами церковно-славянского языка.
Ценят этот язык дедушка Влас и дьякон Афанасий в рассказе «Молнии слов светозарных»: «В такие вечера вся их речь, даже самая обыденная, переливалась жемчугами славянских слов, и любили, грешным делом, повеличаться друг перед другом богатством собранных сокровищ. Утешали себя блеском старинных кованых слов…»30.
Произведения Волгина – трогательные, согретые жаром православной души, пронизанные тихим светом и песенным лиризмом. Критики называли их «рапсодиями»31.
Вместе со своими героями автор размышляет «о таинственных путях русской души, о величайших падениях ее и величайших восстаниях, – России разбойной и России веригоносной» (рассказ «Вериги»). Повесть «Дорожный посох» написана в форме дневника сельского священника, которому довелось пережить войну, революцию, арест, издевательства безбожников, приговор к расстрелу (автор пророчески описал свою собственную судьбу и кончину). Эта книга – словно тихий плач о родной земле, до боли любимой героем. «Вся русская земля истосковалась по Благом Утешителе. Все устали. Все горем захлебнулись. Все чают Христова утешения. Я иду к ним…»32, – заключает герой свой рассказ. Чудом избегнувший смерти, батюшка несет страдающим людям евангельский свет.
Волгин – одни из первооткрывателей темы преследования верующих, гонений на Церковь в Советской России. «Здесь у писателя нередки апокалипсические настроения и видения. Но тем не менее, как истинный христианин, он не теряет веры в возможное духовное возрождение человека, в духовное обновление Руси»33.
Поразительный образ-символ создает писатель в зарисовке «Пасха на рубеже России». Он повествует о том как в Пасху оказался на берегу Чудского озера, на тогдашней границе России. Хотя она захвачена безбожниками, но в псковской глуши еще идут службы: с другой стороны рубежа автор слышит благовест – «так звонила Россия к Пасхальной заутрене». Подлинная Россия сосредоточена в этих праздниках, службах, колоколах. Стоя на берегу и слушая звон, автор «крестится на Россию», – в лице своих святых и праздников выросшую до образа тысячелетнего православного царства.
Но это – в плане вечностном, метафизическом. В современных земных реалиях автор видит утрату веры и благочестия, надругательство над святынями, оскудение душ. Не менее символичен рассказ «Весенний хлеб» – по старинному обычаю старик вынес новоиспеченный хлеб на перекресток, чтобы отдать бедным. Но равнодушно мимо проехали «городские люди» на автомобиле, велосипедист в кожанке, а бродяга – не в пример прежним нищим – плюнул и грязно выругался. Старик простоял до вечера: некому на Руси стало отдать «хлеб Господень». В этом – примета нового, страшного времени, оскудения нравственного запаса. Старик, словно новый Диоген со своим фонарем, так и не нашел человека.
Две России постоянно присутствуют в художественном мире Волгина: разбойная, вбивающая гвозди в богородичную икону, – и монашеская, молитвенная. Народ раскрестившийся, со «звериным ликом» – и молельщики, ищущие правды, свершающие «светоподательные подвиги».
Ужасы и мерзости, дикий разгул насилия и произвола – не порождают уныния или отчаяния, что подметил А. Амфитеатров: «Сквозь великую грусть, внедряемую в душу трогательною книгою, таинственно светит некий теплый, кромешной тьмы не рассеивающий, но издалека ее путеводно пронизывающий, упованием бодрящий луч. Эта книга – шмелёвского настроения, но Шмелёва не апокалиптически страшного "Солнца мертвых", а Шмелёва позднейшего, задумавшегося о "Путях небесных"»34.
Один из постоянных мотивов Волгина – умиротворение и просветление человека. Тема покаяния, исцеления распадающегося мира звучит и в новелле «Черный пожар», где боец спасает раненого противника-белогвардейца, в котором вдруг увидел брата, «земляка» по России, и в одном из лучших рассказов, «Мати-пустыня». Мотив возвращения постепенно звучал все отчетливее в русской литературе пореволюционных лет (вспомним хотя бы одноименный рассказ А. Платонова). Исцеление от беспамятства, прозрение русского человека, приникшего к своим истокам, к древним, тысячелетним корням – наиболее широко и многопланово эта тема вошла в традиционную (т. н. «деревенскую») прозу 1960-70-х годов, в критику и публицистику тех лет.
Но предтечей этих писателей можно считать Волгина, открывшего эту тему буквально через несколько лет после октябрьской катастрофы. В рассказе «Мати-пустыня» деревенский парень возвращается из Красной армии домой, к матери. В бешеной суете революционных дней он не замечал красоты, и только сейчас ему открывается мир Божий: «Солнцем, цветами, свежестью распускающихся берез, несказанной Господней красотой полны были голубые глубины леса». Родная земля лечит душу, оживают в памяти предания и молитвы. Смертельно больной, герой просит отвезти его в монастырь, чтобы покаяться в тяжких грехах. Мирная кончина примирившегося с Богом происходит «тише падения золотого листа с дерева»; мать поет умершему на ее руках сыну «про дубравы Господни, цветами райскими украшенные»35. Древний сюжет возвращения блудного сына мастерски претворен Волгиным в форму притчи-песни, сказа.
Встречаются и комические эпизоды, как в рассказе «Икона». Грустной иронией окрашена история о том, как люди возвращают подаренную икону – потому что в квартире «модный стиль модерн» и икона «к мебели не подходит». Этот сюжет также словно взят из послевоенной советской беллетристики, из «Черных досок» В. Солоухина.
Среди открытий Волгина – описание молитвы сельского священника («Молитва»). Оно уникально в русской литературе. Простой, необразованный батюшка напрямую говорит со Всевышним, буквально вопиет о спасении своих страдальцев-прихожан. Случайно услышанная автором, эта молитва оставляет у него ощущение ужаса и священного трепета. Ничего подобного в отечественной беллетристике нет. Даже у Шмелёва в «Путях небесных» молитвенные обращения Дариньки выглядят по сравнению с волгинскими слишком литературными.
«Весь интерес писателя обращен на духовную нужду народа, ограбленного в вере своей и, в частности, особенно подчеркнуто, на переживания антихристова пришествия верно устоявшею во Христе частью православного мира и его духовенства»36. В прозе Волгина при этом постоянно ощутим высший план, в нем присутствует историософия России, метафизическая битва Креста и Звезды, борьба «традиции» и «модерна», творимая в высшем плане истории. «Заутреня святителей» – сказ о том, как Николай Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский идут по заснеженной русской земле, служат заутреню в церковке в глухом Китежском лесу. Никола объясняет, почему так близка ему Русь, она – «кроткая дума Господня… Дитя Его любимое… Неразумное, но любое». Но в революцию русский народ себя обагрил кровью – и святители молятся о его покаянии и спасении, благословляют «на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь»37, – в этом финале явственна отсылка к стихиям блоковских «Двенадцати», а в заступничестве святителей – надежда на преодоление ледяного мрака.
Углубленное изучение творчества Волгина в контексте русской классики, истории русской культуры – насущная задача литературоведения.
Поэзия
А. В. Гессен
Среди поэтов русского рассеяния можно назвать немало имен, в чьем творчестве так или иначе преломлялись евангельские образы и мотивы. В стихах к ностальгии по утраченной родине неизбежно примешивались размышления о разлуке, кончине и вечности, так или иначе выводящие к религиозным темам. Однако нас интересуют поэты, в чьем творчестве проявилось цельное, всеобъемлющее христианское мирочувствие. К ним можно отнести А. Гессена, И. Савина, Н. Туроверова, С. Бехтеева.
Недолог был творческий путь Алексея Владимировича Гессена (1900–1925), жившего в Праге и Париже. Его стихи, публиковавшееся в «Русской мысли» (1922–1924) и в «Возрождении» (1925–1926), открыли читателю «тонкого романтика, лирика, влюбленного в жизнь, несмотря на все ее невзгоды, истинно православного христианина, черпающего душевные в силы в великой вере в Бога», – пишет исследовательница его творчества В. Белукова38. Молодого поэта отличала высокая духовность, светлое и чистое видение мира, в основе своей глубоко религиозное.
Самое значимое его произведение – поэма «Горькие травы» (1925), это попытка, по словам Г. Струве, «дать в историческом преломлении, в смене ярких картин, проникнутых цельным историко-идеологическим подходом, генезис русской смуты»39, показать проникновение западных идей на русскую почву и то, как они изменяли здесь образ жизни целых поколений. В поэме проходят образы императоров (предпочтения автора отданы Александру III), декабристов, народовольцев, марксистов, большевиков – вплоть до современности, которой посвящена последняя, самая драматическая глава поэмы – «Дети». Поколения революционных борцов предстают как отравители России, которые в конце концов превратили ее «в братскую могилу воспоминаний и надежд». Поэма, по мнению М. Дунаева, «поражает мудростью исторических прозрений, которыми была обделена либеральная интеллигенция России. Гессен развивает образ: русское поле, засеянное дурными заморскими семенами»40.
В заключительной главе автор покидает родину, прощается в Петроградом, образно-символический ряд, посвященный русской литературы городу на Неве, дополняется еще одним: «Город-пожарище, город-чудовище, – Город-Голгофа, прости!». На Голгофе был пропят Спаситель, фигура Которого мерещилась на улицах революционного Петрограда Александру Блоку. И текст первой части этой главы наполнен аллюзиями из «Двенадцати»: матросы и комиссары, ветер и одинокий фонарь… Вторая же часть откровенно контрастна по отношению к первой. Поэт молитвенно взывает ко Всевышнему о спасении Отчизны. Мерно звучит торжественный четырехстопный анапест:
Дай мне злобу к враждебным и верность к любимым, Дай мне когти кошачьи и преданность пса, Дай мне знать что за далью, за кровью, за дымом Неизменен Твой лик и нетленна краса!.. <…> Дай мне сердце, как воск, и оправь его сталью, Сделай кротким, как голубь, и сильным, как вол, Дай увидеть за дымом, за кровью, за далью, — Нерушимым и славным Твой светлый престол41.Трагическими раздумьями наполнено и заключение поэмы. Гессен с нескрываемой душевной болью пишет о том, что на родине «народ глумится и пляшет, после жатвы лихой осмелев», что «нивы осквернены», а «грешная, проклятая» земля вся в «кровавом дурмане». У беженцев, изгнанников руки «повисли, как плети, и тела омертвели от ран»… Но они не впадают в безверие или отчаяние. У поэта, как и у его страдальцев-соратников, -
Только сила душевная крепла, За ударом встречая удар, Только сердце под грудою пепла Всё таит нехладеющий жар…Поэт верит в грядущее очищение оскверненных нив, в возрождение отчизны:
Верь – над проклятой грешной землею Воссияет Христова Любовь, Выйдет пахарь – послушной сохою Подымать непокорную новь42.Надеждой и упованием на помощь Божию завершаются раздумья православного поэта над судьбами родины.
Образы и стилистика поэзии «серебряного века» очевидны в поэзии Гессена. Но, используя их в своем творчестве, поэт создает глубоко православные по духу стихи. Возникает примечательное явление: христианская традиция воплощается в формах той самой поэзии, которая на протяжении двух предшествующих десятилетий отрицала Церковь и отворачивалась от православного вероисповедания.
Есть в наследии Гессена и стихотворения непосредственно религиозной тематики, как, например, «Страстная суббота»:
…Но ты о детской, ясной вере Устами чистыми молись. И за церковную ограду Я проведу тебя в посту, Где встретит нас людского стада Благой и Ласковый Пастух43.Гессен оставил несколько образцов любовной лирики – лирических шедевров. Характерно, что все они пронизаны чувством присутствия Бога, а красота избранницы определена ее духовной кротостью и твердой верой. Возникает необычайно привлекательный образ православной девушки, столь редкий для русской поэзии:
Молчаливая, тихая строгая, На закате предпраздничных дней Проходила ты в церковь убогую Мимо желтых вечерних полей.Соблазнам Вечной Женственности, демонически-чарующей блоковской Незнакомке противопоставлена красота веры, чистой и глубокой. Героиня находит смысл жизни в религиозном подвиге, обретает высшую радость в исполнении евангельских заветов:
И великою милостью Божьею, Как и всякий, кто беден и сир, У Святого Христова подножия Обрела ты надежду и мир44.Хорошо знавший поэта Кирилл Зайцев в памятном слове подвел итог творческой судьбе Гессена: «он был „нравственным талантом“. Не холодным зрителем проходил он через наши грозные дни. Он пережил в своем молодом, еще почти детском сердце революцию, и в нем происходила огромная внутренняя работа по созданию нового крепкого и светлого миросозерцания. Это духовное горение выливалось и в формах поэтического творчества. А<лексей> В<ладимирович> был поэт „Божией милостью“. Замкнутый, застенчивый и робкий, он пламенел внутренним огнём»45.
Надо ли уточнять, что под «крепким и светлым» имеется в виду православное миросозерцание.
С. С. Бехтеев
Поэт Сергей Сергеевич Бехтеев (1879–1954) во многих отношениях противоположен А. Гессену. Роднит, объединяет поэтов глубокая православная вера, проявлявшаяся в личном исповедании и в творчестве. Жизненный путь Бехтеева продолжался 75 лет. С юности и до конца дней он оставался верен стержневой своей теме – воспеванию и чаянию православной родины и монархии. В среде эмиграции, где преобладали антимонархические настроения, Бехтеев оставался убежденным почитателем убитого Государя.
Образ Царя-страстотерпца занимает особое место в его творчестве. Пророческие строки находим в стихотворении «Святая ночь», написанном в канун Рождества 1918 года:
Искрятся звезды, горя, К окнам изгнанников льнут, Смотрят на ложе Царя, Смотрят и тихо поют: «Спи, Страстотерпец Святой, С кротким Семейством Своим; Ярким венцом над Тобой Мы величаво горим»46.В дни, когда члены царской семьи находились в заточении и никто не мог знать их будущую судьбу, Бехтеев формулирует то самое определение, которое спустя много десятилетий прозвучит во время их канонизации как «святых страстотерпцев». Его убежденность в том, что казненный Государь будет прославлен в лике святых, отчетливо выражена в стихотворении «Виденье дивеевской старицы» (1922) и в ряде других.
К 1917 году относится и стихотворение-заклинание, стихотворение-молитва «Боже, Царя сохрани» – поэт исступленно слезно взывает к Господу:
Гнусность измены прости Темной, преступной стране; Буйную Русь возврати К милой, родной старине…Завершается оно дерзновенным воплем: «Боже, отдай нам Царя, Боже, отдай!»
Стихотворения «Молитва», «Святая ночь», «Боже, Царя сохрани», «Россия» в конце 1917 года Бехтееву удалось переслать в Тобольск находящимся в заключении Николаю Александровичу и его семье. Первоначально авторство «Молитвы», найденной в бумагах Царственных мучеников, приписывали одной из великих княжон. Строки этого стихотворения, одного из самых сильных и пронзительных в лирике Бехтеева, стали широко известны в среде эмиграции и обрели второе звучание в России 1990-х годов:
…Владыка мира, Бог вселенной! Благослови молитвой нас И дай покой душе смиренной В невыносимый смертный час… И, у преддверия могилы Вдохни в уста твоих рабов Нечеловеческие силы Молиться кротко за врагов!47Эти строки часто цитируются и сегодня, но почему-то почти никогда не называют фамилию их автора – духовного поэта Сергея Бехтеева.
Тема молитвы зо врагов уникальна для русской послереволюционной лирики, но именно у Бехтеева она звучит едва ли не в первые дни большевистской власти. Однако вскоре претерпевает понятную эволюцию. К 1921 году относится стихотворение «Миром Господу помолимся» с призывом молиться не только за обобщенные «грехи страны родной», но и за перечисленных в жутком ряду «убийц и палачей», «кощунственных безбожников», «гонителей Святых», -
За безжалостных грабителей, За мучителей Царей, За насильников-растлителей Наших жен и дочерей48.Это конечно уже не «молитва кроткая за врагов», но развернутый антифразис: лирический герой исполнен гнева по отношению к беззаконникам, и понятно, что молится он об избавлении от врагов России, их уничтожении, разделяя известный призыв святителя Филарета Московского: «Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша»49. Об этом с несомненностью свидетельствуют многочисленные стихи о палачах России, например, «Русская Голгофа»:
И воинство с красной звездою, Приняв роковую печать, К кресту пригвождает с хулою Несчастную Родину-Матьи особенно стихотворение «Поверженный храм», где снос храма Христа Спасителя в Москве сравнивается с Его Распятием:
…Москва хранит постыдное молчание, И грелись молча русские Петры. Безмолвно обступив горящие кресты…В отличие от событий в Иерусалиме, «ни один из роковых Иуд петлей не кончил жалкий самосуд»50.
Для Бехтеева характерны сильные, экспрессивные и афористичные строки, например: «пьяный народ под зловещий набат совесть навеки хоронит». Глумятся над Россией кровавые герои стихотворений «Жидовин», «Коршуны», «Красное знамя», «Великий хам», «Погром».
Гражданская поэзия Бехтеева по форме близка классическим образцам XIX века, наследует и развивает высокие традиции пушкинской, лермонтовской, тютчевской, некрасовской лирики, содержательное же ее отличие в том, что она выражает сугубо православное миросознание.
Народ предстает в его стихах и как жертва, и как виновник. Снова и снова возвращается поэт к раздумьям о России – стране и впавшей грех, и изнемогающей в страданиях крестных:
Многогрешная, мятежная страна. Я ль тебе укор позорный брошу, Осужу ль страданий крестных ношу?Возникает новый для русской лирики образ Руси, ошарашивающий читателя: это юродивая (то есть Божия угодница), но юродивая соблазнившаяся и падшая:
Для меня ты в язвах и нагая Та же Русь – родимая, святая, Во Христе юродивая мать, Не сумевшая в соблазнах устоять.51С. Бехтеев имел возможность несколько десятилетий наблюдать жизнь соотечественников за границей. В горькой и нелицеприятной сатире на русскую эмиграцию «Чем мы могли бы быть» (1951) автор говорит о том, что препятствует русской диаспоре стать процветающей, сильной и уважаемой. Это извечные распри, осуждение, зависть, сплетни: «Русские люди не могут ужиться. Надо им ссориться, спорить, браниться. Вечно кого-то и в чем-то винить…»52.
Бехтеев активно участвовал в церковной жизни эмиграции. Он был старостой храма Державной Божией Матери в Ницце, соорудил иконостасы и украсил интерьеры основного храма и придела св. Серафима Саровского. Как Л. Зурова и И. Шмелева, Бехтеева можно назвать поэтом русской Голгофы. Говорят сами за себя названия сборников его стихов: «Песни русской скорби и слез» (1923), «Песни сердца» (1927), наполненные тревожно-скорбными интонациями: «И наши дни мятущагося ада, / В дни торжества неслыханного зла, / Из потонувшего в пучинах Китеж-града / Подземные гудят колокола».53 За два года до своей кончины поэт завершил издание итогового сборника в четырех выпусках «Святая Русь». Среди них – посвященные святителям Русской земли Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Иоанну Кронштадтскому. Стихи Бехтеева пронизаны болью за поругание православной веры и порушенных святынь – Иверской часовни, храма Христа Спасителя.
Уверенность поэта в грядущем восстановлении православной веры была непоколебима. Она выражена в стихотворениях «Грядущее», «Верую», «Царская Россия». Поэт восклицает: «Я говорю через века / С грядущим новым поколеньем», которое, как убежден автор, «полюбит древний быт / Святой страдальческой России / И снова храмы воскресит / Для православной Литургии».54 Поэтическое наследие Бехтеева дает образцы высоконравственного, самоотверженного служения традиционным ценностям и святыням России.
И. И. Савин
Подобно Алексею Гессену, Ивану Савину была уготована трагически короткая творческая жизнь: он прожил всего 27 лет. Единственный прижизненный сборник стихов «Ладонка» вышел в 1926 году. Но красоту и силу его строф успели оценить взыскательные критики и писатели зарубежья. В эмигрантской среде Иван Савин стал один из самых любимых поэтов.
Иван Иванович Савин (1899–1927, настоящая фамилия Саволайнен) юношей пошел в Добровольческую армию бороться с поработителями России, пережил издевательства и пытки в плену у красных. Четверо братьев были убиты в Гражданскую войну. Оказавшись в Петрограде, воспользовавшись своим финским происхождением, он перебрался в Финляндию, где и протекало его творчество. Интересно, что в жилах поэта, русского по духу и православного по вере, текла кровь греческая, молдавская, финская.
«Иван Савин свидетельствует о своем страшном и героическом времени, и его поэзия – поэзия высоких обид и высокого гнева. Этот высокий гнев сочетался у Ивана Савина с высокой жертвенностью. Умереть за Россию, за ее честь – вот к чему призывала его поэзия», – писал И. Елагин.55
Поэзия Савина отличается высокой гражданственностью. Гибель России поэт переживает как муку близкого, родного существа. В том, что торжествует стихия зла, есть вина и самого народа: «Над Русью бунт, костры из муки, / Народ, как раб, на плаху лег». В стихах Савина много перекличек с Блоком, которого он очень почитал. Так, тема возмездия развивается в одноименном стихотворении, наполненном парафразами из блоковской лирики. Савин называет исторические причины русской катастрофы: жизнь без подвига, безверье, забвение дома Божия. Вина целого поколения в том, что оно оказалось не способно, не захотело -
Войти тихонько в Божий терем, И, на минутку став нездешним, Позвать светло и просто: Боже!56Подобно С. Бехтееву, непримиримого к врагам Бога и отечества, Савин призывает к битве со злом, делая это, пожалуй, в более яркой эмоциональной форме:
Любите врагов своих… Боже, Но если любовь не жива? Но если на вражеском ложе Невесты моей голова? Но если, тишайшие были Расплавив в хмельное питьё, Они Твою землю растлили, Грехом опоили её? Господь, упокой меня смертью, Убей. Или благослови Над этой запекшейся твердью Ударить в набаты крови…57«У Савина заметнее всего героический патриотизм, жертва, равная высокой идее», – отмечает В. Синкевич58. Не случайно его книгу «Ладонка» называли «кредо добровольца». Гнев к захватчикам и растлителям соединялся с высокой жертвенностью. Эта идея жертвы имеет в основе евангельский завет «положить душу за други своя»:
…Зевнули орудия, руша Мосты трехдюймовым дождем. Я крикнул товарищу: «Слушай, Давай за Россию умрем». В седле, подымаясь как знамя, Он просто ответил: «Умру». Лилось пулеметное пламя, Посвистывая на ветру… («Первый бой»)59Герой Савина – «белый воин», именно он прославляется в его поэзии, как, например, в строках, посвященных Лавру Корнилову:
И только ты, бездомный воин, Причастник русского стыда, Был мертвой родины достоин В те недостойные года60.«Савин больше всего тоскует по несбывшейся Белой победе. Мир разделился для него на два цвета: белый цвет правды и красный, кровавый цвет зла»61. Самое известное в эмиграции стихотворение Савина, «Оттого высоки наши плечи…», насыщено символикой белого цвета и блистающего света, а Россия уподоблена иконе:
Оттого высоки наши плечи, А в котомках акриды и мед, Что мы, грозной дружины предтечи, Славословим крестовый поход. Оттого мы в служеньи суровом К Иордану святому зовем, Что за нами, крестящими словом, Будет воин, крестящий мечом. Да взлетят белокрылые латы! Да сверкнет золотое копье! Я, немеркнущей славы глашатай, Отдал Господу сердце свое… Да приидет!.. Высокие плечи Преклоняя на белом лугу, Я походные песни, как свечи, Перед ликом России зажгу62.«От всех его стихов веет неподдельным, неизменно скромным страдальчеством. Но и чрез него, за этими мотивами неизлечимой грусти всегда и постоянно слышатся ноты бодрости. Она нигде не подчеркнута, – поэтому особенно убедительна. Стихи Савина – интимная исповедь, и этой исповеди нельзя не верить» – проницательно замечал П. Пильский63.
Силой чувства, сердечной боли выделяется цикл стихотворений, посвященный погибшим родным (двое из братьев погибли в боях, двое – расстреляны красными в Крыму). Возникает тема мученической смерти и голгофской жертвы, Креста, который для Савина осмысляется как русский крест. Как в стихотворении памяти сестер:
Но знаю, но верю, что острый Терновый венец в темноте Ведет к осиянной черте Распятых на русском кресте, Что ангелы встретят вас, сестры, Во родине и во Христе.И в стихотворении о расстреле братьев, начинающемся с пронзительных строк:
Ты кровь их соберешь по капле, мама, И, зарыдав у Богоматери в ногах, Расскажешь, как зияла эта яма. Сынами вырытая в проклятых песках…и заканчивающемуся апокалиптически-торжественным молением:
Всех убиенных помяни, Россия, Егда приидеши во царствие Твое!64Иван Бунин, откликаясь на смерть поэта и цитируя эти строки, писал: «Этот священный, великий день будет, будет и лик Белого воина, будет и Богом, и Россией сопричастен к лику святых, и среди тех образов, из коих этот лик складывается, образ Савина займет одно из самых высоких мест»65.
Художественные дарования Савина были многообразны, и только начинали развиваться – что видно из его прозы и публицистики, очерков, литературнокритических опытов.
Как прозаик Савин вполне может считаться основоположником «лагерной прозы» XX века. Его цикл рассказов «Плен», написанный по горячим впечатлениям, в 1922 году, – сильное в художественном отношении полотно. Автор описывает зверства красных по отношению к пленным воинам Добровольческой армии, он внимателен к характерам, настроениям, поведению пленных, надзирателей, палачей. Психологически острые коллизии, непридуманные сцены: красный офицер приходит в лазарет, где лежат раненые – и белые, и красные, раздает папиросы и снедь всем, без отличия. Но ротмистр грубо отказывается от такой милости, желает ему виселицы, – «в этом презрении полумертвого к обидной милостыне врага, когда-то бывшего, быть может, другом» автор усматривает скрытую, мучительную правду. В мученичестве, в достоинстве обреченных на смерть собратьев, Савин видит «дух, который не оплевать и не унизить». «Только тогда, в те поистину голгофские года, я почувствовал в себе, осязал и благословил камень твердости и веры, брошенный мне в душу белой борьбой».66
Проникновенное эссе «Мечты» посвящено ровесникам – добровольцам, тем, кто шли умереть или спасти «золотую царевну» – Россию. Оно обретает историко-философский масштаб, взгляд устремляется в перспективу: «…все было и не кончилось, еще будет, еще не пройден долгий, тернистый путь, и мы
не свернем с него никуда, пока бьется сердце, пока мы увидим Родину – Русь и ее волшебную мечту – красавицу из терема… Мы придем…»67.
В эссе «Моему внуку» автор выражает чувства покаяния и сокрушения – о поколении, которое было всем недовольно и которому всего было мало, которое готовило и совершало революцию. Оно не ценило и в конечном счете погубило «действительную жизнь» – чудесную, теплую, ласковую и богатую. Автор призывает внука не повторять ошибок дедов, «ценить всякую жизнь, ибо всякая жизнь играет Божьим огнем. Не гаси же его, дорогой внук! Бережно неси его до конца дней своих…».68
Интересен обрисованный Савиным литературный силуэт Александра Блока. В Блоке он видит «инока неведомого Бога, светящегося менестреля призрачной королевы», поэта, наделенного пророческим даром; не случайно «замечательнейшим» он называет исполненное прозрений стихотворение «Рожденные в года глухие». Савин протестует против зачисления Блока в какой-либо идеологический лагерь, защищает его от «красной и белой ругани». Вслед за 3. Гиппиус и Б. Зайцевым, он видит в поэте «потерянное дитё, застуженное метелями жизни». И поэтому призывает не искать в поэме «Двенадцать» какой-либо идеологической основы. Эта поэма – «не пролог революции и не ее эпилог, не заповедь бунта и не анафема ему, а резкая, до крика, картина той безумной поры, когда "пулей валили святую Русь"»69.
Как и многим православным эмигрантам-литераторам, Савину довелось побывать на Валааме. В 1926 году он вместе с супругой совершил поездку на остров, работал в церковном архиве. В итоге появились очерки «Валаам – святой остров» и «Валаамские скиты». Главная их тема – ностальгия по России насельников обители, оторванных от всего русского, радующихся встрече с православным гостем. Звучат вопросы, которые Савин задает и читателю, и самому себе: «А какой слух из России идет?.. Когда там опять по-Божьему станет?..»70.
Упование на Божий суд, надежда на «Божий порядок» в родном отечестве – пожалуй, квинтэссенция всего творчества Ивана Савина.
Очерк
В разговоре о христианской традиции в литературе русского зарубежья нельзя умолчать об авторе, который работал в жанрах, пограничных между художественной и документальной литературой (очерки, записки путешественника, мемуары). Речь идет Владиславе Альбиновиче Маевском (1893–1975). Первая его книга «Путевые наброски» (1913) была посвящена впечатлениям от поездок в Турцию, Сербию, Черногорию и Далмацию. В ней Маевский заявил о себе как о поборнике славянского единства и его основы – Православия. С началом Первой мировой войны писатель, разрабатывая патриотическую тематику, издал в Москве сборник статей «Великая Россия и героическая Сербия» (1914), призывающий защищать общеславянские ценности.
В эмиграции Маевский работал библиотекарем в Патриаршей библиотеке, окончил богословский факультет Белградского университета, стал секретарем Сербского патриарха Варнавы (воспитанника Петербургской Духовной академии). Позже он написал капитальный труд «Русские в Югославии: Взаимоотношения России и Сербии» (1960; 1966). Маевский часто посещал православные святыни в Югославии и за ее пределами, трижды побывал на Афоне. Свои впечатления от встреч с обитателями Святой Горы он с замечательной художественной силой отобразил в книгах «Иверская Богоматерь» (1932), «Святая гора» (1936), «Неугасимый светильник» (1940) и особенно в художественных произведениях: «Афонские рассказы» (1950), «Афон и его судьба» (1969). «В двух последних книгах Маевский проявил себя как даровитый прозаик, в совершенстве владеющий изящным стилем, – пишет первый и пока единственный исследователь его творчества А. Н. Стрижев. – Его проза исполнена тонких переживаний, динамична, насыщена мудростью и лиризмом. В ней угадывается талант крупного художника. Таких книг об Афоне еще не было, оттого-то они и полюбились читателям. <…> Как поэт Маевский заявил о себе сборником стихотворений «Искры», изданным там же десятью годами раньше. Стихи его негромки, основная тема – героизм, родина, любовь»71.
Блестящие дарования писателя-мемуариста проявились в воспоминаниях Маевского о Шмелеве, которые вошли в подготовленный им же сборник «Памяти И. С. Шмелева» (Мюнхен, 1956). Литературный портрет писателя исполнен в теплых, сердечных тонах. О том, как создавался Шмелевым роман «Пути небесные», рассказала в этом сборнике жена Маевского, Елена Петровна Охотина-Маевская.
Книги В. А. Маевского ждут переиздания в России, чтобы занять достойное место в компендиуме отечественной словесности.
Н. Д. Городецкая
Имя писательницы русского зарубежья Н. Д. Городецкой совсем недавно стало известно российскому читателю. Между тем судьба ее интересна и с точки зрения нашей темы: христианская традиция постепенно входила в ее творчество, а усвоенное православное мировоззрение побудило ее стать богословом, автором трудов о русской святости.
Надежда Даниловна Городецкая (1901–1985) родилась в семье журналиста и певицы, училась в Гатчине и Полтаве. Потеряв родителей в толпе беженцев во время Гражданской войны, в 1919 г. из Крыма добралась до Югославии, поступила в университет в Загребе. Здесь опубликовала свои первые опыты в прозе – рассказы, написанные на хорватском языке. Пробыв некоторое время в Македонии, в 1924 приехала в Париж, где жила до 1934, продолжая образование в Сорбонне, а также в Религиозно-философской академии Н. А. Бердяева
В Париже проявились многообразные таланты писательницы: она выступала как беллетрист, очеркист, журналист, литературный критик72. Темы ее беллетристики, во многом автобиографической, – драматические судьбы русских в первые годы эмиграции, ностальгия по России. Варьируется образ одинокой молодой женщины, оказавшейся в изгнании. Лейтмотив прозы Городецкой – слово «одиночество». Иногда оно звучит как приговор, после которого – тяжелая точка и пустота. Этим словом заканчиваются несколько рассказов («Ветер любви»: «непроницаемое, неизлечимое одиночество»). Автор словно бы обращается к читателям: посмотрите, как уныл мир, сколько в нем боли, страдания. И все же возможность спасения есть, но дверь только-только приоткрывается. Этот выход – христианская вера. Многие персонажи случайно забредают в храмы, становятся невольными очевидцами служб, венчаний, монашеских постригов. У них остается ощущение незнакомого иного мира, смутное предчувствие Истины. Как у Люси, героини рассказа «Восточная сказка»: «Сама она смутно верила, что Кто-то следит за нею и знает ее печали»73. Но это только начало пути, может быть, для иных он останется не пройденным, подобно евангельской притче о зернах, поклеванных птицами или засохших на каменистой обочине.
Встречаются и светлые странички, они связаны с детскими воспоминаниями. В рассказах о девочке Нине появляется образ священника, отца Иоанна. Это подлинно русский характер, это человек цельный, нравственно безупречный, бесконечно добрый. Рассказывая внучке о России, он вспоминает о родной земле с неизбывной нежностью. Автор, однако, расставляет акценты: да, герои лишены родины, страдают от этого, но выше и ценнее даже родины – небесное отечество, «Небесный Иерусалим», как озаглавлен один из рассказов.
Образы верующего деда и маленькой Кати из рассказа «Детство» (1934) вызывают в памяти общение Горкина с маленьким Ваней в «Лете Господнем» Шмелева. В общении со странником ребенок всерьез задумывается о Боге. Звучит безусловно шмелевская тема встречи с верующим праведником, развивается сюжет о том, как ребенок впитывает истины христианства, ощущает соприкосновение с миром святости – миром, которого так не хватает в светском обиходе барского дома. Как сложилась судьба Вани Шмелева, нам хорошо известно. Что касается Кати Белосельской, то ей в последующих рассказах предстояло стать Китти Бель, солисткой парижского мюзик-холла, испытать любовь, пережить свои радости и скорби и завершить мирской путь в монастыре, приняв постриг и став сестрой Евдокией.
Путь к вере – тема, которую в XIX веке пытался воплотить Гоголь, а в XX – Шмелев, постоянно занимала художественное сознание Городецкой. В своих героинях писательница отражала собственные размышления о мире и Боге. Тема ее романа «Изгнание детей» – судьбы третьего эмигрантского поколения, той молодежи, которая покинула Россию в раннем детстве. О сюжетных коллизиях романа, написанного, в отличие от других, на французском языке, мы узнаем из рецензии Ю. Мандельштама:
«Духовное беспокойство разрешается героями Городецкой по-разному. Бежавший из советской России Малышев кончает самоубийством. Проникшаяся полунапускным разочарованием и безразличием Лиля опускается и ищет утешений в легких романах. Нина уезжает в Россию – не совсем ясно, для чего <…>. Борис уходит в личную жизнь и эстетство. Наиболее внутренне преображенной оказывается под конец книги единственная из "старших" Анна Сергеевна (которой тоже нет еще тридцати). После любовных разочарований и неудачи общественной она обращается к вере, хотя и почти бессознательно. Ее духовный путь обрисован Городецкой, пожалуй, убедительнее всего»74.
Все это, конечно, отражение душевных движений писательницы, начинающей обретать глубину веры. Ее внимание привлекают образы людей, всецело предавших себя служению Богу и Церкви. Это Саду – миссионер, проповедующий веру с риском для жизни, Ева Лавальер – блистательная актриса, раздавшая все имущество и ставшая монахиней, – их судьбам посвящает Городецкая проникновенные очерки. В прозе возникает и неоднократно звучит тема пострига. Принятием монашеского образа заканчивается и полная приключений история Кати Белосельской. Очень возможно, что и сама Городецкая примеряла к себе такую будущность. Рассказ «Счастье» (1932) – свидетельство о преодолении депрессии и завершение определенного этапа духовных поисков: автор узнает, что человек, когда-то встретившийся на эмигрантском пароходе, свое подлинное счастье обрел в священническом служении на Афоне.
В последних рассказах Городецкой, написанных уже в Англии, все отчетливее проступает новая тема: возрождающая сила проповеди и христианской любви («Гангстер»). Пасхальный рассказ «До гробовой доски» исполнен светлых тонов, его смысловым центром становится слово «надежда».
Занимаясь беллетристикой, Городецкая проявляет все больший интерес к философским предметам, к религиозному осмыслению художественного творчества. Она посещает Религиозно-Философскую Академию Н. Бердяева, становится одним из организаторов и активным участником Франко-русской студии (Studio Franco-Russe, 1929–1931)75. В литературоведческих работах Городецкой ставятся вопросы о связях художественного творчества и веры – как в русской, так и во французской литературах. В 1930 г. в Клубе молодежи РСХД она прочла доклад о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»; на семинаре Н. Бердяева «Христианство и творчество» – доклады «Спасение и творчество» и «Духовная встревоженность в современном французском романе». В статье «Католическая литература» Н. Городецкая рассматривает беллетристику, преимущественно назидательного и душеполезного характера, основывающуюся на католическом мировоззрении. В первую очередь ее интересуют не художественные достоинства (как правило, невысокие), но тенденции, новые пути, которые нащупывают писатели. Автор констатирует наличие целого пласта «светской художественной католической литературы», которая, имея во Франции свою традицию, успешно живет и развивается. В статье «Спор поколений» рассматриваются тенденции современной французской литературы. Н. Городецкая обсуждает концепцию «беспокойства в литературе», выдвинутую Кремье, перспективы развития послевоенной литературы и присущие ей новые качества, в том числе тревогу и растерянность одних, пылкий призыв других, молодых литераторов, для которых авторитеты Жида и Пруста – мастеров психологического анализа – сменились именами Массиса и Бернаноса – писателей ярко выраженной католической ориентации, отстаивающих христианские ценности.
Значительное влияние на Городецкую оказал Шарль Пеги. Поэт и публицист Шарль Пеги (1873–1914) был личностью с оригинальными и подчас противоречивыми воззрениями. Член социалистической партии, он пытался соединить демократические принципы с традиционной католической религиозностью. Этот писатель, со своеобразным нервным, гибким стилем, стал вдохновителем целого поколения деятелей французской культуры, заново открывших для себя глубину, красоту и творческую силу христианства. Его наследие стало весьма популярным и в среде русской эмиграции.
На заседании Франко-русской студии 24 февраля 1931 г. Городецкая выступила с докладом о жизни и творчестве Шарля Пеги. Говоря о соотношении социального и конфессионального в философии Пеги, русская писательница обратила внимание на новые грани проблемы гуманизма: «…доведенные до крайности, гуманистические идеи ведут к христианству. Никакое образование не возносит человека на такую высоту и не дает такого центрального места в мироздании, как религия Бога, ставшего человеком. Пеги, который некогда упрекал Евангелие за то, что оно было безразлично к проблеме рабства, понял, что в настоящем христианстве не будет существовать ни рабство, ни королевская власть – но только братство, равенство в любви, в желании жертвы. Мы не находим в Писании решения социальных проблем, но эти проблемы начинают выглядеть иначе, окружаются новыми аспектами, если на них взглянуть с точки зрения Евангелия». Второй момент, отмеченный Городецкой в деятельности Пеги, – «восхитительное мужество», с которым он пытается понять причины дискредитации Церкви. В значительной степени этой дискредитации способствует духовная политика. Городецкая привела цитаты из Пеги, утверждавшего, что «политические силы Церкви были всегда против мистики, именно против христианской мистики» и что «христианство умирает не из-за научной критики, но из-за нехватки милосердия»76.
Н. Городецкая находилась в постоянном духовном поиске. Она чувствовала истинность Евангельских заповедей, красоту, силу и подлинность христианства, но одновременно ощущала свою неготовность к молитвенному опыту и искала путь к Богу, признаваясь, что соединить Церковь (с ее догматами и канонами) с христианской идеей в сознании и практике нелегко. Об этом свидетельствует ее письмо к Н. А. Бердяеву, своему духовному учителю и наставнику, от 18 августа 1931 года:
«Профессия же, при всем к ней уважении, всей жизни не заполняет. Ведь не могу же я, в самом деле, считать целью своей жизни писание посредственных книжек. Семья не удалась. Это все отчасти хорошо. Остается человек "сам по себе", и должен себе ответить прямо и честно, куда же ему и зачем себя пристроить. <…> И в то же время я знаю, что вера нужна. Периодически живу так, как если бы верила <…> Твердо чувствую одно: если есть в душе Бог, так и горя почти нету, и своего греха не почувствуешь, буквально рай, буквально станешь как дитя. Как к этому придти? Как сделать, чтобы Бог тебя захотел? Потому что если захочет – откуда угодно возьмет. Ждать платонически не могу. Пытаюсь молиться <…> Удается слабо»77.
Эти строки – свидетельство душевного порыва совестливой и духовно чуткой женщины, которая ищет путь к христианской Истине. Некоторые русские литераторы оставили яркие свидетельства сходных душевных движений. Вышеприведенные строки Городецкой почти совпадают со словами Н. Гоголя: «…Молиться не легко. Как молиться, если Бог не захочет? <…> И вот Вам моя исповедь уже не в писательстве. Исписал бы Вам страницы во свидетельство моего малодушия, суеверия, боязни. <…> Хочу верить…»78.
Искания парижского периода Городецкой все более приближали ее к христианству. Важнейшее влияние на ее мировоззрение и творческие интересы оказал архимандрит Лев (Жилле), католический священник-богослов, перешедший в 1928 г. в Православие. Религиозный мыслитель, проповедник, отец Лев стал духовным отцом Надежды, от него она усвоила идеи христианского кенозиса и самоотвержения. Городецкая стала прихожанкой возглавляемого о. Львом первого французского православного прихода в Париже и даже привлекла в него своих соратников по Франко-русской студии – Всеволода Фохта и Марселя Пеги.
На определенном этапе своего духовного пути Городецкая ощутила неудовлетворенность занятиями беллетристикой и почувствовала сильное влечение к осуществлению евангельских заповедей на практике. Под влиянием архимандрита Льва она отказалась от художественного творчества, и в 1934 году переехала в Англию, где получила богословское образование, стала доктором богословия и автором трудов по истории Церкви и русской словесности.
Монография Городецкой «Уничиженный Христос в современной русской мысли» опубликована в Лондоне в 1938 году. В этом труде она рассматривает идею кенозиса (самоуничижения) в широкой области русской жизни. Книга содержит примеры самоотречения в творчестве писателей и общественных деятелей. Городецкая показывает, что следование Христу в Его добровольном уничижении, готовность подобно Ему переживать состояния Богооставленности, властвование внешней судьбы – характерные черты русской психологии (как формулировал о. Сергий Булгаков, не «героизм», а «подвижничество»).
Ее докторское сочинение «Св. Тихон Задонский, вдохновитель Достоевского» (Лондон, 1951) – первый академический труд на английском языке о жизни и творениях святителя. Св. Тихон Задонский предстает в книге как образ «евангельского», деятельного святого, реформатора церковной жизни в своей епархии, стремящегося к повышению нравственного уровня во всех слоях общества через исполнение евангельских заповедей. Этот труд внес существенный вклад в изучение истории русской и православной духовности.
Судьба Н. Городецкой, в которой так разносторонне проявились ее таланты, творческие дарования, побуждает задуматься о том, что происходит со светским художником, когда он принимает веру всерьез. Русская литература знает разные примеры. Иногда это заканчивается кризисом, как у Гоголя. Иногда – дает толчок к углублению творчества, как у Достоевского, который называл себя «духовным реалистом». Что касается эмиграции, известны случаи, когда приобщившись к вере, художник отказывался от своего творчества – более или менее радикально. Так, князь Д. А. Шаховской, известный поэт, писавший под псевдонимом «Странник», отправился на Афон и принял там монашество, впоследствии стал епископом Сан-Францисским. Он не совсем оставил перо, но писал уже не поэзию или прозу, а литературно-критические очерки, публицистические статьи о русской культурной жизни. С другой стороны, мы знаем литераторов, ставших православными не только в своем частном бытии, но и в художественном акте – о них шла речь в настоящей главе.
Таким образом, именно в XX столетии, в литературе русского Зарубежья происходит примечательный процесс: воцерковление культуры, о котором много говорили русские религиозные философы. Воцерковляется именно художественное творчество, сближаются после долгого разрыва светское искусство и православное мировоззрение, восстанавливается ценностный порядок, который лежал в основе средневековой христианской культуры. Этот процесс порождает различные эстетические формы.
Писатели русского Зарубежья, о которых говорилось в данном разделе, как видим, были очень разными по своей манере, стилю, эстетическим принципам, у каждого имелись свои тематические предпочтения. Но все эти литераторы – православные, они развивали в своем творчестве именно христианскую традицию, ибо духовная основа их творчества – православная вера. Она была присуща этим авторам лично, она проявлялась и в мировоззренческом, философском, религиозном плане их сочинений. Можно сказать, что в лице этих художников русская литература обретает новое качество в осмыслении мира, в понимании природы человека. Эти художники доказали, что полноценная православная художественная литература может существовать, не утрачивая ни своей художественности, ни своей верности христианской истине. В их творчестве запечатлен успешный опыт эстетического освоения духовной реальности.
Примечания
1 Шмелев И. С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1998–2000. Т. 1. С. 463, 468, 516. В дальнейшем в параграфе о Шмелеве ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы в квадратных скобках.
2 Ильин И. А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин-Реми-зов-Шмелев // Ильин И. А. Собр. соч. в 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 1. С. 383, 384.
3 Осьминина Е. А. «Для очистки и отчистки с жизнью» // Москва, 1994. № 9. С. 112.
4 Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1935 – 1946). М., 2000. С. 393.
5 Там же. С. 479.
6 Деникина Кс. Иван Сергеевич Шмелев // Шмелев И. С. Душа Родины. Рассказы и воспоминания. М., 2001. С. 471.
7 Гомаюнов С. А., свящ. «Вниди и в меня, Господи!»: вера и церковь в творчестве И. С. Шмелева. Киров, 2009. С. 119.
8 Борисова Л. М., Дзыга Я. О. Продолжение «золотого века»: «Пути небесные» И. С. Шмелева и традиции русского романа. Симферополь, 2000. С. 127.
9 Гомаюнов С. А. «Вниди и в меня, Господи!»: вера и церковь в творчестве И. С. Шмелева. С. 118–119.
10 Ильин И. А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1935–1946). М., 2000. С. 387.
11 Там же. С. 157–158.
12 Ильин И. А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин-Ремизов-Шмелев // Ильин И. А. Собр. соч. в 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 1. С. 406.
13 Зайцев Б. К. Собр. соч. в 11 т. Т. 7. М., 2000. С. 201. В дальнейшем в параграфе о Зайцеве ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы в квадратных скобках.
14 Воропаева Е. В. Жизнь и творчество Бориса Зайцева // Зайцев Б. К. Соч. в 3 т. М., 1993. Т. 1. С. 41.
15 Зайцев Б. К. Митрополит Евлогий // Возрождение (Париж). 1928. 22 янв. № 964.
16 Воропаева Е. В. «Афон» Бориса Зайцева // Зайцев Б. К. Афины и Афон. Очерки, письма, афонский дневник. СПб., 2011. С. 303.
17 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30 т. Л., 1974. Т. 11. С. 188.
18 Андреев Н. «Отчина» и ее автор // Новый журнал. 1971. № 105. С. 139.
19 Андреев Н. Леонид Зуров (1902–1971). Цит. по: Зуров Л. Поле//Север. 1992. № 7. С. 77.
20 Варшавский В. [Рец.: «Поле»] // Совр. записки. Париж. 1938. Т. 66. С. 453.
21 Зуров Л. Поле // Север. 1992. № 7. С. 108.
22 Зуров Л. Ф. Обитель. М., 1999. С. 291, 304–305.
23 Стрижев А. Леонид Федорович Зуров // Зуров 77. Ф. Обитель. М., 1999. С. 10.
24 Зуров Л. Ф. Обитель. М., 1999. С. 346.
25 Бунин И. Леонид Зуров // Зуров Л. Ф. Обитель. М., 1999. С. 561.
26 Величковская Т. О Леониде Федоровиче Зурове // Зуров 77. Ф. Обитель. М., 1999. С. 573, 586, 588.
27 Кудрявцев В. Дома и в лодке с Леонидом Зуровым // Зуров 77. Ф. Обитель. М., 1999. С. 608.
28 Пильский П. [Рец.] // Сегодня. Рига, 1938. 8 окт.
29 Нарышкин С. Певец Бога и земли // Никифоров-Волгин В. Заутреня святителей: Избранное. М., 1998. С. 471.
30 Никифоров-Волгин В. Заутреня святителей: Избранное. М., 1998. С. 226. Далее рассказы Волгина цитируются по этому изданию.
31 Амфитеатров А. Тоска по Богу// Никифоров-Волгин В. Заутреня святителей: Избранное. М., 1998. С. 484.
32 Никифоров-Волгин В. Заутреня святителей: Избранное. М., 1998. С. 468.
33 Исаков С. Забытый писатель // Никифоров-Волгин В. Дорожный посох: Избранное. М., 1992. С. 337.
34 Амфитетатров А. Тоска по Богу. С. 485.
35 Никифоров-Волгин В. Заутреня святителей. С. 189, 199.
36 Амфитетатров А. Тоска по Богу. С. 484.
37 Никифоров-Волгин В. Заутреня святителей. С. 12–13
38 Заглоба (Белукова) В. Б. «Нехладеющий жанр» поэзии. Лирика Алексея Гессена. М., 2001. С. 5.
39 Струве Г. Венок на могилу А. Гессена / К. Зайцев, Г. Струве, П. Струве // Возрождение. 1925. 12 июля, № 40. С. 2.
40 Дунаев М. М. Православие и русская литература: В 6 ч. М., 2000. Ч. 6. С. 439.
41 Гессен А. Горькие травы // Заглоба (Белукова) В. Б. «Нехладеющий жанр» поэзии. Лирика Алексея Гессена. М., 2001. С. 43. Здесь и далее стихи А. Гессена цитируются по этому, самому полному на сегодняшний день, изданию его лирики.
42 Там же. С. 44.
43 Там. же. С. 47.
44 Там же. С. 47.
45 Зайцев К. Венок на могилу А. Гессена / К. Зайцев, Г. Струве, П. Струве // Возрождение. 1925. 12 июля, № 40. С. 2.
46 Бехтеев С. С. Грядущее. Стихотворения. СПб., 2002. С. 96.
47 Там же. С. 103.
48 Там же. С. 67–68.
49 Филарет (Дроздов), сет. Слова и речи. Т. I. М. 1873. С. 289.
50 Бехтеев С. С. Грядущее. Стихотворения. СПб., 2002. С. 204, 211.
51 Там же. С. 306.
52 Там же. С. 345.
53 Там же. С. 376–377.
54 Там же. С. 406.
55 Елагин И. Ладонка // Новое русское слово. 1959. 15 февр.
56 Савин И. Избранное: Стихотворения, проза, драма, литературная критика, публицистика / Ред. – сост., автор вступ. статьи М. Е. Крошнева. Ульяновск, 2006. С. 22.
57 Там же. С. 21.
58 Синкевич В. «…С благодарностию: были». М., 2002. С. 146.
59 Савин И. Избранное. С. 20.
60 Савин И. Избранное. С. 22.
61 Синкевич В. «…С благодарностию: были». М., 2002. С. 148.
62 Савин И. Избранное. С. 19–20.
63 Пильский П. Иван Савин // Сегодня. 1927. 16 июля
64 Савин И. Избранное. С. 27.
65 Бунин И. Памяти Ивана Савина // Последние новости. 1927. 14 июля.
66 Совин И. Избранное. С. 76.
67 Талл же. С. 139.
68 Талл же. С. 151.
69 Талл же. С. 178.
70 Талл же. С. 145.
71 Стрижев А. Н. Православный прозаик Владислав Маевский // Стрижев А. Н. Собр. соч. в 5 т. М., 2007. Т. 3. С. 334.
72 Литературное наследие этой забытой на ллногие десятилетия писательницы зарубежья сегодня стало доступно российсколлу читателю: Городецкая Н. Д. Остров одиночества. Роллан, рассказы, очерки, письлла / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коллллент. А. М. Люболлудрова. СПб., 2013.
73 Городецкая Н. Д. Остров одиночества. С. 524.
74 Мандельштам Ю. «Дети в изгнании» // Возрождение. 1936.12 апр., № 3966. С. 4.
75 Подробнее слл.: Любомудров А. М. Проблелла «христианство и литература» на заседаниях Франко-русской студии (1929–1931) // Христианство и русская литература. Сб. 6. СПб., 2010. С. 440–465.
76 Цит. по: Городецкая Н. Остров одиночества. С. 26.
77 Городецкая Н. Остров одиночества. С. 741–742.
78 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. [В 14 т.]. М.; Л., 1937–1952. Т. XIV. С. 41.
Казачья проза и поэзия М. А. Дмитриева
Петр Краснов
Творчество генерала от кавалерии Петра Николаевича Краснова (22.09.1869-16.01.1947) представляет собой особый разряд литературы – казачью прозу. Эта литература со времен Древней Руси («Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков», например) отличалась напряженной фабулой, вниманием к внешнему действию, скупым и точным психологизмом. Средневековую военную документалистику украшала фольклорная поэтика, особый авторский лиризм, высокая христианская образность. Все эти черты оказались свойственными и прозе Краснова. А. И. Деникин отмечал, что элемент «поэтического вымысла «прошел красной нитью через всю жизнь Краснова» [1, с. 101]. Пристальное внимание к отдельным воинским компаниям и походам Петр Николаевич последовательно соединял с широким интересом к русской истории как таковой. Сам Краснов участвовал в небывалых походах и военных операциях, благодаря чему его «казачья» словесность обогащалась исключительными темами и сюжетными линиями. Так, в 1897–1898 гг. Краснов был командирован в Абиссинию в качестве начальника конвоя при российской дипломатической миссии к негусу Менелику. За три месяца Краснов проделал опаснейший переход на верблюдах и мулах по сомалийской пустыне и Данакийским горам. Всего за 11 дней он доставил из Абиссинии в Петербург пакет с секретной корреспонденцией и был награжден, помимо российских наград (орден Станислава 2-й степени) – офицерским крестом эфиопской звезды 3-й степени и французским орденом Почетного легиона. Абиссинские впечатления нашли преломление в книге Краснова «Казаки в Африке. Дневник начальника конвоя российской императорской миссии в Абиссинии в 1897–1898 гг.» (1899). Через год книга была переиздана под названием «Казаки в Абиссинии…» с посвящением цесаревичу Михаилу Александровичу и великой княжне Ольге Александровне. Кроме того, был издан сборник «Любовь абиссинки и др. рассказы» (1903) [2, с. 303–306]. Так, задолго до Н. С. Гумилева, экзотическая абиссинская тематика заявила о себе в творчестве казака Краснова.
Древний казачий род Красновых подарил России несколько генералов русской армии, получивших за воинские заслуги потомственное дворянство. Казачьи корни и донской патриотизм не позволили ему превратиться в лощеного столичного гвардейца. В лице Петра Николаевича русская литература получила защитника вековых русских ценностей, – религии, армии, монархии. В ответ на толстовскую риторику и декадентские настроения интеллигенции, отчужденно относившейся к Царскому двору, Краснов воспел те ценностные основания жизни России, без которых она бы давно исчезла с карты мира.
Уже в ранних повестях и рассказах, печатавшихся преимущественно в приложениях к журналу «Нива» и вошедших в сб. «На озере» (1895) и «Ваграм» (1898), Краснов изображал жизнь кадетов, юнкеров, офицеров, развивал «мысль об офицерстве как особой благородной касте» [3, с. 503]. Тема героического прошлого донского казачества отражена была в многочисленных произведениях автора – «Атаман Платов», «Донцы: Рассказы из казачьей жизни», «Донской казачий полк сто лет тому назад», «Казаки в начале XIX века: Исторический очерк» (все – за 1896 гг.). Краснов не приукрашивал действительность, но и не пренебрегал героизмом и каждодневным крестным трудом русского солдата. Таким образом, Краснов наметил линию нового для русской литературы военно-исторического романа, может быть, психологически упрощенного, без утонченной аристократической рефлексии, но защищающего главные ценности русской армейской службы в противовес духу тотальной критики. Краснов вспоминал о командовании в 1906 году третьей сотней Лейб-гвардии Атаманского полка: «Я был очень близок с казаками. <…> Я никогда не слыхал ропота, жалоб на разорение, на тяжесть службы. Молча, в величайшем сознании своего долга перед Родиной, несли казаки свои тяготы по снаряжению на службу и гордились своим казачьим именем. В них было прирожденное чувство долга» [4].
Как считают некоторые исследователи, Краснову удалось вписать новые полновесные страницы в историю русской литературы, которых она давно ожидала. Он художественно воплотил слова Александра Третьего о том, что у России есть только два защитника в мире, ее армия и флот. Действительно, русская литература девятнадцатого века блистательно показала русского офицера после войны, перед войною, в бальном зале, салоне, в имении, но вот на поле боя русского воина масштабно представил в основном Лев Николаевич Толстой, и то добавив в русский характер изрядную долю пацифизма. Может быть, это объяснялось тем, что военная проблематика уже сама по себе диктовала определенный нравственный кодекс поведения в рамках исторического конфликта, а русской словесности хотелось выяснить, как жить в часы затишья, покоя, когда человек предоставлен своей собственной воле. Сложно утверждать, что этот пробел сумел восполнить П. Н. Краснов: до высочайшего уровня русского классического романа, он, безусловно, не поднялся. Но заявка на оригинальный вектор развития русской литературы, в сторону изображения повседневного героизма на войне, была значительная.
В эмигрантский период своего творчества Краснов опубликовал более 40 книг, разнообразных в жанровом и тематическом отношении. Он вспоминал о своей молодости (повесть «Павлоны» (1943) – книга о юнкерах Павловского военного училища), создавал историко-публицистические произведения «На внутреннем фронте» (1921); «Накануне войны» (1937). Успешно обращался к юношеству – повесть «Мантык, охотник на львов» (1928). Переведенный на семнадцать иностранных языков, казачий писатель стал одним из самых популярных авторов Российского Зарубежья.
Несомненный интерес для читателя представляли его исторические романы о русских царицах: «Цесаревна. 1741–1762» (1933) – о Елизавете Петровне и «Екатерина Великая» (1935), а также роман о народовольцах «Цареубийцы (1 марта 1888 года)» (1938) [2, с. 305]. Русскую имперскую историю Краснов представлял в одной смысловой парадигме – как столкновение христианской правды с либеральными силами, в духе статьи Ф. И. Тютчева «Россия и революция». В революционерах-террористах (Перовской, Желябове и др.) Краснов увидел исторических предшественников большевиков. «В отличие от политической беллетристики, с характерной для нее тенденциозностью, нарочитой заданностью и схематизмом характеров, исторические романы Краснова являются незаурядными художественными произведениями, они написаны с глубоким знанием реалий эпохи» [2, с. 306].
Наравне с художественной прозой о прошлых эпохах, значительное внимание Петр Николаевич уделял в своем творчестве исторической фантастике, но она была особенного духоподъемного измерения. Так, в романе «За чертополохом» (1922; 2-я, перераб. ред. – 1928) он представил себе, что красные командиры Советской Руси сядут когда-нибудь за один братский стол с защитниками Имперской России и объединятся против мирового вселенского зла. В этом произведении наиболее отчетливо отразился политический идеал Краснова-писателя – стремление видеть Россию тем государством, где восстановлена монархия и православная вера [5, с. 7–8].
Важное место в обширном творческом наследии Краснова занимал цикл романов, посвященных «великой русской трагедии» (революции 1917): «Единая неделимая» (1925), «Понять – простить» (1928), «Белая свитка» (1928)». Открывало этот цикл главное произведение Краснова, над которым он работал в течение 27 лет, – роман-эпопея «От Двуглавого Орла к красному знамени. 1894–1921» (опубл. 1921–1922). В нем нашли отражение ключевые события эпохи царствования императора Николая II и первых послереволюционных лет, а также красный террор [2, с. 306]. Роман выдержал несколько изданий, был переведен на 15 иностранных языков и уже в середине 20-х годов экранизирован. По вполне понятным причинам, он был снят со спецхрана в СССР только в 1990 году, а в 1994–1995 гг. переиздан в России.
В романе «От Двуглавого Орла к красному знамени» Краснов пытается объяснить, отчего, по образному выражению В. В. Розанова, Россия «слиняла в три дня». Герой романа, гвардейский офицер Саблин, замечает, что давно уже русская аристократия (гражданская и военная) не следует евангельским заповедям, в церковной жизни видит удел простонародья, а ценности исповедует либерально-буржуазные. Саблин переживает долгую, сложную и мучительную эволюцию. «Некогда восторженный идеалист, обожавший царя и его семью, Саблин постепенно разочаровывается в предмете своих монархических верований. Одной из причин этой эволюции явилось самоубийство его любимой жены, попавшей будто бы в сети старца Григория Распутина [2, с. 306]. Среди действующих лиц романа нет людей, способных восстановить Империю. Одни трусливы и слабы, другие (как, например, Саблины, Полежаевы) по природе своей не способны к противостоянию. Критика отмечала, что роман Краснова «имеет право на пристальное внимание» и даже сравнивала его с «Войной и миром» Л. Н. Толстого [6], с «Тихим Доном» М. А. Шолохова. Г. Адамович находил, что Краснов «во всех отношениях Шолохову уступает. Но характер его писаний – шолоховский. При том таланта у него отрицать нельзя. Первый том «Двуглавого Орла и красного знамени» написан с такой широтой и непринужденностью, какая и не снилась многим нашим заправским беллетристам» [7, с. 175]. В тоже время было замечено, что если бы тома «Двуглавого орла» были изданы в Советском Союзе, их бы раскупали, как «французские булки» [7, с. 177].
Умер Краснов, как известно, смертью мучительной – его в 78-летнем возрасте повесили во дворе Лефортовской тюрьмы. Занятая бывшим атаманом бескомпромиссная позиция («Хоть с чертом, но против большевиков») привела его к тому, что он пошел на сотрудничество с гитлеровцами. В 1941 г. Краснов приветствовал нападение фашистской Германии на СССР. Во время Великой Отечественной войны руководил организацией «Казачий стан» (сначала в Белоруссии, а затем в Северной Италии), занимался формированием частей, действующих против белорусских партизан и бойцов итальянского Сопротивления. В мае 1944 г. Краснов был интернирован англичанами, передан советскому командованию и доставлен в Москву. Исторический смысл большевистской Руси Краснов в поздние годы своей жизни последовательно отрицал.
Интерес к Краснову у современного читателя сохраняется по сей день. Несмотря на некоторые пустоты и шероховатости стиля, несмотря на тенденциозность и прямолинейность в изображении характеров, Краснов, по сути – единственный, писатель русского Зарубежья, художественный опыт которого был проверен тяжким личным опытом военачальника в годы русской смуты. Знаток русской истории, Краснов размышлял о Родине: «Глядя в прошлое, не могу не видеть, что будущее России окажется прекрасным. Пройдут тяжелые годы лихолетья, как проходили и раньше. Россия воскреснет и станет еще краше, нежели была, потому что русский народ полон героев» [8, с. 59].
Литература
1. Деникин А. И. Путь русского офицера // Октябрь. 1992. № 2. С.101.
2. Зопеволов В. Н. Петр Николаевич Краснов// Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги, М., 2005. Т. 2. С. 303–306.
3. Калинин И. Русская Вандея. М.; П., 1926. С. 50.
4. Цит. по: Марыняк А. В. Генерал от инфантерии П. Н. Краснов. URL: . ru/k/krasnow_p_n/text_0090.shtml (дата обращения 02.03.2015).
5. Ивлев М. Неизвестный и легендарный… Атаман Краснов как писатель // Русь Православная. 2001. № 2. С. 7–8.
6. Попов К. «Война и мир» Л. Н. Толстого и «От Двуглавого Орла к красному знамени» П. Н. Краснова. Париж, 1934.
7. Михайлов О. Н. От Мережковского до Бродского. Литература русского зарубежья. М., Просвещение, 2001.
8. Дон. 1995. № 10. С. 50.
Николай Туроверов
Николай Туроверов, «казачий Есенин», донской «Баян», атмосферно и ярко привнес в русскую поэзию мир казачьей степи, а также изобразил горький эпос последнего исхода. Туроверову удалось увидеть мир станицы не отдельным замкнутым царством, а вписать его в историю России, со времен русского средневековья до семидесятых годов двадцатого века, до собственной смерти.
Свое мнение о будущем казачества он сформулировал так: «Было три Дона: Вольница Дикого Поля, Имперское Войско Донское и третий, короткий, маленький, как зигзаг молнии, казачий сполох. Четвертого Дона нет… Без России и вне России у казачества не было, нет, и не может быть дорог! России без казаков было бы труднее идти своим историческим путем, и будет тяжелее возвращаться на свое историческое лоно» [1]. Николай Николаевич пережил все возможные драмы воинских походов и эмигрантских перипетий XX века. Он родился в семье потомственных старочеркасских казаков, где царило особенное почитание Николая Чудотворца. В семье уважали книгу и музыку. Как все казачьи дети мужского пола, Коля в три года был посажен на коня, в пять – уже свободно ездил верхом. Когда в эмиграции Туроверов будет вспоминать о доме и детстве, он вдохновенно вернется к «пасторальным» картинкам младенчества [2].
Окончив семиклассное Каменское реальное училище, Туроверов подумывал об университете, но Первая Мировая война изменила его планы. В 1914 году он вступил добровольцем в Лейб-гвардии Атаманский полк и участвовал в боевых действиях. После Октября 1917, на Дону, в отряде есаула Чернецова, сражался с большевиками. Это был почти «детский крестовый поход», участники редко были старше двадцати лет. «Каледин взывал к казачеству, – напишет Туроверов много лет спустя в автобиографическом рассказе «Первая любовь», – но казаки, вернувшись с фронта, были глухи к призыву своего атамана – война им надоела, – и мы – юнкера, кадеты, гимназисты, разоружив пехотную бригаду в Хотунке под Новочеркасском, пошли брать восставший Ростов. Вот эту зиму, очень снежную и метельную, эти дни великолепного переполоха, когда все летело к черту, не успевшим попасть на фронт – было разрешено стрелять и совершать подвиги у себя дома, это неповторимое время атамана Каледина я запомнил твердо и навсегда» [3].
Потом был знаменитый, невыносимо тяжелый и невероятный по отчаянному мужеству Ледяной поход маленькой армии генерала Л. Г. Корнилова, преследуемой красными. Туроверов был четырежды ранен. В ноябре 1919 г. его назначили начальником пулеметной команды Атаманского полка, за боевые заслуги он был награжден орденом Владимира 4-й степени. На одном из последних пароходов с врангелевскими войсками будущий писатель навсегда покинул Россию. Начались скитания: лагерь на острове Лемнос, Сербия и, наконец, Франция. На Лемносе, этой пересылочной тюрьме, предоставленной французами для врангелевцев, в голоде, холоде и отчаянии, была воздвигнута островная православная церковь – ее сколотили из ящиков и палаточной материи. Самодельный храм всегда был переполнен, а на службах пели казацкие хоры [2].
Оказавшись в Париже, Туроверов, не ленясь, совмещал разгрузку вагонов с посещением лекций в Сорбонне. Потом, как и многие «бывшие» имперцы, устроился на работу шофером парижского такси. Творчество помогло избежать личностного разлада, раздвоения, разочарования. Один за другим выходили сборники – в 1928, 1937, 1939, 1942, 1965. Первый сборник назывался «Путь», – название символически указывало на религиозную составляющую стихов Туроверова, на его искание промыслительных дорог и тем. По своим эстетическим устремлениям Николай Николаевич был очень далек от поэтической богемы русского Монпарнаса, от «парижской ноты» с ее абстрактной метафизикой и упадническими настроениями [4]. По словам критика Ю. Терапиано, поэт следовал «неоклассической линии» в развитии традиций пореволюционной поэзии [5]. В его стихах угадывалось влияние романтизма девятнадцатого века – творчества М. Ю. Лермонтова, Е. А. Баратынского, пленившего Туроверова трагическими порывами дойти до сокровенной сущности мироздания. Обязательным было обращение к Пушкину. Так, стихотворение «Пилигрим» оказалось типологически родственно пушкинскому «Пророку»:
Мне сам Господь налил чернила И приказал стихи писать. Я славил все, что сердцу мило, Я не боялся умирать, Любить и верить не боялся, И все настойчивей влюблялся В свое земное бытие. О, счастье верное мое! Равно мне дорог пир и тризна, — Весь Божий мир – моя отчизна! Но просветленная любовь К земле досталась мне не даром — Господь разрушил отчий кров, Испепелил мой край пожаром, Увел на смерть отца и мать, Не указав мне их могилы, Заставил все перестрадать, И вот, мои проверя силы, Сказал: «Иди сквозь гарь и дым, Сквозь кровь, сквозь муки и страданья, Навек бездомный пилигрим В свои далекие скитанья, Иди, мой верный раб, и пой О Божьей власти над тобой. (1940), [6]Призвание туроверовского пилигрима – скорбное, аскетическое, монашеское. Через личную скорбь ему открывается Бог в своем Промысле о человеке. Из авторов современности кумиром Н. Туроверова был мужественный Николай Гумилев:
Учился у Гумилева На все смотреть свысока, Не бояться честного Слова И не знать, что такое тоска. («Учился у Гумилева…».; 1946), [6].В духе акмеизма творчество Николая Николаевича отличалось повышенной документальностью, материальностью, вещностью изображаемых событий, критики говорили о кинематографичности его текстов. При всей устремленности к высшим областям духа, лирический герой Н. Туроверова чрезвычайно любил и ценил земную жизнь, природную красоту людей – гражданских и светских, мастерски передавал жизнь в красках, в цвете. Оригинальным было и то, что в стихах Туроверова о гражданской войне не было «стандартного» мотива мести, проклятия большевикам, сравнения большевиков с сатанистами; лирика его была «без всякой ненависти, без всякой примеси пропаганды» [7]. Свои земные, полные сюжетного драматизма стихи, Туроверов очень аккуратно «подсвечивал» христианской образностью. В этой деликатной скупости просматривалось его религиозное кредо – не проповедовать, а рассуждать и проживать. Лирику автора породили, говоря высоким слогом, испытания и страдания. Они вытеснили душу лирического героя в пограничное бытие, когда опыт веры и мучений избавляет человека от «домашнего» страха. Лирический герой Туроверова – это вечный воин, который или участвует в войне или о ней вспоминает. Поэтому в его творчестве нет или почти нет душевной расслабленности, дряблости, апатии. Однако вместе с тем отсутствует в творчестве поэта и тематически-смысловое многообразие. «Лирика Туроверова целостна, в ней не прослеживается отчетливой или резкой эволюции – ни тематической, ни стилистической» [4]. Основные темы поэта – это Родина, поход за белое знамя, прошлое и настоящее казачества. Помощь Бога лирический герой ощущает иногда в самые последние минуты, перед смертью или во время подвига. Это не «домашний» Бог, к которому обращаются с бытовыми просьбами, а Бог-кузнец, закаляющий человека. Таково, например, пронзительное стихотворение «Было их с урядником тринадцать» (1947), в котором говорится о гибели казачьего разъезда в заснеженном поле. Читатель, безусловно, надеется на счастливый финал, на то, что казачий отряд будет спасен и ему будет указана дорога домой, на большую землю. Но все оборачивается в иную сторону, разъезд замерзает от холода и «пробуждается» уже в раю. Урядника и двенадцать его казаков некоторые исследователи соотносят с Христом и апостолами [8]:
Ветер стих. Повеяло покоем. И, доверясь голубым снегам, Весь разъезд добрался конным строем, Без потери, к райским берегам. (1947)Добраться без потери «до райских берегов» – это значит честно выполнить свое задание на земле. Можно сказать, что лирический сюжет Туроверова естественно и постоянно направлен в сторону вечности. Именно там заканчивается маршрут его персонажей, там находится единственно подлинное пространство жизни. Образ смерти «органичен» художественному миру поэта. «Жизнь прошла. И слава Богу!»– восклицает он в одноименном стихотворении. Смерть-это естественные врата, за которыми открывается искомая идеальная страна. Парадоксально стихотворение «Дети сладко спят, и старики…» (1951), где вечность изображена как детский праздник с разноцветными шарами, неслыханной музыкой, лодками у причала. Может быть, это единственное в своем роде «детское» стихотворение о вечности. Уникально решена в стихах и тема любви, где лирический герой допускает, что ожидаемое счастье может состояться только в «небесной таверне»:
Отлетят земные скверны, Первородные грехи, И в подоблачной таверне Я прочту тебе стихи [6].Тема взаимопроникновения смерти, любви и религии ярко представлена и в рассказе Туроверова с тургеневским названием «Первая любовь». Это пронзительное повествование посвящено донской молодёжи «огненных лет». Никита Бабаков, «герой гражданской войны, любимец казаков, отличный друг и рубаха-парень», служащий в Париже шофером у знаменитого адвоката, вспоминает одну удивительную в своей жизни зиму, очень снежную и метельную. Образ зимы становится символом мятежной России, горестной, но прекрасной молодости. Перед нами пронзительный рассказ о едва возникшей и почти тотчас угасшей любовной истории. Отряд белогвардейцев отправляется брать восставший Ростов, на вокзале юнкер Никита Бабаков знакомится с девушкой Кирой, – она тоже хочет сражаться с большевиками. Отец ее, белый генерал, убит, мать-вдова живет в старинном дворянском доме в страхе и одиночестве. Никита убеждает командира взять Киру в отряд, сам представляется ее кузеном. Вскоре он страстно влюбляется в «кавалерист-девицу», но получает страстный отпор. Кира жалуется подпоручику, что «юнкера клянутся в любви и лезут целоваться. И этот, и этот, и этот» [3]. Подпоручик велит юнкерам вести себя честно, а «партизану» Кире не плакать. В рассказе обозначены многие топосы русского классического текста: старинный провинциальный дом, заснеженный сад, портретная галерея и т. д. Но эти детали и черты дворянского быта перечисляются быстро, бегло, автор дает понять, что этот мир отошел навсегда, безвозвратно. Любовные истории времен гражданской войны зарождаются в промороженных вагонах, на холодных станциях, в разведке, в бою. Влюбленный Никита Бабаков, не знающий, что с собой делать от переполняющего счастья, «на рассвете ходил вдоль эшелона, что-то бормоча себе под нос и размахивая руками, и, встретив «сожителя» по купе, юнкера-артиллериста, снял свои часы и уговорил принять их в подарок». Туроверов изображает первую любовь во времена скорби и гонений, дает новый модус отношений влюбленных, – страсть Никиты и Киры преображена, смягчена страданием за Родину.
Есть в рассказе черты, генетически сближающие его с тургеневским миром. Так, ведущей в любовном дуэте становится Кира, являя характер страстных «тургеневских» девушек. Она – не просто барышня – дворянка, она воительница, вроде Елены Стаховой из романа «Накануне». Сразу после знакомства Никиты с Кириной матерью, с их домом, где Кира первый раз появляется перед женихом в женском изысканном платье, приходит весть о наступлении. Надо было отбивать станицу Лихую под Новочеркасском, потом был поход на станицу Глубокую, краткий плен у красногвардейцев, угроза расправы, освобождение, эвакуация в Новочеркасск и – гибель Киры от наследственной болезни, – феерической чахотки. Ожидание счастья и блаженства прерывается смертью. Символично, что и помолвочные кольца несостоявшихся супругов сделаны из нательного креста Никиты. Реализуется излюбленная мысль Туроверова – откладывать счастье не имеет смысла, надо проживать его немедленно, пока оно неожиданно и скупо дается судьбой. Вызывает размышления и крайне неожиданный сюжетный поворот, – герои перед иконой Николая Чудотворца благодарят Бога за чудо избавления от расстрела, надеются на будущую общую жизнь, но у Киры именно в это время начинается приступ смертельной болезни. Пути Бога – не наши пути, так можно символически расценивать эту сюжетную деталь.
В последние годы эмиграции Туроверов выбрал линию активного патриотизма. Он был против музеефицирования темы казачества, превращения ее в кафешантанный фольклоризм. Чудом сохранил Николай Николаевич архив Атаманского полка, продолжая традиции христианской казачьей литературы, собрал кружок казаков-литераторов, был редактором журнала «Родимый край», организовывал яркие выставки – «Казаки», «Суворов», «Пушкин и его эпоха», «1812 год». Во время Второй Мировой войны Туроверов сражался с немцами в Африке в составе 1-го кавалерийского полка французского Иностранного легиона, которому посвятил поэму «Легион». Безусловно, русское офицерство было украшением этого войска. В результате Туроверов, выражаясь метафорически, стал офицером Вселенной. В его стихах появились резкие, сухие, жесткие, всеимперские интонации, которые сравнивали со стилистикой Р. Киплинга и Н. Гумилева. В послевоенном Париже Туроверов возвращается к своим привычным делам – сочинительству, журналистике, общественной работе. Он печатается в тиражных эмигрантских изданиях: «Перезвонах», «Возрождении», «России и славянстве», «Современнике», в «Новом журнале», его стихи включены в послевоенные антологии «На Западе», «Муза диаспоры», «Содружество».
Мысли о Родине все чаще кажутся ему навязчивыми и невозможными, образ России превращается в прекрасный и болезненный миф, поэта преследует сравнение родной страны со старой матерью, которая не узнала своего сына в измученном страннике. В последние годы жизни, когда Туроверов вдруг успокоился душою, решил пожить с удовольствием и даже полюбил свою «веселую» мачеху – Францию, на него сваливаются многочисленные болезни. Сказалась трудная воинская судьба, укус тропической мухи це-це во время африканской войны.
После перенесенной ампутации ноги Туроверов умер во французском госпитале Ларибуазьер в 1972 году. Его похоронили на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа рядом с женой Юлией Александровной, поблизости от могил однополчан по Атаманскому полку. Русская зарубежная пресса откликнулась на смерть Н. Н. Туроверова серией статей, назвав его «поэтом наиталантливейшим», «любимым», «последним выразителем духа мятежной ветви русского народа – казачества» [9].
Литература
1. Цит. по: Казачество: Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества. Ростов н/Д., 1992. С. 245.
2. Родино И. Война и мир Николая Туровероа. Цит. по [Электронный ресурс]. URL: -dom.info/2010/04/vojjna-i-mir-nikolaya-turoverova/. (дата обращения: 09.03.2015).
3. Первая любовь: Цит. по [Электронный ресурс] URL: -kazak.ru/oldforum/ t993-topic.html. (дата обращения:18.05.2015).
4. Зопевалов В. Н. Н. Н. Туроверов // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Том 3. П-Я. С. 523–525.
5. Теропиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа. Нью-Йорк, 1987. С. 259-
262.
6. Туроверов Н. Цит. по [Электронный ресурс] URL: / turoverovl.html. (дата обращения. 09.03.2015).
7. Струве Г. П. Русская литература в изгнании. Париж, 1986. С. 351–352.
8. Рончин А. М. Поэзия Николая Туроверова Цит. по [Электронный ресурс]. URL: -slovo.ru/philology/349/ (дата обращения 31 июля 2014).
9. Станюкович Н. «Боян казачества»// Возрождение. 1956. № 60. С. 129.
Русский роман на Востоке: «Семья» Нины Фёдоровой М. А. Дмитриева
Творчество Нины Фёдоровой (настоящее имя Подгоринова Антонина Фёдоровна) является изящным продолжением классической ветви русской литературы в зарубежье. Автор пяти романов, двадцати рассказов, многих критических очерков, одиннадцати детских пьес, она избрала своими героями русских дворян, оказавшихся за порогом разрушенного имперского Дома. Сама Нина Фёдорова стала эмигранткой по воле судьбы. Получив образование в Петрограде, она переехала в Харбин, русский город в Китае. После крушения Белого движения Харбин стал столицей громадного эмигрантского «государства в государстве». По свидетельству современников, там жило свыше миллиона россиян [1, с. 211]. Китай был «единственной в мире страной, куда русский эмигрант мог бежать без визы и паспорта, где никто не преследовался ни за религию, ни за политические убеждения» [2, с. 184]. В Харбине Нина Фёдорова увлеченно преподавала русский язык в начальных и средних учебных заведениях. В 1923 будущая писательница вышла замуж за В. Ф. Рязановского – историка, культуролога и юриста, который специализировался на китайском и монгольском праве, но основным результатом его исследований стал многотомный труд «Обзор русской культуры». После гибели «русских гнезд» в Китае Фёдорова вместе с мужем перебралась в США.
Роман «Семья» – центральный и самый удачный роман автора – был написан на английском языке и в 1940 опубликован в Бостоне. За «Семью» Нина Александровна получила престижную премию американского журнала «Атлантический ежемесячник» [3, с. 572–572], роман был переведен на 12 языков, в 1952 году издан на русском языке в Нью-Йорке. К широкой читательской аудитории в России роман пришел только в 1989 году.
Окутанный флером чеховских настроений, роман воспроизводит ситуацию, условно говоря, «после продажи вишневого сада», когда нетуже не только имения, но и самой страны – эпоха балов сменилась периодом расстрелов и казней. Интеллигентский эстетизм обернулся жестоким реализмом изгнания. По художественной силе и значимости «Семью» можно сопоставить с такими произведениями первой половины XX века, как «Лето Господне» И. Шмелева, «Дом в Пасси» Б. Зайцева, «Белой гвардией» М. Булгакова. Исследователи справедливо считают, что этот роман заслуживает стать настольной книгой каждого человека, любящего Россию [1, с. 211].
Когда рушится все – государственное устройство, законность, правопорядок, положение человека в обществе, оплотом остается только семья, но эта семья должна укрепляться верой и добрыми делами. Уникальность романа Фёдоровой состоит в том, что он посвящен самому малоизвестному периоду русской эмигрантской жизни – китайскому. Этот период по атмосфере был еще сложнее, острее, экзотичней, чем европейское изгнание, французское или немецкое. В каком-то смысле, может быть, он был более близок тайным, «восточным» сторонам славянской души. Другого такого романа, объективно освещающего жизнь русского эмигрантского Китая, в русской культуре так и не появилось. Русские отвечали китайцам уважением и благодарностью, учили их детей иностранным языкам, учили петь романсы, вышивать «ришелье», знакомили с родной верой, прятали их от японцев под страхом смерти во время войны в своих домах и пансионах, плакали об их участи.
Одна из самых трагических и одновременно эпических сцен романа – описание реки Хэй-Хо, наполненной телами убитых китайских солдат. «Апофеоз войны! <…> Они говорили "прощай" и этому солнцу, и этому небу, и ряду легких облаков, плывущих в другом направлении. <…> На берегу стояли европейцы, больше всего русские. Китайцы стушевались перед новой, такой жестокой властью. Их не было на берегу. Но за рядами зрителей шла обычная работа у реки, нагружали какие-то возы, бочки и ящики. Там работали китайцы. Они остались живы. Они должны есть – и они работали, как всегда, ловко и быстро, но как-то держась спиною к реке, не глядя в ту сторону» [2, с. 58].
Легкий, «женский», взволнованный тон романа сочетается с глубоким философским, религиозным, публицистическим содержанием. Лиризм авторских отступлений по контрасту включает в себя трагические детали летописи «вселенского распада» [3, с. 571–572].
Центром повествования является русская дворянская семья, открывшая свой скромный русский пансион в городе Тянцзине. «Экономическое положение семьи было неопределенно, более того, ненаучно, нелепо. Оно покоилось на нездоровых экономических началах. Его основами были, во-первых, попытки что-нибудь заработать, во-вторых, развитие навыков обходиться без необходимого» [2, с. 7]. Но, как в каждой хорошей русской семье, ее члены были «нежно привязаны друг к другу, всегда были готовы пожертвовать собой ради общих интересов» [2, с. 9]. Фёдорова обращается к традиции семейной хроники, история России соотнесена здесь с историей семьи. Раскрыта и основная проблематика жанра – бытие личности в микросреде семьи. Умственное зрение старших персонажей романа с ностальгической нотой обращено в прошлое, и очень осторожно – в неопределенное будущее. Зрение молодых – вдаль, в сторону желанного счастья, обязательно связанного с трудом и подвигом. Эпиграфом романа являются строки Ф. И. Тютчева «Есть и нетленная краса» из стихотворения «Чему бы жизнь нас ни учила…» (1870). В семантической раме этого стихотворения и развивается сюжет произведения. Эпос жизни перенасыщен страданиями, но тем более верит душа чудесам, на которые щедра Высшая Сила. Приобретение этой «нетленной красы» и станет главным духовным результатом героев Фёдоровой.
«Национальной чертой их была особая полнота духовной жизни, трепетный интерес к людям и к миру, в котором они жили. Русский ум отказывается посвятить себя только личным интересам или вопросам одной текущей жизни. Он стремится обосноваться на высоте и оттуда иметь суждение о жизни» [2, с. 9] – не устает размышлять о русской душе автор. На первых страницах романа возникает также отсылка к стихам М. Ю. Лермонтова, а именно к «Листку» (1841), как символу бесприютного, скитальческого существования. Тема этого стихотворения активно реализуется в романе – поиск уюта и гармонии в жестоком, холодном мире. Центральной героиней романа вплоть до своего ухода из повествования является Бабушка – аристократка, некогда владелица имения. «Она помнила дом с колоннами, и в нем такое множество вещей! вещами полны были шкафы, комоды. Гардеробы, шифоньеры, сундуки, чемоданы, шкатулки и ящики. <…> И все время их еще выписывали из-за границы, покупали в магазинах, получали в подарок и по наследству» [2, с. 7]. Упоминание о вещах дано по контрасту к настоящему: в изгнании у семьи не было ничего. На смерти Бабушки завершается первая часть романа. Ее образ чрезвычайно удался Нине Фёдоровой. За этой благородной пожилой дамой видится прекрасная вереница классических русских старух, таких как «ля бабуленька» из романа «Игрок» Достоевского или Татьяна Марковна Райская из романа «Обрыв» Гончарова. Они реализуют свою специфически женскую русскую судьбу, состоящую в том, чтобы нести великую скорбь, страдать и терпеть. Но Бабушка Фёдоровой как бы подводит итоги сюжетов о всех «благородных старухах» девятнадцатого века, это особая бабушка, из «послесловия». У нее в романе нет имени, но ее место и роль в семье обозначается с большой буквы – за Семью отвечающая, пред Господом Предстоящая. Это особый собирательный образ пожилых русских grand dame, чей статус вдовства и авторитет главы рода в мирные имперские времена давал право особой власти над семейством. В старинные времена для таких пожилых людей был в дворянской культуре особый термин-«иконостас». Бабушка Фёдоровой в период гонений стала духовной опорой семейства, отодвинув границы физической усталости и терпения. «Смерти? нет, я не боюсь. В жизни я теперь боюсь только расходов» [2, с. 16] – с горьким вздохом говорит она. От всех печалей, болезней, тревог было у нее одно лекарство – молитва. Церковь бабушка воспринимает как последнее убежище для страдающего человека. «В этом все изменяющем и изменяющемся мире Христос был неизменяем. В золотой ризе ли, покрытый сапфирами, как было когда-то раньше, или здесь, на деревянной дощечке – Он был один и все тот же – Учитель человека. И бабушка выходила из церкви, зная по долгому опыту, что "иго Мое благо, и бремя Мое легко есть". И легким шагом она спешила в Семью помогать нести это бремя, так как тяжести собственной ноши она уже не чувствовала» [2, с. 115].
Благодаря особому почитанию главной героиней иконы Божией Матери «Взыскание погибших» роман Фёдоровой можно назвать романом Богородичным. Икона становится символом повествования, освещает сюжет великой силой надежды. В этой связи вспоминается и другой роман русской литературы, «Белая гвардия», где также возникает сложный, многогранный мир семьи русских интеллигентов. И этот мир ломается под натиском социальных катаклизмов и никогда не восстановится, и в этом романе между страдающей за близких людей главной героиней Еленой Тальберт и иконой Богородицы возникает какая-то таинственная и пронзительная связь. Но если Елена молится и в отчаянии корит икону за испытания, то бабушка Фёдоровой не протестует, не отчаивается. Ее страдания достигли своего апогея, когда человеку от бесконечных невзгод открывается Вечность. Бабушка говорит с людьми на языке христианской любви, к ней прислушивается и китаец, и капризная сумасбродная англичанка, и католическая монахиня. «Как таинственная жизнь птицы, так же неисповедимы и пути человеческой жизни. Смерти нет, есть перемена, непонятная для нас и потому кажется страшной. Перемена – закон жизни, она нас пугает потому, что она предвещает разлуку» [2, с. 64] – говорит бабушка китайцу мистеру Суну, подыскивая понятные для него слова.
Православный священник в романе появляется несколько раз, его характер дан довольно скупо, через авторские описания, а не через действия и поступки. Это и объяснимо – серди эмигрантов только Бабушка и ее Семья прибегают к помощи церкви, остальные заняты «отвлеченными» духовными вопросами. «Потомок мучеников за православную веру в Китае, священник был человеком ангельской душевной чистоты и такого же смирения» [2, с. 114]. Его паства не имела земных материальных благ, из которых могла уделить Богу. «Они приходили молиться с переполненным сердцем, но с пустыми руками. Священник вел полуголодное существование» [2, с. 115].
Первой помощницей Бабушки является ее дочь Татьяна, которая именуется в романе Матерью. Она еще только ожидает своего жизненного подвига, ее духовные силы не так велики, как бабушкины. Татьяна только подготовляется судьбой взять крест за Семью. Может быть, неслучайно носит она имя главной пушкинской героини. (На всякое движение сердца в этой семье любили отвечать цитатой Пушкина, по Пушкину и гадали [2, с. 295]). Несмотря на то, что Татьяна любит поплакать, часто чувствует себя несчастной, грустит о муже, который бросил ее с детьми в революционную пору, она обладает замечательными душевными качествами, которым предстоит только обрести крепость.
Не от счастливой жизни представительницы слабого пола становятся во главе семьи в этом произведении. Отсутствие супруга и отца указывает на прошедшие и грядущие испытания, когда женщины, потеряв любимых мужей на фронтах великих войн, в лагерных ссылках, находят себе опору в нравственно-религиозном, православном начале.
Особые главы романа посвящены судьбе детей. Не всех удалось Матери оставить рядом с собой. Три разные дороги готовит им Провидение. Две из них – ассимиляция с европейской и американской культурой: юный Дима отправляется с сумасбродной старой богатой англичанкой миссис Паридж в Англию, дочь Лида помолвлена с молодым американцем Джимом. Трагическая и мучительная неизвестность ждет молодого Петю, который тайно, без паспорта, переходит границу и отправляется в Россию. «Легкий утренний ветерок развевал волосы Пети, играл с его порванной рубашкой, подталкивал его вперед. Где-то пропел петушок. Из одной трубы вдруг поднялся тонкий дымок. Петя вздохнул глубоко: "Россия, моя первая единственная и вечная любовь!" Он перекрестился и быстро пошел вниз с холма» [2, с. 286]. Все молодые герои сохраняют свою духовную принадлежность Семье и знают, что их «жизнь и пути разрешаются выше. А роптать было бы грехом».
Роман «Семья» заканчивается фактом продажи пансиона, но не завершается небытием и отчаянием. Русский Дом находится не на земле, он на небе, его невозможно уничтожить – такова мерцающая идея романа. В последней главе звучит романс Ф. Шуберта «Песнь моя, лети с мольбою», которую с русскою страстью поет Лида, устроившись с Матерью в крошечной комнатке чужого особняка. Русская душа наполняет надеждой улицы Тянцзиня, становясь неким завершающим аккордом долгого повествования о Семье.
Книга Н. Фёдоровой изображает весь комплекс русских интеллигентских настроений за границей в мучительном процессе перемен. Лучшие представители бывшего дворянства под ударами судьбы превращаются в подвижников, аскетов, страдальцев. Они становятся тем отрядом передовых людей, о которых мечтал в своих романах Ф. М. Достоевский. Им понятна и всемирная отзывчивость, и всемирная боль за всех. По глубокому замечанию архиепископа Иоанна Шанхайского, «русская интеллигенция <…> проявила не только способность во всех обстоятельствах сохранить свою жизненную энергию и побеждать все, что стоит на пути ее существования и развития, но показала и высокие душевные качества – способность смиряться и терпеть» [4].
Психологическая достоверность романа требовала также исследования интеллигенции иного типа, иной идейной направленности. В изгнании они только укрепили в себе «хрестоматийные» особенности «лишних» людей – меланхолию, разочарованность, мечтательность, внеконфессиональность. Устремленные к метафизической сущности мира, они продолжали искать «вожделенную тайну» вне православия, мечтали о «Вольном Обществе Честных Людей» на основе либерального идеализма. Соблазнившиеся в России религиозным модернизмом и софианством, они продолжали быть верным этим учениям в эмиграции. Так, исповедуя духовные идеи Абсолюта, профессор Чернов из романа «Семья» запальчиво и страстно проповедует против войны у дверей японской концессии и замертво падает от сердечного приступа. Его супруга, Анна Чернова, в горестном отчаянии называет себя атеисткой. Не желая верить ни в вечную жизнь, ни в Абсолют, она стремится к смерти окончательной. Об этой части интеллигентного общества в эмиграции архиепископ Иоанн Шанхайский говорил: «Горделивый ум не мог согласиться с тем, что он до сих пор стоял на ложном пути» [4]. В результате беженцы сходили с ума, духовно гибли, отказываясь от церковной опоры, предложенной им в очередной раз. Это психологически точно отражено в романе Нины Фёдоровой, стоит только вспомнить разнообразную палитру настроений жильцов описанного ею пансиона № 11.
В 1958 году, во Франкфурте-на-Майне (издательство «Посев») вышла повесть Фёдоровой «Дети», продолжающая тему «Семьи». В 1964–1966 годах в Вашингтоне увидел свет 3-томный роман-эпопея под названием «Жизнь». В этом произведении, особенно в заключительной части, показаны в ряде рельефных и зарисовок затмевающие ум страсти социалистов и революционеров. Однако Нина Фёдорова в историю литературы вошла автором одной книги, написанной на едином дыхании, выдержанной на одной лирической ноте, настроенной на русский текст девятнадцатого века и провозглашающей неугасимые ценности русской жизни – веру, любовь, семью, родину, церковь.
Литература
1. Михайлов О. Н. От Мережковского до Бродского. Литература Русского зарубежья. М.: Просвещение, 2001.
2. Фёдорова Н. Семья. СПб.: Сатис, 2014.
3. Раскина Е. Нина Фёдорова // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Том 3. П-Я. С. 571–572.
4. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский «Духовное состояние русской эмиграции». [Электронный ресурс]. URL: sf.htm (дата обращения 03.05.2015).
5. Я. Горбов. Нина Фёдорова // Возрождение, 1967, № 182. С. 150.
Музыка
Певческая традиция Русской Православной Церкви в послереволюционные годы: созидание на краю пропасти Т. А. Чернышёва
В истории Русской Православной Церкви XX века две эпохально-значимые «вехи» открывали новую трагическую реальность – созыв Поместного Собора РПЦ (15.08.1917 – 7/20.09.1918) и революционные потрясения «Великого Октября» (25.10./7.11.1917). Оба события ознаменовали конец старой и наступление новой эпохи: первое – возвестило завершение синодального периода и вступление в новый патриархальный период; второе – на руинах старой империи провозгласило строительство нового мира социалистических ценностей, в котором не было места религиозному «опиуму». Объявленное властью целенаправленное гонение на церковь, а вместе с ним и жестокое разрушение церковно-певческой культуры в 20-30-е годы было связано с общей политикой новой советской идеологии, видевшей в религии контрреволюционного врага, защитника монархического строя, угнетателя-эксплуататора народа. По мнению современного учёного-архивиста и историка церкви М. В. Шкаровского, «установление советской власти в октябре 1917 г. привело к беспрецедентным со времён преследований христиан в первые века наше эры гонениям на христианство в России. Несколько сотен тысяч православных священно и церковнослужителей были убиты. Этот трагический опыт имеет глубокий духовный смысл, который требует изучения и осмысления» [9, с. 1]. На основе изучения архивных данных историк приводит конкретные цифры и факты1.
Масштаб трагедии поражает, как поражает и то, что, несмотря на испытание, в оставшихся незакрытых православных церквях и соборах России продолжала «гореть свеча», не угасало молитвенное слово, продолжало звучать церковное пение. Как писал известный церковный историк, очевидец всей трагедии А. Э. Краснов-Левитин, «многим казалось тогда, что русской церкви нет, что религия на Руси умерла. Но не оскудела и в то время на Руси божественная Благодать, немощная, врачующая, оскудевающих восполняющая» [2, с. 8]. Цель настоящей статьи – обозначить некоторые «ориентиры» в развитии певческого дела Русской Православной Церкви в условиях «красного террора» (1917–1936), показать то, каким образом продолжала звучать молитва в период трагического «надлома» веками созидаемой церковно-певческой культуры.
Как известно, в дореволюционной России, и в частности в предреволюционные десятилетия, православное церковное пение было в центре внимания – многочисленные дискуссионные вопросы выносились на страницы научных и публицистических изданий2; насущные проблемы обсуждались в рамках деятельности различных общественных организаций3, регентских съездов и съездов хоровых деятелей4. В частности, последний – шестой Всероссийский съезд хоровых деятелей состоялся в мае 1917 года, практически накануне созыва Поместного собора. Все предложения и принятые на съезде решения не имели законодательной силы и статуса соборного постановления: отражая общественное мнение, они носили лишь характер обсуждения наиболее насущных проблем церковного искусства. Необходимость решения и закрепления их именно соборными постановлениями была одной из многочисленных задач, стоящих перед Собором5.
Выносимые на соборное обсуждение вопросы, касающиеся церковного пения, затрагивали различные его аспекты: осмогласие, свободные духовно-музыкальные сочинения, общенародное пение, церковно-певческое образование, организацию управления церковным пением, введение инструментов в православное богослужение и др. Однако при этом многие волновавшие всех проблемы оказались в тени, оставаясь не рассмотренными – такие, как материальное положение регентов и певчих, угнетение церковно-певческих тружеников, введение единого Обихода и др. (см. об этом: [3, с. 681–685]). Кроме того, к обсуждению Проекта Резолюции по церковному пению, подготавливаемого Подотделом «чтения и пения», не были привлечены, как предполагалось ранее, специалисты – церковные композиторы, историки церковной музыки, регенты и церковно-певческие деятели (С. В. Рахманинов, А. Т. Гречанинов, М. М. Ипполитов-Иванов, А. Д. Кастальский, Д. В. Аллеманов, В. М. Металлов, А. А. Архангельский, А. Д. Городцов, Н. М. Данилин и др.). Ограничились лишь приглашением А. Д. Кастальского, Д. В. Аллеманова – в качестве членов собора, Д. И. Зарина и А. В. Никольского – с правом совещательного голоса и В. М. Металлова – в качестве стороннего рецензента. Многие вопросы остались не решёнными не только в силу внутренних причин – например, отсутствия единого мнения среди участников дискуссии, но и внешних – стремительно развивающаяся революционная стихия во многом корректировала ход событий. Однако, несмотря на трудности, Проект Резолюции «Об упорядочении церковного пения» после обсуждения был одобрен VII Отделом Собора и получил статус Соборного постановления. Предполагалось, что Церковь им будет «руководствоваться долгие годы, а может быть и столетия» [3, с. 680]. В сентябре 1918 г. Собор закончил работу и принял решение о созыве следующего Собора весной 1921 г. Но планам на будущее не суждено было сбыться, и грядущая реальность предложила другой ход развития событий…6.
Трудно представить осуществление церковно-певческой культуры вне храма, вне атмосферы молитвенного процесса богослужения и стройно звучащего церковного хора. В связи с этим невольно возникает вопрос, какие же храмы остались «неприкосновенными» в первые два десятилетия после Октябрьской революции и продолжали быть действующими, несмотря на время тяжёлых утрат? Исследователи приводят следующие цифры: в 1917 г. на территории Северо-запада России7, «действовало 2654 храма всех конфессий, в том числе около 2500 православных. Из них к 1929 г. были закрыты 530, главным образом домовых храмов» [9, с. 1]. Относительно храмов Петербурга (Петрограда, Ленинграда), продолжавших быть открытыми в 20-е годы, ответ находим в упоминаемом выше автобиографическом повествовании А. Э. Краснова-Левитина, относящемся к 70-м гг. XX в. В своих воспоминаниях автор приводит важные статистические сведения и, что ценно, при этом он указывает принадлежность каждого из храмов к тому или иному направлению (православному, обновленческому, иосифлянскому) и указывает дату закрытия или уничтожения каждого из них. В частности, подводя итог, он пишет: «Итак, в Питере (в 20-е годы) насчитывалось 96 храмов. Из них 32 храма принадлежали к обновленческому течению или к различным связанным с ним группировкам, а 5 храмов принадлежали к крайне правому иосифлянскому течению. Кроме того, до 1930 г. под Петергофом была открыта Троице-Сергиева Пустынь. Очень большое количество верующих совершало паломничества в Макарьеву Пустынь под Любанью (120 км от Питера), которая была открыта до 1932 г. <…> Из этих 96 храмов сейчас (в 1970-е годы. – Г. Ч.) цело только 7. 89 церквей закрыты, снесены, поруганы, истоптаны. 89 кровоточащих ран. И сейчас, через 50 лет, они не зажили и не заживут никогда» [2, с. 67].
К сожалению, в воспоминаниях А. Э. Краснова-Левитина практически нет сведений о том, как тогда пели в том или ином храме – находим здесь лишь некоторые высказывания, косвенно касающиеся интересующей нас темы. Например, он отмечает, что в конце 20-х годов иосифлянский храм Спас на Крови (закрыт в 1932 г.) был полон верующих и, в отличии от Казанского и Исаакиевского соборов, в которых «ввиду их громадных масштабов совершенно пропадала красота богослужения <…> храм Спаса на Крови, наоборот, обладал прекрасной акустикой: каждое слово было слышно» и именно здесь, по его мнению «пел хор под управлением Рождественского – лучший хор Питера» [2, с. 106]8. Помимо храма Спаса на Крови, А. Э. Краснов-Левитин указывает на существование в Ленинграде 1928 года пяти приходов иосифлянского направления9. Автор подчёркивает, что «иосифлянские епископы и священники принципиально отказывались от регистрации и от каких бы то ни было сношений с властью». В связи с этим, он отмечает одну из отличительных черт церковного пения иосфлянского богослужения: «…прежде всего здесь не поминали властей. В храмах, признавших митрополита Сергия, была такая формула поминовения великой ектении: „О богохранимей стране нашей и о властех ея, о еже мирное и безмятежное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, Господу помолимся“. В храмах иосифлянских произносилась другая формула: „О богохранимей стране Российстей и о спасении ея Господу помолимся“» [2, с. 107].
Процесс уничтожения и закрытия храмов, в частности в Ленинграде, продолжался и в 30-е годы10, но некоторые из них продолжали оставаться открытыми. Однако по сравнению с 20-ми годами количество открытых храмов значительно уменьшилось. Так М. В. Шкаровский пишет: «К 10 июня 1937 г. в Ленинграде осталось 34 открытых православных храма – 25 „тихоновских“ (один из них „иосифлянский“) и девять обновленческих (один – „живоцерковный“), в которых служило соответственно 79 и 43 члена притча. Кроме того, ещё 14 церквей действовали в южных пригородах – Петергофе, Пушкине и Колпине». К лету 1941 г. в одной из крупнейших епархий страны – Ленинградской уцелел лишь 21 незакрытый православный храм, в том числе 13 в Ленинграде и пригородах. В семи городских и пригородных храмах Московского Патриархата в это время служили 19 членов притча, к ним надо добавить ещё одну церковь Московского Патриархата – храм Спаса Нерукотворного Образа в Шувалове, где служил протоиерей Александр Мошинский, иосифлянскую церковь Пресвятой Троицы в Лесном – настоятель иеромонах Павел (Лигор), а также четыре обновленческих храма: Спасо-Преображенский собор, церковь преп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище, Князь-Владимирскую церковь в Лисьем Носу и храм св. Николая Чудотворца на кладбище в Колпине <…>. Таким образом, всего к началу Великой Отечественной войны в храмах северной столицы и её пригородов оставалось 28 официально зарегистрированных священнослужителей, кроме того в городе проживало ещё около 30 приписных и заштатных священников. Это было все, что осталось от превышавшего тысячу человек дореволюционного духовенства Петрограда. Подобные же страшные потери понесло и духовенство Ленинградской области» [9, с. 7–9].
В связи с антирелигиозной политикой новой советской власти резко изменилась жизнь и судьба многих выдающихся представителей российской музыкальной культуры, чья деятельность и творчество так или иначе были связаны с областью духовного творчества, исполнительства, образования. Бывшие профессора, композиторы, педагоги, руководители хоров в одночасье оказались «не у дел» – некоторые из них покидали родину, а другие, оставшиеся на ней, претерпевали испытания на идеологическую «прочность», пытались найти компромиссное решение, применяя свой профессиональный опыт и знания в новых условиях. Сотрудничество с новой властью нередко осуждалось в церковных кругах и за «изменниками» закреплялось звание «красных профессоров». Напротив, те, кто верил в непоколебимость дореволюционных ценностей, оказывались «выброшенными за борт» как мешающий революции «пережиток монархического прошлого».
В тяжелейших условиях особые утраты несла церковь, а вместе с ней и церковно-певческая культура. Один из выдающихся представителей дореволюционной церковно-певческой науки А. В. Преображенский11 в 1928 г., отмечал: «Как и во многих областях культурной жизни, революция и здесь произвела грандиозный переворот. Прежде всего, потрясена до глубочайших основ твердыня церкви – и – следовательно – церковной жизни, церковного искусства. Вместе с ней рушились основы старой народной культуры, связанной с бытом и культом. Церковная музыка просто перестала существовать, как фактор, который нужно было учитывать в плане нашей жизни. Хоры распались и разлагаются, жизни в них нет, или она остановилась…» [1, с. 79]. Действительно удары судьбы не обошли церковный клирос. Так при проведении паспортизации населения весной 1933 г. запрещалось регистрировать и выдавать паспорта многим служителям культа, в том числе и «дьяконам и регентам хоров, хотя бы он был любитель…» [9, с. 3]. В связи с закрытием храмов резко сократилось количество церковных хоров, сократился и их певческий состав, изменился профессиональный и возрастной облик поющих. Кроме того, не прошли бесследно и годы Гражданской войны, голод, разруха, значительно сократившие население страны.
В атмосфере революционной стихии и гонений страдали не только люди, но гибло и ценнейшее наследие дореволюционного прошлого церковной культуры – богатые собрания нот и книг. В частности, в одном из рукописных источников – в «Словаре русского церковного пения» Д. С. Семёнова12 – отмечалось, что «церковно-певческое дело до 1917 г. могло гордиться собранием ценнейших книг, рукописей нот и др. памятников в различных книгохранилищах» [6, с. 118]13. Однако, в 1917–1918 гг. многое в этих бесценных хранилищах не выдержало испытания временем: «особенно пострадали рукописи и доски в нотнице П. Юргенсона, сданные в «макулатуру» в годы владычества РАПМ [там же, с. 119]. Также Д. С. Семёнов подчёркивает, что богатые собрания нот и книг, хранились и в частных библиотеках. Автор пишет: «Музыковеды, регенты, композиторы XIX–XX вв. могли гордиться своими личными нотными и книжными библиотеками, а иногда и старинными рукописями в них. Хорошее собрание у Киреева в СПБ, Степанова Е. Ф. в Тамбове, свящ. Лебедева В., также, регентов архиерейских хоров и др. музыкальных деятелей (Т. Ч. - карандашом дописаны имена «Любимова», «Грибушина» – регента из Рыбинска). Много рукописей, книг, нот хранилось по церквам, монастырям, лаврам, а также у духовенства. Всё это исчезло после 1917 г., будучи предано уничтожению во времена катастрофических потрясений, и розыски оставшегося в настоящее время (1941) связаны с большими трудностями» [6, с. 119].
Ценно, что на страницах рукописи Д. С. Семёнова не только упоминается, но и кратко повествуется о печальной судьбе многих частных архивов, которые после смерти их владельцев были подвергнуты уничтожению или были рассеяны в неизвестном направлении. Среди них: архив В. В. Лебедева (умершего в 20-х годах XX в.) – священника, известного в Тамбове и провинции музыкально-педагогического деятеля, редактора журнала «Гусельки Яровчаты» (Тамбов, 1907–1909), автора около 30 сочинений по вопросам музыки в школе, церковных хорах, пособий, композитора; архив Ф. Е. Степанова (1870–1947) – регента, композитора, учителя пения в школе г. Тамбова, сотрудничавшего с П. Богдановым и журналами «Гусельки Яровчаты», «Баян» и др.; архив А. М. Покровского, известного в своё время церковно-певческого деятеля, регента Новгородского архиерейского хора (до 1912 г.) и преподавателя пения в духовной семинарии, автора 11 книг и брошюр, посвящённых церковно-певческому просвещению (теории, истории церковного пения), с 1910 г. – издателя «Гуселек Яровчатых», владельца богатейшей нотной и книжной библиотеки. Благодаря сохранившимся воспоминаниям Д. С. Семёнова узнаём о переписке автора с известными музыкантами, композиторами, церковно-певческими деятелями – Б. В. Асафьевым, А. В. Никольским, П. Г. Чесноковым, А. В. Александровым, М. В. Бражниковым, Н. Д. Успенским и др. В них запечатлены многие неизвестные ранее событийные факты их биографий. Ценность рукописи Д. С. Семёнова заключается в информации, необходимой для восполнения страниц истории отечественной церковно-певческой культуры – в частности, в содержащихся в ней сведениях мемуарно-биографического характера, раскрывающих многие забытые сегодня имена тружеников церковно-певческой культуры (чьей памяти автор посвятил свой труд).
Таким образом, благодаря тому, что «рукописи не горят», есть надежда на восстановление утраченных страниц церковно-певческой истории послереволюционного лихолетья. Многое могут рассказать и сохранившиеся архивные материалы. Попытаемся далее на их основе восполнить сведения о развитии традиции церковного пения 20-х – начала 30-х гг.: в частности, одного из значительных церковных хоров дореволюционного Петербурга, центра монастырского богослужения – Митрополичьего хора Александро-Невской Лавры. Как известно, богослужение в петербургской Лавре не прекращалось вплоть до сентября 1933 года, Лавра была одним из последних монастырей, закрытых в советское время – 12 сентября здесь состоялось заключительное праздничное богослужение, которое провёл митрополит Серафим (Чичагов)14.
После издания в 1918 г. советской властью декретов и распоряжений – в частности, декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (23.01.1918), а также распоряжения о конфискации владений Александро-Невской Лавры в Петрограде (13.01.1918) – имущественные права Александро-Невской Лавры были нарушены, в результате чего она претерпела серьёзные утраты своих материальных церковных ценностей и разрушение системы финансового обеспечения15. Несомненно, это серьёзно повлияло на материальное положение лаврского хора, в котором и без того обстановка была накалена до предела. Ещё в апреле 1917 г. певчие Митрополичьего и Братского хора организовали протестное «демонстративное выступление»16. Недовольные условиями своего труда, и особенно своим материальным положением, они, «избрав из своей среды «Исполнительный Комитет», решили образовать управление хором на совершенно новых началах, устранив почти совсем от участия в управлении лаврское начальство и заявив совершенно неисполнимыми и ни с чем не сообразными требования Лавры. Добиваясь исполнения своих требований, хор в мае того же года объявил забастовку, в которую втянуты были малолетние певчие хора. Известный всей России регент И. Я. Тернов, поднявший хор на небывалую высоту, «Исполнительным Комитетом» был устранён и ушёл в отставку. Последствием явилось полное падение дисциплины в хоре, совершенное отсутствие всякого надзора за малолетними певчими, каковой надзор и ранее оставлял желать много лучшего, и упадок самого пения. Попытки лаврского начальства найти какие-либо пути соглашения с хором не имели успеха, и тогда пред Лаврою стал принципиальный вопрос о необходимости и пользе самого существования этого хора»17.
Но, несмотря ни на что – ни на внешние, ни на внутренние обстоятельства – в 1917 г. богослужебное пение в Александро-Невской лавре, обеспечиваемое силами братского и Митрополичьего хоров, продолжало звучать. Петроградский Митрополичий хор оставался одним из известных в России Архиерейских хоров. Он имел в своём составе тогда 93 певчих: «28 человек взрослых и 65 малолетних, хотя на лицо их, не считая 17, призванных на войну и пользующихся от Лавры пособием, – 12 взрослых и 40 малолетних»18. Певчие хора получали жалованье, жильё, обмундирование и «столовые деньги» от Лавры.
Однако следующий 1918 год стал критическим для существования Митрополичьего хора, хотя и были приняты некоторые меры по стабилизации его положения: в частности, с января 1918 г. хор вновь возглавил И. Я. Тернов (в общей сложности, прослуживший в нём почти 25 лет – с 1893 по 1918 гг.). Вернулся он не без участия певчих, хлопотавших перед Духовным Собором о возвращении «заслуженного регента». Однако впереди его ожидали новые серьёзные испытания. Во-первых, время от времени в связи с тяжёлым финансовым положением Лавры поднимался вопрос о роспуске Петроградского Митрополичьего хора, либо замене его братским хором – выдвигались предложения, чтобы регент возглавил его. Во-вторых, стремительно ухудшающееся материальное обеспечение малолетних певчих привело к тому, что некоторое время (с конца февраля по апрель 1918 года) хору пришлось петь без мальчиков: они были уволены, что заставило И. Я. Тернова позаботиться о специальном репертуаре для мужского хора. Возвращение 28 малолетних певчих в хор, осуществлённое благодаря хлопотам Д. Л. Аксёнова (вплоть до вложения им личных денежных средств)19, не могло уже исправить положения, и вопрос финансирования детского хора в последующее время будет постоянно подниматься. В-третьих, работа хора осуществлялась в тяжелейших условиях – например, летом 1918 г. ощущалась нехватка бумаги для напечатания нот, костюмы для малолетних певчих переделывались из старых кафтанов и кунтушей, Певческая столовая была отдана во временное пользование Общественной столовой района и т. д. Осенью (в конце сентября) 1918 г. И. Я. Тернов уехал в Тамбов, получив разрешение на полуторамесячный отпуск, из которого в Петроград, по-видимому, больше не вернулся. Подтверждением тому может служить Заявление Д. Л. Аксёнова от 27.12.1918 г., в котором он с сожалением вспоминал об утрате традиций «высокохудожественного пения Терновского хора» и о том, что его хлопоты «о сохранении во главе хора его незаменимого регента И. Я. Тернова» не увенчались успехом20.
После ухода И. Я. Тернова хор возглавил бывший регент Главного Преображенского полка А. Ф. Мартьянов, оставшийся без работы после ликвидации всех военных хоров. 25 августа/7сентября 1918 г. по просьбе И. Я. Тернова он был утверждён митрополитом Вениамином в должности помощника регента вместо уволенного И. Семёнова21, а уже в ноябре 1918 г. сам возглавил хор, но прослужил в нём недолго – до мая 1919 г. Время руководства А. Ф. Мартьяновым было связано с продолжающимся ухудшением материального положения лаврского хора и, судя по сохранившимся свидетельствам, разрушением его певческих традиций.
В наступившем 1919 г., в феврале, Духовный собор был вынужден в своём Рапорте Его Высокопреосвященству Вениамину Митрополиту Петроградскому и Гдовскому Свято-Троицкия Александро-Невския Лавры Священно Архимандриту докладывать: «Отсутствие послушников-певчих создаёт много неудобств при исполнении братией Лавры различных церковных треб и лишило Лаврские праздничныя богослужения большаго благолепия в смысле церковного пения. Духовный Собор, сознавая, что послушники певчие уходили из Лавры не только из-за призыва на военную службу, но из-за недостаточного обеспечения, заботился и заботится о приискании послушников и улучшения их мат. положения, насколько можно. Духовный Собор находит необходимым, в силу резолюции Вашего Высокопреосвященства, войти в переговоры с взрослыми певчими об условиях увеличения хора и большаго усердия его к богослужениям, на счёт братской кружки, взамен послушников-певчих»22.
Несмотря на тяжелейшие материальные условия в 1919 г. Митрополичий хор продолжал принимать участие в богослужении. После ухода А. Мартьянова в июне 1919 г. регентом хора стал певчий В. Л. Еловенко, которому пришлось, как видим из нижеследующего документа, «подтверждать» перед певчими свой регентский статус и писать в Духовный Собор Прошение следующего содержания: «Прошу Духовный Собор выдать мне за подписью Владыки Митрополита бумагу в том что я регент Митрополичьего хора, в чем бы я мог ориентироваться хором, ввиду того что некоторые певцы, не желая подчиняться моим хоровым требованиям, считаясь с тем, что у меня нет никаких доказательств, а посему я не могу ни чем руководствоваться и не могу предъявлять к хору требования с чисто музыкальной стороны»23. Количественный состав взрослых певчих, получавших «столовые деньги», при В. Еловенко ещё более сократился, доходя до 6 человек.
Подчеркнём, что 1919 год стал последним годом существования Митрополичьего хора в его традиционном смешанном тембровом составе: взрослые мужские голоса (тенора, басы) и голоса малолетних певчих-мальчиков (дисканты, альты). На основании архивных документов за последующий 1920 год можно судить о важной перемене – введении в хор женских голосов, заменивших детские голоса и, возможно, как переходный этап, совмещавших одновременное пение с ними. В истории монастырского лаврского хорового пения изменение смешанного состава хора (мужчины и мальчики) на другой смешанный состав (мужчины и женщины) было осуществлено впервые, что свидетельствовало о наступлении нового периода в развитии лаврской певческой традиции. Как известно, в конце XIX века женские голоса постепенно начали вводиться в некоторые церковные хоры России – первым из них был хор Почтамтской церкви в Петербурге под управлением А. А. Архангельского24. Далее это нововведение охватило многие церковные хоры российской империи, но не все. Например, «неприкосновенная» вековая традиция мужского однородного (тенора, басы) и смешанного пения (дисканты, альты, тенора, басы) была сохранена в Петербурге в Придворной певческой капелле, хоре Исаакиевского собора, хоре Казанского собора, хоре Лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор), хоре Воскресенского всех учебных заведений собора (Смольный); в Москве – в Синодальном хоре, в хоре Чудовского монастыря и ряде других архиерейских хоров. Известны были также хоры, использующие одновременное звучание голосов мальчиков и женщин в одной хоровой партии. Так с 1889 года был известен в Петербурге хор К. К. Бирючова, состоящий из 63 профессиональных и любительских голосов: 20 дискантов, 15 альтов (женщин и мальчиков), 13 теноров и 15 басов. Хор пел в четырёх храмах – в Андреевском соборе, в соборе Св. Спиридония, в церкви Академии Художеств и Университета. В начале XX века тенденция включения в церковный хор женских голосов продолжала распространяться. Даже в церковное пение старообрядцев, веками строго хранившим древние певческие традиции, постепенно, хотя и после долгих дискуссий, начали вводиться женские голоса: в одних общинах пение женщин включалось только в исполнение отдельных песнопений, в других приходах оно вводилось без возражений, и женщинам было отведено место на левом клиросе.
В 20-е годы изменился и тембровый певческий состав Петроградской народной хоровой академии – бывшей Императорской Придворно-певческой капеллы. Весной 1920 года она пополнилась женскими голосами в количестве 20 человек (12 сопрано и 8 альтов) на одинаковых условиях службы с взрослыми певчими Академии. При этом не исключалось пение мальчиков, они участвовали в ряде программ Капеллы, наряду с пением женщин. Впоследствии – с сезона 1923/24 гг. – в хор начали принимать и девочек. Например, в зарубежных гастролях Капеллы в 1928 году хор состоял из 60 взрослых и 40 детей – мальчиков и девочек.
Таким образом, введение женских голосов в состав Петроградского Митрополичьего хора в январе 1920 года (несколькими месяцами ранее, чем в Капелле) находилось в русле развития общей тенденции, характерной для того времени. Вместе с тем, для лаврского хорового пения это было исключительно вынужденной мерой, не свойственной монастырскому пению, веками придерживающемуся сугубо мужского или женского состава. Заметим, что женские голоса были включены в состав хора почти на равных условиях с мужскими голосами и получали соответствующее жалование. Причём количественный состав хора, а также и жалование певцов в 1920 г. постоянно росли. Несмотря на финансовые проблемы, руководство Лавры увеличивало расходы на хор, стремясь тем самым учитывать растущую инфляцию. Вместе с тем, в 1920 году серьёзные трудности возникли с обеспечением малолетних певчих: «30 января 1920 года Духовный Собор Лавры выслушал сообщение о полной невозможности дальнейшего содержания малолетних певчих из Митрополичьего хора из-за отсутствия топлива для их помещений, отсутствия воспитательного надзора за ними и вследствие этого полной деморализации мальчиков, выразившейся в отказе их петь за праздничными службами 6 и 12 января. Собор постановил распустить малолетних певчих и уведомить об этом давшего средства на их содержание Л. Д. Аксёнова» [5, с. 70–71]. Следовательно, Л. Д. Аксёнов до последнего старался сохранить малолетних певчих в составе Митрополичьего хора, обеспечивая их материальное содержание. Увольнению малолетних певчих в 1920 г. из Митрополичьего хора способствовало также и окончательное закрытие летом 1918 г. двухклассной церковно-приходской школы, в которой мальчики получали образование, обеспечивались школьными принадлежностями, обмундированием, питанием и т. д.
В следующем 1921 году в состав Митрополичьего хора, руководимого В. Л. Еловенко, по-прежнему входили женские голоса. Среди 25–34 певчих хора женские голоса составляли 12–18 человек, мужские -13-16 человек. Некоторые сведения об условиях пения и занятости Митрополичьего хора в богослужении можно почерпнуть из Договора регента В. Л. Еловенко, представленного в Александро-Невскую Лавру и оформленного 8/21 февраля 1920 г.:
«Я, Василий Львович Еловенко, регент хора при Александро-Невской Лавре, по уполномочию хора, соглашаюсь на следующий условия, предложенныя мне Лаврою: 1) Петь полным составом своего хора всенощныя и литургии в воскресные и праздничные дни. 2) На первой неделе Великаго поста петь: прощальную Вечерню в Воскресенье, Литургии Преждеосвящен. Даров в среду и пятницу и великое повечерие ежедневно вечером. 3) на 2, 3, 4 и 5 неделях Великаго поста, по пятницам, петь «Пассии» – /вечером/. 4) В течении Великаго Поста петь Литургии Преждеосвящен. Даров по средам и пятницам каждой недели.
5) На 5 неделе Великаго Поста петь стояние Марии Египетской и Похвала Божией Матери. 6) На Страстной неделе петь все дневныя и вечерния службы. 7) На Пасхальной неделе петь Пасхальную Литургию, Великую Вечерню и т. д. Лавра обязуется уплачивать хору по смете, представленной мною в Духовный Собор, начиная с 26 Января 1920 года ст. ст. Подпись – Василий Еловенко»25.
Из этого документа видим, что пение Митрополичьего хора во время Великого поста, на Страстной и Пасхальной неделе в 1920 году было востребованным и, несмотря на сложную ситуацию, духовное руководство Лавры старалось сохранять традиции лаврского богослужения на должном уровне. Немало усилий прикладывал к этому и Высокопреосвященный Митрополит Вениамин, и Петроградский Епархиальный Совет. В частности, подготовка к Пасхальной службе и организация «пасхального всепетроградского крестного хода» в 1920 году имела свои особенности, т. к. должна была учитывать, что богослужение в городских и сельских церквях осуществлялось по новому и старому времени. Следующее сохранившееся документальное свидетельство раскрывает характер предпасхальных хлопот тех дней и подтверждает особую тщательность подготовки и продуманность необходимых деталей. В частности, Петроградский Епрахиальный Совет уведомляет Наместника Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры Архимандрита Николая о том, что Высокопреосвященный митрополит Вениамин внёс предложение следующего содержания:
«Ввиду возникающих вопросов о времени начала Пасхальной службы предписываю: во всех церквах Петрограда и пригородов, где богослужения и жизнь располагаются по часам новаго времени, начать Пасхальную Утреню в 12 часов по новому времени; в сельских же церквах, где богослужения и жизнь располагаются по солнечному времени, там и Пасхальную Утреню начать в двенадцать часов по солнечному времени.
В Фомино воскресенье будет по обычаю совершен в Лавру, а оттуда в Казанский Собор, пасхальный всепетроградский крестный ход. Причт и Приходские Советы должны позаботиться, чтобы их прихожане были своевременно оповещены и приглашены к участию чрез устныя за богослужениями в церкви и письменныя на церковных дверях объявления, и крестный ход был составлен и обставлен с должной полнотой и благолепием. Облачение для всех священно и церковно-служителей должно быть золотое. Руководство крестным ходом и детальную разработку сего порядка возлагаю на ключаря Исаакиевскаго Собора Протоиерея Виктора Плотникова, который в ближайшее время устроит собрание представителей благочиннических советов по два (благочинный или его помощник и мирянин) для установления указаннаго порядка.
В Лавре в Фомино воскресенье литургия начнётся в 10 часов встречей со славой Митрополита. К участию в ней приглашаются священники ближайших церквей: Скорбященской, Борисоглебской, Христо-Рождественской, Миркилийской, Феодоровскаго Собора и Старо-Афонскаго подворья. По совершении часов из Собора Лавры выйдет крестный ход во главе с Митрополитом для встречи у ворот Лавры Святынь Исакиевскаго и Казанскаго Соборов, которыя будет сопровождать крестный ход перваго благочинническаго округа. Во время Литургии прибывают в Лавру крестные хода, объединившись по благочиниям. После Литургии на портике Собора будет совершен Пасхальный молебен Св. Александру Невскому и в должном порядке все крестные хода двинутся к Казанскому Собору. По совершении здесь моления Царице Небесной они будут возвращаться в свои храмы»26.
Как известно, традиция совершения общегородского крестного хода в Петербурге в наиболее значительные церковные праздники имела давнюю историю, складывавшуюся веками – своё начало она берёт в 1743 г. от Елизаветы, учредившей традиционный крестный ход в Александро-Невской лавре 30 августа – в день празднование памяти перенесения мощей святого князя Александра Невского. Наряду с другими церковными праздниками торжественность этого праздника выделялась особым размахом: «к этому дню в Лавру стекались сотни тысяч верующих с разных концов России, вся площадь перед монастырем заполнялась народом. Попасть в собор простому мирянину было почти невозможно. На правом клиросе обычно в этот день пела императорская капелла, на левом – лаврский хор. Малолетних певчих, которые жили в Певческом корпусе, в собор на клирос передавали на руках <…> Крестный ход шёл от Исаакиевского собора в Лавру и обратно» [4, с. 250–251].
Несмотря на тяжелейшие условия революционного и военного времени в 1917–1918 гг., традиция общегородских крестных ходов в Петрограде сохранялась. Например, в январе 1918 г в грандиозном воскресном крестном ходе участвовало по церковным оценкам до полумиллиона, а по данным властей -50 тысяч человек (газеты того времени почти единодушно полагали, что участников по самым скромным подсчетам было не менее 250–300 тысяч). Она не была прекращена вплоть до 1921 года – «в последний раз общегородской крестный ход в Фомино воскресенье состоялся в 1921 году. Многотысячное пасхальное шествие вызвало нескрываемое озлобление властей: они объявили крестный ход «сплочением контрреволюции» и «религиозным варварством» [5, с. 76].
Наблюдающаяся тенденция стойкого «выживания» Митрополичьего лаврского хора к 1922 году стала характерной «нормой» для его существования. Возможно, это продолжалось бы и далее, если бы не трагические события 1922 года, прервавшие историю митрополичьего служения, а вместе с ним и лаврского Митрополичьего хора. В дальнейшие годы вплоть до закрытия Лавры в 1933 году богослужебное пение, по-видимому, осуществлялось силами братского хора.
Тяжёлые испытания в послереволюционные годы выпали не только на долю Митрополичьего хора, но и на многие церковные хоры России, большинство из которых, как упоминалось выше, с закрытием храмов были ликвидированы, а в храмах, где продолжало звучать церковное пение, приходилось «выживать» в нелёгких условиях. Вместе с тем, в этом вопросе ещё рано ставить последнюю точку до тех пор, пока не будет исследована история каждой православной епархии, каждого храма и прихода в первые два десятилетия советской эпохи. Например, в диссертационном исследовании И. В. Спасенковой, опирающемся на богатый архивный материал и опубликованные источники, содержится немало сведений об особенностях развитии православной традиции в Вологде в период 1917–1930 гг.
Исследователь приводит статистические данные и факты, свидетельствующие о различной активности приходской жизни вологодских храмов в выделяемые ею периоды (1918–1921, 1921–1922, 1922–1924, 1924–1925, 1925–1928, 1929–1930), на протяжении которых продолжала существовать литургическая жизнь церковных общин, и продолжало звучать церковное пение – важная составляющая православного богослужения. Например, «в течение 1920-х годов – как утверждает исследователь – практически каждый городской храм на правом клиросе имел хоры профессиональных певчих под руководством служащего регента» При этом приводятся следующие факты: «Церковные хоры были неотъемлемой частью духовной жизни, как бы ни относились к ним официальные власти» и «в Вологде в эти годы было 800 певчих. Никто не понуждал этих людей к участию в службах, делали они это с любовью и охотой». По свидетельству очевидцев «во второй половине 1920-х годов хоры в городских церквях (Вологды. – Г. Ч.) были очень большие – до 30–40 человек. У каждого регента были свои хористы. В хорах пели верующие всех возрастов: и молодые, и пожилые. Часто устраивали спевки в храме, репетировали и дома. Пели как по нотам, так и без них, учили тех, кто не знал музыкальной грамоты. Хор исполнял многочисленные произведения, среди которых: «Отче наш» Куплевской, «Великое славление» Мясникова, «Верую во Единого Бога-Отца» Лаврова и др. При этом прихожане, хорошо знавшие партии, соборно подпевали». Опираясь на воспоминания очевидцев (протоиерея Алексея Резухина), исследователь отмечает, что «даже в 1930-е годы, несмотря на сложность материального положения, в городских храмах не нарушалась традиция профессионального исполнения церковных песнопений». Разнообразие и сложность исполняемого церковными хорами репертуара свидетельствовали об их достаточно высоком профессиональном уровне, хотя в составе хора пели не только профессионалы, но и любители. Например, отмечается «профессиональное исполнение классических песнопений, таких, как задостойники Турчанинова, «Тебе, Бога, хвалим» Бортнянского, «Покаяние» Веделя, «С нами Бог» Архангельского, большое и малое «Великое славословие» Велеумова и многое другое, очень значительное в церковной хоровой музыке» [7, с. 108–110].
На примере Вологды мы видим, что церковно-приходская активность могла сохраняться в данный период на протяжении достаточно долгого времени, включая публичные формы её проявления: общегородские и приходские крестные ходы. Лишь к 1929 – началу 1930 года последовало массовое закрытие храмов в Вологде: за 15 месяцев были закрыты 32 храма и запрещён колокольный звон. Таким образом, история одной епархии или одной церковной общины, с одной стороны, была частью всеобщей истории страны и в ней отражались все тяготы и невзгоды всеобщей политики взаимоотношений церкви и государства, а с другой – в её судьбе большую роль играли особенности собственной церковной жизни, сложившиеся местные традиции и обычаи. Преломление их через призму всеобщей истории давало в каждой отдельной ситуации (что мы видим в случае Вологды) свои результаты.
Говоря о судьбе русского церковного пения в период революционных потрясений, невозможно умолчать о петербургской Капелле, как невозможно не коснуться и московского Синодального хора. Бывшему царскому хору – Придворной певческой капелле – была уготована особая судьба. Как известно, на протяжении веков Капелла была законодателем и центром церковного пения в России и обладала монополией на различные области церковно-певческой культуры: исполнительство, композиторское творчество, образование, книжное и нотное издательство. Наряду с московским Синодальным хором и Синодальным училищем, несколько потеснившим монополию Капеллы в конце XIX-начале XX вв., великая миссия обоих хоров в создании высочайшего уровня исполнительского стиля русского церковного пения общепризнанна. В 1917 г. сохранение их высочайшей исполнительской культуры осознавалось как церковными, так и светскими кругами, как старой, так и новой властью. В августе 1918 г. постановлением Наркомпроса петербургская Капелла и московский Синодальный хор были переименованы в Петроградскую и Московскую (соответственно) народные хоровые академии, возглавить которые было поручено А. Д. Кастальскому. Расформированная вскоре Московская хоровая академия вошла в состав Московской консерватории и Государственного хора. В то же время Петроградская академия, переименованная в 1922 г. в Государственную академическую капеллу, успешно продолжала свою деятельность.
В том, что Капелла как бывший придворный церковный хор, несмотря на разруху, голод, реформы, была сохранена в истории отечественной культуры, можно усмотреть проявление настоящего чуда, не подвластного времени. Старейший хор России, исполнительский стиль которого формировался и оттачивался в основном на репертуаре духовной православной музыки, в условиях новой реальности смог вписаться в неё, сохраняя статус своего величия и истинно профессионального певческого мастерства. Причин тому можно назвать множество, но, несомненно, заслуга в этом принадлежала и возглавлявшему тогда Капеллу М. Г. Климову – ученику С. В. Смоленского (в Синодальном училище), Н. А. Римского-Корсакова и Н. Н. Черепнина (в Петербургской консерватории).
Беспокойство о существовании придворного хора возникло ещё в феврале 1917 г., когда царские певчие остались без попечения своих бывших хозяев. Но сложившаяся веками вера в стабильность и нерушимость певческих традиций императорской Капеллы позволили бывшим придворным певчим не покинуть коллектив и пережить с ним все послереволюционные испытания. Немаловажным было и доверие авторитетному музыканту М. Г. Климову, работавшему в Капелле с 1902 г. и возглавившему её в качестве художественного руководителя и дирижёра в 1913 г.
Как бывший «синодал», взращённый на церковно-певческом репертуаре и знавший традиции церковного пения с детства и непосредственно из своего практического опыта работы, он понимал, какую важную роль в сохранении качества исполнительского стиля, наряду с народной песней, русской и западноевропейской классикой, имела духовная музыка. Поэтому среди многочисленных проблем, несмотря на трудности, он сумел организовать репертуарную политику таким образом, чтобы не была утрачена связь с традициями прошлого. Благодаря М. Г. Климову, нашедшему понимание и поддержку в лице Народного комиссара просвещения А. В. Луначарского, Капелле удалось сохранить исполнение духовной музыки в концертной практике. В частности, в репертуаре первого концерта, состоявшегося 21 февраля 1918 г. в доме Рабоче-Крестьянской Армии, предпочтение было отдано духовной музыке. Перед концертом вступительное слово на тему «Отделение церкви от государства и церковное искусство» произнёс А. В. Луначарский, подчеркнувший, что «Капелла является лучшим в России хором духовного пения…» [8, с. 20]. В целом в сезоне 1918–1919 гг. в список исполняемых произведений вошли три программы русской духовной музыки27.
В дальнейшем, преодолевая все трудности, и понимая необходимость исполнения духовной музыки для сохранения исполнительского уровня капеллы, М. Г. Климов неоднократно обращается в Наркомпрос с просьбой разрешить исполнение «церковно-религиозной» музыки прошлых веков. В сезоне 1917/18 гг., наряду с сохранением исполнявшейся ранее программы «Духовная музыка России XVI–XIX веков», он готовит две новые-«Русская народная песня» и «Литургия» Чайковского». В сезоне 1919/20 гг. Капелла имела в своём репертуаре древнерусские распевы и духовную музыку партесного столетия (сочинения Титова, Бавыкина, Редрикова и др.), «Литургию» Черепнина28.
После произошедшей в 1922 г. реорганизация Капеллы, несмотря на все преграды, включение духовной музыки в её концертные программы продолжалось. Например, в 1923 г. была осуществлена премьера «Всенощного бдения» Рахманинова, исполнялась «Литургия» Чайковского. Вплоть до 1935 г-последнего года работы М. Г. Климова в Капелле-духовная музыка Чайковского и Рахманинова сохранялась в репертуаре. Вместе с тем, были и сезоны (например, 1925/26 г.), когда хормейстеру под давлением вышестоящих организаций (в частности, Главреперткома) приходилось исключать их из программы. Но затем вновь усилиями дирижёра их исполнение возобновлялось. Убедительная мотивация М. Г. Климова заключалась в следующем: «…Капелла как академическое учреждение, изучающее и пропагандирующее мировую вокальную литературу, не может пройти мимо классических образцов музыкального искусства, художественная ценность которых стала бесспорной, а следовательно, вынуждена включать в круг своей работы и церковно-религиозную музыку прошлых веков, в силу исторических условий вообще носившую религиозный характер» [8, с. 44–45].
Знаменательно, что в зарубежной гастрольной поездке Капеллы, состоявшейся в 1928 г., хор представлял две программы: «Песни народов СССР» и «Всенощную» Рахманинова. Последняя исполнялась в семи городах – Риге, Берлине, Гамбурге, Кёльне, Флоренции, Риме, Милане. Успех сопутствовал на всём протяжении гастролей. Вместе с тем, трудности поджидали дирижера на каждом шагу – постоянно он вынужден был искать дипломатические ходы перед «власть имущими», защищая традиции русского хорового исполнительства и необходимость их развития на фундаменте опыта прошлых достижений. Несмотря на то, что одна из функций бывшей Придворно-певческой капеллы – церковно-певческая – была ликвидирована, и «новое время» потребовало от хора «нового репертуара», Капелла благодаря таланту и разумной политике М. Г. Климова смогла сохранить высокую исполнительскую культуру духовной музыки в новой форме – светском концертном хоровом исполнительстве. Секрет необъяснимой красоты хорового звучания, признанный мировыми авторитетами, дирижёру удавалось сохранять в самый трудный переходный период в существовании старейшего хора России.
Таким образом, общая тенденция антирелигиозной борьбы в отечественной истории 20-30-х годов, а вместе с ней и борьбы с церковным пением и религиозным репертуаром, отражалась на жизни всего певческого сообщества России – будь то загнанный «в угол» церковный хор, влачивший жалкое существование, или успешная государственная концертная организация, вынужденная подчиняться идеологической политике партии. Целый культурно-художественный пласт отечественной музыкальной культуры – церковная и концертная духовная музыка – был в определённое время признан ненужным обществу. Вместе с ним постепенно уходило «в тень» многое: не только соответствующий репертуар, но и культура, традиции, мастерство старой певческо-хоровой школы. Исчезли ли они навсегда или рассеялись в забвении, чтобы вновь возродиться – покажет время. Однако уцелевшие партитуры, архивные свидетельства, хранящие воспоминания уже ушедших очевидцев, оставшиеся в наследство от былых времён, должны помочь воссоздать славу и былое величие церковного пения дореволюционной России и показать значение подвига тех, кто порой ценою своей жизни отстаивал сохранение русской церковно-певческой культуры. Современным исследователям предстоит открыть много сокрытых временем тайн, чтобы восстановить полноту знаний о традициях церковного пения советской России на каждом новом витке её сложной и противоречивой истории.
Литература
1. Виноградова М. В. Жизнь и деятельность А. В. Преображенского – виднейшего исследователя древнерусского искусства / Русская хоровая культура: Вып. 2: Выдающиеся хоровые деятели и педагоги: История. Традиции. Современные проблемы хорового искусства // Сб. научных трудов. Т. 153. СПб., СПбГУКИ, 2000. С. 62–83.
2. Краснов-Левитин А. Э. Лихие годы. 1925–1941. Воспоминания / А. Э Краснов-Левитин. PARIS: YMCA-PRESS, 1977.
3. Русская духовная музыка в документах и материалах: Т. 3. Церковное пение пореформенной России в осмыслении современников (1861–1918) / Гос. Ин-т искусствознания; Гос. Центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки; сост. А. А. Наумов, М. П. Рахманова; вступит, ст., подгот. текста и коммент. М. П. Рахмановой; Поместный Собор Русской православной церкви 1917–1918 гг./ вступит, ст., подгот. текста и коммент. С. Г. Зверевой. М.: Языки славянской культуры, 2002.
4. Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра: 1713–2013. Т. 2. 1797–1917 / Стефан Рункевич, свящ. Александр Берташ, Михаил Шкаровский. – Санкт-Петербург: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, 2013.
5. Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра: 1713–2013. Т. 3. Михаил Шкаровский 1917–2013 / М. В. Шкаровский. Санкт-Петербург: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, 2013.
6. Семёнов Д. С. Словарь русского церковного пения (1-я редакция) в 3 т. Т. 1–3. 414 с. общ. паг. / Д. С. Семёнов. Киров: рукопись, 1941–1968.
7. Спасенкова И. В. Православная традиция русского города в 1917-1930-е гг. (на материалах Вологды). Канд. дис. Вологда, 1999.
8. Шереметьева Н. М. Г. Климов – дирижёр Ленинградской академической капеллы. Ленинград: Музыка, 1983.
9. Шкаровский М. В. Репрессии 1930-х гг. против священнослужителей Северо-Запада России. URL: /a-2489.htm.
Примечания
1 Приведём некоторые из них. Например, только в «святую ночь» с 17 на 18 февраля 1932 г. в Ленинграде было арестовано 500 и в последующие два месяца 200 человек монахов, насельников различных обителей, представителей белого духовенства и мирян; далее «арестованных в середине 1930-х гг. по делу так называемых „евлогиевцев“ 171 человек»; «в первой половине 1932 г. были проведены массовые репрессии и против старообрядцев-поповцев <…> подвергнув тем или иным формам репрессий более 160 человек, <…> практически вся легальная церковная деятельность старооб-рядцев-поповцев в северной столице была уничтожена на полвека»; как реакция на убийство в декабре 1934 г. С. М. Кирова «в марте-апреле 1935 г., произошло массовое выселение „чуждого населения“ так называемый Кировский поток», в результате которого «из 429 священнослужителей Ленинграда и пригородов выслали в сельскую местность, на периферию, почти половину – 198 человек», а по некоторым другим данным – «267 служителей культа различных конфессий» [9, с. 2–5].
2 Достаточно вспомнить журнал «Хоровое и регентское дело», учреждённый
С. В. Смоленским в 1909 г., а также «Русскую музыкальную газету», журналы «Церковное пение», «Музыка и пение», «Музыкальный труженик», «Баян», «Гусельки яровча-ты» и др.
3 Активную роль играли Общество любителей церковного пения (ОЛЦП) (основано в 80-х годах XIX в.), СПб. Церковно-певческое благотворительное общество (основано в 1902 г.), Московское общество взаимопомощи регентов церковных хоров (основано в 1908 г.), по инициативе которого были организованы 1-й и 2-й Всероссийские регентские съезды, Общество певцов церковных хоров (действовало в Москве с 1910 г.), Общество регентов (основано в Петербурге в 1915 г.), Общество распространения хорового церковного и светского пения (организовано в Москве в 1916 г. по инициативе Е. Витошинского), Иоанно-Дамаскинское Церковно-певческое Братство любителей древнего пения (действовало в Н. Новгороде в 1910–1916 гг.) и мн. др. Все эти Общества прекратили свою деятельность к концу 1917 г.
4 1-й съезд состоялся в Москве в 1908 г., последующие 2-й (1909 г.), 3-й (1910 г.), 4-й (1912 г.) также проходили в Москве, 5-й – в 1914 г. в Санкт-Петербурге, 6-й – в 1917 г. в Москве.
5 Проблемы церковного искусства, и в частности церковного пения, решались VII Отделом Собора – «О богослужении, проповедничестве и храме», возглавляемым архиепископом Евлогием (Георгиевским) и его помощниками – епископом Пахомием (Кедровым) и священником, профессором Киевской духовной академии В. Прилуцким, а также одним из Подотделов «чтения и пения», возглавляемым Е. М. Витошинским.
6 Как известно, следующий Поместный Собор РПЦ «удалось созвать лишь 27 лет спустя, в 1945 году, когда многие участники Собора 1917–1918 годов были уничтожены, либо находились в лагерях и ссылках» [3, с. 705].
7 Имеется в виду огромная территория нынешних Новгородской, Псковской, Мурманской, а также часть Вологодской, Тверской и Смоленской областей, которые в 1928 г. вошли в Ленинградскую область.
8 Как указывал А. Э. Краснов-Левитин, «настоятель этого храма, отец Василий Верюжский, энергичный, глубоко верующий человек – открыл двери алтаря для всех священнослужителей, порвавших с митрополитом Сергием. Здесь служили монахи и священники со всех концов России, никакой регистрации у властей никто не спрашивал и мнением ГПУ никто не интересовался» [2, с. 106].
9 Среди них: в Лесном – храм Тихвинской Божией Матери, в Стрельне, в Коломне – нижний храм Михаило-Архангельской церкви, на Петровском острове – небольшая церковь Преображения Господня. Далее историк указывает, что в 1929 г. «к ним присоединилась также часть братии Алексадро-Невской лавры. В то время, однако, Алексадро-Невская лавра во главе с епископом Григорием держала «нейтралитет»: здесь не поминали Сергия, не подчинялись епископу Николаю, но и не присоединялись к иосифлянскому движению. Такую же позицию занял архиепископ Гавриил. Нейтральным был также храм Спаса-на-водах во главе с настоятелем, отцом Владимиром» [2, с. 106–107].
10 Печальна, например, участь старейшего петербургского Троицкого храма, сгоревшего в 1915 г. и в 1925 г. восстановленного в своём первозданном виде, как было при Петре на средства верующих. Однако «в 1936 году он был варварски снесён, неизвестно зачем и почему» [2, с. 81].
11 Преображенский А. В. (1870–1929) – известный учёный-медиевист, автор многочисленных трудов по церковно-певческой истории. С 1902 по 1918 гг. был библиотекарем Придворно-певческой капеллы и с 1917 г. – научным сотрудником «Государственного Института музыкальной науки» (ГИМИ). После революции ему удалось издать несколько работ – среди них «Латинская ересь» в русском пении XVII в.» (1922), «Культовая музыка в России» (1924), «Греко-русские певческие параллели XII–XIII вв.» (1926). «Краткий очерк истории церковного пения в России» (1907 и 1910) выдержал несколько изданий, «принятый в качестве учебника на регентских курсах, он получил большую известность в школах, на разных курсах, среди регентов и т. д., благодаря популярности изложения, соединённой с глубокой научностью» [6, с. 295].
12 Семёнов Д. С. (1894–1970) – подвижник церковно-певческой культуры XX в., «регент-любитель», как сам он себя называл, автор двух сохранившихся рукописей «Библиографии по вопросам православного церковного и школьного пения» и «Словаря русского церковного пения», написанных с 1940 по 1968 гг. и содержащих немало ценных воспоминаний об известных и забытых именах церковно-певческой культуры дореволюционной и советской России.
13 Среди важнейших книгохранилищ Д. С. Семёнов называет: библиотеку Московского Синодального училища, собранную С. В. Смоленским и являющуюся, по мнению автора Словаря, «неисчислимой и бесценной сокровищницей»; архив и библиотеку Придворной певческой капеллы (отмечается, что «обогащена через А. В. Преображенского»); рукописный отдел Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге и Румянцевской в Москве; библиотеки при Духовных академиях; нотные отделы в Духовных семинариях, училищах, школах [6, с. 118–119].
14 Вопреки утвердившейся в отечественной историографии точки зрения, что все монастыри в СССР были ликвидированы к середине 1930-х гг., М. В. Шкаровский подчёркивает, что «в Боровичском районе (тогда Ленинградская, а в настоящее время – Новгородская область) в труднодоступном месте вплоть до лета 1937 г. с дореволюционных времён продолжал существовать небольшой мужской монастырь – «Забудущенская пустынь», все насельники которого были расстреляны в конце 1937 г. [9, с. 10].
15 «Лаврский капитал к 1917 году достигал 1800 тысяч рублей, а доходы в 1915 году равнялись 699,3 тысячи, уступая в стране из монастырей только Киево-Печерской Лавре; в 1916 году доход только от арендных статей составил 369 тысяч рублей, а от кладбищ -181 тысячу. Обители принадлежали сдаваемые в аренду 14 жилых домов на близлежащих проспектах и улицах, а также 41 амбар, 60 кладовых и 4 подвала на набережной Невы. Кроме того, лаврской собственностью являлись 103 земельных участка в городе, 51 десятина земли и водяная мельница в имении Серафимово Лужского уезда Петербургской губернии» [3, с. 253].
16 РГИА, Ф. 815, опись 11, 1917, № 86 «О демонстративном выступлении певчих Митрополичьего и Братского хоров в 1917 году» (68 лл.).
17 РГИА, Ф. 815, оп. 11, 1918, N9 29. «О хоре певчих Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры». Л. 1об. Цитата из Рапорта Духовного Собора Александро-Невской лавры, посланного 6 января 1918 г. Его Святейшеству, Святейшему Патриарху града Москвы и всея России Тихону.
18 РГИА, Ф. 815, оп. 11,1918. № 29. «О хоре певчих Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры». Лл. 6, 6 об.
19 Д. Л. Аксёнов – член Всероссийского Церковного Собора в Духовном Соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Благодаря его деятельности малолетние певчие хора в 1918–1919 гг. получали половину материальных средств для своего существования, остальную половину – оплачивала Лавра.
20 РГИА, Ф. 815, оп. 11, 1919, N9 3. «О хоре певчих Александро-Невской Лавры». Л. 3–4.
21 РГИА, Ф. 815, оп. 11, 1918, N9 29. «О хоре певчих Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры». Л. 177.
22 РГИА, Ф. 815, оп. 11, 1919, N9 3. «О хоре певчих Александро-Невской Лавры». Л. 19, 19 об.
23 РГИА, Ф. 815, оп. 11,1919, N9 3. О хоре певчих Александро-Невской Лавры. Л. 56.
24 Архангельский А. А. (1846–1924) – известный композитор, регент-реформатор, дирижёр, общественный деятель, издатель хоровой музыки, организатор СПб. Церковно-певческого благотворительного Общества (1902). До революции в СПб. (с 70-х гг.) в разное время управлял многими хорами: Сапёрного батальона, Конногвардейского полка, Придворно-Конюшенной церкви, Почтамтской церкви. В 1883–1917 гг. вёл активную концертную деятельность со своим хором (70 чел.), организовал серию Исторических концертов, гастролировал в Финляндии (1897), Германии (1907). В 1921 г. А. А. Архангельский первым из советских хоровых дирижёров был удостоен звания заслуженного артиста Республики, а его хор также первым получил наименование «академического».
25 РГИА, Ф. 815, оп. 14.1920 г., № 100. Предложения Петрогр. Епархиального совета и Духовного собора лавры по вопросам отправления церковных служб. Л. 4, 4 об.
26 РГИА, Ф. 815. оп. 14,1920, № 100. Предложения Петрогр. Епархиального совета и Духовного собора лавры по вопросам отправления церковных служб; договор на содержание хора певчих. Л. 5, 5 об.
27 Наряду с ними были представлены «две программы «Русская народная песня» (29 номеров), один концерт по теме «Художественная хоровая литература» (17 номеров), произведения для хора и оркестра – финал Девятой симфонии Бетховена, «Прометей» Скрябина, Реквием Моцарта, музыка Глазунова к пьесе «Царь Иудейский», кантата «Стравинского «Звездоликий» на текст Бальмонта» [8, с. 26–27].
28 В частности, в концертных программах 1918–1922 гг. были исполнены: «В Чернем море» (знаменный распев), «На реке Вавилонстей» (гармонизация знаменного распева), «Многолетие большое» Титова, фрагменты из Стихотворного календаря Симеона Полоцкого (сентябрь, октябрь, декабрь, май, июнь), «Пещное действо» (XVI–XVII вв.), «Херувимская» Глинки, концерт «Слава в вышних Богу» Бортнянского, «Разбойника благоразумного» Кастальского, «Чертог Твой» Римского-Корсакова [8, с. 80].
Христианские образы в творчестве Александра Гречанинова А. В. Горн
«Судьба послала ему долгую жизнь, которая компенсировала то, что он потерял, поздно выступив на музыкальный путь. Ему вообще к лицу была долгая жизнь. Спокойный, тихий, любящий природу и детей, мирно религиозный, без исканий ни в религии, ни в музыке – он воплощал собою другой лик России, не изломанный и мятущийся лик Достоевского, Белого, Скрябина, а благостный, успокоительный, просветлённый и смиренный».
(Леонид Сабанеев. «О Гречанинове»)Портрет выдающегося русского композитора первой половины XX века Александра Тихоновича Гречанинова, возникающий из описания его современника Леонида Сабанеева, верен, и, одновременно, не верен. Облик этого музыканта, яркого представителя культуры Серебряного века и художественной сферы русского зарубежья, долгое время представлялся несколько упрощенно, а его творчество было недостаточно известно на родине. Сочетание «композитор Гречанинов» у нескольких поколений музыкантов и слушателей ассоциировалось с детской музыкой и хоровыми произведениями из эпохи «русского духовного ренессанса» рубежа веков. Эмиграция Гречанинова из России в 1925 году в условиях советской идеологии перевела художника в разряд отщепенцев, культурных дезертиров, а специфичность музыкального стиля на долгие годы закрепила за ним положение композитора «второго эшелона» с большим творческим наследием и вторичным, эпигонским стилем. Между тем, творчество этого художника не однозначно как по уровню художественного мастерства и «самостийности», так и в аспекте идейно-тематическом.
Формирование композиторской индивидуальности Гречанинова, также как и его последующее творчество, оказалось пронизаным идеей синтеза. Рожденный в период «золотого века» русской музыкальной классики (в 1864 году), композитор постигал музыкальную науку и искусство у представителей московской, а затем петербургской школ1, объединив в дальнейшем их творческие принципы. Одновременно, Гречанинов испытал сильное воздействие зарубежных мастеров – Р. Вагнера, Р. Штрауса, К. Дебюсси. В манере музыкального изложения композитора, в его звуковой палитре сочетаются любовь к фольклорной архаике и жанровости кучкистов с распевностью и лирической одухотворенностью мелодий Чайковского, напряженная экспрессия вокальной речи, вязкость симфонической ткани легендарных немцев с колористичностью и особой «свежестью» гармоний импрессионистов2.
Время профессионального становления композитора (80-90-е годы XX века) и период его первых значительных достижений (1900–1915 годы) пронизаны множественными, порой противоречивыми, процессами в искусстве. Духовноэмоциональный «климат» в России и Европе был сложным и неоднозначным. Интерес к различным аспектам веры, религиозности, отчетливо проступивший в философии, общественной жизни и культуре, сочетался с намерениями художников воплотить «мятущиеся», порой экстремальные состояния человека, его слабость и силу, показанные в неразрывном единстве. В русской музыке это, как известно, период появления поздних шедевров П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, время возрождения и реформы русского церковного пения, и, чуть позднее, новаторских опусов А. Скрябина, С. Прокофьева, С. Стравинского. Эта интереснейшая эпоха во многом предопределила круг ведущих тем и образов последующих сочинений Гречанинова.
Жанровый спектр наследия композитора чрезвычайно широк. За свою долгую жизнь – девяносто два года – он обращался ко всем традиционным сферам композиторского творчества: музыкальному театру, включающему оперы, балет и музыку к драматическим спектаклям, к крупным симфоническим произведениям3, камерно-инструментальным сочинениям и вокальной музыке во всем многообразии ее видов и составов. Уже в ранний период творчества Гречанинова выделиласьта сфера образов, настроений и состояний, которая стала одной из доминант его музыкальной поэтики. Это направление связанно с воплощением духовных, христианских мотивов, получивших в сочинениях Гречанинова оригинальное и разнообразное воплощение.
Тяготение Гречанинова к образной сфере христианства имеет исконно национальную, глубинную природу. Выходец из простой купеческой семьи, он с раннего детства был приобщен к церковной жизни, и, соответственно, к православной церковной музыке. Отец, по выражению композитора, «дьячил», распевая церковные песнопения. Сам Гречанинов в детстве был солистом церковного хора, а первая мелодия, которую он в четырнадцать лет пытался подобрать на фортепиано, была «Господи, помилуй». Примечательно, что одним из ярчайших событий консерваторских лет, богатых художественными впечатлениями, композитор называет постановку «гениальной» оратории Листа «Святая Елизавета». Дипломной работой молодого Гречанинова по окончании Санкт-Петербургской консерватории стала кантата «Самсон» для солистов, хора и оркестра. Указанные биографические эпизоды обнаруживают тяготение композитора к христианским образам, воплощающим силу человеческого духа, верность нравственным идеалам, сострадание и милосердие. Уже в сюжетных линиях присутствует мотив мученичества и страданий: обманутый, ослеплённый Самсон и изгнанная свекровью добродетельная ландграфиня Елизавета, нашедшая приют в хижине бедняков. Также угадываются мотивы чудотворных явлений, угодных Богу (возвращение невероятной силы Самсона; превращение еды и питья в корзине Елизаветы в розы). Интересно и то, что подобно Ф. Листу, который использовал в оратории старинные венгерские и немецкие мелодии4, Гречанинов будет включать в свои духовные и светские хоровые сочинения подлинные мелодии – как из культовой сферы, так и из фольклора.
Психология религиозного чувства композитора, характерная для художников рубежа веков, тяготение к христианской образности, прежде всего, воплотились в развитии магистрального направления его творчества – хоровой духовной музыке. В данной сфере Гречаниновым было создано более 150-ти самостоятельных, либо входящих в состав циклов песнопений для хора a’cappella или с инструментальным сопровождением. Духовное творчество композитора поддерживалось и поощрялось завязавшимся у него с 1897 года сотрудничеством с Московским Синодальным хором. Разнородная по жанрам, конфессиональной ориентации и практическому предназначению, духовная музыка сочинялась Гречаниновым на протяжении почти всего творческого пути (за исключением первого десятилетия творчества (1887–1896) и годов гражданской войны (1918–1921)). Эволюционный путь песнетворчества мастера напоминает движение по спирали, с чередованием фаз сравнительно более традиционных и радикально обновленческих. По мысли Ю. Паисова, «этот процесс можно уподобить тематическому развертыванию в пределах формы пятичастного рондо, рефреном которого была музыка для православной службы, а контрастирующими эпизодами – песнопения иного рода»5. В числе гречаниновских духовных сочинений – четыре Литургии св. Иоанна Златоуста, пять месс, шесть мотетов, монументальные хоровые циклы «Страстная Седмица» и Всенощное бдение, две концертные арии на духовные канонические тексты («Хвалите имя Господне» и «Благослови, душе моя, Господа»), а также множество менее значительных опусов.
Знаменательным и по-своему символичным стало то, что именно в этой области творчества заметнее и сильнее проявилось композиторское новаторство Гречанинова: в хоровых сочинениях его индивидуальный стиль откристаллизовался сравнительно рано (первые светские хоры композитора были написаны в начале 90-х годов в Петербурге, духовные – в 1897 году в Москве). Обычно, обращаясь к жанру духовных песнопений, авторы в большей степени стремятся к естественности и «общепринятости» музыкально-интонационного прочтения канонического текста, нежели к яркому проявлению интонационно-стилевой индивидуальности, и многие композиторы укрепляют связь с певческой традицией введением в качестве тематического материала древние распевы. Гречанинов же в своей духовной музыке с самого начала тяготел к обновлению жанра6. Важнейшей чертой «новой церковной музыки», по выражению композитора, было соответствие её священному тексту – изначальному носителю образности, понятий, настроений и нравственных постулатов. Разъясняя собственную позицию, он подчеркивал, что бесконечное разнообразие текста требует для гармоничного соединения с миром звуков столь же разнообразную по своим оттенкам и характеру музыку. Принципы, лежащие в основе музыкального воплощения слова, для Гречанинова базируются именно на данном тезисе. Уже в первых духовных опусах ощутимо стремление композитора к картинности, иллюстративности музыки или же воплощению некоего религиозного настроения (в кратких молитвах, гимнах, «хвалитных» песнопениях). Сама авторская манера в этом случае несколько напоминает древнерусскую иконопись, а рассуждения Гречанинова об изменении художественных средств церковной музыки (в том числе по линии её интонационного и гармонического обновления), о направленности к широким кругам людей вызывает некоторые идейные аналогии с трактатом художника и теоретика искусства XVII века Иосифа Владимирова7.
Круг образов, сюжетов, символов христианства чрезвычайно широк, и каждый мастер, соприкасающийся с этой темой, выбирает для себя направления, близкие и актуальные. Работа в сфере культовых жанров предполагает обращение как к благодатным, радостным и светлым образам, так и к драматическим, скорбным. Текст, воплощаемый музыкой, наполнен философской глубиной, трепетностью, верой, надеждой и любовью. В богатом духовно-хоровом наследии Гречанинова можно обнаружить все указанные оттенки мыслей и переживаний верующего, но при этом выявить некую тенденцию в воплощении духовной образности, угадываемую в преобладающем характере музыки. Общей отличительной чертой крупнейших хоровых циклов композитора, таких как «Страстная Седмица», «Всенощное бдение», кантата «Хвалите Бога», «Демественная литургия», «Вселенская (Экуменическая) месса», рассредоточенных по разным периодам творчества Гречанинова, является преобладание «славильных», «хвалитных» песнопений и соответствующих им насыщенных, светлых, мажорных красок, полнозвучных аккордов с объёмной детализированной фактурой и широким охватом регистров. «Эта особенность явилась отражением черты, неотъемлемо присущей личности композитора, одной из констант мироощущения – благодарение Богу и возношение хвалений Творцу за саму возможность жизни и творчества. Отмеченный тип песнопений становится образной доминантой духовной музыки Гречанинова (в отличие, скажем, от церковных хоров Чайковского, среди которых наиболее удачные – просительно-скорбные, покаянные молитвы)»8.
Передаваемое музыкой особое внутреннее состояние просветленности и духовного подъема воплощало в звуковой материи позитивное мировосприятие композитора, опирающееся на любовь к Богу. При этом Александр Тихонович отнюдь не был идеалистом-мечтателем, видящим жизнь в «розовом» свете. Он воспринимал мир живо, реалистично, оценивая происходящие жизненные события в объективном ключе, о чем свидетельствует его автобиографическая книга и письма, содержащие, например, весьма выразительные комментарии к правительственным действиям во время русско-японской войны или к наступлению в России «эры» большевиков. И удивительно, что музыкант, ставший современником революционных волнений и Октябрьского переворота, нескольких войн, включая последнюю – «холодную», вынесший тяготы эмиграции, на протяжении всей жизни сохранил глубокую Веру в божественное присутствие на Земле, милосердие Творца и имел истинно христианский посыл к людям – доброту и любовь.
Данная идея угадывается и в универсальном характере творчества композитора, и в его экуменических устремлениях, побудивших соединить особенности православных и католических жанров в одном произведении, и в музыкально-стилевой эволюции, которая выразилась в заметном расширении гармонической палитры, симфонизации9 хорового письма и выработке торжественно-монументального стиля, олицетворяющего «новую соборность», интеграцию прошлого и настоящего. В духовной музыке Гречанинова есть нечто близкое объективной, светлой и демократической трактовке христианских образов в бетховенских и генделевских сочинениях, но также чувствуется сходство с их эпико-драматическим наклонением в операх Бородина и Римского-Корсакова.
Наиболее массивный и значительный пласт гречаниновского духовно-музыкального наследия составляют песнопения для православной церкви, выдержанные в традиции хорового пения без сопровождения. В этом блоке сочинений своеобразное «ядро» образуют четыре «Литургии св. Иоанна Златоуста» вместе со «Страстной Седмицей» и Всенощным бдением. Интерес композитора к «гомилетике» – искусству составления проповедей, и, возможно, видение себя как некого проповедника божественных идей, привели к неоднократному воплощению им литургического жанра, всякий раз интерпретируемого по-новому. В одной из них (ор. 29, № 2, 1902 г.) Гречаниновым был найден весьма эффектный художественный прием в воплощении канонического текста «Символа Веры» (№ 8). Как вспоминал позднее автор, «мне пришла оригинальная и, вместе с тем, очень простая мысль: поручить весь текст "Символа Веры" альту, который не поёт, а читает текст, вроде как монастырские канонархи, а хор благоговейным шепотом оттеняет в простых красках гармонии содержание данного места, всё время с одним словом "верую", а в конце "исповедую" и "чаю". Работа меня увлекла, и я с жаром писал это "Верую", которое завоевало потом такую широкую известность и любовь»10. В музыкальном решении, предложенном тогда Гречаниновым, восстанавливается древняя церковная традиция (читать, а не петь «Символ Веры»), и, одновременно, выражается религиозное сознание христиан, повторяющих как бы про себя самые существенные слова. Это «Верую», действительно ставшее одним из самых известных и любимых произведений Гречанинова, символически воплощает фигуру художника-корифея, открывающего людям трансцендентную сферу для погружения в неё и постижения тайного смысла.
Возвышенная христианская образность очень часто соединяется у композитора с мотивами патриотической любви, выступающими через глубокую внутреннюю связь лирических высказываний, связь духовного и мирского. Исследователи неоднократно указывали на народно-песенные черты в Литургиях и других культовых сочинениях Гречанинова. Так, например, в тематизме «Херувимской» из Литургии ор. 29 слышатся явные интонации протяжных русских песен, а часть из «Страстной Седмицы» Задостойник в Великую Субботу (№ 11 «Не рыдай мене, Мати») стилистически родственна украинской песне. Особой архаичностью и ясностью гармонического языка, наполненного плагальными оборотами и несколько аскетичной моноритмичной фактурой, отличается Литургия № 4 («Новый обиход») – последнее крупное духовное произведение композитора (1945 г.).
Появлявшиеся в творчестве Гречанинова духовные мотивы выступали, порой, как диалог с историей или эмоциональный отклик на события современности. Выбор текстов зависел от конкретных жизненных ситуаций и поворотов судьбы композитора. Если среди его дореволюционных хоров немало «хвалитных» песнопений, то после Октябрьского переворота преобладают молитвы, в том числе несколько «Отче наш», «Господи, помилуй». Именно малые опусы, состоящие из отдельных песнопений, не включенных в циклы, составляют особый пласт в духовном творчестве мастера – своего рода беседу со временем. Фактурный, динамический и гармонический облик этих сочинений менялся не только в соответствии с художественными приоритетами композитора, но и созвучно его восприятию эпохи. В двух песнопениях ор. 24 – «Благослови, душе моя, Господа» и «Свете тихий» (1900) – слышно типичное гречаниновское полнозвучие: пышный аккордовый стиль, проработка голосов, «обещающая» дальнейшую симфонизацию хора, глубина и фундаментальность фактуры. Близкие по настроению и музыкальному решению опусы появляются вплоть до переломного 1917 года, но затем, после двух духовных хоров ор. 80 «Достойно есть» и «Отче наш», эмоциональный тонус музыки и выбор текстов меняется, музыкальный язык в целом становится заметно проще, а форма – лаконичнее и строже. Особым колоритом отмечены пять духовных хоров ор. 94 (1922–1930), «Святый Боже», «Херувимская», «Достойно есть», «Отче наш» и «Милость мира», начатые ещё в советской России, но законченные композитором в эмиграции и изданные в Чикаго. Образный строй этой группе хоров задает первое сочинение, отразившее тяжелые переживания и предчувствия мрачного безвременья. «Никогда прежде не встречалось у Гречанинова столь сумрачно-беспросветных, мистически затаённых песнопений, от начала до конца выдержанных на тоническом органном пункте тусклого минора, безраздельно царящего здесь»11.
Экуменическая линия, выстраивающаяся в творчестве Гречанинова и предполагающая объединение представителей разных конфессий в религиозно-музыкальном акте, перекликается своей идейной сущностью с концепцией мистерии Скрябина и близкими ей синтетическими проектами поэтов-символистов. Первым этапом воплощения этого «христианского синтеза» стало проникновение инструментального сопровождения в жанры православной музыки. Созданный на текст псалма 134 полиелей «Хвалите имя Господне» ор. 60 (1912) открывает новое ответвление в духовном творчестве композитора и представляет собой арию с инструментальным сопровождением – струнным квартетом, органом и арфой. В сближении религиозных музыкальных традиций есть что-то от перемещения из сферы «аполлонического» (канонического, выверенного) в сторону «дионисийского» (стихийного смешения стилей, оспаривания традиции).
Процесс взаимопроникновения православных и католических жанров при внешней концентрации и уплотнении христианской символики (интонационных полей православной музыки и григорианики), богослужебной атрибутики (орган, латынь) имеет и оборотную, «языческую» сторону, напоминающую не то карнавал с его калейдоскопичностью, не то древний ритуал, в котором все средства воздействия собраны и действуют аккордно. Для Гречанинова подобный синтез традиций был связан не только со стремлением обогатить систему художественных средств духовной музыки, но и желанием ощутить в ней полноту бытия, а, возможно, и почувствовать себя демиургом, решившись на столь радикальные жанровые превращения. Духовная кантата «Хвалите Бога» ор. 65 (1913–1914) для хора, оркестра и органа написана на текст псалмов 103 и 150. Наполненная мелодическими элементами древнерусских распевов, пронизанная звуками почти всех возможных на тот момент оркестровых инструментов, включая челесту, она представляет собой экстатическую хвалу псалмопевца Всемогущему Творцу. Её музыка соединяет в себе величественные и живописные картины с мистическими действиями и волшебными красочными апофеозами. Современники не были едины в оценке сочинения: возмущались избыточными, по их мнению, декоративными эффектами, угадывали в кантате аналогии с темами корсаковского «Сказания о невидимом граде Китеже» и «Парсифаля» Р. Вагнера, и, одновременно, отмечали мастерскую, необычную музыкальную организацию и истинно религиозный подъём чувств. Примечательно, что эпиграфом к кантате композитор взял 4-ю строфу 150 псалма: «Хвалите его во струнах и органе» – строки, воплощающие особенную экспрессию сочинения и идею «инструментализации» православной духовной музыки.
Совсем иными настроениями проникнута ария «Благослови, душе моя, Господа» ор. 88 для контральто с оркестром (1916), в которой вновь используется круг образов псалма 103. Этому сочинению присущи возвышенная идиллич-ность, отрешенность от мирской суеты и эпическая, величаво-торжественная просветленность. Многовариантность воплощения слова и щедрость мелодического высказывания, отраженные в музыкально-тематической структуре (двойная трёхчастная форма) символично отвечают в данном случае смыслу текста – воспеваемой в произведении щедрости Творца.
Особое состояние евхаристии, приобщения к таинству великолепно воплощено в произведении, ставшем абсолютной вершиной в концертной духовной музыке Гречанинова – «Демественной литургии» ор. 79 (1917 г., вторая редакция 1923 г.12) для солистов, хора, органа и оркестра. Несмотря на попытки некоторых современников представить это сочинение как духовное, но вовсе не литургическое, тон и музыкальный облик «Демественной литургии», особенно в разделах «Трисвятое», «Сугубая ектения», «Верую» выдает ее исключительное религиозное наполнение. Примечательно то, что данное сочинение не только продолжает «славильную» линию в раскрытии христианских идей и образов, встраиваясь в ряд крупных акапелльных и вокально-инструментальных циклов, но и обращено к религиозно-мирскому, тёплому камерному миру верующего13.
Духовные жанры католической церкви возникли в творчестве Гречанинова под воздействием идеи экуменизма и жизненных практических надобностей: серьёзным препятствием на пути распространения вокальной музыки композитора был языковой барьер14. Мотеты на латинские католические тексты, мессы, выдержанные в традициях классико-романтического стиля, воплощают настроения и образы, близкие гречаниновским сочинениям православной традиции. Созданные в поздний период творчества, они воплотили некую зрелость религиозного чувства, не буйную экзальтацию духовных устремлений, выражающиеся в экспансии полифонической ткани или «параде» гармонических красок, а спокойное, величественное достоинство, мудрость, свет. В этих опусах наблюдается упрощение, а порой даже аскетизм фактуры, простота созвучий, диатоничность, придающая тематизму черты архаизированной модальности и одновременно, тяготение к индивидуальности облика произведения.
Из мотетов ор. 155 фактурными решениями выделяется «Ave Maria» и «Laudate Dominum», по-моцартовски прозрачны и ясны мотеты «Cantate Domino» и «Ave verum corpus». Своеобразным отголоском литургических фактурно-тембровых экспериментов стал мотет «Tue es Petrus», где на фоне хора ведущую партию исполняет баритон, интонирующий слова в характере торжественного речитатива. Идея эмоционального становления процесса молитвы или внутреннего размышления на духовные темы пронизывает эти произведения. Крупнейшее сочинение католического «блока», получившее название «Вселенская месса» (Missa Oecumenica) op. 142 (1933–1939) для солистов, смешанного хора, оркестра и органа, своей интонационной палитрой – григорианикой, отголосками православных песнопений, ликующими каденциями и экспрессивными причитаниями – действительно создает впечатление вселенской службы и всеобщей молитвы. Контрастность ее крупных и мелких разделов, особенная динамика развёртывания в сочетании с грандиозным исполнительским составом и мерцанием стилей сделало мессу звуковым воплощением религиозно-синтетических устремлений автора, вызывая смысловые аналогии с произведением В. Соловьёва «Россия и Вселенская церковь» (Соловьев, как известно, принял католическую веру, не порывая с православием, вздохнув, по его собственному выражению, «сразу двумя лёгкими, а не только одним правым»). С идеями этого религиозного мыслителя соприкасаются также и «Два псалма на древнееврейские тексты» ор. 164 (1941 г.) для солирующего тенора, смешанного вокального ансамбля и органа. Иудаизм как праоснова христианства, как базовая составляющая его образно-философской концепции и как самостоятельное религиозное направление – вот, пожалуй, причина неожиданного интереса Гречанинова к этим текстам. В их музыкальном воплощении можно отметить мелодическую архаичность и намеренное избегание автентических оборотов, вызывающих ассоциации с европейской классической гармонией.
Не только церковные и духовно-концертные сочинения Гречанинова, но и многие светские, а также произведения, стоящие как бы на грани светской и духовной музыки, пронизаны глубоким религиозным чувством и воплощают в звуках христианские образы. Среди них – романсы на стихи духовной поэзии М. Лермонтова («Молитва», «По небу полуночи ангел летел», «Когда волнуется желтеющая нива»), Вяч. Иванова (три духовных стиха «У криницы» ор. 73). Музыка лермонтовских романсов соединила искренность и экспрессивность высказывания в духе Чайковского со строгой вдумчивостью, напоминающей опусы Танеева и Рахманинова. Цикл на текст Вяч. Иванова (1915 г.) стилизован в характере народных духовных стихов, вновь выявляя близость культового и фольклорного. Но, пожалуй, главным светским произведением с духовной проблематикой стала опера Гречанинова «Сестра Беатриса», написанная на сюжет одноименной пьесы М. Метерлинка под впечатлением от спектакля петербургского Театра Комиссаржевской. Мистерия-драма Метерлинка проникнута темой, созвучной композитору в тот период: внутренняя борьба чувства и долга в искушении земной любовью15. Созданная на одном дыхании – менее чем за год (1909–1910) – опера носит скорее лирический, нежели драматический характер. Композитору хотелось «пропитать» ее возвышенным религиозным чувством и пониманием того, что за пределами земной жизни есть и другая – вечная жизнь духа. Раскаяние и смерть грешницы даруют ей всепрощение – таков итог жизни сестры Беатрисы и главная идея оперы-легенды. «Сестра Беатриса» сочинялась в пору всеобщего увлечения символизмом и тяготением композиторов к жанру психологической оперы. В её интонационном поле ощутимо воздействие Р. Вагнера16, Р. Штрауса, К. Дебюсси, а драматургическая организация основана на применении системы лейтмотивов. Интересно, что основным лейтмотивом главной героини стала краткая, хорального склада тема «непорочной чистоты и святости», словно бы символизирующая вечный свет, божественную искру, горящую в каждом человеке – Божьем творении. Развивая эту мысль, Гречанинов включает чрезвычайно близкий музыкальный мотив в «Гимн» из вокального цикла на стихи Ш. Бодлера «Цветы зла», написанный в одно время с «Сестрой
Беатрисой». Святость облика возлюбленной, сравниваемой с ангелом, вновь воплощается с помощью строгого архаичного мотива.
В 1954 году митрополит Леонтий вручил Гречанинову «Благословенную грамоту» за заслуги перед православной церковью и прихожанами. Можно сказать, что не только православная, но в целом духовная, христианская идея была путеводной звездой русского мастера в творчестве и жизни. Композиторский облик Гречанинова и его «псевдонеприметность» наиболее ярко раскрывается через сферу духовных образов, в каком бы жанре они не встретились. Жизненное и творческое кредо Гречанинова можно выразить словами из его письма к первой супруге Вере от 22 марта 1916 года: «Я менее всего понимаю молитву как прошение. Для меня молитва есть внутреннее обращение к Богу, живущему в нас, это сосредоточение с моим лучшим "я". Таким обращением к Богу только и можно поддерживать свет, который светит нам в жизни;… "Боже, помоги мне стать лучше" – вот единственная просьба, с которой надлежит нам обращаться к Богу».
Примечания
1 Среди педагогов А. Гречанинова – С. Танеев, Г. Ларош, В. Сафонов, А. Аренский, Н. Римский-Корсаков. Совершенно особенное воздействие на Гречанинова-музыканта и человека имела музыка П. Чайковского.
2 Вероятно, именно эта сторона творчества Гречанинова – интонационная, языковая, – стала главным аргументом для определения его стиля как несамостоятельного, лишенного индивидуальности.
3 В том числе, пять симфоний.
4 Среди них есть церковные гимны.
5 Паисов Ю. И. Александр Гречанинов. Жизнь и творчество. М.: Издательский Дом «Композитор», 2004. С. 225–226.
6 Напомним, что А. Т. Гречанинов был одним из горячих приверженцев обновления русской церковной музыки, о чем свидетельствуют его статьи «Несколько слов о «духе» церковных песнопений» («Московские ведомости», 1900, 23 февраля), «По поводу моей статьи «О духе церковных песнопений» (там же, 1900, 29 февраля). Некоторые тезисы творческой установки Гречанинова приводились и разъяснялись им в предисловиях к изданиям его партитур.
7 Послание некоего изуграфа Иосифа к царёву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Фёдоровичу» 1556–1558 гг.
8 Паисов Ю. И. Цит. изд. С. 13.
9 Термин Вячеслава Булычева, излагавшего в своих докладах на рубеже веков «теорию хоровой симфонизации» и назвавшего руководимый им хор «Симфонической капеллой». Под симфонизацией понималось насыщение хоровой ткани фактурно-гармоническими приемами, характерными для крупных инструментальных жанров.
10 Гречанинов А. Т. Моя жизнь. Нью-Йорк, 1951. С. 84.
11 Паисов Ю. И. Цит. изд. С. 265.
12 Первая редакция была написана для тенора, струнного оркестра, органа, арфы и челесты в 1917 г.
13 «Демественная литургия» замысливалась как произведение, предназначенное для исполнения любителями музыки в домашнем обиходе.
14 Для издания в США потребовалось перевести на английский язык даже православные религиозные песнопения, включая некоторые, сочиненные автором ещё в России.
15 В периоде 1907 по 1911 год у Гречанинова происходил перелом в личной жизни: он расстался с первой женой и женился на М. Срединой.
16 В том числе опер, содержащих христианскую тематику и символику – «Лоэнгрин», «Парсифаль».
Русское музыкальное зарубежье: в поисках утраченного смысла О. И. Гладкова
– Почему мы с вами здесь? Зачем?
Вы – русский деятель театра, я – русский композитор?
– А вам разве ТУДА хочется?
– Ой, что вы, что вы!.. Когда и во сне-то вижу, что ТАМ, так и просыпаюсь в холодном поту!
(из разговора А. Глазунова с Н. Евреиновым)1Внимание к русскому зарубежью разных поколений и волн эмиграции в сегодняшнем музыкальном искусстве переживает настоящий художественный и исследовательский бум. «Теме № 1» посвящены конференции и фестивали, солидные труды и учебные пособия2. Таившийся в закулисье отечественной науки и практики феномен, поначалу привлекательный именно в силу своей прежней «тайнозамкненности», становится возможным, доступным и интересным в постижении простых, но важных истин, касающихся специфики русского зарубежья и его влияния на судьбы российской музыки в целом. Как ЗДЕСЬ и ТАМ соотносились в искусстве первых десятилетий советской власти, до тех времен, когда со всей давящей мощью не опустился меж ними «железный занавес»? Какую роль играла ТАМ запретная ЗДЕСЬ христианская тема, и как, чужая на французской или немецкой земле, она помогала выявить себя в искусстве и просто выжить «на свободе», реальной или мнимой?
Термин «эмиграция» в переводе с греческого означает не столько «переселение», сколько «просачивание», проникновение. Искусство слова, сцены, жеста и пластики со сменой эмигрантских поколений склонялось к неизбежной ассимиляции с культурой стран-реципиентов; непонятийная, далекая от конкретных реалий музыка в силу герметичности ее природы сохраняла национальную целостность дольше. История русского музыкального зарубежья предстает сегодня неким «двугорбым верблюдом»: взрывное начало и первая кульминация 10-30-х годов, а позже, через годы войны и послевоенного затишья, второй, не менее яркий подъем – 70-90-х годов.
Интерес к зарубежью последней трети XX века, естественный в годы крушения Советского Союза, повлек за собой внимание и к зарубежью раннему, исходному, к сочинениям, созданным лет 60–70 назад, но никогда не звучавшим в Отечестве, к авторам, известным на Западе и вычеркнутым давно и, казалось, навечно из списка российских композиторов прошлых и нынешних времен.
Первыми в концертные залы, учебный репертуар, в умы и практику музыкантов стали возвращаться именно духовные опусы; религиозное сознание, всегдашний стержень отечественной музыки (даже атеизм в ней мог быть религией!) удерживало прочную, нерасторжимую связь «правого» и «левого» крыла, России внутренней и внешней. Русское музыкальное зарубежье 10-30-х годов имело ярко выраженную перспективу, и это во много раз увеличивает его и без того немалую ценность.
Большой взрыв, катастрофический клубок революций, войн, политической борьбы изменил течение миллионов жизней, разбил полноводную реку отечественного искусства на два параллельных русла с множеством притоков. Предыкт к тому был слышен во всей предгрозовой атмосфере Серебряного века, в музыке, интуитивной по сути, «сейсмографически» чуткой и точной во все времена. Апокалипсические мотивы, тема конца света, мрачные предчувствия, а с ними вместе – надежда на преображение мира под воздействием магии искусства пронизывают музыкальную культуру 900-х – начала 10-х годов: от сочинений композиторов «корсаковской» школы до замысла и частичного воплощения Предварительного действа и Мистерии А. Скрябина, умершего за два года до Октябрьского переворота. Грандиозные идеи мастера питали воображение и творчество многочисленных скрябинистов. Среди них один из самых значительных – И. Вышнеградский, вынашивающий мысль о духовном единении мира через религиозно-мистическое музыкально-цветовое искусство, экуменическое в своей основе. «Назад к язычеству!», – возглашал в «Весне священной» И. Стравинский. «Из Апокалипсиса» – назвал свою симфоническую картину А. Лядов. «Грозовую сонату» исполнял ее втор, пианист и композитор Н. Метнер; могучие грозовые раскаты слышались в кантате «Весна» и фортепианных концертах С. Рахманинова. Обломки старого мира крошил молот ударных, бушующих молодостью тем ранних опусов С. Прокофьева.
Россия Серебряного века была беременна идеями преображения мира, стоящего на пороге капитальных перемен, а в их числе – и замыслами религиозно-мистического порядка.
1917 год расколол музыкальный мир начала века на куски, разбил на неравные части; христианская тема не исчезла в осколках, больших и малых, напротив: в изгнании она служила духовным утешением и подпорой. «Религио» («лига» – связь людей и времен) помогло выстоять и выжить в эмиграции, крепило нить между старой и новой Россией, между русской музыкой ЗДЕСЬ и ТАМ.
По разным данным, в 10-20-х годах Отечество покинуло от полутора до двух миллионов человек. Первые волны эмигрантов были весьма разнообразными по составу: военные различных званий и специальностей, духовенство, дворяне, чиновники высшего и среднего звена, интеллигенция, в том числе художественная, купцы, зажиточные мещане и т. д. Как минимум двум поколениям русских людей пришлось вживаться в чужеродную среду, адаптироваться к новому обществу и его традициям – в Швеции, Польше, Чехии, Германии, Франции, Северной Америке, Болгарии, Югославии. Крупнейшими центрами музыкальной эмиграции оставались Париж и Берлин. Именно Париж был музыкальной Меккой, куда стекались основные художественные силы российского зарубежья; именно здесь обитала столичная петербургско-петроградская элита. В столице Франции в 10-20-х годах предполагалось создать Временное правительство, призванное возглавить всю российскую эмиграцию. В Париже существовали союзы и общества помощи беженцам, здесь издавались газеты и журналы на русском (в том числе «Театральная жизнь» и «Музыка»); французская столица имела русские образовательные учреждения для взрослых и детей, клубы, артистические кафе. В 1921 году (по инициативе Е. Рябушинской) был организован «Союз музыкальных деятелей», ставивший целью пропаганду новой русской музыки в серии публичных концертов. В случае необходимости Париж мог предоставить работу – с небольшим, но твердым заработком. Знаменитый 15-й квартал, упоминаемый в письмах ОТТУДА, дневниках, заметках, мемуарах, многие годы оставался центром российской эмиграции.
В 10-30-х годах ядро музыкальной колонии включало прибывших в разное время И. Стравинского, С. Дягилева, С. Прокофьева, С. Рахманинова, Ф. Шаляпина (который, по его словам, был «народным артистом, а стал международным»), И. Вышнеградского, А. Глазунова, Н. Метнера; обучавшегося в Парижской консерватории Ю. Крейна, гастролировавшего здесь А. Скрябина; А. Гречанинова, Ф. Акименко, А. Чеснокова, Н. и А. Черепниных, Л. и Ю. Конюсов, мастеров «ненужного» в Советской России раннего авангарда – А. Лурье, Н. Обухова; пианиста и педагога А. Зилоти, контрабасиста, дирижера и музыкального мецената С. Кусевицкого (курсировавшего между Северной Америкой и Францией), теоретиков, критиков, музыкальных писателей – Л. Сабанеева, много ездившего по Европе Б. Яворского, Б. Шлецера, Ю. Померанцева, философа-искусствоведа П. Сувчинского и многих, многих других. С музыкой и музыкантами были связаны и русские балетные эмигранты – от Дж. Баланчина, М. Фокина и В. Нижинского до С. Лифаря и О. Спесивцевой, петербуржцев в прошлом и парижан в настоящем.
Для большинства из них Париж был временной колонией русских; каждый надеялся, и в скором времени, вернуться домой, к прежней работе и прежнему быту. Всем виделось: ну месяц, от силы два, ну самое позднее – к весне они возвратятся домой, не задержатся… «В конце концов, не завтра, так послезавтра-динамика национальной жизни "пожрет» коммунизм"3. «Даже и пессимисты начинают верить – приходит время, когда нам надо будет собираться и ехать… все равно, дело большевиков кончено, весь вопрос-через одну или через шесть недель! К зиме все будем уже работать там!… В любой момент надо иметь все нужное для немедленного начала всей деятельности в России», – писал А. Зилоти П. Сувчинскому в 1921 году4.
Французская музыка тех лет с модой на джаз и «примитивы», ревю и мюзик-холл, с идеями урбанизма и «меблировочного искусства», с нашумевшими «Пасифик – 231» А. Онеггера и «Сельскохозяйственными машинами» Д. Мийо не вызывала в русских кругах особого интереса и сочувствия. «Есть здесь так называемая "Шестерка", не лишенная таланта, но с дурным вкусом, и пока мне не видно, чтобы из них вышло много», – отмечал С. Прокофьев5. Французы уж слишком «разнежились и развеселились», Европа утеряла мощь и этос в искусстве, увлеклась «погремушками», разменялась на эпатаж и эксперименты под прикрытием легкой, бесплодной иронии – в отношении к жизни и к музыке.
Именно эмиграция принесла понимание того, что в русском искусстве было скрыто за дымкой границ, высветила главное: на Западе важна не столько национальность, сколько гражданство и место пребывания, а и то, и другое несложно менять многократно (достаточно вспомнить путь И. Стравинского). В лихолетье, в годы потерь и несчастий нужно было сохранить культурный потенциал нации, взяться за руки, не допустить размывания корневых основ искусства, выжить физически и духовно.
Со временем в эмигрантских кругах крепла мысль об особом, мессианском предназначении России, о ее роли в грядущем преобразовании «остывающей» Европы, о молодой энергетической силе русской нации, способной изменить мир. Религиозному началу в этих мечтаниях отводилась не последняя роль. «Искусство станет новой религией», – провозглашал петербуржец И. Вышнеградский6. К духовным жанрам и текстам обращались русские музыканты зарубежья, прежде писавшие балеты, сонаты, квартеты – с надеждой обрести утраченный духовный покой и нравственный стержень. «Утешаюсь, сочиняя духовную музыку», – говорил А. Гречанинов, известный к 20-м годам московский автор камерной и детской музыки7. «Высокородной дамой в несчастье» чувствовала себя столичная элита, рассеянная по миру, и потому молитва и псалом, серебряный крест и духовные книги в ее руках были уместными и естественными.
Как правило, все эмигранты первой волны искали постоянных контактов с Родиной. Шла оживленная переписка с теми, кто остался в Советской России; эти контакты оказывались вполне возможными и безопасными для корреспондентов; сама процедура выезда за границу была на тот момент относительно проста. Авторитетные российские композиторы, исполнители, музыковеды могли почти беспрепятственно выехать в Европу на гастроли, на музыкальные конкурсы, фестивали, конференции; напротив, именитые музыканты из стран Европы и Америки достаточно свободно приезжали в Советский Союз. В 20-х годах здесь побывали: Д. Мийо, А. Онеггер, П. Хиндемит, Дж. Энеску, А. Казел-ла; сюда приезжал в связи с постановкой своей оперы «Воццек» (Ленинград, 1927 год, Малый театр оперы и балета) А. Берг; по той же причине (премьера оперы «Дальний звон») СССР посетили Ф. Шрекер и Э. Кшенек (опера «Джонни наигрывает»); на ленинградской и московской сценах выступали знаменитые О. Клемперер, Ф. Штидри, Г. Абендрот и многие другие. Музыканты Советского Союза, пусть ненадолго, с интересом устремлялись на Запад: в те же годы по разным причинам в Европе побывали Б. Асафьев и М. Друскин, М. Иванов-Борецкий, М. Веприк, П. Ламм, Н. Малько, В. Протопопов, М. Старокадомский,
С. Фейнберг и многие другие. Музыкальная Россия, не закрывая границ, была готова к культурному обмену; советские композиторы и музыковеды жаждали новых впечатлений; даже те, кто мало «вписывался» по стилю и мышлению в рамки послевоенной Европы, мечтали о возможности исполнения ТАМ. Услышанное в Европе питало молодую музыкальную Россию – Ассоциацию современной музыки (ACM), кружок В. Держановского, радикально настроенное консерваторское студенчество.
Случалось, что кто-то из эмигрантов, преодолев естественный страх, стремился вернуться в Россию-
«Туда, где смертей и болезней Лихая прошла колея…»8 —подавал документы на въезд (как правило, в этом было отказано – впустили немногих). А в середине 30-х живой и весьма интенсивный обмен закрыл «железный занавес» и варварское Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций»; советская музыка продолжила развитие в условиях «парникового эффекта»; русское зарубежье было насильственно отсечено от основного музыкального ствола на многие годы.
В те годы казалось: великая русская музыка не заслуживает такой чудовищной участи; ТАМ – не до искусства, ТАМ – хаос, ЗДЕСЬ – творчество. Консолидация, центростремительные силы в эмигрантской среде усилились. Религиозное начало окрасил экуменический оттенок. «Сброшенная с парохода современности» русская диаспора видела себя – именно себя! – молодой, полной сил музыкальной Россией, в изгнании осознавшей свое предназначение. «Наше и всеобщее русское созревание далось в страшных муках, но как хорошо, что мы наконец взрослые… Ведь и Маяковский не смог преодолеть своего инфантилизма. Ведь и Горький – не сумел стать стариком. Характерно, что и Скрябин так и умер ЮНЦОМ, наивно-удивленно "поглядывавшим" во все стороны (в том числе и в сторону экстатической мистерии!). Как не похож на него теперешний зрелый и умудренный Стравинский!»9. «Инфантильное начало» проглядывало в работах, темах и стиле российских музыкантов, оставшихся в Советском Союзе: Р. Глиэра, композиторов-массовиков, молодых Д. Кабалевского и Т. Хренникова, авторов «песенных опер» И. Дзержинского и «песенных симфоний» Л. Книп-пера, классика детского жанра А. Майкапара, начинающего свой звездный путь И. Дунаевского – создателя музыкально-комедийного кинематографа как советского аналога Голливуда.
Утилитарность и упрощенчество «внутрироссийской» музыки первых послеоктябрьских десятилетий в большевистском государстве виделись не только закономерными («искусство должно быть понято народом»), но и долгосрочными. До первых шедевров советской эпохи – Пятой симфонии Д. Шостаковича (1937), «Ромео и Джульетты» и «Александра Невского» вернувшегося на Родину С. Прокофьева (1936 и 1939) – было еще далеко. Серьезное искусство в болотистой почве 20-30-х искало опору; в кругах эмиграции и сочувствующих ей советских музыкантов эти поиски казались долгими и, вероятно, безрезультатными. «Здесь совершенно не с кем говорить о музыке… Активности, а не то что творчества, в нашей московской музыкальной жизни нет никакой… Мясковский… удручен жизнью, работает мало», – жаловался в одном из писем 1923 года, адресованных за рубеж, Б. Яворский10.
Несмотря на опытность и зрелость большинства музыкантов-эмигрантов, их творчество в 20-е, чуть меньше – в начале 30-х годов носило выраженный «диа-спорный» характер – в ощущении временности, «интермедийности» их работы, направленной на то, чтоб развернуться в полную мощь по возвращении, ДОМА, а пока что консервирующей уже найденное и сохраняющей накопленное. Русская музыка рухнула, как и вся Россия, но она встанет с колен – в это верилось, с надеждой на скорое возвращение, до страшных лет террора и великого кровопролития, перерубивших «пуповину» навсегда.
«Эмиграция захватила с собой элиту музыкального творчества, но не захватила своей публики – русского музыкального мира, который почти целиком остался в России», – писал Л. Сабанеев11, и это стало трагедией: высокие частоты драматичного по сути, усиленного сложностью момента русского искусства не резонировали с западной, а особенно, французской духовной средой. «Что европейская культура больна – в этом не может быть сомнения; она переживает опасный кризис…»12. Русская музыка оставалась живой, не исчерпавшей своих могучих сил, но она замкнулась в эмигрантском кругу, утратила слушателя. Ее пророческое слово, пламенеющее в культурном пространстве России Золотого и Серебряного веков, не находило отклика на чужой земле – с годами все явственней и больше.
Оставалось обращаться к Богу. Эта ниша была доступна не всем; к духовному подвигу самоотречения, к желанию нести свой крест на чужбине и дома были способны немногие. По понятным причинам духовный жанр терял обрядовое назначение. Храм, горящие свечи, раскрытый молитвенник жили, прежде всего, в душе художника; обрядовое и духовное начала (и ранее не тождественные в русской музыке) разошлись заметнее прежнего. Параллелизм этот с годами только усиливался, оставаясь характерной чертой российской музыки ТАМ и ЗДЕСЬ, в советский и постсоветский периоды. «Поколение, растратившее своих поэтов»13 породило особый пласт «музыкальных проповедников», глубоко и истинно верующих в искусстве и жизни, но не работавших в церкви и для церкви. Обрядовая музыка оставалась в советской России гонимой, принижаемой падчерицей; обреченной, но в муках пытавшейся выжить в безбожные, черные годы 10-30-х. Духовная же музыка могла существовать везде, в том числе, в сознании автора, в неизданных рукописях его партитур. Она допускала отступления и вольности, введение инструментов, свободные формы и текст; она реагировала, не зная канонов и ограничений, на новизну приемов и техники современных светских жанров. Она проникала в музыкальный театр и даже в кощунственный, антицерковный балет. Духовное, но не обрядовое искусство могло жить на концертной сцене, и, действительно, оно вернулось сначала в филармонии, а не в соборы – со временем, в конце XX века, и лишь потом, отчасти, зазвучало в храмах.
Не скованные рамками богослужения духовные опусы могли опираться в языке и структурах на разные – более и менее глубинные – пласты религиозной музыки, от знаменного распева до партесного концерта, от Березовского до Чайковского, сплетая полярное так же неразделимо, как жило оно в сознании автора.
Русское зарубежье оторвалось от плодоносной музыкальной почвы, питавшей классику прошлых веков; цветущее древо Серебряного века было безжалостно срублено, но на корнях, разветвленных и прочных, со временем выросло мощное искусство советской эпохи. Горящая свеча в руках наследников отечественной культуры, ее хранителей и продолжателей, какими видели себя музыканты зарубежья 10-30-х, с годами тускнела; эту роль перехватили, играя с нарастающим успехом, в Отечестве.
В основе нации лежит единство веры. Разъединенную музыкальную Россию держала единая нить – религия, понимаемая широко: как служение духу Отечества, как память великого прошлого, как осознание этической роли искусства. Можно было жить и творить в тоталитарном СССР в некой внутренней эмиграции; музыка, в отличие от других, более «конкретных» искусств, давала такую возможность. Можно было– в отрыве от Родины – живее понять и осознать свои русские корни, пребывая духом в России, поклоняться ей издалека и страшиться вблизи. «Искусства определяются отношением к религии», – писал находящийся в эмиграции П. Сувчинский14. Искусству необходим заказчик, конкретный или гипотетический – церковь, придворная среда, тоталитарный режим, широкие демократические слои. Музыкальная эмиграция первых лет советской власти лишилась «социального заказчика», который, черный или белый, жестокий или щедрый, обретал и силы, и власть в России.
«Ветвь, оторванная от ствола, быстро погибает», – говорил один из русских композиторов XX века15. «А я с собой мою Россию в дорожном уношу мешке», – мог возразить ему поэт-эмигрант16. «Мы не в изгнании. Мы – в послании»17… Ветвь русского зарубежья, особый, уникальный культурный феномен, не утратила сил, «не засохла» с годами; ее питали талант и воля русских музыкантов, дружеские личные связи, осознание общего горя и общих потерь, а главное – духовное единство, стержень нации, рассеянной по миру, но сохраняющей свою религию и свое искусство.
«Как жить без неведомого впереди?»18 – на этот вопрос отвечали по-разному музыканты нескольких поколений, близкие к церкви и невоцерковленные, но создававшие музыку большой духовной силы, воплощая, каждый по-своему, единое христианское начало и трагедию русской эмиграции, каждый – на основе собственной, многотрудной жизни.
Примечания:
1 Цит. по: Проскурина И. А. К. Глазунов и русское музыкальное зарубежье (Париж, 1920-1930-е годы)//Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2009. N2 1. С. 177.
2 «Темой № 1» в современном отечественном искусствознании названа проблематика, связанная с русским зарубежьем первых постреволюционных десятилетий, во вступлении к опубликованным материалам Всероссийской научной конференции «Российское зарубежье: итог и перспективы изучения». Тезисы докладов и сообщений. -17 ноября 1997 г., Москва.
3 В кавычках – слова поэта В. Козового. Цит. по: Петр Сувчинский и его время // Сб., ред. – сост. А. Бретаницкая. М., Композитор, 1999. С. 15–16.
4 Там же. С. 165.
5 Там же. С. 63.
6 Вышнеградский И. Пирамида жизни. М., 2001. С. 56.
7 Гречанинов А. Моя жизнь. – Нью-Йорк, 1951. С. 109–110.
8 В кавычках-слова из стихотворения А. Белого «Отчаяние».
9 Петр Сувчинский и его время // Сб., ред. – сост. А. Бретаницкая. М., Композитор, 1999. С. 86.
10 Яворский Б. Воспоминания, статьи и письма // Ред. – сост. И. Рабинович, общ. ред. Д. Шостаковича. Т. 1. – М., 1972. С. 84.
11 Цит. по: Проскурина И. А. К. Глазунов и русское музыкальное зарубежье (Париж, 1920-1930-е годы)//Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2009. N2 1. С. 169.
12 Приведенная цитата принадлежит известному музыкальному критику, эмигранту Б. Шлецеру. – См. прим. 9. С. 170.
13 В кавычках – название книги писателя-философа Р. Якобсона.
14 См. прим. 9. С. 169.
15 Гаврилин В. О музыке и не только… СПб.: Дума, 2001. С. 216.
16 В кавычках – слова из стихотворения В. Ходасевича.
17 В кавычках – слова Д. Мережковского. Цит. по: Березовая Т. Культура пореволюционной эмиграции //Тезисы Всероссийской научной конференции «Российское зарубежье: итог и перспективы изучения». М., 1997. С. 69.
18 В кавычках – известное изречение Р. Шара.
Иван Вышнеградский: «Искусство станет новой религией» О. И. Гладкова
В сегодняшней Франции Ивана Вышнеградского почитают главой одной из самых оригинальных школ XX века, его музыку «проходят» в консерваториях, издают и исполняют в концертах знаменитого авангардного фестиваля «Парижская осень». На Западе его видят новатором, равным Стравинскому. Знаменитый Оливье Мессиан мечтал брать у Вышнеградского уроки.
В Советском Союзе он был вычеркнут из списка русских авторов – жирной, затушевывающей имя и ноты чертой: эмигрант, микротоновик, авангардист, отрицающий традиционную метрику и такты.
В сегодняшнем Отечестве о нем упоминают – в связи с основательно забытыми Н. Кульбиным, А. Лурье, Н. Обуховым и экспериментальным ультрахроматическим роялем (который пытались изготовить на фабрике Дидерихса) – очень редко и очень мало. На памяти российского концертного слушателя его музыка звучала лишь раз: пианист Игорь Соколов в одном из московских залов сыграл «Этюд на звуковой Магический Квадрат» (саму эту уникальную фигуру можно увидеть в дневниках Вышнеградского за 1910-е годы – время, когда молодой музыкант испытал сильнейшее переживание религиозно-мистического плана, определившее его композиторскую судьбу). В каталоге Российской национальной библиотеки значится единственное сочинение – фортепианные «Интегралы», изумляющие с первых же страниц. Что это? Ноты или графика? Руководство к исполнению или законченный рисунок: раздувшиеся аккорды, перетянутые «в талии» на манер песочных часов; цифры, непонятные значки, выведенные каллиграфическим почерком, недорисованные диезы и бемоли…
«Может быть, мы вступили на порог обширной области нераскрытой красоты, гораздо более богатой, чем то, что мы исследовали прежде. Даруя свои силы и всю свою жизнь, Вышнеградский довел нас до открытой двери. Давайте войдем?» – интригующе писал нью-йоркский критик, побывавший на первом авторском концерте композитора1. Это случилось в 1937 году. Ивану Вышнеградскому (принадлежавшему к начальной волне российской эмиграции и состоявшемуся, как автор, в Париже) было тогда далеко за сорок.
Казалось бы, он ступил на широкую и прямую дорогу к признанию. Однако предвоенная, пресыщенная музыкальными новациями Европа и равнодушная к «звуковым утонченностям» Америка не торопились принять его. В многочисленной эмигрантской среде, аплодировавшей Рахманинову, Прокофьеву, Метнеру, к опасным поискам относились настороженно: Вышнеградский играет идеи, а не музыку…
Вечный сюжет – исполнение и имя на Родине после успеха за рубежом – обошел композитора стороной. Франция, Германия, снова Франция: его эксперименты находили сочувствие в узком кругу профессионалов и дружелюбно настроенных критиков. Везде, пробегая через города и страны, он оставался одиночкой, обретая и быстро теряя единомышленников, неприкаянным Летучим Голландцем. «Ведь меня многие считали полоумным», а «четвертитон просто техническим изобретением, но я доказал, что он может звучать как по-французски, так и по-русски»2.
В общении (так полагали все, кто был знаком и близок с ним) Вышнеградский слыл человеком легким, остроумным, улыбчивым. Истинным интеллигентом, отпрыском родовитой семьи, сдержанным в разговоре, за исключением тех минут, когда речь заходила о музыке и судьбах искусства: тогда его глаза загорались огнем, удивительно ярким. Шахматистом и путешественником. Эгоцентристом, убежденным в правоте своего пути и дальновидности мысли – как большинство художников. Известность и лавры заменял ему вечный творческий максимализм, не ослабевавший с годами, фанатичное, маниакальное стремление к обновлению музыки, стоящей на пороге Сверхискусства, ядром которого будет Вера, а смыслом – духовное преображение людей.
Второй авторский вечер Вышнеградского состоялся лишь в 1945 году с последующей многолетней паузой. До старости он практически не слышал своих произведений. Редкие исполнения в сборных концертах, еще менее частые издания; и неожиданное восхождение к концу жизни, вместе с возросшим интересом современных послевоенных поколений к раннему модерну, первым авангардистам и русскому зарубежью середины XX века.
Опусы Ивана Вышнеградского зазвучали в США и Канаде; о них вспомнили в Париже, Праге, Берлине. Появились статьи, исследования, мемуарная литература3. В 1976 году, спустя почти шестьдесят лет после его написания, был сыгран «День Бытия» (двухчастная симфония-поэма с солистом-чтецом) – одно из любимых «детищ» автора. Летом 1979 года на фестивале во Франции в афише появился его квартет; «Вышнеградский не скрывал своей радости, видя успех, одержанный его сочинением»4. В октябре того же года, на выставке «Париж-Москва», исполнялись камерные и фортепианные опусы композитора5. Программа вечеров современной музыки в Нью-Йорке, ставшая традиционной в наше время, носит заголовок «Звуковой континуум»-так Вышнеградский называл особый музыкальный мир, «символ космического сознания», воспринятый им в религиозном откровении и осветивший творчество.
В российских консерваториях четвертитоновых роялей не было, рука не касалась клавиш – черно-коричнево-белых. Но появился Интернет, а с ним возможность услышать сочинения, сыгранные не у нас и не сегодня. Вариации, Медитации и иные пьесы для микрохроматического фортепиано, в том числе цикл «24 прелюдии»; композиции для двух роялей, настроенных с разницей в четверть тона; дуэт для виолончели (микроинтервалика) и фортепиано (темперация), ансамбли с голосом и без… Опусы Ивана Вышнеградского, неожиданные, любопытные, изящные особой ладовой хрупкостью и томной матовостью мелодий, остаются в памяти, интригуя воображение. Побудем с этой музыкой еще, она бесконечно обаятельна – в плену плывущих аккордов и марева звуковых полей, и очень скоро четвертитон покажется хрустально чистым и ясным, а полутон – как будто грубым и чрезмерно определенным.
Но вот что существенно: в России и Франции, по обе стороны железного занавеса, в прошлом и сейчас находки композитора нередко приписывали другим. Говоря об инструментах чешского композитора А. Хабы, ровесника и сподвижника Вышнеградского, забывали, что их проекты разрабатывались, как минимум, совместно, в дружеских дебатах и пробах6. Удивляясь возможностям аметрической музыки авангардистов 60-70-х гг., забывали об идее раскрепощения ритма, высказанной Вышнеградским много раньше, и о его знаменитой статье того же названия7. Анализируя цифровые ряды и числовую символику сонат и симфоний, выдвигали иных новаторов и их сочинения.
Он разбивал идолов, обломки которых собирали младшие братья по профессии – в Москве и Мюнхене, в Париже и Вене. Он, чем ближе к концу жизни, тем явственней, оказывался в положении Христофора Колумба, открывшего континент, названный и освоенный другими.
Иван Вышнеградский дальше всех заглянул в приоткрытую дверь, пресловутый Черный квадрат, пригласив разделить неизведанный путь. Но смельчаки с полдороги повернули назад – сегодня это особенно заметно – и финиш эры полутоновой музыки, искусство как новая Литургия и Храм под куполом неба, усеянного звездами, вместо залов филармоний – все то, о чем мечтал композитор, остается недосягаемым.
И тот же Сириус сияет ровным, мистическим светом, сейчас и сто лет назад – Александр Николаевич Скрябин. «Вот вам новая Библия», – сказал оркестрантам дирижер В. Сафонов, потрясая партитурой скрябиновской Первой симфонии, в финале которой звучало:
– О дивный образ Божества, Гармоний чистое искусство!Идея соборности, братства людей перед преображающей силой музыки – объекта веры, ломающего рамки разума, материи и мастерства, пронизывала творчество Скрябина, вслед за Вагнером воздвигавшего некий звуковой Грааль. Искусство и религия-две грани целого; единственный грех-духовная глухота и бездарность, и, может быть, музыка и именно русская музыка стоит к Абсолюту ближе остальных.
«Я раньше думал, когда был вроде НИЦШЕАНЦА, таким сверхчеловеком, что я один все сделаю, что это моя личность все свершит. Но ведь моя личность отражена в миллионах иных личностей, как солнце в брызгах воды… Их надо соединить… собрать», – писал Скрябин времен поздних опусов и «Предварительного действа»8. Скрябинистов вокруг яркого светила выстраивалось предостаточно; среди самых верных рыцарей Грааля стоял и Вышнеградский.
Предчувствие духовных революций, которые приблизят эпоху, не разделяющую культ и искусство, изменят его суть и назначение, питало творчество Скрябина последних лет. «Это Мистерия», – отвечал он сомневающимся: «Это не музыка, это что-то иное…»9. Тем же путем шел Вышнеградский в «Дне Брамы» (в конечной редакции «День Бытия») – к ритуалам и философии Востока, к жанру действа, к праистокам ладовости, ритма, звукоизвлечения, гордо провозглашая: «Я есть „День Бытия“ и „День Бытия“ есть я»10.
В создававшихся параллельно пьесах для рояля (еще темперированного) проглядывал фортепианный Скрябин и его цикл «24 прелюдии». Со своим кумиром и единственным предшественником в русской музыке Иван Вышнеградский познакомился в феврале 1915 года за несколько недель до неожиданной смерти Александра Скрябина. Мечтал о встречах, разговорах, о редкой возможности услышать– вблизи! – волшебную игру, преображающую «ящик» фортепиано в колористический оркестр-феерию…
Спустя полтора года он пережил необыкновенный творческий подъем, период озарения и духовного прозрения, определивший будущие искания и идеалы. «Это были священные дни. Каждый день приносил что-нибудь новое… Казалось, какой-то светозарный луч пронзал меня и зажигал пожары во мне. Я помню, что тогда я стал воспринимать все в символах. Каждая мелочь окружающей обстановки, полоса тени с полосой света на стуле, форма лампы, все зажило внезапной жизнью символов»11.
Позже, в 1921 году, он написал в своем дневнике: «Различные этапы обнаружения МИРОВОГО ДУХА на пути его развития в цикле эволюции европейской культуры:
БАХ – божественная механика (фуги, прелюдии, мессы);
БЕТХОВЕН – машина, становящаяся человеком (сонаты, симфонии, с хором);
ВАГНЕР – человек (музыкальные драмы);
СКРЯБИН – человек, становящийся богом (симфонии, сонаты)»12.
Пирамида музыки, пьедестал к фигуре его главного гипотетического учителя был выстроен.
Но жили в памяти будущего композитора и другие, вполне земные наставники – от скромной домашней пианистки до маститого Н. Черепнина и беспрекословного в своем авторитете теоретика Н. Соколова. И не Москва, город Скрябина, а Петербург – Пантелеймоновская улица, Загородный, Невский, дачный дом в Царском Селе – оставались главными в биографии молодого композитора.
Гимназия Мая, куда мальчика, единственного из всех учеников, привозили в собственной карете. Богатая выдающимися личностями семья. Дед Иван Алексеевич, известный ученый и государственный деятель, легендарный министр финансов, правая рука Александра Третьего, крупное имя в машиностроительном деле, профессор и ректор Технологического университета. Отец Александр Иванович – банкир и промышленник, владелец заводов и железных дорог, к тому же, один из попечителей Русского Музыкального общества, отличный пианист и автор четырех симфоний13. В каждой из энциклопедий, иностранной или русской, в любом словаре «Кто есть кто?» старшие Вышнеградские обязательны – с портретами и полным перечнем заслуг. По линии матери – это успешные финансовые и транспортные деятели, академики и тайные советники; да и сама Софья Ивановна (в девичестве Савич) – художественно одаренная натура, поэтесса14.
Домашние вечера музыки, собиравшие многих знакомых и полузнакомых людей. «Квартетные собрания у папы (я их не любил)»15.
Докучные гаммы на рояле. «Моя ненависть к этим занятиям (один раз ушел из дому один и гулял, когда должен был быть урок)»16.
Экономический, а после – филологический факультеты Университета.
Интерес к живописи; регулярные классы К. Петрова-Водкина в Академии художеств. Ощущение родства красок и звуков, мелодий и линий, истинности скрябиновских идей светомузыки.
Поступление в Петербургскую консерваторию. Одноклассники: Тюлин, Гаук, Майкапар. Исполнение первых сочинений в Павловских летних концертах – Анданте, Элегия, «Сизиф» в грозовом 1918 году. Дирижировал не сам; никогда не умел и не стремился к этому. Успех, а вместе с ним и разочарование в силе корсаковской школы: к музыкальным детям и внукам Мастера и их опытам Вышнеградский относился с антипатией. Включая ранние опусы Стравинского.
«Если Корсаков касается только поверхности вещей, если Мусоргский проникает под поверхность в самую вещь, то Вагнер проникает… глубже… показывая общность некоторых вещей между собой (волна и меч, вода и огонь, Рейн (течение реки) и судьба (течение событий), волшебные сон и огонь). Скрябин спускается еще глубже, и глубже него идти уже нельзя, ибо он заглянул в бесконечность… В начале его композиторского пути цель и средства находились в полнейшей гармонии, но затем какая-то сила стала увлекать его на путь Сверхискусства… к новым понятиям, к новому миру, раскрывавшемуся перед ним»17.
Скрябин, этот Орфей Серебряного века, сумел проникнуть чудом своей музыки в запретный круг, таинственную область, соединив реальное и непознанное, материю и космос в замысле Мистерии – действа, призванного изменить человека и его восприятие жизни. Мистерия осталась ненаписанной, но цель была названа: «заложено основание для падения рампы, падения преграды между зрителем и зрелищем»18. «И тогда, – отмечал И. Вышнеградский, – искусство примет сакраментальный эзотерический характер… Станет новой Религией, новым откровением… В различных уголках земного шара появятся храмы
Сверхискусства, в которых будет свершаться священный акт исполнения. Я себе рисую такой храм среди тенистого парка, вдали от пошлого шума городской жизни; я представляю себе совершенно новые архитектурные формы, странные на первый взгляд, с преобладанием шара, этой наиболее совершенной формы, и вертикальной линии, этим символом стремления вверх»19.
Желание следовать скрябинским идеям казалось скорее утопичным, чем возможным; да и сам путь вел не столько вглубь, сколько вширь, на манер уходящих к далеким горизонтам лучей. Три главных линии нашел для себя Вышнеградский, в сложном перекрестии дорог; а выбрав, не изменял им всю многолетнюю творческую жизнь.
Основной путеводной нитью исканий в молодости и зрелости, осью всех экспериментов являлась мысль о важности, нет! – сущностной необходимости создания новых инструментов: не будет их, не будет новой музыки.
Традиционные струнные, духовые и клавишные, по его мнению, искусственно задержались в своей эволюции; таким или почти таким был рояль во времена Бетховена и Шуберта, той же – скрипка времен Паганини. Во все эпохи инструментарий обновлялся согласно смене ведущих жанров и стилей. Хоровое многоголосие вытеснил в своем величии король барочного века орган, который позже уступил трон оркестру, более богатому в палитре звуковых нюансов и красок. Фортепиано и струнный ансамбль определили надолго облик камерной музыки. Композиции XX века с их «шумами», стрекотней пишущей машинки, пистолетными выстрелами и проч. еще в 20-30-е годы указали путь, по которому позже устремились создатели конкретной музыки и синтезаторов. При этом струнные и голос по своей природе легче приспособить к микротоновости. Коренных преобразований требует, прежде всего, рояль.
Иван Вышнеградский у своего инструмента – трехклавиатурного четверти-тонового фортепиано – запечатлен на многих фотографиях в газетах, журналах, книгах. Оптимальная модель вынашивалась годами с предварительными, последовательно отвергаемыми ступенями: настроенный в микротоновой системе инструмент с тремя цветами клавиш; комбайн из двух роялей, настроенных с разницей в 1/4 тона; ультрахроматическое пианино с двумя клавиатурами… Главная проблема заключалась в двойном (или большем) количестве струн, которые нужно было разместить в едином корпусе.
Еще в Париже Вышнеградского посетила идея, сформировавшая впоследствии его именной инструмент. «Дело в том, что во время работы с фортепиано Плейеля я заметил, что некоторые вещи сыграть невозможно. Если я правой рукой брал октаву на двух мануалах поперек, так что верхний тон располагался на верхнем мануале, то средними пальцами я не в состоянии был дотянуться до нижнего мануала, можно было получить вывих. И я подумал, что легче было бы, если бы над второй клавиатурой расположилась еще и третья, с теми же нотами, как у первой, Тогда пианист смог бы преодолеть любую трудность.
С планом трехклавиатурного фортепиано я и приехал в Германию. Я рассказал об этой идее Хабе и Меллендорфу, и Хаба был полностью согласен, так как сам не имел четких представлений о предмете – ведь он был скрипачом. Итак, он согласился…»20.
В Берлине микроинтервалами увлекались куда больше, чем в России или Франции. Проектировали 1/4-тоновый кларнет и орган, спорили о 1/6 и даже 1/12-тоновых клавишных гармониумах. Именно здесь 28 ноября 1922 года состоялся первый в истории концерт микрохроматической музыки; струнный квартет А. Хабы прозвучал дважды – ради большего проникновения опуса в сознание ошеломленной публики.
Ультраинтервалика – эту вторую ипостась своего творчества Иван Вышнеградский выводил из музыки Скрябина, который не рисовал диезов со многими поперечными чертами, но «ощущал пространство между звуками», объемность и воздушность полутона21. По свидетельству критика Л. Сабанеева, Скрябин «не раз говорил, что он чувствует необходимость уже новых „конкретных“ звуков, что приближения недостаточны» и что «он хотел прибегнуть к обозначению понижений и повышений (минимальных) посредством особых знаков»22].
Магистраль «диатоника – хроматика – микрохроматика» представлялась естественной и неизбежно-логичной, а деление полутона пополам и далее – заложенным в природном натурально-обертоновом звукоряде.
Выразительность микроинтервалов в мелодике никто не оспаривал, в том числе, в среде сугубых традиционалистов. В полифонии, а, особенно, гармонии, все обстояло иначе: в этом не видели ни смысла, ни путей развития. Тупиковой считал аккордовую микрохроматику А. Глазунов, в те годы живший за границей. Ультратоновое многоголосие предполагало «аптечную» точность записи, варианты которой были достаточно разнообразными. Нотация Вышнеградского опиралась на 11-линейный нотный стан и следующие знаки микроальтерации:
Графической диковиной эта нотопись остается и сто лет спустя – сегодня.
Принадлежностью музыки будущего по-прежнему выглядит и световая строка партитур – Luce, когда-то заявленная Скрябиным. Светомузыкальное письмо – третья сфера поисков Вышнеградского – имела в основе твердое убеждение композитора-философа: искусства кризисных эпох, спасаясь, тянутся к единству.
И. Вышнеградский в 20-е годы
Четыреста, пятьсот, шестьсот лет назад «фермент Божества был бесконечно силен», соединяя все духовные проявления общества24. «Наукой его была космогония… литературой – священные книги, архитектурой – храмы, живописью – украшения храма, музыкой – музыка во время богослужения… Но все, что было некогда соединено, а потом разрушено, стремится вновь к воссоединению… Сверхискусство есть предел и Великое воссоединение всех искусств, воссоединение того, что стало отдельными искусствами»25.
У трехмануального фортепиано (1975 год). Этот инструмент сопровождал И. Вышнеградского с 1922 года
Нотация должна быть цветовой, полагал Вышнеградский; разноцветными должны выглядеть и линии нотного стана26. Для своей светозаписи композитор избирает шесть тонов спектра (который он видел не семи-, а именно шестицветным, без голубого), распределяя их так: 1/2 – красный, 1/12 – оранжевый, 1/6 – желтый, 1/4 – зеленый, 1/3 – синий, 5/12 – фиолетовый. Запись музыки становится не просто графикой, но живописью, возвращаясь, в какой-то степени, к истокам: ведь черно-белыми ноты были далеко не всегда. Знаменитые рисунки сочинений Вышнеградского, своего рода «свето-мозаика», напоминают сказочные цветы, либо причудливые в контурах и красках закатные облака. В них нет ничего случайного: их строгая точность базируется на слиянии звука, цвета и числа. Световая сторона, при этом, отнюдь не грань исполнения, не современность – в техническом смысле; ее необходимость заложена в сущности звука.
Подобно Скрябину и Римскому-Корсакову Вышнеградский обладал природным даром «цветного слуха». Вероятно, поэтому он считал, что к синтезу искусств ранее всех придут музыканты, и именно музыка даст толчок к ожидаемому Всеединству, возвестив новую эру.
«В конечном счете, я не дошел до своей цели – до строительства храма с куполом… Я думал спроецировать эти цвета с музыкой на крышу храма; они должны были соединиться, создавать формы… Теперь я слишком стар для этого. Но это произойдет неизбежно, я это знаю…
Дух есть творчество… А так как существует только Дух, то все возможно.
Да и вообще нет ничего невозможного»27.
Храмом, без стен и сводов, для Вышнеградского всегда оставалась Россия – с синеющим куполом неба, усеянного крупными, мерцающими звездами, с прямыми, уходящими ввысь, колоннами корабельных сосен, с мягким ковром цветов и трав.
Примечания
1 Кембелл Л. // «Нью-Йорк, 1937». Цит. по: Музыкальная академия. 1992. № 2. С. 144.
2 Там же. С. 155.
3 Вышнеградский И. Пирамида жизни. М., 2001. С. 67, 102.
4 В этой связи могут быть упомянуты: мемуары самого композитора, написанные и изданные на русском языке, а также воспоминания его сына Дмитрия, статьи А. Лишке, переводы Е. Польдяевой, Т. Лебедевой и др.
5 Лишке А. Кончина Ивана Вышнеградского. «Русская мысль». 1979. XI. № 2380.
6 См. прим. 5.
7 И. Вышнеградский пишет об этом так: «Изобретателем считали Хабу. Я не запатентовав своевременно свое изобретение, ничего не мог возразить. Я не стал бороться. Потом он приезжал с этим четвертитоновым инструментом в Париж и показывал его здесь. Он должен был упомянуть обо мне, потому что в Париже меня знали. Он не сделал и этого. Пусть это останется на его совести…». Цит. по: Музыкальная академия. 1992. № 2. С. 155.
Музыкальная академия. 1992. № 2. С. 139.
9 Там же. С. 334.
10 Там же. С. 464.
11 Вышнеградский И. Пирамида жизни. М., 2001. С. 114.
12 Там же. С. 57–58.
13 Там же. С. 129.
14 Помимо симфоний А. И. Вышнеградский был автором фортепианных сочинений, симфонических поэм и других оркестровых опусов. Его Сюита для большого оркестра и симфоническая поэма «Черная» были исполнены публично и изданы.
15 Ее стихи, новеллы и драмы не раз являлись литературными первоисточниками сочинений И. Вышнеградского, особенно ранних.
16 См. прим. 3. С. 24.
17 Там же. С. 26
18 Там же. С. 83.
19 Там же. С. 56.
20 Там же. С. 56–57.
21 Там же. С. 133.
22 Об этом писал критик Л. Сабанеев в «Письмах о музыке». № 1 // Музыкальный современник. 1916. № 6. С. 99–108.
23 Там же. С. 107.
24 Схема заимствована из статьи И. Вышнеградского «Раскрепощение звука». Опубликована в журнале «Музыкальная академия». 1992. № 2. С. 147.
25 Там же. С. 150.
26 Там же. С. 152.
27 Вышнеградский И. Пирамида жизни. М., 2001. С. 237.
Изобразительное искусство
Антиканон. Русский авангард Е. В. Жданова
Икона и антиикона
Христианская тема в русском изобразительном искусстве претерпела значительные метаморфозы задолго до октября 1917 года. Противоречивость этих изменений достигла своего апогея на рубеже XIX и XX веков. Тогда, казалось, церковное, религиозное и светское изобразительное искусство слились воедино. Место иконы в храме уже привычно занимала религиозная живопись, которая приобрела к началу XX века особые национальные черты (В. Васнецов, М. Нестеров). Пафос академических полотен сменился библейской исторической реконструкцией (В. Поленов) и экспрессивной интерпретацией евангельских событий (Н. Ге). Русский авангард явил миру антиикону (К. Малевич).
В это же самое время активно происходило раскрытие древних икон. Состоявшаяся под руководством И. Грабаря в 1913 г. выставка древнерусской иконописи и ее капитальный каталог сделали русскую икону достоянием широкой общественности того времени1. Художественные приемы средневековой иконы были взяты на вооружение русскими художниками «левого толка» Н. Гончаровой, М. Ларионовым, В. Кандинским, П. Филоновым, К. Малевичем и др., которые, желая отмежеваться от европейского искусства, объявили себя наследниками русской живописной традиции. Эстетизированные авангардистами христианские образы приобрели, особенно с началом Первой мировой войны, апокалиптические черты. Циклы «Апокалипсис» и «Мистические образы войны» Н. Гончаровой, зловещий «Пир королей» П. Филонова тому яркие примеры. Призывом к покаянию прозвучала картина «Богоматерь Умиление злых сердец» К. Петров-Водкина. Образы, рожденные авангардным сознанием и ужасами войны, оказались своеобразным предзнаменованием грядущих испытаний России.
Февральская революция и октябрьский захват власти большевиками 1917 года положили начало масштабной культурной революции, в которой русскому миру надлежало забыть Христа. Эффективными средствами большевиков в атеистической борьбе стало физическое истребление христиан, поддержка ересей, агитационные мероприятия по «расхристианизации» и террор. В 1918 году святитель Тихон писал в послании Совету Народных депутатов: «Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чем не виноваты, а взяты в качестве «заложников». Этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами не только им не единомышленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не винных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной "контрреволюционности". Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего утешения – напутствия Святыми Тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения»2.
Уничтожению подлежала и эстетика русского православного мира: массово взрывались и переоборудовались храмы, погибали фрески. Иконы сжигались на площадях участниками «Комсомольской пасхи» и «Комсомольского рождества». Одновременно с этим, в 1918 г. рядом декретов по охране выдающихся памятников было решено церковное искусство частично музеефицировать. Древние храмы Москвы, Новгорода, Ярославля, Вологды, а также иконы, книги, утварь и облачения из монастырей и храмов поступили в ведение Главмузея3. В послеоктябрьском массовом сознании церковное искусство и музейная икона стали частью светского изобразительного искусства. Исчезновение истончившейся грани сакрального и профанного фактически сняло все запреты в изобразительном искусстве, что привело к целому ряду амбивалентных художественных феноменов.
Полотна послереволюционного десятилетия отчетливо демонстрируют изменения общественного сознания, полного стилистической и идейной смуты. Среди художников послереволюционной эпохи можно найти и тех, кто пытался сохранить христианское чувство в плавильной печи новой атеистической культуры, и тех, кто хранил его «под спудом», и тех, кто безжалостно приспосабливал его для нужд «нового» искусства. Поэтому спектр привлечения христианской художественной традиции в светском изобразительном искусстве этого периода варьируется от кощунственных до прикровенных христианских работ.
Христианские образы в творчестве художников русского авангарда. 1917–1934 гг.
Накануне революций 1917 года в художественной жизни России царило необыкновенное разнообразие. В изобразительном искусстве «левого толка» царило увлечение европейскими модернистскими течениями, примитивом, архаикой, вновь открытой миру древней русской иконой. Художники провозглашали манифест за манифестом, оттачивали свои теории и концепции. Многие из них указывали источником своего вдохновения русскую икону. Христианские сюжеты и темы, а также художественные средства русской иконы в этот период перекочевали на полотна прогрессивной светской живописи. Часто они претерпевали спорные метаморфозы, эстетизировались. После большевистского переворота христианские образы в работах авангардистов, принявших активное участие в создании нового атеистического искусства, претерпели еще один этап искажений – сознательное надругательство в угоду конъюнктуре и политическому заказу.
Фактически первыми исполнителями политического заказа большевиков стали художественные группы левого толка. После октябрьской революции 1917 г. новые власти были вынуждены в спешке формировать коллектив художников, которому можно было бы поручить создание коммунистической эстетики. Полное отсутствие теоретического фундамента для этого констатировал глава Наркомпроса А. Луначарский: «Мы очень бедны эстетической литературой. И не только мы, русские коммунисты, но и вообще марксизм. Сами Маркс и Энгельс оставили только отдельные, более или менее разрозненные замечания»4.
Выбор Луначарского при формировании художественной «творческой лаборатории» пал на футуристов: Коллегия ИЗО Наркомпроса, была сформи-рованна из «левых» художников «разной «левизны»5. Луначарский так объяснял факт этого сотрудничества: «… я протянул футуристам руку главным образом потому, что в общей политике Наркомпроса нам необходимо было опереться на серьезный коллектив творческих художественных сил. Их я нашел почти исключительно здесь, среди так называемых «левых» художников»6. Коллегию ИЗО возглавил приехавший из Парижа, художник Д. Штеренберг, который решил покончить с «ихтиозавром» реализма, ввел талоны на краску, кисти, бумагу и пр. и отказал в их получении «белякам» – М. Нестерову и другим7. Рупором отдела ИЗО Наркомпроса стала газета «Искусство коммуны». В ней сразу после названия обычно печатались крупно набранные программные лозунги: «Разрушать – это и значит создавать, ибо, разрушая, мы преодолеваем свое прошлое», «Мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому» и т. д.8
«Левые» превратились в одночасье в новую художественную элиту: получили статус «художественного авангарда». Термин «авангард» приобрел ведущее значение в официальной риторике того времени. А. Крусанов пишет: «На Втором всероссийском съезде комсомола Троцкий назвал коммунистическую молодежь "авангардом авангарда". Этим же титулом назывался партийный съезд. Далее шла Красная армия – боевой авангард мировой революции; части особого назначения (ЧОН) – авангард Красной армии <…> госпромышленность-аван-гард народного хозяйства; ячейка партии – авангард села; комсомол – авангард безбожия… худполитпросветы – авангард рабочего класса в искусстве. Во всех областях социума был свой авангард»9.
Очевидно, что Луначарский назначил «авангардом» искусства футуристов не столько по причине их организованности, сколько принимая во внимание их опыт поиска новых «революционных» форм в борьбе с эстетикой «старого» христианского мира еще накануне революции.
Ярким эпизодом этого опыта была, например, футуристическая опера «Победа над солнцем», созданная М. Матюшиным, А. Крученых и К. Малевичем в 1913 г., в которой «несовершенное» солнце запиралось в бункер, а замысел спектакля раскрывался в футуристической сентенции: «Вся Победа над Солнцем есть победа над старым привычным понятием о солнце как о красоте»10. В пятой сцене первого действия оперы место солнца занимал «Черный квадрат» художника спектакля Казимира Малевича. «Мы дошли до отвержения разума, – констатировал Малевич в 1913 г. в письме Матюшину, – но отвергли разум в силу того, что в нас зародился другой, который в сравнении с отвергнутым нами может быть назван заумным, у которого тоже есть закон и конструкция и смысл, и только познав его, у нас будут работы основаны на законе истинно новом, заумном»11. Следующий выход на сцену «Черного квадрата» на выставке «0,10» в 1915 г. превратился уже в богоборческий жест: свою картину в экспозиции Малевич разместил диагонально между стенами в «красном углу» как икону. Примечательно и то, что на этой выставке в соседнем помещении размещался таким же образом контррельеф конкурента Казимира Малевича Владимира Татлина. Таким образом, композиции обоих были составлены по одному и тому же принципу: «представляли собой конструкции, имитировавшие домашний иконостас, в котором Татлин вместо икон представил свои контррельефы, а Малевич – супрематические полотна», – замечает А. Яхнин12.
Александр Бенуа, посетивший ту выставку, назвал квадрат Малевича одним из «актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного, приведет всех к гибели»13. Спустя почти столетие, Борис Гройс определил «Черный квадрат» как мессианский образ разрушения и материализма: «Для Малевича любое разрушение искусства – будь то искусство прошлого, настоящего или будущего – приемлемо, поскольку этот акт разрушения неизбежно становится актом созидания образа разрушения: черный квадрат становился эпицентром культуры, образом пепла, который, как пишет Малевич, порождает больше идей, нежели произведение искусства, сожженное ради производства этого пепла. Разрушение не может быть направлено на разрушение своего собственного образа: образ разрушения переживет любое разрушение. <…> Конечно, это убеждение является следствием радикальной материалистической позиции авангарда. В самом деле,
Бог может разрушить мир, не оставив от него ни следа, потому что Бог сотворил мир из ничего. Но если Бог мертв, то акт разрушения, не оставляющий видимого следа, разрушение без образа разрушения невозможно. В акте радикальной художественной редукции этот образ реального разрушения предвосхищается здесь и сейчас – в мессианском образе, обреченном на то, чтобы пережить конец времен»14. Но то, что Бенуа называл «заносчивостью», Малевич понимал как предельную форму выражения художественного гения и называл «супрематизмом» – от «supremus» (лат.) – наивысший.
Казимир Малевич
Казимир Малевич в первые послереволюционные годы стал одним из «локомотивов» революционного искусства, возводя свой супрематический метод в ранг государственной эстетики. Наряду с почти религиозной пропагандой супрематизма, символизирующего внеисторический «предельный» уровень художественного творчества, Малевич призывал коллег по цеху расправиться с христианским прошлым: «…сжечь в крематории остатки греков, дабы побудить к новому, дабы чист был новоскованный образ нашего дня»15 и переименовать «… все храмы Христианские <…> в Коммунистические имена»16.
В своих эпистолярных трудах Малевич также прибегал к перекладыванию «старых» идей «на новый лад». В результате, его теоретические труды, начинавшиеся с супрематической «зауми», со временем наполнились христианскими аллюзиями, которые он наделял актуальными «коммунистическими» смыслами. Так, например, художник писал: «Точка зрения на то, что смерть Ленина не есть смерть, что он жив и вечен, символизируется в новом предмете, имеющем вид куба. Куб уже не геометрическое тело. Этим новым предметом мы пытаемся изобразить вечность, создать такое обстоятельство, которым утвердилась вечная жизнь Ленина, победившая смерть. Это новый путь символических предметов материалистического сознания. Куб, серп, молот, знамя, портреты, бюсты – это продукты символического порядка, а материя не символична, а физична, а первое – только символы ее физичности, указывающие, что она может быть сложена и в крестообразную форму, и в серпообразную17 и т. д.»18
В живописных работах Малевича переименованию «в коммунистические имена» подверглись образы и художественные средства традиционной русской иконы, как, например, в его крестьянских сериях. «Я понял крестьян через икону», – утверждал художник19. Картины Малевича «Голова крестьянина» (1929) и «Голова крестьянина» (1932) ясно отсылают зрителя к иконе Спаса «Ярое око». На картинах изображены крупные суровые постсупрематические бородатые «лики». В версии картины 1929 года голова крестьянина изображена на фоне креста. За ним открывается реалистичный деревенский пейзаж, в котором есть милые крестьянину поле, дома, стога и церковь. В картине, датированной 1932 годом, фон принципиально иной: пейзаж обозначен горизонтальными и диагональными полосами, перекликающимися с тревожными черно-белыми диагоналями неба, на котором пестрят самолеты. Как пишет А. Иньшаков, такой пейзаж напрямую связан с онтологическими изменениями, произошедшими в народном сознании: «Разноцветные полосы на картинах Малевича – это уже не земля, а распыленная, раздробленная в процессе зарождения супрематизма материя. Отчужденные фигуры с черными лицами без глаз не связаны с почвой – «…мы живем, под собою не чуя страны»20.
К композиции традиционной русской иконографии отсылают и многофигурные композиции художника, например, монументальная композиция «Спортсмены», изображающая четверых мужчин, фронтально выстроенных в ряд на полосатом фоне. А. Шатских недвусмысленно утверждает: «Формальные, композиционно-цветовые и ритмические принципы картины в истоках своих увязаны с иконографией Четырех святителей <…>. Малевич словно перелагал на язык обобщенно-геометризированной живописи пластические каноны древнерусских икон»21. Такие иконные «цитаты» – фронтальные композиции с фигурами в спокойных иератических позах, выдвинутыми на первый план, встречаются в творчестве Малевича чаще всего.
Снова и снова возвращаясь к иконе, схематизируя ее своим супрематическим инструментарием, Малевич, тем не менее, утверждал, что «икона как таковая – малокультурное и дикое варварство; темное преклонение перед ней умаляет, затемняет нечто духовное того мастера, который через лик приобщил себя к высшему будущему бытию своего духа»22. Постепенно эксперименты художника по схематизации иконного образа приходят к своему логическому итогу– исчезновению человеческого лица в картине. Яркий пример тому– поздняя крестьянская серия 1920-1930-х гг., в которой вместо лиц и голов корпуса крестьян и крестьянок венчают овалы, как, например, в картинах «Два крестьянина на фоне полей» (1930), «Два крестьянина (В белом и красном)» (1928–1932), «Сложное предчувствие (Торс в желтой рубашке)» (1928–1932), «Крестьянка» (1928–1932), «Девушки в поле» (1928–1932) и др.
Такая «иконоборческая» позиция художника позволяет некоторым исследователям видеть в нем последователя апофатического богословия Дионисия Ареопагита, который говорил об абсолютном только в отрицательных формулах. Об этом пишут, например, зарубежные исследователи Эдвард Робинсон23 и Жан-Клод Маркаде. Жан-Клод Маркаде видит апофатизм в творчестве Малевича следующим образом: «в иконе, через отсутствие Изображённого и обнаруживается Его присутствие. Тут же вся суть чёрного „Квадрата“».24
К той же мысли приходит В. Бычков: «Малевич фактически приходит к художественному апофатизму, до которого не дошла традиционная икона Средневековья, хотя апофатическое (отрицательное) богословие было, как известно, распространено в Византии и, отчасти, в Древней Руси. Основатель супрематизма, двигаясь не от богословия, но исключительно от художественной практики, приходит к тому апофатизму, который не смог проникнуть в средневековую икону. Икона в этом плане может быть уподоблена катафатическому (позитивному) богословию, в то время как супрематизм Малевича сознательно основывается на полном отрицании «предметного» изображения. <…> Фактически Малевич интуитивно подошел к ощущению трансцендентности духовного Абсолюта и попытался выразить его в абстрактных цветных, черных или белых геометрических формах, достигших своего минималистского звучания в его «Черном круге», «Черном кресте», «Черном квадрате» и «Белом квадрате» на белом фоне. Малевич, сам того до конца не сознавая, сделал последний логический шаг в развитии иконы – выведя ее на уровень художественно-символической апофатики. Такую икону, пожалуй, могли бы принять и византийские иконоборцы»25.
Продолжая свое рассуждение, В. Бычков, признает, что работы Малевича претендуют на функцию иконы: «И икона, и классические шедевры авангарда – художественные символы, обладающие анагогической функцией – возведения зрителя от материального мира в иные пространства духовных измерений»26.
Возникает закономерный вопрос о том духовном измерении, в которое возносят «апофатические» символы Малевича. В. Бычков описывает это измерение как апокалиптическое и полностью полярное просветленному миру русской иконы: ««Безликие иконы» Малевича, многие абстрактные полотна «драматического периода» Кандинского (1910-1920-е гг.), большинство работ Шагала и ранние работы Филонова пронизаны обостренной, предельно напряженной апокалиптикой. Этот дух совершенно чужд классической иконе, в которой царит безмятежное спокойствие «Царства Божия», господство одухотворенной, преображенной и просветленной плоти. Даже в русских иконных изображениях «Страшного суда» и «Апокалипсиса» нет апокалиптических настроений. Вернее, они выражены только на иллюстративном (чисто литературном) уровне. Весь же художественный строй (композиция, цвет, линейный ритм и т. п.) свидетельствует о просветленных эсхатологических чаяниях»27. А. Яхнин гораздо более радикален в своих формулировках, полагая, что желанием Малевича было «найти замену изгнанному Богу в неизведанных зонах сознания»28, и в отличие от иконы, символы «икон авангарда» «не соединяют тоскующую душу со своим Создателем, а сознательно и решительно разрывают все возможные связи с Ним, перенаправляя их вектор в мир обманчивых образов и лукавых духов»29. Восклицания самого Казимира Малевича лишь подтверждают догадки исследователей об отсутствии христианской основы в творчестве художника: «Да, души у нас нет! Я ощущаю энергию, а не душу!»30.
Павел Филонов
Христианские темы и образы живо интересовали художника до революции. В 1908–1910 гг. Филонов совершил путешествие с «паломницким» паспортом по святым местам. По дороге в Иерусалим Филонов писал для паломников и монахов копии икон. Сохранился образ Святой Екатерины, писанный Филоновым «с лицевого подлинника» в монастыре Святой Екатерины на Синае, который он привез в подарок своей сестре Екатерине. По возвращении в Петербург в дореволюционный период художник часто обращался к сюжетам Ветхого и Нового Завета. Примеры тому – его графические работы «Авраам и странники» (1912), «Адам и Ева» (1912–1913), «Поклонение волхвов» (1914), «Бегство в Египет» (1915), яркие живописные работы «Пасха» (1912–1913) и, наконец, его «Святое семейство» (1914).
Накануне революции (во время Первой мировой войны) в работах Филонова «Без названия» («Георгий Победоносец») (1915), «Мать» (1916) и некоторых других христианские мотивы перекликаются с апокалиптической темой, полной предчувствий грядущего разрушения. В этих небольших графических листах Филонову удается сочетать философскую глубину образов и актуальную для него «калейдоскопическую» манеру изображения. Так в акварели «Мать» из деталей-ячеек рождается оплечный образ женщины с младенцем на руках. Она изображена в дверном проеме, в котором открывается калейдоскопический вид на город. Дробящийся фон затрагивает лик матери: он рассыпается на мелкие мозаичные осколки. Безволосая мать скорбно и спокойно глядит на своего ребенка, гладит его футуристически размноженными пальцами. За правым плечом женщины изображен образ Святителя Николая в окружении храмовых построек. «Мать» Филонова как полуабстрактное напоминание об образе Богородицы «Умиление» можно считать продолжением покаянной темы, прозвучавшей в картине Кузьмы Петрова-Водкина «Богоматерь Умиление злых сердец» (1914–1915). Филоновский образ великомученика Св. Георгия в небольшой графической работе 1915 г. чрезвычайно близок народному поэтизированному восприятию защитника родной земли: из вязи живописных звеньев, пронизанных светом, вырастает фигура святого, смиренно склонившего голову. За фигурой Св. Георгия встает на дыбы утопающий в мозаике разноцветных ячеек белый конь. К ногам святого льнет дракон с мордой льва. На втором плане сплетаются в единую цепь изображения царской дочери и великолепного града, в который скачет трубящий всадник «на бледном коне», предвещая неладное. В своих графических работах Филонов начинает использовать деформации и рассыпающиеся формы как выразительные художественные средства в создании образов трагедии, грядущего разрушения. Тем не менее, сквозь трещины бытия в мозаичных графических работах художника пробивается свет, дающий надежду.
Как бы параллельно в творчестве Филонова существовал и совершенно иной мир – мир свершившейся духовной катастрофы и предельного апокалиптического ужаса. Его квинтэссенция – картина художника «Пир королей» (1913), названная многими исследователями картиной-пророчеством грядущих испытаний и жертв. «Пир королей» – зловещее изображение сатанинского ритуала анти-литургии. За продолговатым столом восседают в креслах, похожих на колоды-гробы, сизые существа. Некоторые из них на груди крестообразно сложили руки, некоторые держат в руках кубки. Велимир Хлебников, с которым Филонов был творчески близок, так описал эту картину и самого художника в образе своего героя Ка: «Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби»31. Картина Филонова стала воплощением облика ада, в котором нет надежды на Воскресение, символом страшной абсолютной гибели. Сложно представить себе более антихристианскую картину.
В 1916 г. тридцатитрехлетний художник, сделавшийся накануне войны одним из ярких представителей русского художественного авангарда, был мобилизован и отправлен на Румынский фронт, где прослужил рядовым второго морского полка Балтийской морской дивизии до 1918 года. После Февральской революции он был избран председателем Солдатского съезда в г. Измаиле, затем председателем Исполнительного военно-революционного комитета Придунайского края. После ликвидации фронта в 1918 году Филонов вернулся в Петроград. С 1923 г. Филонов вместе с Малевичем, Матюшиным и Татлиным становится идеологом Музея художественной культуры (впоследствие государственного института ГИНХУК), руководит Коллективом мастеров аналитического искусства (МАИ). В мировоззрении художника происходит перелом. Как и у многих коллег по цеху, у Филонова возникает возвышенно-доверительное отношение к большевистской власти. Филонов пишет такие картины, как «Формула мировой революции» (1919), «Формула петроградского пролетариата» (1920–1921), «Октябрь. Ландшафт» (1921) и другие. Христианские мотивы Филонова больше не занимают или превращаются в материал для карикатуры: в 1920-е гг. появляется графическая кощунственная «Тайная вечеря» («Последний ужин»), на которой традиционная фронтальная композиция вечери изображает Христа и двенадцать фигур с нимбами, участвующих в пьяном застолье.
После революции радикально меняется позиция Филонова относительно источников художественного вдохновения. Например, в своих дореволюционных манифестах Филонов апеллировал к русскому искусству, призывал учиться у него. Еще в 1914 году в манифесте филоновской группы «Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков "Сделанные картины" декларировалось: «<…> на нашу Родину переносим центр тяжести искусства, на нашу Родину, создавшую незабываемо дивные храмы, искусство кустарей и икон <…>»32. Уже в 1930 г. филоновская группа художников «Мастера аналитического искусства» публикует заметку «Художники, на фронт безбожия!», в которой группа призывает к созданию антирелигиозного фронта изобразительного искусства и обязуется «к 1 мая 1931 г. выполнить пять антирелигиозных вещей высшего профессионального качества».33
Послереволюционную атеистическую позицию художника красноречиво иллюстрируют записи его дневника. Среди учеников Филонова была художница Львова, верующий человек. Художник записал в своем дневнике: «Я сказал ей, что не буду с нею больше работать, – нам с религиозными людьми не по пути» (22 сентября 1933 г.). И позже: «Прошлый раз, когда я отбирал у нее на квартире ее вещи в горком на квалификацию, я, уходя, сказал, показывая на две иконы в углу: "На что вы держите, на позор себе, эту сволочь?"» (13–14 февраля 1936 г.)34.
Некоторые ученики, однако, высказывали сомнения по поводу филонов-ского атеизма. Например, Т. Н. Глебова писала: «Часто возникало у меня чувство сомнения в атеизме Филонова и казалось, что это была защитная окраска. Во всяком случае, атеизм Филонова не принимал тех форм, к которым в конце концов он приводит, то есть к духовной смерти, материальности, корысти, цинизму и т. д. Филонов был бескорыстен, благороден, предан искусству, верил в истинность своих идей, во имя искусства вел подвижническую жизнь, проповедовал нравственное поведение художников в жизни, клеймил и ненавидел всех дельцов от искусства, был до конца принципиален. <…> Я не думаю, что Павел Николаевич был совершенно лишен мистических способностей, как это бывает с тупыми, неумными материалистами. Мне кажется, он вызывал в себе искусственно безбожнические настроения, по своему поведению в жизни будучи совершенно противоположным им. Он делал это, увлеченный революцией, идеализируя пролетариат и наделяя его теми нравственными свойствами, какими обладал сам, совершенно так же, как наделял учеников, слабо ему подражавших, своими дарованиями. Но сила его убеждения была велика. Я испытала его влияние и только в блокаду, перед лицом смерти, пришла к мировоззрению, единственно достойному человека»35.
Сознательный отказ художника от богопознания и предельное погружение в генезис собственных аналитических миров ярко отразились на эстетике его послереволюционных работ. Небесный свет в оконцах филоновских композиций постепенно гаснет, природный радостный витализм сменяют пугающие эксперименты, радикально меняется облик человека на картине. Начиная с 1920-х годов, изображения людей в работах Филонова начинают носить инструментальный характер, их лица большей частью монструозны, все чаще их заменяют деформированные абстрактные «головы» («Две головы» (1923), многочисленные версии композиции «Голова» и «Живая голова» (1923, 1924, 1925, 1926, 1930), «Человек в мире» (1925) и пр.). Филонов экспериментирует с трансформацией человеческого облика, подвергая его «евгеническим» экспериментам.36 «Филоновские «герои» <…> – это живое мясо эпохи, улучшенная новая раса»37, – пишет А. Курбановский. Вместо декларируемого художником открытия витальных процессов в теле и голове человека зрителю открывается мир открытой схематизированной плоти, которую покинул Дух. Живыми усталыми глазами с поздних картин Филонова глядят лишь «полузвери-получело-веки» («Лошади» (1924), «Животные» (1925,1930), от взгляда которых не менее жутко, чем от вида подвергнутого «аналитическим» экспериментам человека. Как будто в отсутствие богоподобия на картинах Филонова облачается в плоть обнаженная «звериная морщина», что, по слову А. Толстого, «у каждого жива в подполье души»38.
Путь от иконного лика к монструозным образам, проделанный Филоновым в живописи, лежит, очевидно, в русле европейского модернизма. Сам же художник, дистанцируясь от европейских течений и развивая свой оригинальный «аналитический метод» в живописи, до последних дней надеялся прославить свою советскую Родину: он принципиально не продавал своих картин, берег их для создания собственного музея «аналитического искусства». Однако его замыслу не суждено было осуществиться. Уже готовую к открытию персональную выставку Филонова в «Русском музее» в 1929 г. разобрали. В ходе кампании «по борьбе с формализмом» он был совершенно лишен заказов и материальной поддержки государства, но продолжал работать в крайней нужде. Одной из последних картин Филонова стала работа «Лица (Лики на иконах)» (1940). В ней из паутины красных, желтых, синих переплетений-жил мучительно проступают два лика, в которых читаются образы «Спаса».
Наталья Гончарова
«Амазонка» русского авангарда Наталья Гончарова формально может быть отнесена к орбите художников Русского Зарубежья – революцию Наталья Гончарова встретила в Париже, где с художником Михаилом Ларионовым оформляла Дягилевские спектакли. В основном ее картины на христианские темы были написаны в России накануне революции или сразу после нее за рубежом в оригинальной «всёческой» стилистике. Гончарова, по меткому слову Цветаевой, «точка сращения между Востоком и Западом», творила в разнообразных стилях. Сначала ее вдохновляло творчество европейских модернистов Матисса, Гогена, Сезанна, Пикассо, – Гончарова «училась» у них. Затем художница стала активной участницей футуристических акций и выставок. Чуть позже Гончарова увлеклась русским и восточным искусством: народным примитивом, лубком, в т. ч. персидским и индуским, и, наконец, русской иконой.
Постепенно принцип ее работы стал заключаться в синтезе разнообразных стилей и художественных систем. Он был сформулирован мужем Гончаровой художником-авангардистом Михаилом Ларионовым: «Соединять краску одной вещи и стиль другой и таким образом создавать третью, непохожую на них»39.
Метод Гончаровой получил название «всёчество». «Написать женский портрет: лицо и руки – бледно-зеленым (или коричнево-красным), как на китайской фигуре, и такие же удлиненные формы лица и рук, напоминающие Греко, фон с темной дверью и желтоватыми обоями, способ письма Сезанна»40, – из разнообразных подмеченных Гончаровой деталей складывалась ее новая яркая самобытная живопись.
Принципы «всёчества» подразумевали не только свободу соединения художественных находок, но и свободу выбора сюжетов. Ларионов говорил, что художнику безразлично – «писать ли "капусту или Мадонну": главным для него должно быть качество живописи»41. Такой подход практиковала и Гончарова: спектр выбора живописных тем был для нее чрезвычайно широк. Ее экспрессивные яркие полотна изображают и сцены крестьянской жизни, и футуристические фантазии, и живописные натюрморты, и каменных истуканов, и образы Христа, Богородицы, святых. Гончарова высоко ценила русскую икону, отмечала ее художественный потенциал для себя. Около 1911 года она писала: «Сезанн и иконы равноценны, но мои вещи, сделанные под влиянием Сезанна и под влиянием икон, совсем не равноценны. <…> Я совсем не европеец. Эврика»42. Это утверждение вовсе не означает глубинной связи живописи Гончаровой с русской иконой. Напротив, в ее религиозных работах значительно больше лубка, народного примитива, корпулентности языческих идольских фигур, нежели приемов иконописного письма. В первых авангардистских религиозных картинах Гончаровой «Распятие» (1906), «Троица» (1910) и «Венчание Богоматери» (1910). Гончарова использует темные и радикально яркие цвета, характерные для восточного лубка, радикализирует переходы от света к тени, добавляет грубый густой контур фигур, придающий живописным работам сходство с ксилографией.
В такой же манере она пишет в 1911 г. четырехчастный цикл «Евангелисты». На четырех холстах вертикального формата «сопоставлены у нее четыре "идольские" фигуры, и, как на архаических фресках, сияют из мрака фиолетовая, синяя и зеленая краски, выступают насупленные лики и пальцы, то упертые в свитки и лбы, то предостерегающие поднятые кверху»43, – так описывает этот цикл Поспелов.
Гончарова не стремилась к сочетанию художественной формы, содержания картины и выставочного контекста, часто они намеренно противопоставлялись друг другу. Так вертикальные композиции, найденные для «Евангелистов», Гончарова с легкостью применила для иллюстрирования произведения Крученых и Хлебникова «Игры в аду». В этих иллюстрациях композиции составлены из представителей ада. Так, в 1912 г. цикл «Евангелисты» экспонировался на выставке с названием «Ослиный хвост», что было сочтено цензурным комитетом Святейшего Синода кощунством. В 1914 году в Петербурге было арестовано 22 картины с персональной выставки Гончаровой в петербургском «Художественном бюро» Надежды Добычиной, на основании критики использования авангардистских техник в изображении религиозных сюжетов. Цензурный запрет был тогда, правда, отменен: духовный цензор архимандрит Александро-Невской лавры вступился за художницу, полагая основой ее вдохновения недавно раскрытые древние русские иконы. Художница писала в дневнике: «Спорят и спорят со мной о том, что я не имею права писать иконы: я недостаточно верую. О Господи, кто знает, кто и как верует. Я учусь»44.
К сожалению, Гончаровой в своих работах на христианские темы так и не удалось сконцентрироваться на героях и сюжетах Священного Писания, рассказать о них непосредственным, «наивным» языком, придающим рассказу правдивость. В живописных «примитивах» Натальи Гончаровой религиозной тематики образ и сюжет выполняли обслуживающую функцию, в фокусе ее творчества находился художественный прием. В этом смысле интересен один пример ее работы с Дягилевым. В его антрепризе Леонид Мясин планировал поставить балет «Литургия» на музыку, которую должен был написать Игорь Стравинский. Спектакль был задуман как серия хореографических картин, представляющих Благовещение, Вознесение, Воскресение и т. д., и предполагал включение интерлюдий русской духовной музыки. Гончарова работала над художественным оформлением спектакля, в частности создавала эскизы костюмов (1915). Среди них эскизы костюмов «Святой Андрей», «Святой Иоанн», «Святой Марк», «Херувим», «Серафим» и другие. Некоторые из них выполнены в кубистской манере, некоторые демонстрируют связь с египетским искусством, некоторые являются цитатами иконописных изображений. Художница отмечала: «Костюмы могут портить друг друга или улучшать. Один костюм может оказаться рядом с другим почти незамеченным. <… > Это можно сравнить с карточной игрой, где жесткие и сложные правила, но бесчисленное множество комбинаций»45. Вопрос о уместности литургической темы в балетной постановке для Гончаровой тогда не стоял. Принципиально иную позицию занял композитор И. Стравинский, который отказался участвовать в театральном представлении, в основе которого лежит текст Священного Писания46. Без музыки Стравинского Дягилев спектакль не мыслил, постановка не осуществилась.
В 1920-е годы Гончарова поняла, что больше не вернется в Россию. Ее дневниковая запись фиксирует очень личное прощание с Родиной в форме молитвы, обращенной к Святому Георгию как символу России: «Какое лицо у тебя сегодня, мой святой, мой родной? Говорят, что у тебя теперь лицо дьявола и лицо мертвеца. А мне не видно за далью и тьмой. И если лик Св. Георгия превратился в лик дьявола и мертвеца, то какая мука это сделала? Разве ты не вернешь нас в наш дом? Вчера мой друг сказал – я не знаю, в какую страну поехать умирать. Всякий человек умирает в какой-нибудь стране. И я плачу сегодня горькими слезами. Разве ты не вернешь нас в наш дом?»47 Гончаровой не суждено было больше вернуться в Россию. В 1920-е годы эстетика ее работ заметно изменилась: «диониссийские» всёческие картины с элементами «русского» лубка сменили просветленные сказочные образы Руси, полные стилистического единства. Таков «град» белокаменных церквей в декорациях к «Жар-птице» (1926). Таковы иллюстрации Гончаровой к французскому изданию «Сказки о царе Салтане» Пушкина 1921 г. Мягкость линий, уравновешенность композиции, условность и покой в изображениях героев не оставляют сомнения в том, что при создании иллюстраций Гончарова ориентировалась на стилистику древнерусской живописи. В дальнейшем христианские мотивы в творчестве художницы практически не встречаются, вдохновение она черпала в окружающей ее жизни Европы.
Кузьма Петров-Водкин
Своеобразным «контрапунктом» христианской темы в изобразительном искусстве русского авангарда можно назвать творчество Кузьмы Петрова-Водкина. Работы Петрова-Водкина – воплощение его сентенции: «Раз у русского нет влияния иконы, то значит это не русский и не живописец»48. В то время как художественный авангард смело расправлялся с изображением лица и лика в русской живописи, – Петров-Водкин, напротив, придавал героям своих картин, – крестьянкам, матерям, работницам, солдатам, – иконные черты, их фигурам – музыкально-поэтический линейный ритм, пространству картины – надмирную сферическую, «планетарную» перспективу. Художественный язык и философия творчества Петрова-Водкина, выходца из старообрядческой среды, строилась, на отношении к человеку как обладателю бессмертной души. Художник писал: «Жизнь это только временная оболочка существования человеческого – она так ничтожна с вечностью, что нельзя вычислить. Душа же наша никогда не родится, не умирает, она существует так же вечно, как вселенная, ибо душа есть частица самого Бога»49.
На формирование художественной философии Петрова-Водкина оказали значительное влияние его иконописный опыт и знание церковного искусства. Среди значительных работ Петрова-Водкина в этой сфере – эскиз для майоликового панно на фасаде церкви в здании клиники Вредена в Санкт-Петербурге (1903), росписи храма Св. Василия в Овруче (1910), росписи Морского собора в Кронштадте (1913), росписи и витраж в Троицком соборе в городе Сумы (1911–1915). Художник очень скромно оценивал свои возможности на поприще церковного искусства: «Я себя также виню за то, что ни одна из этих работ не доведена до выразительности Джотто или Рублева, а это и доказывает – к стыду моему, – что как я ни изучал древнерусскую иконопись, как ни был влюблен в нее, а ее законов композиции, верно, так и не понял до конца»50. Он говорил о своей неспособности в этой сфере: «Я начал зарабатывать на вывесках и иконах, но довольно неудачно. Я почувствовал, что я к писанию икон неспособен, что прикладываться к моей иконе неудобно»51.
В итоге, художник посвящает себя светской живописи, используя в ней свой предыдущий опыт. Так, например, для станковой картины «Богоматерь Умиление злых сердец» (1914–1915, собр. семьи Б. Н. Окунева, Санкт-Петербург) Петров-Водкин использовал иконный образ Богородицы «Умягчение злых сердец», перед которой обычно молятся об умиротворении враждующих. Картина была написана художником в годы Первой мировой войны.
Для воплощения в светской живописи образов вечности Петров-Водкин разрабатывает своеобразный художественный язык, в основе которого лежало необычное отношение к цвету и пространству. Найденный художником колорит – «трехцветка», как называл ее автор (опора на основные цвета в картине – красный, желтый и синий), роднят его живопись с иконой. Яркий пример использования этой системы – символистское полотно «Купание красного коня» (1912). Тонкие, нежные цвета, наплывы одного невесомого полупрозрачного слоя на другой делают картины похожими на фрески, как, например, в картине «Полдень. Лето» (1917).
Композиции картин Петрова-Водкина строятся с учетом бинокулярного зрения (двуглазия), т. е. расширенного смотрения и, главное, с учетом сферической перспективы, что позволяет видеть перед собой объект с большим охватом пространства справа и слева52. Сферическая пространственность картин Петрова-Водкина-результат совмещения прямой (итальянской) и обратной (иконной) перспектив53. Перспективный клин такой сферической перспективы направлен к центру земли, призван преодолеть ее притяжение. «Мы уродуем, – писал Кузьма Сергеевич, – восприятие геометрией Эвклида и европейской перспективой… осилить, подчинить закон тяготения – значит осуществить планетарность… Для меня пространственность есть один из главных рассказчиков картины»54.
Зритель картин Петрова-Водкина находится вместе с художником в положении парения, наблюдает мир в условиях созерцательного удаления, когда он приобретает панорамный характер. Л. Мочалов пишет: «На земные вещи художник смотрит словно бы по возвращении из космоса. Он остро переживает радость встречи с ними, ощущая пронзительную четкость их форм, и вместе с тем эти вещи живут еще для него в каких-то "внеземных" координатах…»55. Так во «внеземных координатах» – в точке отрыва от земли и ухода в вечность оказываются солдаты в картине «На линии огня» (1916). Она была показана в 1917 г. на выставке объединения «Мир искусства», ей было посвящено множество откликов, среди которых – статья Леонида Андреева, в которой он пишет: «Единственный центр картины – фигура умирающего прапорщика. По чистосердечной простоте выражения, по силе экстаза, по мастерству рисунка я не помню другого образа „святой смерти", который можно было бы поставить в ряд с этим <…>. Он жив, он смотрит – и в то же время вы ясно видите, что он мертв, убит, что земля уже не служит опорой его ногам, что он весь в воздухе, без поддержки, как луч, что в следующее мгновение он рухнет, навсегда прильнет к сырой земле. Эта необыкновенная воздушность, этот полет на невидимых крыльях – удивительны»56.
После революции Петров-Водкин согласился сотрудничать с новой властью, даже называл себя «попутчиком революции», однако, например, в новогоднем поздравлении матери 30–31 декабря 1917 года желал: «Чтоб кончилось безделье и хулиганство на земле русской, болтовня… свою судьбу вся страна решит, творить судьбу только миром можно, а не насилием, не штыками, не тюрьмами, да не разговорами, а делом, а дело еще не делается»57. В 1918 году художник стал профессором Высшего художественного училища, впоследствии профессором Петроградской Академии художеств и председателем правления Ленинградского союза художников.
Несмотря на работу в советской академической системе, Петров-Водкин свой интерес к иконе и к религиозному искусству не скрывал. В 1919 году он создает цикл из 28 рисунков пером на сюжеты Евангелия от Иоанна, реминисценции некоторых рисунков встречаются и позже: картины «Распятие. Композиция» (1921), «Композиция» (1922) и др. Одна из центральных живописных работ Петрова-Водкина советского периода – «1918 год в Петрограде (Петроградская мадонна)» (1920), на которой изображена молодая женщина с младенцем на руках в традиционной для древнерусской живописи позе. Ее голова покрыта белой косынкой, на плечо наброшен красный плащ. Она стоит на балконе второго этажа лицом к зрителю. За ее спиной разворачивается панорама городской улицы, на которой группы людей обсуждают расклеенные в городе декреты. В окнах дома напротив разбиты стекла. Тем не менее, изображение города дышит покоем: тонкий полупрозрачный колорит работы, высокие аркады зданий города напоминают полные тишины картины кватроченто, а образ матери с ребенком на руках своими певучими плавными линиями роднит изображение с древнерусским образом Богоматери. Спокойный, возвышающийся над городом, созерцательный образ воплощает в себе дистанцию вечности по отношению к текущей истории. Образ матери с ребенком как своеобразный камертон сопровождал Петрова-Водкина на всех этапах его творчества и встречается в картинах художника совершенно разных жанров. Так, например, в фон картины «Розовый натюрморт» (1918) художник ввел графическое изображение иконы Богородицы. Образ матери находится в центре таких жанровых картин как «Мать» (1913), «Мать» (1915), «Материнство» (1925), «Мать и дитя» (1927), «Первые шаги» (1925), «Землетрясение в Крыму» (1927–1928), «1919 год. Тревога» (1934), «Новоселье (Рабочий Петроград)» (1937) и других. Кажется, что все творчество Петрова-Водкина строится вокруг темы надмирного, охраняющего человечество, материнства. Своеобразие художественного метода Петрова-Водкина, имевшее своей основой русскую икону, плохо укладывалось в общую идеологию советского искусства. После смерти художника (1939) его имя оказалось надолго вычеркнутым из истории советского искусства.
Примечания
1 См. Квливидзе Н. В. «Историография русского церковного искусства».
Цит. по: -slovo.ru/art/36080.phpPELEM ENT_ID=36080&SHOWALL_1=1 (10.02.2015).
2 Послание «От Святейшего Патриарха Тихона Совету Народных Комиссаров» (13 (26) октября 1918 г.». Цит. по: http://e-vestnik.ru/church/poslaniya_svt_patriarha/ (10.02.2015).
3 См. Квливидзе Н. В. «Историография русского церковного искусства».
Цит. по: -slovo.ru/art/36080.php7ELEM ENT_ID=36080&SHOWALL_1=1 (10.02.2015).
4 Луначарский А. В. Предисловие// Волькенштейн Владимир. Опыт современной эстетики. М.-/1.1931. С. 7. Цит. по: МазаевА. И. Искусство и большевизм. 1920–1930. М., 2004. С. 177.
5 Малевич К. Изобразительное искусство. 1919, № 1. С. 30.
6 Луначарский А. В. Статьи об искусстве. М.-Л., 1941. С. 548.
7 Крусанов А. Русский авангард, 1907–1932. Исторический обзор, в 3-х т. М. 2010. Т. 1. Кн. 1. С. 26.
8 См. Лебедянский М. С. Становление и развитие русской советской живописи. 1917-начало 1930-х гг. Л., 1983. С. 54.
9 Крусанов А. Русский авангард, 1907–1932. Исторический обзор, в 3-х т. М., 2010. Т. 1. Кн. 1C. 8.
10 Матюшин М. Русские кубо-футуристы // Харджиев Н. И. Статьи об авангарде, в 2-х т. М., 1997. Т. 1. С. 152.
11 Из письма Малевича Матюшину. Цит. по: Ковтун Е. Ф. «Победа над Солнцем» начало супрематизма // Наше наследие. 1989. № 2 (8). С. 121–127.
12 Яхнин А. Л. Антиискусство. Записки очевидца. М., 2011. С. 225.
13 Крусанов А. Русский авангард, 1907–1932. Исторический обзор, в 3-х т. М., 2010. Т. 1. Кн. 1. С. 20.
14 Гройс Б. Репетиция революции: еще раз о русском авангарде. Доклад г. Эйндховен, 2010. Цит. по: /.
15 Малевич М. Цит. по Крусанов А. Русский авангард, 1907–1932. Исторический обзор, в 3-х т. М., 2010. Т. 1. Кн. 1. С. 27.
16 Малевич К. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т. 5. М., 2004. С. 133.
17 Там же. С. 229–230.
18 Там же. С. 229–230.
19 Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма, документы, воспоминания, критика. Т. 1. М., 2004. С. 37.
20 Иньшаков А. Н. Между культурой и хаосом. Идеи русского символизма в контексте искусства авангарда // Коваленко Г. Ф. (ред.): Символизм в авангарде. М., 2003. С. 46.
21 Шатских А. С. Казимир Малевич. М., 1996. С.
22 Малевич К. Собрание сочинений в 5-ти т. Т. 5. М., 2004. С. 92
23 Робинсон Э. Апофатическое искусство Казимира Малевича // Человек. 1991. № 5. С. 64.
24 Маркадэ Ж.-К. От Малевича до Родченко: первые монохромы XX века (1915–1920) // Малевич К. Классический авангард. Витебск. 5. Витебск, 2002.
25 Бычков, В. В. Книга неклассической эстетики. М., 1998. С. 58–75.
26 Там же.
27 Там же.
28 Яхнин А. Л. Антиискусство. Записки очевидца. М., 2011.
29 Яхнин А. Л. Несколько слов против иконологии авангарда. Цит. по: http://www. pravoslavie.ru/jurnal/54042.htm (10.02.2015).
30 Малевич К. Собр. соч. в 5-ти т. / Общ. ред. А. С. Шатских. М., 1995. Т. 1. С. 277.
31 Хлебников, Велимир. Творения. Общ. ред. и вст. ст. М. Я. Поляковой. Сост., подг. текста и комм. В. П. Григорьева и А. Е. Парниса. М., 1987. С. 701.
32 Типографский буклет «Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков «Сделанные картины». 1914. Цит. по: Harten, Jurgen und Petrowa, Jewgenija (Hrsg.): Pawel Filonow und seine Schule: Stadtische Kunsthalle Dusseldorf, 15. September II. November 1990. Koln 1990. S. 71.
33 Цит. по: Филонов. Художник. Исследователь. Учитель. В 2-х т. М., 2006.
34 Филонов П. Н. Дневник. СПб., 2000.
35 Глебова Т. Н. Воспоминания о Павле Николаевиче Филонове // Филонов: Художник. Исследователь. Учитель. В 2-х т. М., 2006. С. 309.
36 См. Курбановский А. А. Незапный мрак. СПб., 2007. С. 238.
37 Курбановский А. А. Незапный мрак. СПб, 2007. С. 240.
38 Толстой А. Цит. по: Поспелов Г. Г. Русское искусство начала XX века: Судьба и облик России. М., 1999. С. 99.
39 Цит. по: Вакар Ирина. Между Востоком и Западом. Искусство и судьба Наталии Гончаровой / «Наше Наследие», № 109, 2014.
40 Там же.
41 Там же.
42 Наталья Гончарова. Альбом (1911?) Цит. по: Цит. по: Вакар Ирина. Между Востоком и Западом. Искусство и судьба Наталии Гончаровой / «Наше Наследие». № 109. 2014.
43 Поспелов Г. Г. Русское искусство начала XX века: Судьба и облик России. М., 1999.
44 Цит. по: Вакар Ирина. Между Востоком и Западом. Искусство и судьба Наталии Гончаровой/«Наше Наследие». № 109. 2014.
45 Цит. по: / (10.02.2015).
46 См. / (10.02.2015).
47 Цит. по: Поспелов Г. Г. Русское искусство начала XX века: Судьба и облик России. М., 1999. С. 85.
48 Стенограмма выступления К. С. Петрова-Водкина на творческом самоотчете в ЛОСХе. Цит. по: Кутковой В. Неузнанный К. С. Петров-Водкин. К 130-летию со дня рождения художника. URL: #_ftn41 (10.02.2015).
49 Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. Составитель Е. Н. Селизарова. М.: Советский художник, 1991. С. 46–47.
50 Петров-Водкин К. С. Путь художника // Советское искусство. М., 1936.17 ноября. N9 53/339. Цит. по: Цит. по: Кутковой В. Неузнанный К. С. Петров-Водкин. К 130-летию
со дня рождения художника. URL: #_ftn41 (10.02.2015).
51 Вечер встречи с художником Петровым-Водкиным 9 декабря 1936 года. Стенографический отчет. Цит. по: Кутковой В. Неузнанный К. С. Петров-Водкин. К 130-летию со дня рождения художника. URL: #_ftn41
(10.02.2015).
52 Губанов Г. П. «Живопись К. С. Петрова-Водкина как символическая форма бессмертия» // Материалы VI Научной конференции «К. С. Петров-Водкин: от мизансцены Хвалынска к планетарному масштабу».
53 Там же.
54 Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. Составитель Е. Н. Селизарова. М.: Советский художник, 1991. С. 296.
55 Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. С. 316. Цит. по: Грибоносова-Гребнева Е. Творчество К. С. Петрова-Водкина и западноевропейские «реализмы» 1920-1930-х. М., 2010. С. 45.
56 Круглов В. Искусство эпохи «забытой» войны // Первая мировая война. 1914–1918 / Альманах. Вып. 413. СПб., 2014.
57 Петров-Водкин К. С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. Составитель Е. Н. Селизарова. М.: Советский художник, 1991. С. 200.
От авангарда к соцреализму: ценностный аспект Е. В. Жданова
В 1924–1925 годах началась активная дискуссия о формализме в советском художественном творчестве, в ходе которой авангардистские группы были подвергнуты сокрушительной критике. Главная роль в этом начинании отводилась искусствоведами Ленину, поклоннику реализма, который неоднократно негативно высказывался об абстрактном искусстве: «Я имею смелость заявить себя „варваром“. Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих „измов“ высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости»1. Наркомпрос Луначарский в 1924 году писал: «У Ленина было очень мало времени в течение его жизни сколько-нибудь пристально заняться искусством, и так как ему всегда был чужд и ненавистен дилетантизм, то он не любил высказываться об искусстве. Тем не менее вкусы его были очень определенны. Он любил русских классиков, любил реализм в литературе, в театре, в живописи и т. д.»2. Луначарский вспоминал, например, как он с Лениным и Каменевым поехал на выставку проектов памятников «на предмет замены фигуры Александра Третьего, свергнутой с роскошного постамента около храма Христа-Спасителя»3. «Когда Ленина спросили об его мнении, он сказал: „Я тут ничего не понимаю, спросите Луначарского“. На мое заявление, что я не вижу ни одного достойного памятника, он очень обрадовался и сказал мне: „А я думал, что вы поставите какое-нибудь футуристическое чучело“4.
Изначальной позицией Ленина было убеждение в том, что искусство должно ориентироваться не на пролетариат, а на партию пролетариата и провозгласил партийность литературы и искусства первой заповедью социалистической культуры5. Еще в 1905 году Ленин восклицал в статье «Партийная организация и партийная литература», напечатанной в легальной большевистской ежедневной газете «Новая жизнь», выходившей в Петербурге на средства Горького: «Долой литераторов сверхчеловеков!.. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной, социал-демократической партийной работы!»6.
Запоздалая война с художниками-«сверхчеловеками» началась с планомерного подрыва позиций авангарда, ликвидации отдельных художественных группировок и поддержке реалистов. В 1929 г. запрещена персональная выставка Павла Филонова в Русском музее, арестован недавно вернувшийся из Берлина Казимир Малевич. Борис Гройс видит, однако, во главе борьбы с авангардом и движения к социалистическому реализму не заветы Ленина, а амбиции Сталина, одержимого «художественно-политическо-космологическим проектом преобразования мира», близким по сути интенциям авангарда: «Претензии художников-авангардистов на вакантное место всеобщего творца опоздали -
Константин Юон
Выдающийся мастер, принадлежавший одновременно русской и советской культуре, – Константин Юон. Ученик Константина Коровина и Валентина Серова, русский «импрессионист», член объединения «Мир искусства», Юон эстетически революцию не принял. Творения русского авангарда были ему чужды. Скептическим ответом художника русскому авангарду можно назвать нехарактерную для него, почти футуристическую картину «Новая планета» (1921), посвященную Октябрьской революции. Она изображает фигуры гибнущих мятущихся людей на фоне космической катастрофы.
Юона угнетало отсутствие образа и мимесиса в искусстве авангарде, он писал: «Искусство самого последнего времени <…> в России стало на одностороннюю узко-формальную почву, лишившись почти какой бы то ни было связи с живой жизнью, как бы сторонясь всего зрительного мира, самого дорогого источника радостей нашего бытия. Этим самым искусство сделалось бездушным и холодным <…> стало искусством безобразным и потому безобрАзным»11.
В красоте русской природы и русской культуры Юон видел источник художественного вдохновения и после 1917 г. Тогда художник продолжал писать яркие праздничные пейзажи, в которых нет и намека на лихорадку революций («Июль. Купание» (1925), «Конец зимы. Полдень» (1929)). Особенно привлекала Юона красота Троице-Сергиевой лавры. Многочисленные картины художника дореволюционной поры были посвящены ей («Весенний солнечный день» (1910), «Весна в Троицкой лавре» (1911), «Вид Троицкой лавры» (1916) и др.).
В начале 1920-х годов Юон торопился запечатлеть виды Троице-Сергиевой Лавры в разгар антицерковной кампании. Его живописные работы «Купола и ласточки. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры» (1921), «Троице-Сергие-ва Лавра. Зимой» (1920), «Зима. Черные березы. Сергиев Посад» (1921), «Трапезная Троице-Сергиевой лавры» (1922), «День Благовещения» (1922), альбом литографий «Сергиев Посад» (1923) и другие изображают картины посадской и лаврской жизни, в которых художник не дал и намека на голод и разруху тех лет. Напротив – праздничный колорит живописи Юона и стройная гармония его литографий оставляют надежду на неугасимость церковной жизни. Как пишет Поспелов, «в изображениях церквей у Юона <…> ощущение "соборного тела" России»12. Уже с конца 1920-х Юон больше не мог позволить себе такой смелости – любимые им образы древне-русской архитектуры встречаются только в исторических композициях («Перед вступлением в Кремль в 1917 году. Троицкие ворота» (1927)) или в театральной декорации («Хованщина», 1940). В эпоху социалистического реализма талант Юона был крайне востребован, художник был награжден Сталинской премией за многолетние достижения в искусстве.
Игорь Грабарь
В деле сохранения русского христианского наследия в советские годы трудно переоценить труд Игоря Грабаря. Талантливый живописец, член художественного объединения «Мир искусства», историк искусства, накануне революций возглавивший Третьяковскую галерею, с 1918 г. стал работать в Отделе по делам музеев и охраны памятников искусства и старины при Наркомпросе. Фактически на Грабаря было возложено комплектование государственного музейного фонда, в т. ч. из национализированных частных, церковных и монастырских коллекций и их реставрация. Брошюра Грабаря «Для чего надо охранять и собирать сокровища искусства и старины» (1919), призывавшая употребить научный подход к христианским памятникам, сыграла важную роль в деле спасения христианской русской культуры в годы воинствующего атеизма. Грабарь инициировал создание Комиссии по реставрации памятников иконописи и живописи, которая в 1924 г. была преобразована в Центральные государственные реставрационные мастерские. Под руководством Игоря Грабаря были раскрыты икона Божией Матери Владимирской, Звенигородский чин, Де-исусный чин Благовещенского собора, праздничные чины кремлевского Благовещенского и Троицкого лаврского соборов, фрески Успенского и Димитриевского соборов г. Владимира, художник принимал непосредственное участие в реставрации иконы «Троица» Андрея Рублева. В период 1920–1927 гг. Грабарь организовал 15 научно-художественных экспедиций, в ходе которых была обследована живопись Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и Андроникова монастырей, а также фресок в Пскове, Новгороде, Звенигороде и других городах, им был сформирован советский коллектив исследователей древнерусского искусства. При этом художник работал как историк искусства (за что был награжден Сталинской премией), не оставлял собственного художественного творчества. Вместе с написанием заказных официальных картин (например, «В. И. Ленин у прямого провода» (1927–1933)) художник занимался реабилитацией лирического пейзажа в советском искусстве, практиковал «натюрмортную зарядку», как он ее сам называл. В 1920-1930-е годы он создал целый ряд выдающихся пейзажных и натюрмортных живописных работ («Иней» (1918, 1919), «Сийский монастырь» (1920), «Красные яблоки на синей скатерти» (1920) и др.), которые своей живой эстетикой, буквально по слову Мандельштама, «утоляли духовный голод»13 в условиях политизированной художественной культуры советских лет.
Михаил Нестеров
Один из самых ярких художников русского модерна, певец Святой Руси, художник-монументалист и автор многочисленных росписей храмов Михаил Нестеров нашел себя после революции в портретной живописи. Он очень тяжело переживал события 1917 года, писал: «Пережитое за время войны, революции и последние недели так сложно, громадно болезненно, что ни словом, ни пером я не в силах всего передать. Вся жизнь, думы, чувства, надежды, мечты как бы зачёркнуты, попраны, осквернены. Не стало великой, дорогой нам, родной и понятной России. Она подменена в несколько месяцев. От её умного, даровитого, гордого народа – осталось что-то фантастическое, варварское, грязное и низкое… Все провалилось в тартарары. Не стало Пушкиных, нет больше Достоевских и Толстых – одна черная дыра, и из нее валят смрадные испарения „товарищей“ – солдат, рабочих и всяческих душегубов и грабителей…»14
После большевистского переворота все церковные заказы художника сошли на нет. Нестеров стал работать в жанре портрета (за работы в области портретной живописи в 1941 году он стал лауреатом Сталинской премии первой степени). Художник тщательно выбирал героев своих портретов, говорил: «Я избегал изображать сильные страсти, предпочитая им скромный пейзаж, человека, живущего внутренней духовной жизнью в объятиях нашей матушки-природы. И в портретах моих, написанных в последние годы, меня влекли к себе те люди, благородная жизнь которых была отражением мыслей, чувств, деяний их…»15. В 1917 году художником была написана картина «Философы» – двойной портрет Павла Флоренского и Сергея Булгакова, в 1921–1922 гг. – картина «Мыслитель» – портрет философа Ивана Ильина. Среди выдающихся работ Нестерова поздней поры – портреты художников П. Д. Корина (1925), В. М. Васнецова (1925), «Портрет хирурга С. С. Юдина» (1933), «Портрет скульптора И. Д. Шадра» (1934), «Портрет академика И. П. Павлова» (1935) и другие.
Тема Святой Руси оставалась для Нестерова после революции животрепещущей, но во времена гонений на Церковь он был вынужден скрывать свои религиозные работы от широкой публики. Художник продолжал писать картины с религиозными сюжетами «в стол», на некоторых проставляя для конспирации дореволюционные даты. Иногда такие картины все-таки экспонировались. Так, в 1922 году на XVII выставке Союза русских художников Нестеров демонстрировал картину «Тихие воды», на которой изображена лодка со святым и иноком, скользящая по глади озера на фоне северного пейзажа. В 1923 году художник работал над этюдами в Троице-Сергиевой Лавре, где жил у отца Павла Флоренского.
Поздние картины Нестерова с религиозными сюжетами посвящены теме покаяния. В 1933 году художник создал символическую картину «Страстная седмица», на которой изображены молящиеся перед Распятием люди, среди которых писатели Гоголь и Достоевский. В том же году художником была написана картина «Отцы-пустынники и жены непорочны», отсылающая зрителя к стихотворению Пушкина о великопостной покаянной молитве. На этой картине Нестеров изобразил странников-старцев и девушек-белиц в старообрядческом платье. Со свечами девушки удаляются от старообрядческого могильного креста, установленного на берегу озера.
Несмотря на скорбь по уходящей Святой Руси, художник верил в духовное воскресение Родины. Он писал: «Через Крестный путь и свою Голгофу Родина наша должна прийти к своему великому воскресению»16.
«Реквием» Павла Корина
Особенным явлением в послереволюционные годы стала работа Павла Дмитриевича Корина, ученика Нестерова, над циклом «Русь уходящая» (авторское название «Реквием»). Молодой палехский иконописец Корин задумал после революции масштабное полотно, которое должно было, по его словам, запечатлеть Церковь, вышедшую на «последний парад». Идея этой картины оформилась после кончины патриарха Тихона в 1925 году и всенародного, несмотря на гонения, прощания с ним. Участником прощания был и Павел Корин. 12 апреля 1925 года в своей записной книжке художник отметил: «Донской монастырь. Отпевание патриарха Тихона. С высокого входа собора видно было: вдали по ограде монастыря несли гроб, шло духовенство. Народа было великое множество <…>. В стороне сидел слепой и с ним мальчишка лет тринадцати, мальчишка держал чашку, куда ему клали семишники и пятаки. Они пели какой-то старинный стих, каким-то странным старинным напевом <…>. Помню слова: «Сердца на копья поднимем»17. Эти слова стали своего рода внутренней характеристикой образов священников и паствы, которых задумал запечатлеть Корин на своем историческом полотне. Сначала художник, следуя своим впечатлениям от увиденного в Донском монастыре, задумал композицию шествия, крестного хода (набросок 1925 года). В дальнейшем он перешел к идее предстояния духовенства и паствы в пространстве Успенского собора Московского Кремля (эскиз 1935–1959)18.
Корин решил писать свой «документальный» «Реквием» без натурщиков, с реальных церковных людей, которых приводил к себе в мастерскую на арбатский чердак. В период с 1929 по 1934 год Корин создал более двадцати реалистических портретов-этюдов крупного формата (некоторые в полторы натуры), среди которых – образы митрополитов, архиепископов, монахов и монахинь, нищих и простых верующих (в общей сложности было написано 29 портретов, последний в 1937 году). Удивителен сам факт того, что в разгар гонений на Церковь молодому художнику удалось портретировать пастырей и архипастырей русской православной Церкви. Это оказалось возможным благодаря согласию позировать для «Реквиема» митрополита Трифона (в миру князя Б. П. Туркестанова), проповедника и богослова, которого верующие чтили как духовного лидера православной Москвы. В дальнейшем, узнавая о благословении владыки Трифона, по приглашению Корина в мастерскую приходили позировать известные деятели Церкви, среди которых митрополит Сергий (будущий патриарх), молодой иеромонах Пимен (будущий патриарх), архиепископ Владимир (в миру В. Г. Соколовский-Автономов, один из крупнейших иерархов Русской православной Церкви за границей, проповедник и богослов); протодиакон Михаил Кузьмич Холмогоров (выдающийся исполнитель духовной музыки и оперных партий, входивший в художественную и артистическую среду Москвы), протоиерей Сергий (С. М. Успенский-младший, будущий священномученик Русской православной Церкви), будущий преподобномученик иеромонах Федор (в миру О. П. Богоявленский), схимницы, монахи, священники.
Портретов мирян для «Реквиема» Корин создал значительно меньше, всего несколько ярких образов. Это двойной портрет мастеровых, художников, реставраторов Сергея Михайловича и Степана Сергеевича Чураковых, женский тройной портрет, на котором изображены Софья Михайловна Голицына и Мария Николаевна Елагина с неизвестной монахиней, этюды нищего, слепца Данилы и старика Гервасия, призванные создать обобщенный образ паствы.
Жена художника П. Т. Корина отмечала, что работал Павел Дмитриевич с большим вдохновением: «Кончит один этюд, наметит другой, и начинаются уговоры, переговоры, тащит к себе на "чердак" очередную натуру»19. Писал Корин быстро, в несколько сеансов, стараясь сразу схватить главное – лицо. После окончания очередного этюда Павел Дмитриевич приглашал М. В. Нестерова, который этюды хвалил, говорил, что «они сами по себе художественная ценность»»20. В 1931 году мастерскую посетил нарком просвещения А. В. Луначарский и другие «высокие» гости. Судьбоносным стал визит А. М. Горького, который поддержал «Реквием» Корина и стал покровителем художника. Писатель предложил «дать картине паспорт» с именем «Уходящая Русь», что фактически и позволило Павлу Дмитриевичу продолжать работу над «антисоветской» темой на протяжении многих лет и быть, при этом, известным в партийных кругах. Горький помог и в строительстве новой мастерской в Москве. В 1934 году переезд в нее был осуществлен. Писатель напутствовал Корина: «Вы накануне написания замечательной картины. Напишите ее, слышите, обязательно напишите! Вот большая мастерская, пишите, ни о чем не заботьтесь»21. Нестеров, посетив новую мастерскую, сказал: «От всей души желаю, чтобы вы написали одну из значительнейших картин русской живописи»22.
Масштабная картина, однако, так и не была написана. В мастерской мастера на Малой Пироговской улице долгие годы стоял подготовленный нетронутый кистью холст размером 5,51 на 9,41 м. Сам художник объяснял «неудачу» тяжелыми обстоятельствами в тот период, когда он был более всего готов приступить к «большой картине». Действительно, после смерти Горького в 1936 году «обстоятельства» ожидаемо изменились. Мастерскую художника посетила Комиссия по делам искусств, в результате чего Сталину было направлено письмо:
«Секретарю ЦК ВКП (б) – т. Сталину И. В. т. Андрееву А. А.
Подготовка П. Корина к основной картине выражается в сотне эскизов, натурщиками для которых служат махровые изуверы, сохранившиеся в Москве, обломки духовенства, аристократических фамилий, бывшего купечества и пр. Он утверждает, но весьма неуверенно, что вся эта коллекция мракобесов собрана им для того, чтобы показать их обреченность. Между тем никакого впечатления обреченности, судя по эскизам, он не создает. Мастерски выписанные фанатики и темные личности явно превращаются в героев, христиан-мучеников, гонимых, но не сдающихся поборников религии.
Наши попытки доказать ему ложность взятой им темы пока не имели успеха, так как он находил поддержку у некоторых авторитетных товарищей. Прошу Вашего указания по этому вопросу. Зам. Зав. Культпросветотдела ЦК ВКП (б): А. Ангаров. 8.XII. 36»23.
Мгновенно в прессе появились статьи с резкой критикой художника, были сняты его картины из экспозиции Третьяковской галереи, Корина стали избегать. Позже, когда он стал снова востребован, сил на создание «Руси уходящей», по его словам, уже не хватало: он сочетал карьеру художника со службой реставратора живописи в ГМИИ. Много сил отняла работа по оформлению станций кольцевой линии московского метрополитена (за которую он был награжден Сталинской премией).
Тем не менее, Корин не оставил окончательно работы над «Реквиемом». На протяжение всей жизни он продолжал уточнять композицию картины. Ее эскиз, датированный 1935–1959 гг., позволяет проникнуть драматургию задуманного полотна. События «Руси уходящей» разворачиваются в пространстве Успенского Собора Московского Кремля. В центре картины, на амвоне, – три патриарха – Тихон, Сергий и Алексий, современником которых был Корин. Перед ними стоят митрополит в красном пасхальном облачении и архидиакон вздымающий вверх кадило. Вокруг этой центральной группы сплотились духовенство и паства. Все фигуры обращены к входу в храм и «прижаты» к стене – за ними лики иконостаса. Такая композиция явно говорит о том, что это не молитвенное предстояние, обращенное к алтарю, и, конечно, не Церковь, вышедшая на парад, – это Церковь, готовая принять бой. Предстоящие заслоняют собой святыни от поругания и готовы встретить врага лицом к лицу. В свинцовой палитре эскиза слышен и набат, и грозовая напряженность. Как нельзя лучше поясняют эскиз слова в записной книжке Корина: «Вечер. Колокольный звон. «Реквием» Берлиоза. Помни День гнева. Какое величие! Вот так бы написать картину. День гнева, день суда, который превратит мир в пепел»24.
К сожалению, коринский «апокалипсис» остался только в эскизах. Цикл портретов, в сущности, составил коллективный образ уходящей в вечность Церкви.
Вглядываясь в лица и фигуры на этюдах, зритель может попробовать вообразить реальных современников послеоктябрьских событий.
Схимницу мать Серафиму из Ивановского монастыря в Москве и схимника отца Агафона Корин изобразил во время молитвенного делания. Их склоненные фигуры демонстрируют духовную сосредоточенность. В левой руке мать Серафима держит четки, крест и зажженную свечу, правой совершает крестное знамение. Ее бесстрастное лицо выражает отрешенность. Прасковья Тихоновна Корина вспоминала, что во время паузы для отдыха в мастерской хотела взять у схимницы крест из рук, но не смогла – он был раскален пламенем свечи. Мать Серафима не заметила этого во время молитвы. Низко опущена голова отца Агафона. Темные холодные тени легли на лицо будущего преподобномученика. Его освещают отблески горящей в руках свечи.
Полную противоположность представляет открытое молодое лицо будущего преподобномученика иеромонаха отца Федора, который с высоко поднятой головой спокойно смотрит перед собой. Впоследствии Корин изобразил его в образе молодого русского воина в триптихе «Александр Невский». Спокойную твердость воплощает прямая фигура схиигумена Митрофана, который крепко сжимает в правой руке крест. Нахмурены брови и опущены долу глаза отца и сына на двойном портрете. Последние этюды цикла после 1935 года (двойной портрет иеромонаха Пимена и епископа Антонина, портрет митрополита Сергия и несколько других) отличает фронтальное положение фигур и прямой взгляд портретируемых, устремленный на зрителя.
Осознавая ценность портретов и набросков к «Руси Уходящей», художник говорил жене: «Этюды мои стали как бы документами эпохи»25. Можно ли воспринимать цикл как документ? Скорее, как документ художественный. В первую очередь, нужно помнить о том, что Корин задумал «Реквием» не как групповой портрет, но как емкий драматический образ погибающей Церкви. Отсюда, одновременно академическая и экспрессивная манера исполнения этюдов, разнообразие в постановке фигур, которые должны были составить общий ансамбль. Трудно сказать, насколько соответствуют коринские образы реальным личностям портретируемых. Увлеченность мастера формой и цветом сделала образы полными пафоса, как того и требовал замысел будущего полотна. Герои «Реквиема» полны торжественности и драматизма. Они поражают зрителей своей пластической мощью. Один из партийных гостей мастерской заметил: «Ваши герои имеют осанку ту, которая была свойственна людям эпохи Возрождения, ваши и митрополит, и монахи, и нищие, и слепые – все проходят под фанфары»26.
Наряду с этим, образам на этюдах не хватало света одухотворенной плоти, что подмечали и советские критики, и верующие современники художника. Н. М. Любимов, который был хорошо знаком со многими героями коринской «Руси» писал, в частности, о портрете Холмогорова: «Холмогоров был высокого роста, с большой головой, рыжеватыми волосами и бородой. Он был некрасив, но некрасивость не портила его, – таким обаянием он был наделен, такое излучал он душевное тепло. Вот этого обаяния и тепла не сумел передать Павел Корин, писавший Холмогорова несколько раз»27. Любимов даже цитирует Сервантеса для пояснения своего впечатления от портрета: «Прими в рассуждение, Санчо, – наставлял Дон Кихот Санчо Пансу, – что есть два рода красоты: красота духовная и красота телесная. Духовная красота сказывается и проявляется в ясности ума, в целомудрии, в честном поведении, в доброте и в благовоспитанности, и все эти свойства могут совмещаться и сосуществовать в человеке некрасивом…» Вот эту духовную красоту Холмогорова, этот свет, изнутри озарявший и облагораживавший топорность его черт, Корин оказался бессилен передать на полотне»28.
Корин старался максимально приблизиться к натуре, по его словам, писал то, что видел. «Я более груб и менее лиричен, но ничего не поделаешь. Сейчас нельзя писать так, как писали наши предки»29, – объяснял свою позицию Павел Дмитриевич. Излишняя «плотскость» образов и «документализация» дали советским критикам богатую почву для интерпретаций. «Перед нами – хмурые монахи и неистовые богомолки, надменный архимандрит и иссохшая игуменья, похожий на лешего юродивый и мрачные схимницы. Все в целом производит впечатление многоликого и многоголосого хора, поющего какую-то страшную, похоронную песнь»30, – делится своими впечатлениями от портретного цикла Л. С. Зингер. «На этюдах к „Уходящей Руси“ священнослужители, монахи, схимники, калеки. В их лицах-ни надежды, ни смирения. Они горят экстазом веры, проклятьем»31, – пишет об образах «Реквиема» С. Н. Разгонов, вспоминая далее умиротворенный мир монашества в работах М. В. Нестерова. Г. Г. Поспелов также сравнивает работы Нестерова и Корина: «Мы видели, что среди персонажей раннего Нестерова преобладали образы юности – незащищенной и гибкой, как отрок Варфоломей или идущий впереди толпы подросток из „На Руси“, или аскетической старости, как на картинах „Пустынник“, „Молчание“ и некоторых других. В советские годы персонажи Нестерова все более сдвигались к упрямому „стариковскому“ или, еще шире, негнущейся и сильной решимости <…>. Корин довел эту традицию до эксцесса. <…> В упрямстве коринских персонажей впечатление омертвения достигало устрашающего финала. <…> И вместе с тем в обоих циклах – печать человеческого величия – величия, отстаиваемого крестной ценой»32.
Продолжая эту мысль, можно сказать, что коринский «Реквием» – финальная фаза той живописной традиции, которая много ранее сделала методологическую ошибку в изображении Духа – речь идет о религиозной живописи Ренессанса. Ее попытки через мимесис земного мира изобразить духовные феномены, неизбежно сталкивались с вытеснением в изображении «духовного» «чувственным». То, что Корину мир античного пафоса и трагического накала гениев Возрождения был крайне близок, не вызывает никаких сомнений, он об этом многократно говорил: «Я в меру своих сил мечтаю подняться к высотам Эсхила, Софокла, Пергамского алтаря, Данте, Микеланджело и Иванова»33. Особенно очевидным противоречие формы и содержания становится в случае попытки изобразить феномены святости и исповедничества художественными средствами античности и его Возрождения.
На вопрос «как следует изобразить российских исповедников веры?», прозвучавший в коринском «Реквиеме», следует ответ русской изобразительной традиции: их изображение обретает полноту только в иконе. Корина, верующего человека, иконописца, возможно, останавливало от написания «большой картины» именно понимание того, что академическая манера не в состоянии передать дух православия. На месте, обозначенном в русском искусстве белым грандиозным полотном «Реквиема», должна была со временем появиться икона Собора святых новомучеников и исповедников Российских, не мертвых, но живых в вечности, чьими молитвами христианская тема в русской культуре не иссякает.
* * *
Подведём итог сказанному. В период с 1917 по 1934 год в изобразительном искусстве России ярко отразились метаморфозы предреволюционного и постреволюционного общественного сознания. С приходом к власти большевиков целенаправленному уничтожению христианской художественной культуры сопутствовал скорый поиск новой атеистической эстетики. Первыми ее создателями стали художники левого толка, сформировавшие «авангард искусства», призванный осуществить эстетическую революцию. Главной интенцией этого направления был отказ от мимесиса Божьего мира и поиск таких художественных форм, которые должны были соответствовать атеистической установке сознания и вере в научно-технический прогресс. «Художники-демиурги открыто претендовали на место Творца в новой художественной вселенной. Провозгласив формулу: „Бог мертв“, авангард тем самым отвергал изображение мира как произведение божественного промысла…»34. В основном, творчество авангардистов было инспирировано анархически-бунтарскими настроениями, идеями космизма, увлеченностью эзотерическими учениями, поиском «новой духовности» без Христа. Тем не менее, выросшие в окружении христианской культуры творцы «новых эстетик» активно использовали знакомые им христианские мотивы, символы и художественные приемы христианского искусства для создания собственных художественных систем.
В середине 1920-х годов поддержанный большевиками проект эстетической революции был свернут. Под эгидой «борьбы с формализмом» советской властью было инициировано возвращение традиционных «миметических» художественных форм «в массы». Значимые в художественном авангарде фигуры лишились возможности активного участия в художественной жизни страны. Теперь советским руководством делалась ставка на классическую изобразительную традицию с партийным идейным наполнением, результатом чего стало возникновение масштабного направления в советском изобразительном искусстве – социалистического реализма. В рамках этого движения были поддержаны реалисты «старой» школы, которые эстетически не приняли революцию, в первые послереволюционные годы ушли с художественной сцены в тень и нашли себя в академической системе и музейном деле (К. Юон, И. Грабарь, К. Петров-Водкин, В. Фаворский, М. Нестеров, П. Корин и другие). Эти художники, сотрудничая с новой властью, изыскивали любые возможности для того, чтобы поддержать русскую культуру в рамках советской идеологии. Образы, созданные этими мастерами вне политического заказа после революции, являются ярким тому примером: это портреты русских философов Нестерова, образы матерей Петрова-Водкина, цикл портретов служителей и чад Церкви Корина, величественность древнерусских храмов в композициях Юона, поэзия пейзажей русской природы Грабаря. Их деятельность, во многом, смыкала традиции русского дореволюционного искусства и советской художественной культуры.
В целом, в позиции этих художников можно увидеть продолжение вынужденной политики Церкви тех лет, в которой ради сохранения легального положения, сохранения возможности приступать к таинствам и сохранения непрерывности апостольского преемства в России приходилось идти на всевозможные компромиссы с советской властью, не уступая, однако, в главном – в верности Богу, что запечатлено подвигом многочисленных новомучеников и исповедников веры в этот исторический период.
Символично и то, что спектр обращения к христианской теме русского изобразительного искусства 1917–1934 гг. варьируется от «Черного квадрата» Малевича до белого полотна «Реквиема» Корина. И если «Черный квадрат» явил собой образ пепла и разрушения русской христианской культуры, то белый холст «Реквиема» Корина стал своеобразным символом надежды на ее возрождение, завещанный потомкам.
Примечания
1 Zetkin Clara. Leben und Lehren einer Revolutionarin. Berlin, 1949. S. 52–54.
2 Цит. по: Фишер Луис. Жизнь Ленина: В 2-х т. М., 1997. Т. 2
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Газета «Новая Жизнь» № 12. 13 ноября 1905 г.
7 Гройс Б. Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда // Вопросы литературы. 1992. Вып. 1. С. 43–45.
8 Борьба за реализм в изобразительном искусстве 20-х годов. Материалы, документы, воспоминания (Под общей ред. П. И. Лебедева). М., 1962. С. 83.
9 Луначарский А. В. Этюды. С. 38, 66. Цит. по: МазаевА. И. Искусство и большевизм. 1920–1930. М., 2004. С. 177.
10 Луначарский А. В. Об изобразительном искусстве. Т. 1. М., 1967. С. 309.
11 Юон К. Ф. Непреходящие ценности в живописи (Элементы художественности) // Искусство. 1923. № 1. С. 262. Цит. по: Мазаев А. И. Искусство и большевизм. 1920–1930. М., 2004.
12 Поспелов Г. Г. Русское искусство начала XX века: судьба и облик России. М., 1999. С. 32.
13 Мандельштам О. Э. «Яблоки, хлеб, картофель ныне утоляют не только физический, но и духовный голод». Слово и культура. – О. Э. Мандельштам об искусстве. М., 1995.
14 Цит. по: Минаков С. Вестник о русском Христе. Полтора века Михаила Нестерова // «Сибирские огни». 2012. № 8.
15 Нестеров М. В. Давние дни: встречи и воспоминания / М. В. Нестеров; подгот. текста, введ. и примеч. К. Пигарева. М., 1959. С. 3.
16 Цит. по: Минаков С. Вестник о русском Христе. Полтора века Михаила Нестерова //«Сибирские огни». 2012. № 8.
17 Цит. по: Павел Корин. РЕКВИЕМ. К истории «Руси Уходящей» / Гос. Третьяковская галерея. М., 2013. С. 52.
18 См. Александрова Н. А., Головина В. П. «РЕКВИЕМ» как художественный проект Павла Корина. К истории создания «Руси уходящей» // Павел Корин. РЕКВИЕМ. К истории «Руси Уходящей» / Гос. Третьяковская галерея. М., 2013. С. 13.
19 Цит. по: П. Д. Корин об искусстве. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Сост. Н. Н. Банковский. М., 1988. С. 114.
20 Там же. С. 115.
21 Там же. С. 120.
22 Там же. С. 119.
23 Цит. по: Копировский А. М. По ком звучит «Реквием»? // «Русский мир». 2012. № 8. С. 30.
24 Цит. по: П. Д. Корин об искусстве. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Сост. Н. Н. Банковский. М., 1988. С. 13.
25 Цит. по: Корина П. Т. Павел Корин. Л., 1972. С. 15.
26 Цит. по: П. Д. Корин об искусстве. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Сост. Н. Н. Банковский. М., 1988. С. 115.
27 Любимов Н. М. Неувядаемый цвет. Т. 3. М., 2011.
28 Любимов Н.М. Неувядаемый цвет. Т. 3. М., 2011.
29 Цит. по: Л. С. Зингер. Из бесед с П. Д. Кориным. Корин в письмах и воспоминаниях // П. Д. Корин об искусстве. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Сост. Н. Н. Банковский. М., 1988. С. 145.
30 Зингер Л. С. Портреты Павла Корина // Творчество. 1963, № 3. С. 1, 2.
31 Разгонов С. Н. Рассказы о художниках. Высота. Жизнь и дела Павла Корина. М., 1978. С. 47.
32 Поспелов Г. Г. Русское искусство начала XX века: судьба и облик России. М., 1999. С. 117.
33 Корина П. Т. Павел Корин. Л., 1972. С. 12.
34 Гройс Б. Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда // Вопросы литературы. 1992. Вып. 1. С. 43–45.
Театр
Театральная культура России после катастрофы М. Н. Любомудров
Театральный Октябрь
В 1917 году Россия пережила катастрофу, неслыханную по своим масштабам и разрушительным последствиям. В вариантах определения этой катастрофы – «революция для России», «Россия для революции», «революция против России» – наиболее авторитетные современные историки сходятся на диагнозе: совершившаяся революция была против России (см. труды И. Я. Фроянова, О. А. Платонова, А. С. Панарина и др.).
После Октябрьского переворота весь прежний строй русской жизни подлежал уничтожению до основания: государство, правопорядок, армия, образование, культура, наука, экономика. Ликвидации подлежали целые классы. Начатый антирусский геноцид направили прежде всего против высших слоев общества – духовенства, офицерства, интеллигенции, купечества, зажиточного крестьянства. Террор и ложь стали главным методом управления большевистской диктатуры. Даже у ее сторонника М. Горького не раз возникали протесты: «За все время революции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране» (в письме А. И. Рыкову 1 июля 1922 г.).
Узурпаторский характер новой власти декларировал Л. Д. Троцкий, не скрывал и В. И. Ленин: «Россия завоевана большевиками». По сути, страна была оккупирована богоборческой интернациональной партией.
Организованное сопротивление оккупантам в лице Белой гвардии было сокрушено. Возникло и стихийное сопротивление: крестьянские восстания, белогвардейские заговоры, саботаж поздно прозревшей интеллигенции, жертвенная стойкость православного священства во главе с патриархом Тихоном.
Нельзя сбросить со счетов и то, что известную поддержку большевизму оказала часть русских людей (преимущественно из простонародья), которые поверили тому, что новый режим принесет справедливость и благосостояние и обеспечит грядущий неслыханный расцвет России. Находились слепцы из интеллигенции и даже из офицерства, увидевшие в роковых событиях некое «обновление» и «возмездие». Достаточно вспомнить А. А. Блока с его призывом «слушать музыку революции».
Большевистская политика русофобского погрома распространилась и на сферу культуры. Многие из тех, кто тогда руководил художественным процессом, действовали разрушительными методами и вели себя словно завоеватели в чужой стране, не стеснялись называть себя «красными конкистадорами» (К. Малевич).
Полным ходом осуществлялась троцкистская программа денационализации России, о чем уже не раз писали наши исследователи. В небывалых масштабах происходило разграбление ее материальных и духовных ценностей, разрушение памятников. Их сопровождали поругание веры и массовый террор, истреблявший лучшую часть генофонда народа. «Теоретики» подводили под практику свои концепции: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи»1. Можно было задаться вопросом – не становился ли явью последний сон Раскольникова («Преступление и наказание») о «моровой язве»?
В противовес великой русской культуре, ненавистной большевикам, их усилиями создавалась воинствующая антикультура, открыто отрицавшая все национально-русское, православное, истинно духовное. На общественную авансцену выбежали толпы претенциозных невежд и дилетантов, объявивших себя «новаторами», изобретателями новых, пролетарских форм. Агрессивные, наглые, крикливые, они привносили в свои творения совершенно чуждые русскому менталитету элементы, садистское издевательство над традиционными идеалами русского народа – Православием, добротолюбием и правдоискательством, нестяжательством, стыдливостью, целомудрием и скромностью. Бурно расцвела генитальная проблематика, цинично смаковалась половая физиология.
Результаты гибельной для русской цивилизации кремлевской политики не заставили себя ждать. В середине 1920-х годов писатель А. Белый свидетельствовал в своем дневнике: «Чем интересовался мир на протяжении тысячелетий, рухнуло на протяжении последних пяти лет у нас. Декретами отменили достижения тысячелетий, ибо мы переживаем небывалый подъем. Но радость ли блестит в глазах уличных прохожих? Переутомление, злость, страх и недоверие друг к другу таят эти серые, изможденные и отчасти уже деформированные, зверовидные какие-то лица. Лица дрессированных зверей, а не людей»2.
Таков был клубок трагических противоречий, в которых продолжалось существование и даже развитие русской культуры. Заложниками большевистского диктата стали тысячелетний менталитет народа, его духовные традиции, богатейшее культурное наследие. Полностью их уничтожить, превратить население в рабов – не удалось. Провалилась и программа разрушения национальных основ русского бытия, хотя потенциал русской силы был подорван и органическое движение культуры было приостановлено. Развитие отечественного искусства и культуры продолжалось и в наморднике т. н. «пролетарской культуры», через преодоление западнических антиреалистических тенденций, искусственно поддерживаемых властью, особенно в первое десятилетие большевистского режима.
Несомненно и то, что обновительный пафос революционных деклараций, радикальных социально-политических перемен, понятых многими как перспектива небывалой свободы, раскрепостили не только разрушительные инстинкты черни, но и созидательную энергию лучшей части русского народа.
Общенациональное стремление к творчеству, к знаниям приобрело тогда едва ли не взрывной характер. Множество людей искали самовыражения на художественном поприще. Сотнями и тысячами возникали новые студии, кружки, профессиональные и самодеятельные театры. Театральная жизнь страны приобретает огромный размах. В залах появился новый зритель. Печать подавала сценические и литературные новости порой с не меньшим пафосом, чем актуальную политическую хронику.
Многие местные органы власти стремились развить и усилить пропагандистскую и просветительскую миссию искусства, пытались сделать доступными для масс лучшие достижения художественной культуры. В объявленном плане «монументальной пропаганды» в списке деятелей театра, которым предполагалось поставить памятники, значились имена В. Ф. Комиссаржевской, П. С. Мочалова, М. С. Щепкина.
В театральной культуре с особой остротой встали проблемы традиций и новаторства, наследия и экспериментальных исканий, сценического реализма и течений, формировавшихся на основе гиперболизированной условности. Болезненными оказались проблемы репертуара, пути истолкования классической драматургии и т. п. Тогда же стала возрастать опасность распространения модернистских (декадентских, футуристических и т. п.) тенденций – со стороны «нового» искусства возникали попытки провозгласить его единственно верным и революционным. С политическими претензиями выступали комфуты, пролеткульты и некоторые другие течения. Они механически переносили лозунги классовой борьбы в художественную сферу, стремясь к немедленным и радикальным преобразованиям. Подобные настроения ставили под угрозу существование старейших русских, т. н. «императорских» театров страны. Нигилистически отвергалась вся театральная культура прошлого. Модернисты раздували кампанию по дискредитации реалистической школы.
Общая картина послереволюционных лет была пестрой и противоречивой. Трагизм и фантасмагория взорванной действительности, агрессивный напор новой власти заставляли деятелей искусства и литературы многое пересмотреть, искать и корректировать свои пути и ответы на требования времени. Для многих художников становилось ясно, что невозможно замкнуться в границы искусства, «надо идти вместе с жизнью» (Е. Б. Вахтангов). Этой дорогой пытались двигаться руководители МХАТ К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко и их труппа, видные деятели бывших императорских театров – драматических и оперно-балетных. Некоторые прямо декларировали свою лояльность революции и большевизму. Таков был выбор Вс. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, К. А. Марджанова, а также и А. А. Блока, который возглавил тогда коллектив возникшего в Петрограде Большого драматического театра.
Период «военного коммунизма» вскоре сменил НЭП. Он не означал уступок в идеологии, но продиктовал жесткую экономию государственного бюджета, в том числе и в области культуры. Правительство (по инициативе В. И. Ленина) неоднократно предпринимает попытки закрыть как «нерентабельные» Большой театр в Москве и Мариинский в Петрограде. Множество театров лишили бюджетной дотации. Их переводили на хозрасчет.
Театральные билеты вновь стали платными, что принуждало считаться с интересами кассы. Крен искусства в сторону развлекательности был спровоцирован нэпом. Из-за финансового краха распались многие новообразованные коллективы.
Однако интенсивность театрального процесса не ослабевала. Продолжали возникать новые группировки в искусстве, театры, студии. Некоторые из них обнаружили жизнестойкость и укоренились: Театр имени МГСПС, Театр Революции, Театр имени В. Э. Мейерхольда, петроградский ТЮЗ и ряд других.
Невиданно возросло количество режиссеров. Афиши пестрели никому не известными ранее именами. В режиссуре пробовали себя поэты и журналисты, актеры и художники, танцоры, клоуны, акробаты, теоретики. В атмосфере театрального ажиотажа оживали мечты о всемогуществе сцены. Театрократические утопии начала XX века, сменив обличье, будили воображение неофитов, завороженных соблазнами режиссерской диктатуры. Для многих символом веры служил девиз древних: ars semper ante vitam – искусство всегда впереди жизни. Режиссер А. В. Быков так и назвал свой коллектив актеров-импровизато-ров – «Семперантэ».
К середине 1920-х годов идейно-художественные тенденции обрели большую определенность и отчетливость. При всем разнообразии сценических течений, форм и стилей, жанров сложилось конфликтное противостояние двух «культур», двух «лагерей» театрального искусства.
На страницах печати все чаше появлялись термины «левые» и «правые». На одном полюсе сплотились деятели так называемых «академических» театров (МХАТ, Малый и др.) и их сторонники – они стремились развивать свое искусство, сохраняя верность лучшим традициям прошлого, опираясь на реалистический метод. Им противостояли группировки авангардистского толка, которых иногда называли собирательно – левый фронт искусств. Его представители выступали за то, чтобы разом покончить со всем «старым» театром, и, провозглашая революционные лозунги, фетишизировали культ новизны и эксперимента.
«Академический» театральный фланг тогда был ослаблен: наиболее авторитетный театр из принадлежавших к нему – Художественный – в 1922–1924 годах гастролировал за рубежом. Вместе с тем мхатовское «силовое поле» продолжало воздействовать на художественную жизнь. Активно работали четыре студии МХАТа. В их судьбе проявилась важная закономерность мхатовского студийного движения: творческие лаборатории превращались в самостоятельные театральные организмы. Залогом служила жизненность реалистических истоков МХАТа, оставшихся для многих спасительной духовной родиной.
Глубина жизни человеческого духа, богатство социально-психологических характеристик, торжество ансамбля, достигнутые под руководством Б. М. Сушкевича в спектакле «Расточитель», помогли Первой студии выдержать экзамен на самостоятельность. Искания Третьей студии под руководством Е. Б. Вахтангова, его учеников и последователей, стали достоянием советской режиссуры как опыт содержательного искусства.
Студии дали генерацию режиссеров, сыгравших впоследствии видную роль в развитии нашего театра: Б. М. Сушкевич, А. Д. Дикий, А. Д. Попов (Первая студия), Р. Н. Симонов, Б. Е. Захава, Ю. А. Завадский (Третья студия), Б. И. Вершилов, И. Я. Судаков (Вторая студия). Почти каждый из них в свою пору пережил «детскую болезнь левизны», поддавшись миражам театральной гофманианы, соблазнам стилизаторства и т. п. Но жизнь снова вовлекала их в зону мхатовского притяжения.
Сдвиги намечались и в творчестве Таирова, который постепенно переходил от рафинированного эстетизма к современной проблематике.
Театры делали попытки осмыслить поворотные события эпохи, начатые прежде «Мистерией-буфф» и «Зорями» Мейерхольда и Бебутова, «Каином» Станиславского, «Овечьим источником» Марджанова, «Дон-Карлосом» Лаврентьева.
В идейно-художественных противостояниях, в борьбе течений, школ и эстетических систем особо агрессивную роль играл авангардизм.
Авангардизм в данном случае рассматривается как одна из составляющих модернизма, увлекшего значительные круги художественной интеллигенции. Его усилиями в первые десятилетия XX века были подвергнуты пересмотру едва ли не все сложившиеся традиции отечественной театральной культуры, и, прежде всего, ее нравственно-просветительское, сверхэстетическое назначение.
Наступление авангардизма шло под лозунгами свободы творчества, ничем не ограниченного раскрепощения искусства, эмансипации, как тогда выражались, сцены из-под власти любых внетеатральных элементов: театр должен, прежде всего, оставаться театром, а не «кафедрой», не «школой жизни» и т. п.
В первую очередь стремились «освободить» сцену от драматургии, от литературы. В сознании модернистов ценность театра исчерпывалась самодовлеющей игрой сценических форм, изощренностью условных приемов, зрелищностью режиссерской партитуры. Тогда распространилась и стала крылатой фраза, что пьеса – только «предлог» для спектакля и значение ее едва ли не второстепенное. Декларированный режиссером и теоретиком Г. Фуксом в книге «Революция театра» (опубликована в России в 1908 г.) мятеж против «засилья» литературы захватил многих участников авангардистского движения.
Идеология и эстетика Мейерхольда
Виднейшим среди них, поистине вождем театрального модернизма был Вс. Э. Мейерхольд (1876–1940).
Двадцатые годы оказались эпохой победоносного торжества Мейерхольда, его сторонников и последователей, – с их воинствующей безбожностью, отрицанием русских национальных традиций и ценностей и вызывающе игровым, в сущности, бездуховным отношением к миру. Эстетизация развратных действий, культ расхристанности как эпицентр художества – типичные проявления «театральности», составившей наследие «мастера» (режиссер любил, чтобы его так называли).
Еще в предреволюционные годы Мейерхольд утверждал самоценность искусства, противопоставлял художественное творчество жизни, отрицал исторически сложившуюся в отечественной культуре совокупность традиций.
По выражению искусствоведа В. Н. Прокофьева, режиссер вступил в борьбу против самого человечного искусства в русском театре, против эстетики Чехова, Горького, Льва Толстого, Станиславского, противопоставив ему условный театр масок, трагический гротеск, балаган. Именно он чаще всего, по его собственному выражению, «наносил удар в сердце человека», когда заставлял актеров создавать сценический образ по законам стилизации и барельефа.
Шумный резонанс в свое время имела его постановка оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в Мариинском театре (1911). Уже тогда зрителям бросалась в глаза странная наклонность изображать древний русский быт непременно так, чтобы из него «сквозило русское варварство и голая нищета». Народ в спектакле предстал нищенски одетым, в лаптях, в лохмотьях, в народной толпе возникали юродивый в невероятном отрепье, непристойный скоморох, пьяные бродяги. Тенденциозная последовательность Мейерхольда рождала законное недоумение критики: «Почему же русский couler local должен состоять непременно в пьянстве, в пьяном бормотании, в свинских позах и бесстыдных телодвижениях? Почему же, раз вы выводите толпу, то непременно нужны первобытные лапти, нищенские свитки, какие-то звериные шапки, рубища, опорки и всякая тому подобная дрянь?»3.
Короткое время близкий Мейерхольду А. А. Блок вскоре почувствовал отвлеченно-умозрительный характер его спектаклей.
О его постановках 1910-х годов поэт писал: «Узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хотела бы любить, но не знает источников истинной любви. Так как нет никакого центра… Претензии на пересаживанье каких-то графов Гоцци на наш бедный, задумчивый, умный север, русский, – есть только бесчинство»4.
Блок в письмах достаточно беспощадно оценивал режиссера, относя его к числу «прирожденных плагиаторов с убогим содержанием души, но с впечатлительностью, которая производит впечатление таланта», и, считав, что Мейерхольд погибнет как художник, если не бросит «вовсе кукольное и не вернется к человеку».
Уместно напомнить и о наблюдении критика А. Р. Кугеля, который зорко подметил принципиальное расхождение режиссера с ценностными установками русской классики: «Мейерхольд всегда ненавидел быт, "преодолевал" его и всегда искал злобного, мстительного, унижающего всякое идеалистическое представление гротеска».
На Мейерхольда, конечно, сильно повлияло модное в начале XX века ницшеанство – с характерным для него идолопоклонством перед личностью. Идеология «сверхчеловека» оказалась для него мощным жизненным стимулом. В режиссерском творчестве он почувствовал возможность беспрепятственного развертывания своих притязаний, замыслов, фантазий. Мейерхольд ставил спектакли, подчиняя их своему театральному самоутверждению, ставил, по существу, ради одного героя. Этим героем, по остроумному замечанию А. Р. Кугеля, был он сам. Одной вере он не изменял никогда – вере в себя. Искусство как сотворчество, режиссура как общее дело, устремленное к сценической гармонии, к ансамблю, мало увлекали его.
Революционные события 1917 года не только не поколебали творческих установок Мейерхольда, но дали им новый мощный толчок для реализации своих планов, режиссер почувствовал небывалые перспективы. Ставший ему привычным нигилизм в подходе к отечественному наследию соединился с широкой мировоззренческой экспансией. Уже в первой после октября 1917 года речи перед артистами императорских театров Мейерхольд «звал к искусству всего земного шара, к отречению от России»5 («Наша речь», 1917, № 1, 26 ноября). Театральный авангард вступил в новую пору «бури и натиска». Его девизом стали строки из «Мятежа» бельгийского поэта Э. Верхарна, которые нередко тогда цитировались: «Безумцы, кричите свои повеленья! Сегодня всему наступает пора, что бредом казалось вчера…»
Мейерхольд первым поставил «Мистерию-буфф» В. В. Маяковского – воинствующе антирелигиозный спектакль, воспевавший дух классовой ненависти. А вскоре провозгласил программу «Театральный Октябрь» (1920), поведя напористую борьбу за монополию авангардизма на художественное творчество и, в частности, на «революционный» театр. Взращенный ницшеанством мейерхольдовский «сумрачный радикализм» (В. И. Немирович-Данченко) получил административный простор. Его лозунг «гражданской войны на театре» нашел отклик, увлек за собой часть молодежи. С политическими претензиями выступали и некоторые другие левые течения. Они переносили лозунги классовой борьбы в художественную сферу, стремясь к немедленным и радикальным преобразованиям. Левый экстремизм создал угрозу существованию старейших театров страны; дискредитировались традиции реализма; отвергалась культура прошлого. Авангардисты ставили знак равенства между левизной политической и левизной художественной.
«Театральный Октябрь», провозглашенный как художественно-политическая программа, в плане художественном смыкался с Пролеткультом, с ком-футами, в плане политическом переносил на искусство идеологию и тактику экстремизма левацкого, троцкистского толка (в частности, идею насилия как главного и единственного способа преобразования жизни, военизированные методы работы и т. п.). «Октябрем по театру» – назывался один из программных докладов Мейерхольда. Не случайно театр его имени был открыт спектаклем с характерным заглавием «Земля дыбом» (в основе его лежала пьеса М. Мартине «Ночь»).
Сокрушая препятствия «вздыбливающим» напором энергии, нанося таранящие удары по культурному наследию, совершал свои прорывы и рейды «главковерх» «Театрального Октября» Мейерхольд. Поняв революцию прежде всего как разрушение, он прямо переносил ее в театр, на подмостки, в кулисы, в зал. В практике Мейерхольда режиссура театрализованной «революции» на сцене смыкалась с «режиссурой жизни», с его широко задуманной ломкой и унификацией театрального дела всей страны.
На посту заведующего Театральным отделом Наркомпроса Мейерхольд действовал методами декретирования, пытаясь организовать театральное дело по казарменному принципу. Роль театрального полководца необычайно увлекала режиссера. В Москве было начато переименование театров – они должны были получить имя «театров РСФСР» и отличаться только порядковыми номерами, как части регулярной армии. «На тех театрах, которые теперь функционируют, надо повесить замок», – писал Мейерхольд в конце 1920 года. Усилилась его нетерпимость к сценическим традициям русской школы, к старейшим академическим театрам, к деятельности МХАТа. Режиссер не раз требовал их полного уничтожения. Правда, он заявлял, что не намерен «покачнуть престиж славного мастера» – Станиславского.
Агрессивный дух мейерхольдовского «Театрального Октября», попытки военизировать организационные принципы театрального дела прямо отразились в режиссуре, в сценических приемах. Эффекты военной техники, батальные эпизоды со стрельбой холостыми патронами постоянно вводились в спектакли. Мейерхольд нередко включал в действие воинские подразделения. Пальба звучала в «Земле дыбом», бой оказался центральным эпизодом спектакля «Человек – масса» в Театре Революции: там подмостки окутывались настоящим пороховым дымом.
Творчество режиссера вступило в период бурной милитаризации. Недовоплощенные в жизни непримиримые и грозные фантазии доигрывались Мейерхольдом на сцене. Труппу он называл «солдаты моей Армии», репетиции в его театре (Театр имени Мейерхольда) велись под надзором специального «штаба», спектакли имели своих «комендантов». К 20-летию режиссерской деятельности Мейерхольд получил звание почетного красноармейца. Он много работал с красноармейскими театральными студиями. Речи Мейерхольда пестрели военной терминологией. Он носил френч, краги, красную звезду на фуражке.
Борьба сторонников «левого» театра за свою программу имела непримиримо-атакующий характер. Показателен в этом смысле сборник «О театре» (Тверь, 1922), среди авторов которого были некоторые близкие тогда Мейерхольду теоретики. Они попытались создать концепцию нового революционного искусства, которое могло бы «удовлетворить созидательный, ищущий дух пролетариата».
Однако первые же страницы сборника обнаруживали крайнюю односторонность позиции и нигилистический экстремизм его авторов, отрицавших все ранее накопленные культурные ценности, огульно названные буржуазными. «Общая платформа» сборника заключалась в разрыве с прежними театральными устоями и традициями: «Творцами современного театра могут быть только люди, социологически разорвавшие с прошлым». Приобщение трудящихся масс к «старой культуре» объявлялось «контрреволюционной деятельностью» (А. М. Ган), категории «народа» и «нации» рассматривались как «метафизические фикции» (Э. М. Бескин). Главная задача виделась в том, чтобы «пришпорить» якобы колеблющуюся нерешительную театральную политику государства. «Мы разовьем ураганный огонь, который будет безжалостно вносить опустошение в окопы наших противников», – писал В. И. Блюм в открывавшей сборник статье «На перевале».
Агрессивность, разрушительный пафос «левой» режиссуры повергали в смущение иногда и самих адептов авангардизма. Например, В. Г. Шершеневич выражал тревогу за результат борьбы (1923): «Мы неустанно рушим. Безжалостно. Все, чем гордился театр старого закала – все подлежит, с нашей точки зрения, мечу и пожару… Мы растаскиваем до основания все… Но мы незаметно дошли до… "долой зрителя". Никогда не следует гнаться за тем, чтобы быть понятным, но не следует стремиться к тому, чтобы нельзя было понять».
Ставя пьесу «Зори» Э. Верхарна, Мейерхольд приспособил сюжет к русской действительности. Это вызвало, как известно, резкий протест Н. К. Крупской: "Герой" вне времени и пространства – еще, куда ни шло, но русский пролетариат в роли шекспировской толпы, которую всякий самовлюбленный дурак ведет, куда ему вздумается, – это оскорбление».
Сохранилось и возмущенное письмо управляющей академическими театрами Е. К. Малиновской А. В. Луначарскому по поводу спектакля «Земля дыбом»: «Мне представляется гр. Мейерхольд психически ненормальным существом, проделывающим кошмарные опыты… Автомобиль, велосипеды, мотоциклы, форменное сражение с бесчисленными выстрелами, заполнившими дымом все здание, живая курица, отправление естественных потребностей на сцене, "туалет" императора – все это бездарно, грубо, нагло и является результатом той же болезни. Всего перечисленного совершенно достаточно для изоляции гр. Мейерхольда в доме умалишенных… Мозги у всех должны стать дыбом после этой постановки».
Неудивительно, что авангардистское искусство с трудом обретало приверженцев. Ставя «Зори», к примеру, Мейерхольд говорил, что стоит на страже интересов зрителя, что интересы зала имеют для него решающее значение. Часть публики сочувствовала исканиям Мейерхольда, однако у массового, демократического зрителя его спектакли вызывали протесты. «Я присутствовал при "героическом" издевательстве над умом и сердцем пролетария-зрителя, которому не где-нибудь, а в Первом театре РСФСР несколько десятков раз показывали "Зори". Я наблюдал мрачное, озлобленное лицо этого зрителя, когда он, недоумевая, глядел на геометрические фигуры, красовавшиеся на сцене, когда силился прочувствовать ту революционную смесь, которую добросовестно выкрикивали актеры», – свидетельствовал очевидец. Чтобы заполнить пустующий зал, прибегали к своеобразным мерам. Одному из зрителей-красноармейцев на спектакле «Зори» был задан вопрос, нравится ли пьеса и который раз он ее смотрит, на что тот ответил, что «пьеса не нравится, а смотрит он ее в третий раз… – Зачем же вы третий раз ее смотрите? Пригоняют, – злобно пробурчал красноармеец».
В нередких случаях Мейерхольд пытался подогреть интерес к своим спектаклям грубо физиологическими эффектами. Каждый шаг на этом пути рекламировался как новое завоевание революционного искусства. Например, режиссер утверждал, что в основание поставленного им спектакля «Великодушный рогоносец» положено «новое театральное мировоззрение», «нового вида театральное действие». Что же имело место в действительности? Критик Б. В. Алперс указывал, что, конечно, не случайно именно в первые годы нэпа театр Мейерхольда поставил «сексуальный фарс» Кроммелинка – «Великодушного рогоносца». Даже А. В. Луначарский, обычно поддерживавший Мейерхольда, вынужден был выступить с серьезной критикой «грубости форм и чудовищной безвкусности» этой постановки, в которой обнаруживалось «гнусно подчеркнутое театром» издевательство над «мужчиной, женщиной, любовью, ревностью». «Дешевое искусство для пошляков или жаждущих развлечения пытаются возвести в "Академизм без кавычек", – писал нарком просвещения. – Все это тяжело и стыдно, потому что это не индивидуальный уклон, а целая, довольно грязная и в то же время грозная, американствующая волна в быту искусства. Страшно уже, когда слышим, что по этой дорожке катастрофически покатилась европо-американская буржуазная цивилизация, но когда при аплодисментах коммунистов мы сами валимся в эту яму, становится совсем жутко».
Содержанием многих спектаклей «глаковерха» левого авангарда и некоторых его учеников и последователей был «эстетический расстрел ушедшего» (так отозвался Э. П. Гарин о мейерхольдовской «Норе» 1921 г.). И в этих усилиях его «армия» патронов не жалела. Впрочем, иногда обходилось без «расстрелов». Было единство цели, – при неистощимом многообразии форм, средств и приемов… Например, в «Смерти Тарелкина» Мейерхольд обнаруживал «патетику восторга затоптать в песок арены повергнутое»; по свидетельству очевидца, в этом спектакле «печальная картина русской действительности судорожно дергалась в конвульсиях балаганно-цирковой формы». В 1921 году со страниц «Вестника театра» Мейерхольд, В. М. Бебутов и К. Н. Державин призывали разливать клей на местах сидения публики, продавать билеты одним и тем же лицам, рассыпать чихательный порошок, устраивать инсценировки пожаров и убийств в партере…
Тяжелым разрушениям в авангардистских спектаклях подвергалась классическая драматургия. Как очевидно, прежде всего, к левой режиссуре был обращен неожиданно прозвучавший в 1923 году призыв А. В. Луначарского «Назад к Островскому». Поясняя свой лозунг, Луначарский писал: «Я говорил всегда, что театр должен быть идейным, так сказать, художественно информирующим, что в нем должны вновь чрезвычайно ярко проглянуть черты реализма, что театр вновь будет стараться стать живым зеркалом окружающей действительности. Именно в этом смысле я провозглашал лозунг "Назад к Островскому!"».
Но поворот к реализму явно затягивался. Более того, ответ «левой режиссуры» оказался новым вызовом. Три самые заметные постановки пьес Островского – «Лес» Мейерхольда, «Мудрец» Эйзенштейна, «Гроза» Таирова, – классику решительно ревизовали. Эйзенштейн и Мейерхольд воспользовались пьесой как предлогом для «вскрытия темы, – в той плоскости, в которой это вскрытие сегодня может оказаться живым» (Мейерхольд). Однако актуализация оказывалась декларативной, ибо достигалась ценой упрощающего социологизирования: характеры сплющивались в схемы, в шарж. Персонажи «Мудреца» были перелицованы в современных политических деятелей, агитаттракционы подменили разрушенную драматургию. В «Лесе» режиссер достигал утверждения своих принципов, но за счет сокрушения смысла и художественной ткани произведения. А. Р. Кугель увидел в этом «цинический вызов… плевок в лицо истории русской культуры» и назвал спектакль «неслыханным варварством». В рецензии на «Лес» он писал: «До какого пренебрежения, до какого презрения к основным понятиям культурного общежития мы дошли. Взять одно из произведений русского классика, извратить, оболванить, накуролесить, насмеяться – и выходить на шумные вызовы толпы специального подбора, в значительной мере уже подготовленной к мысли, что театр есть "беспредметное", никем и ничем не ограниченное творчество режиссера»6.
Руководимый Мейерхольдом театр, несмотря на все усилия, не достигал чаемой близости с пролетарским зрителем. Как свидетельствовали рабкоры на, одном из диспутов 1925 года, «репертуар Мейерхольда не соответствует вкусам рабочего, он там ничего не понимает». И в более поздних сообщениях о Театре имени Мейерхольда можно прочесть, что «даже бесплатного зрителя в нужном количестве театр не находит».
Попытки «левого» театра канонизировать авангардистские (футуристические, митинговые и прочие) формы зрелища встречались зрителем с возрастающей холодностью, отчасти размывались изнутри. В одних случаях оборачивались имитацией революционности (иногда демагогической), утрачивая ее подлинность и смысл. В других – под влиянием нэпманской публики, от которой зависела касса многих театров, «левизна» вырождалась в развлечение, в «агит-холл», в «танцующую идеологию». В этом смысле весьма красноречиво признание А. В. Луначарского, который в 1922 году писал: «Да, я протянул руку "левым"7, но пролетариат и крестьянство им руки не протянули. Наоборот, даже тогда, когда футуризм густо закроется революционностью, рабочий хватает революционность, но корчит гримасы от примеси футуризма. Футуристы говорят: пролетариат не дорос. Но бывает разный рост. Футуризм есть кривой рост искусства. Это продолжение буржуазного искусства с известным революционным «искривлением»».
«Мы будем часто пользоваться классическими произведениями как канвой для наших сценических построений», – обещал Мейерхольд в 1920 году и отдал много энергии этой цели. Именно Мейерхольдом прежде всего создавалась эстетика «канвы», игрового аттракциона, произвольных подмен и «дополнений» в отношении к русской классике.
Скандальную известность снискали его постановки 1920-1930-х годов «Лес», «Горе уму», «33 обморока» (по А. П. Чехову), «Пиковая дама» П. И. Чайковского, незавершенный «Борис Годунов». С давних пор режиссер был убежден, что русская классика не была «должным образом» осуществлена на русской сцене, ибо театры, как ему казалось, не учитывали иноземных влияний на отечественную драматургию, «связей» Гоголя-с театром Мольера, Пушкина-с театром Шекспира, Лермонтова – с испанским театром. Островского – с творчеством Сервантеса. Мейерхольд не только не чувствовал самобытности русского искусства, но, как представляется, сознательно не хотел с нею считаться. И потому полагал необходимым «восстанавливать» классиков, зачастую одевая их в чужестранные одежды.
В эстетическом плане доминировали приемы карикатуры и шаржа, в нравственном – глумление, сарказм и издевка. Как правило, Мейерхольд искал и достигал результатов, по смыслу противоположных содержанию пьесы. Так происходило, например, в спектакле Театра имени Мейерхольда «Лес» (1924). Дело даже не в ложности убеждений Мейерхольда в том, что на автора решающим образом повлияла испанская драматургия – Счастливцев, например, был введен в пьесу как «весельчак испанских комедий». Суть – в подходе к человеку, к характерам, большинство которых режиссер изобразил с подчеркнутой ненавистью. Он переводил «Лес» в плоскость «острой политической сатиры», утверждая необходимость показать две враждующие классовые группы. В таком истолковании – грубо-социологическом, вульгарно-классовом – у персонажей Островского не было никаких шансов предстать на сцене в своем нормальном обличии. Мейерхольд сортировал их по отработанным в чекистских разнарядках шаблонам: «Один лагерь – Гурмыжская – в прежнем исполнении барынька-ханжа с некоторыми женскими слабостями – у нас активная эксплуататорша, похотливая помещица, развращающая Буланова, этого дворянского недоросля 70-х годов. Восьмибратов – кулак, жулик. Елейное подобострастие и сладостная велеречивость помещика Милонова сделали для театра совершенно очевидной поповскую природу персонажа, и помещик Милонов предстал на сцене ТИМа в рясе отца Евгения, чего Островский по цензурным условиям сделать не мог». Мейерхольд насытил действие «Леса» множеством вставных эпизодов, которых в пьесе не было, – например, сцены молебна, педикюра Гурмыжской, расстройства желудка у Аркашки и т. п. Бодаев предстал белогвардейским майором, Милонов – в рясе священника. Критика отмечала, что сценические типы изображены в духе сатирических журналов «Безбожник» и «Крокодил». Известный режиссер и теоретик В. Г. Сахновский говорил тогда, что в режиссерской структуре «существует глумление над несуществующим, в тексте Островского нет многого того, что подлежит глумлению на сцене».
Приняв участие в дискуссии по спектаклю «Лес», В. Г. Сахновский вскрыл фальшь и подложность самой художественной методологии Мейерхольда. Отвечая на вопрос, почему «отвращает» этот спектакль, Сахновский указал, что в изображении России у Островского «нет такого чувства жизни», которое обнаружил режиссер: «…самое неприемлемое – это подмена темы. Здесь подменена тема. Тема Островского – одна, а тема Мейерхольда – другая… Можно очень широко трактовать пределы содержания текста, но каждый строгий филолог и самый изящный, глубокий режиссер знает, что есть предел, вне которого нельзя толковать вещь»8.
Для понимания сущности театральной, а точнее художественно-философской методологии Мейерхольда важна и характеристика, которую дал спектаклю «Лес» критик А. Р. Кугель: «Мейерхольд органически не может принять, что бывает гармония добра, создающая спокойствие умиротворения. В сущности, нет благородных профилей. Только хари. И от «Леса» остается тяжкое впечатление – не как от спектакля, который, точно, сделан отлично, – а как от беспощадного разоблачения всякого человеческого существа, у которого под маскарадом фраз и костюма сидит непременно двойник, и этот двойник обязательно либо подлец, либо хам, либо дурак… Вечная подложность… Вечный обман и вечное свинство»9.
Мейерхольд говорил, что его спектакль «Горе уму» по пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1928) ему удался по той причине, что он мизансцены строил «по принципу французской трагедии в духе Расина и Корнеля»10… Ключевыми для режиссера оказались физиологические, сексуальные истолкования взаимоотношений персонажей. По его словам, он «делал ставку» на то, что «Софья – б…»11, что и определяло «конструкцию» спектакля. Чацкого Мейерхольд наряжал в студенческий мундир, в контекст вводил «декабристский» антураж и т. д. Но декабризм толковался в соответствии с режиссерским мировосприятием – в спектакле были исключены какие-либо признаки русского национально-патриотического пафоса. Показательно, что монолог Чацкого о французике из Бордо, – направленный против «пустого, рабского, слепого подражанья», против «жалкой тошноты по стороне чужой», – был изъят режиссером, который назвал этот текст славянофильским и реакционным. Для сравнения можно напомнить, что в связи с постановкой той же пьесы в советские годы во МХАТе К. С. Станиславский говорил: «Важнейшей чертой комедии Грибоедова я считал и считаю патриотизм, глубокую любовь автора к своему русскому народу, к своему отечеству»; он видел в «Горе от ума» «идею национального осознания русскими своей самобытности, своего достоинства».
Низменно физиологические «мотивировки» были неотъемлемой чертой режиссерских фантазий Мейерхольда. Он был убежден, что на сцене не должно бояться непристойности. В его «Ревизоре» Добчинский подглядывал за раздеванием Анны Андреевны, а затем выносил из ее комнаты ночной горшок. Раздраженный спектаклем МХАТа «Мертвые души», он готов был предложить свое видение, например, сцены на балу у губернатора: «Во время котильона я посадил бы пьяного Ноздрева прямо на пол, на авансцене, и заставил бы его хватать за ляжки танцующих дам, лезть им под юбки… Вот это Гоголь!»12. Размышляя о «Гамлете», которого мечтал поставить, Офелию намеревался показать беременной…
На сцене (а может быть, и в жизни) Мейерхольду нравилось видеть людей марионетками, послушными твердой воле, – когда живые лица окостеневали в маски, человеческая личность расподоблялась, переливаясь в фантасмагорию двойников, гомерических олицетворений и метафор. Человек-кукла как бы представал игрушкой внешних сил, независимо от того, называл л и их режиссер «роком» или «классовым детерминизмом». Таким отношением к человеку на сцене и определялась творческая методология Мейерхольда.
Сравнение его спектаклей 1920-1930-х. годов и предреволюционного времени показывает, что в глубоком, духовном смысле между ними не было принципиальных различий. «Мир как балаган и люди в нем, что набор кукол в балагане – такое видение мира свойственно людям без Бога»; в этом балагане комедианты представляют «всегда один и тот же "дьяволов водевиль" – так характеризовал творчество режиссера известный критик П. Ярцев (1914), который не случайно, конечно, заимствовал это словосочетание из «Бесов» Достоевского. О том, что действующие лица в его спектаклях были «слишком явно куклами в руках фокусника-режиссера», о пристрасти Мейерхольда к карикатуре, к фантасмагориям писали многие его современники и позднее. «Все его спектакли были поистине демоничны», – подтверждал знаменитый актер Михаил Чехов. Мизантропический деспотизм – пожалуй, наиболее емкое определение, характеризующее суть идейно-эстетической, мировоззренческой направленности режиссера. Об особенностях «мощной фантазии» Мейерхольда свидетельствовал и Игорь Ильинский: «В "Клопе" он задумал решить одну сцену с Присыпкиным так, чтобы тот срывал икону и топтал ногами». Режиссер показал, как это нужно делать, но вынужден был отменить «находку», так как актер отказался повторить этот «показ».
Дьяволиада, которую режиссер воссоздавал и культивировал на сцене, конечно, имела отчетливые сопряжения с действительностью. Сатанинский водоворот, бешено раскрученный, поглотил тогда многих, в конце концов, и самого Мейерхольда. Предсказанный в «Роковых яйцах» М. А. Булгакова конец режиссера, «погибшего при постановке пушкинского "Бориса Годунова", когда обрушилась трапеция с голыми боярами», в своем сарказме исходил из системы координат, обозначенных самим Мейерхольдом. В данном случае М. А. Булгаков ничего не выдумывал. Действительно, репетируя «Бориса Годунова» в Вахтанговской студии (1924), Мейерхольд в изображении бояр искал «возможности раздеть их или вообразить себе голыми». Что возбуждало более чем странную игру воображения? Может быть, ритуальное раздевание жертв перед расстрелом, практиковавшееся чекистами в революционные годы? И не из этих ли кошмарных реалий действительности знаменитая формула Мейерхольда – парафраз чеховской мысли: «Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем должен быть пулемет». Характерно, что и спустя два десятилетия после баталий гражданской войны Мейерхольда не покидают мысли о важности умения стрелять. Разрабатывая программу театрального училища, он заботился о помещении для тира: военное дело через все три курса, непременно надо всех научить стрелять…
Конечно же, скромное чеховское ружье, из которого стреляли по уткам и чайкам, стало анахронизмом. В революционную эпоху символом прогресса стал пулемет. Тем более что многим новейшим идеологам пулемет вкупе с концлагерем стали казаться средством коммунистического воспитания и перековки отсталых людских масс. Стоило ли удивляться тому, что пулемет нередко «воспитывал» и самих идеологов…
Равнявшиеся на Мейерхольда театры авангардистского направления сосредоточили усилия на интенсификации сценического языка. Гипертрофия условности, обнажение приема, динамизм стали основой постановочных решений. Пересмотру подвергалось и творчество актера. На его трактовку влияло шедшее от футуризма понимание человека как машины, но только биологического происхождения. Утверждались идеи биомеханики, театрализация физкультуры, культ акробатики, цирка, трюка. Формировалась эстетика трапеции и кульбита. Актер рассматривался как клавиша на клавиатуре подмостков.
К обобщенности образов создатели агитзрелища шли путем схематизации: человек изображался по принципу социальной маски. Но антипсихологизм, отказ от индивидуализации означал в конечном счете отчуждение от личности, ее духовного мира. Пафосом актерской школы в этих условиях становились сила, ловкость, агрессивность приема. Показательно, что одно из основных упражнений по «биомеханике» Мейерхольда имитировало убийство: прыжок на грудь партнера и замах для удара воображаемым кинжалом в горло жертвы…
Потерпели крах «метроритмические» опыты Фердинандова и Шершеневича в актерском творчестве. Эстетика скандала, «китча», эксцентрики исчерпывала программу «Фабрики эксцентрического актера» («Фэкса»): «Представление – ритмическое битье по нервам. Высшая точка – трюк… Игра – не движение, а кривляние; не мимика, а гримаса; не слово, а выкрик». Фэксовские спектакли «Женитьба» и «Внешторг на Эйфелевой башне», по сути, были внетеатральны, театр подменялся цирком, клоунадой и трюком.
Деятельность большинства режиссеров левых течений осталась в границах «чистой театральности», то есть не выходила за пределы лабораторных экспериментов. Процесс привлекал сильнее, чем результат, «репетиция вытесняла спектакль» – (В. В. Шкловский). Таковы были опыты В. М. Бебутова, Б. А. Фердинандова, Г. М. Козинцева и Л. 3. Трауберга, И. Г. Терентьева, А. В. Быкова.
Проявились и иные противоречия. «Героический» агитплакат быстро переродился в агитплакат риторический, обнаружив свою элементарность. Это было очевидно даже в таком изобретательном по форме спектакле, как «Д. Е.». В нем, по свидетельству современника, Мейерхольд говорил «о том, что всем известно: вполне успокоительно слушать подтверждения неоспоримых истин, но в той же мере скучно… Новые театральные маски… – образы с выветрившимся содержанием… голая тема еще не делает современности».
Абсолютизация формы, пафос вседозволенности, непомерность притязаний и самоутверждения – таковы тенденции, быстро приводившие мятежных «искателей» к обессмысливанию и духовной опустошенности искусства.
Театральный экспрессионизм
Мощное влияние на советский театр 1920-х годов оказал экспрессионизм.
Экспрессионистское искусство было вызвано к жизни потребностью художественно осмыслить гигантские катаклизмы, потрясшие мир в первые десятилетия XX века. Особое внимание привлекал конфликт между машинно-технической цивилизацией и гуманистической культурой, духовными, нравственными началами. Ненависть к социальным дисгармониям капитализма экспрессионисты переносили на его промышленно-урбанистические символы. Их пьесы протестовали против обесчеловечивающих тенденций нового века, против войны и ее смертоносной индустрии, против подавления человека обществом. «Драмой крика» назвали европейские экспрессионисты свои произведения. Это был крик о спасении человеческого в человеке, о необходимости морального перевооружения. Авторам казалось, что их искусство пронизано антибуржуазным духом, но объективно оно подчас выражало психологию мелкобуржуазного индивидуализма, трактовало народ как слепую толпу.
Характерной чертой театрального процесса стало взаимодействие, скрещивание агитпублицистики и экспрессионизма. Доминирующей сценической формой новых течений явился конструктивизм. Разгоряченные безбрежностью эстетической свободы, экспериментаторы отстаивали новообретенные принципы и приемы выражения, доводя их до крайности. Творческая агрессивность художника – характерная примета театра той поры.
Первые опыты советского театрального экспрессионизма были связаны с влиянием западноевропейских, прежде всего немецких, драматургов (Г. Кайзера, В. Газенклевера, Э. Толлера) и режиссеров. Но во многом они имели самостоятельный характер.
Проблема эстетики экспрессионистского спектакля – часть более широкой проблемы стиля условного, метафорического театра. Для советских режиссеров «общеисторической предпосылкой» в овладении экспрессионистской стилистикой была, по замечанию А. А. Гвоздева и А. И. Пиотровского, эстетика символистского театра, опыты которого наиболее отчетливо проявились в предреволюционном Петербурге в спектаклях Мейерхольда и его школы. Предвестником экспрессионизма в драме выступил Л. Н. Андреев с его пьесами «Царь Голод», «Жизнь человека» и другими.
Но символистский театр оказался лишь предпосылкой. Экспрессионизм с куда большей силой трактовал социальные вопросы, обращая их к залу с агитационной страстностью. В отличие от метафизической неподвижности, типичной для символистского спектакля, спектакль экспрессионистский был остродинамичным. К этому толкала экспрессионистская драма, которая тяготела к публицистике. Ее тенденции обнажались, идеи выражались открыто. Ситуации и характеры не посягали на жизнеподобие: они были гиперболизированы и гротескны. Действующие лица представали типажно, они предвещали социальные маски и содержали мало конкретно-индивидуальных черт.
На систему сценических приемов влияли и смежные искусства (кино, живопись), достижения техники (электроаппаратура и т. п.). Излюбленные приемы экспрессионистских постановок перечислил Н. Н. Извеков в фундаментальном труде «Сцена». Среди них – стремление даже неподвижным станкам и прати-каблям придать такой ракурс, чтобы «зритель все время находился под впечатлением движения»; прием освещения локального (лучом прожектора) и силуэтного, при котором задние планы сцены высвечены сильнее первых; проекции теней от фигур актеров на горизонт; транспаранты, экраны, табло и т. д. Завоевание сценического пространства, применение каркасных конструкций и наклонных плоскостей также были характерны для театрального экспрессионизма.
Некоторые приемы подсказала драматургия. Например, луч прожектора, выхватывающий из тьмы фрагменты сценической картины, впервые был задан ремарками пьесы немецкого драматурга-экспрессиониста Р. Зорге «Нищий» (1912). Первым применил на сцене приемы кино Э. Пискатор, ставя «Знамена» А. Пакэ.
Российские театры критично переосмысляли «европейскую» концепцию экспрессионизма. В спектаклях разных постановщиков его идеи и стилистика преломлялись неодинаково. Театральный экспрессионизм в России, как справедливо утверждали А. А. Гвоздев и А. И. Пиотровский, «не может рассматриваться как нечто единообразное, целостное. Наоборот, в различных театральных течениях советского театра стилистика европейского экспрессионизма оборачивалась различными своими сторонами порой превращаясь при этом в свою противоположность». Трактовка большинства экспрессионистских спектаклей – плод тесного содружества режиссера и декоратора. Художника, во власти которого находились ресурсы техники, машинерии, света, архитектуры и живописи, все чаще называли конструктором, инженером, автором вещественного оформления. Театральная эстетика делала резкий крен в сторону конструктивизма. Во многих спектаклях этой поры возникал сплав экспрессионизма и конструктивизма.
Конструктивистские приемы были вполне приложимы к немецкой экспрессионистской драме. Конструктивизм помогал передать стихию урбанизма, изобразить ненасытного молоха индустрии, жертвой которых в концепции немецких авторов становился человек с его гуманистическими идеалами. Лес металлических ферм, сплетение балок и проводов, движение лифтов, рычагов и трансмиссий, уходящие ввысь многоступенчатые конструкции должны были символизировать трагическое для героев всевластье механической цивилизации, гнет вещей.
Но нередко в спектаклях драматургический замысел получал иное направление. На это обращали внимание критики: «Получалось так, что сплошь и рядом пьесы германских экспрессионистов, путем режиссерского переосмысления, – главным образом путем подчеркивания декорационно-монтировочных элементов постановки, – оказывались на советской сцене материалом не для антиурбанистических, а напротив того, для спектаклей урбанистических, прославляющих техницизм»13.
Возникавшая переакцентировка экспрессионистских идей имела эстетические и социальные предпосылки. Режиссеров и художников увлекала мощь новой сценической техники. И в порыве творческого энтузиазма они стремились извлечь из нее максимальный эффект. С другой стороны, мысль о враждебности машины, техники человеку не могла приниматься безоговорочно в условиях тогдашней действительности, в разоренной, обнищавшей стране, остро нуждавшейся как раз в подъеме индустрии.
Внутренняя политика государства, принятие планов электрификации и промышленного роста страны, ее реальные потребности неизбежно должны были вносить поправки в искусство, трактовавшее проблему отношений человека и машинной цивилизации.
Разделяя в некоторых случаях экспрессионистское отрицание индустриальных начал, искусство в те годы отчетливо проявило и противоположные тенденции – фетишизацию техники, обольщение технократическими утопиями европейского футуризма. Многие экспериментаторы пытались подчинить творческий процесс, сценическую методологию принципам машинным, техническим, распространяли на театр законы НОТ, производства. Подобные опыты отвечали в известной мере экспрессионистским требованиям динамичности спектакля.
Апология движения была характерна для многих режиссеров. Она по-разному преломлялась в экспериментах Мейерхольда и Эйзенштейна, Фореггера и Фердинандова, Петрова, Хохлова, Радлова. Экспрессионизм и футуризм соблазняли художническую мысль чарами техники, индустрии, миражами «научно» (по законам механики, математики и биологии) выстроенного спектакля. Идеи «тейлоризированного театра», «научного построения» сценического действия и его «ритмизации», «антропокинематики» разрабатывала московская «Лаборатория театра экспрессионизма». Ею руководили И. В. Соколов, Н. И. Львов, В. И. Жемчужный, В. Я. Парнах. Под эгидой экспрессионизма крылась, однако, тяга к упразднению театра, как формы искусства и к созданию новых форм социально-рационализированного действа.
Жизнь немецкой эспрессионистской драмы на советской сцене впервые дала в Москве режиссура Театра Революции во главе с В. Э. Мейерхольдом, а в Петрограде – К. П. Хохлов, постановщик «Газа» Г. Кайзера в Большом драматическом театре. Эти пробы состоялись в ноябре р 1922 года.
Верный лозунгам «театрального Октября», Мейерхольд использовал экспрессионистскую систему для разработки принципов агитационного театра и дал публицистически-агитационный вариант советского театрального экспрессионизма.
Вехами его стали «Озеро Люль» А. М. Файко на сцене Театра Революции, «Земля дыбом» в Театре им. Вс. Мейерхольда, а также толлеровские «Разрушители машин» (режиссер ГЛ. П. Репнин), «Человек-масса» (режиссер А. Б. Велижев).
Красноречив был опыт с пьесой французского экспрессиониста М. Мартине «Ночь». Созданный на ее канве спектакль «Земля дыбом» декларировался как «героический агитплакат» и, по мысли его постановщика Мейерхольда, должен был утверждать торжество революционного порыва. В «Озере Люль» театр стремился обличать капиталистическую цивилизацию, политиканство ее дельцов, авантюристов. Здесь агитплакат получал трагифарсовые очертания.
Конструктивистские установки художников Л. С. Поповой и В. А. Шестакова в этих спектаклях олицетворяли индустриальную мощь эпохи. Тем же целям служили ввезенные на сцену автомобиль, самолет, сельскохозяйственная техника, велосипеды, мотоциклы, прожектора и т. п. Эстетика конструктивизма стала активно утверждаться, начиная со спектакля Мейерхольда «Великодушный рогоносец», хотя первые попытки конструктивно организовать сценическое пространство можно обнаружить и раньше – в декорациях А. А. Экстер к мейерхольдовской «Незнакомке» (1914) и к «Фамире Кифаред» в Камерном театре Таирова (1916). Конструктивизм создал предпосылки дальнейшего изощрения технологии сцены, стимулировал поиски новых средств воздействия. Режиссеры активнее применяли машинерию (лифты, эскалаторы и т. п.), свет, звуковые и пиротехнические эффекты. Появились световые плакаты и кинопроекции. Мейерхольд («Земля дыбом»), Таиров («Человек, который был Четвергом»), Эйзенштейн («Мудрец») выступили инициаторами монтажной раскадровки сценического действия. Мечта о синтетическом зрелище побуждала энергично сближать театр со смежными искусствами, прежде всего с цирком, мюзик-холлом, кино, а также со спортом.
Режиссура агитспектакля разрабатывала эстетику публицистического театра, добиваясь плакатной выразительности. Гротеск, гипербола, эксцентрика, трюк определяли «левый» стиль. Работа с исполнителем строилась на фундаменте строгого рационализма: вера в могущество техники и механики побуждала распространять их законы и на актера. Так возникла «биомеханика» Мейерхольда.
К экспрессионистскому направлению примыкал ряд спектаклей на сцене Петроградского Большого драматического театра, который после смерти А. А. Блока подвергся авангардистской экспансии, – «Газ», «Бунт машин» и другие.
«Газ» Г. Кайзера (первая часть трилогии) в постановке К. П. Хохлова и Ю. П. Анненкова явился технократическим вариантом экспрессионистского стиля. Сценически воссоздавалось изображение завода, который вырабатывал газ.
Мощь индустриального «американизма» сталкивалась с пафосом протеста Кайзера против механизации жизни, против обезличивания человека. Спектакль вопреки замыслу драматурга прозвучал своеобразным гимном индустрии и технике.
Эти тенденции еще отчетливее проявились в «Бунте машин» (переработка А. Н. Толстым пьесы К. Чапека «R.U.R.»). На первый взгляд, здесь имел место знакомый мотив развенчания механизации. Но в спектакле в борьбу вступал не человек, не человечество, а «искусственные работники» – роботы. Режиссер К. П. Хохлов пытался придать столкновению роботов и людей смысл борьбы труда и капитала. Однако на сцене доминировал развернутый в декорациях Ю. П. Анненкова «апофеоз индустриальной природы».
Культ техники вел к тому, что, как и в «Газе» и иных спектаклях, снова «экспрессионистская тема протеста против механизации… оказалась повернутой в некое славословие сверхмощного техницизма».
Поэтизация урбанизма имела место и в спектакле «Человек, который был Четвергом» А. Я. Таирова. «Новое понимание» города театру виделось в том, что «город не есть зловещий демон… город есть прежде всего порядок», – это выразила конструктивистская установка А. А. Веснина.
Режиссерские наслоения порождали собственные, независимые от литературной первоосновы результаты.
Увлечение техницизмом, конструкциями, вещным миром определялось и возможностью опробовать новые выразительные средства. «Индустриализированная» сцена становилась для постановщиков клавиатурой неожиданных игровых эффектов. Преобладал функциональный подход к машинерии. Режиссура на свой лад расправлялась с индустриальными кошмарами экспрессионизма: она с восторгом театрализовала их, подсвечивая огнями рампы и прожекторов, сопровождая музыкой.
Опыты экспрессионистского спектакля оставили свой след в истории театра. В них была известная социальная острота сюжета, отражавшая (хотя и искаженно) некоторые конфликты эпохи. Ряд обретенных в этих поисках приемов и средств выражения обогащал художественный опыт советской режиссуры. В ее арсенал вошли монтаж и раскадровка, световые транспаранты и экраны, многомерность пространственных решений, игра ракурсами, кинетика плоскостей и объемов, пафос смелой ассимиляции смежных искусств, в частности кино и архитектуры.
К концу 1920-х годов завершился сложный и противоречивый этап в развитии российского театра. Этап гегемонии авангардистского искусства и нетерпимости к русской классической традиции. Театры энергично штурмовали владения Мельпомены, бесцеремонно и пристрастно ревизуя ее наследие и возможности. Эстетическое насилие и капризное самоутверждение художника-творца, эклектика стиля были возведены в сценический канон. Эксперимент подчас ценился выше результата проверки.
Итоги в целом вызывали невеселые раздумья. Сурово оценил эти итоги Станиславский. По его мнению, деятельность «левых», опыт «нового театра» доказал только, что «все внешние постановочные возможности… использованы до конца и больше в этой области искать нечего». Глубокую тревогу у него вызывало то, что «новый театр не создал ни одного нового артиста-творца, сильного в изображении жизни человеческого духа… ни одного достижения в области духовного творчества». Краски несколько сгущены, но Станиславский был недалек от истины: изощренная форма иных спектаклей не могла скрыть бедность их духовного содержания. Многое из опыта, обретенного в годы режиссерского «штурма», было затем отброшено, но кое-что пригодилось, выдержав испытание временем (обогатился технический арсенал театра, пополнились приемы публицистических заострений, пластический язык сцены и т. п.).
Однако искусство левого театра лежало вне национальных традиций русской духовной культуры.
Реалистический театр
На противоположном фланге искусства находились театры русского реалистического направления, традиционных художественных форм. В их первом ряду находились Московский Художественный театр, а также московский Малый и Александринский (тогда назывался Гос. театр драмы) в Ленинграде. Их деятельность осуществлялась в обстановке разнузданной травли, клеветы и политической дискриминации. Этот натиск исходил со стороны «Левого фронта искусств», добивавшегося монополии на художественном поприще. Неистовствовала рапповская критика. Травматичным для нормального театрального развития был и укоренившийся метод директивного (зачастую грубого и невежественного) руководства искусством, его многоступенчатая бюрократизация, где абсолютным критерием стала политическая благонадежность. Усиление официального надзора выразилось и в множестве цензурных ограничений, возраставших год от года.
По свидетельству Немировича-Данченко, МХТ был не однажды на грани катастрофы и гибели, но сам руководитель не терял веры в его жизнеспособность. И радовался тому, что среди многих театров Москвы «впереди всех по успеху пока все тот же Художественный театр (всегда полно)» – ноябрь 1921 года. Более того, Немирович-Данченко мечтал и надеялся, что МХТ накопит силы и соберется в новый, великолепный, опять первый театр в мире, свежий и богатый, на новые десять лет, по которому опять будут равняться все другие театры. Отчасти так оно и произошло. Обновленная актерами «второго призыва», труппа МХТ в 1920-1930-е годы – как считал режиссер – была лучшей в мире по ансамблю и по яркости дарований.
Руководители Художественного театра своими выступлениями (и спектаклями!) сыграли огромную роль в развенчании левых течений в искусстве. Их бездуховность, абсолютизация формы, эклектика, дилетантизм получили беспощадную оценку Станиславского и Немировича-Данченко. Станиславский в последних главах книги «Моя жизнь в искусстве», написанной в 1923 году, протестовал против увлечения новизной ради новизны, театральностью ради театральности, против пристрастия к тому, что «более доступно глазу и уху» в ущерб большим чувствам, жизни человеческого духа. Резко выступил против профанации театра и Немирович-Данченко. В статье «Шарлатаны» (1923) он разоблачал и осмеивал «нагло-самоуверенных», крикливых фальсификаторов, которые властно врываются в атмосферу современных искусств, «портят воздух удушливостью», обманывают зрителей «подменой», суррогатами, мнимой новизной, подчиненной постороннему, коммерческому расчету, разрушающему чистоту и целомудренность художественной правды. «Чем в толпе больше жажды новизны, – говорилось в заключение статьи, – тем раздольнее шарлатанам… В русской толпе шарлатанству так же обеспечен успех, как и хлестаковщине. Эти два явления очень родственны»14.
Авангарду решительнее всего противостоял Художественный театр, его спектакли, поставленные великими деятелями сцены Станиславским и Немировичем-Данченко.
На сцене МХАТ продолжали идти спектакли, созданные еще до революции: по пьесам Чехова, Горького, Льва Толстого. Они не утратили ни социального смысла, ни человечности.
После триумфального успеха «Чайки» (1898) театр избрал своей эмблемой силуэт летящей чайки. В те первоначальные годы приподнятым, полетным было мироощущение молодой труппы, в содружестве с Чеховым окончательно уверовавшей в свое будущее. Театр почувствовал в его пьесах близкий себе мотив – тоску по гармоническому, солидарному существованию людей, которые разобщены. Не певца сумерек и беспочвенности, не унылого скептика увидели и открыли в Чехове (в отличие от модернистов) Станиславский и Немирович-Данченко, а писателя, который, как им казалось, призывал «менять все общими усилиями».
При всей органике и закономерности союза МХТ с Чеховым (интеллигентный театр, интеллигентный драматург, пьесы об интеллигенции) в этом соединении многое крепилось и взаимным умилением, и тенденцией идеализации драматурга театром. Чехову изображаемое виделось комедиями («Чайка», «Вишневый сад»), а театр клонил к драматическим тонам. Автор готов был улыбаться и в ключевых сценах своих главных пьес, – скажем, отнюдь не драматизирована сцена из «Вишневого сада», где этот самый сад под корень вырубают под звуки танцевальной музыки еврейского оркестра… Да и Станиславский, словно вспомнив, что сам он еще и капиталист, смотрел на гибель сада глазами купца Лопахина: «Он хранит в себе… поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого». Лопахин был столь симпатичен режиссеру, что он мечтал о таком его исполнителе, который бы обладал размахом Шаляпина, чтобы всей мощью «рубить отжившее».
И в 1920-е годы спада интереса у публики к спектаклям МХАТа и, в особенности, к Чехову не обнаруживалось. Именно чеховские спектакли пользовались неизменным успехом.
Деятели МХАТа видели в драматурге романтика, который мечтал о Человеческом с большой буквы, видели проповедника, быть может, и несбыточной, но прекрасной, идеальной мечты о будущем, о Человеке, которому нужны не «три аршина земли», а весь земной шар. В его пьесах режиссеры МХАТа ощутили способность пробуждать чувства, которые связаны с «нашими большими переживаниями – религиозными ощущениями, общественной совестью, высшим чувством правды и справедливости, пытливым устремлением нашего разума в тайны бытия»15. Этот угаданный и творчески домысленный Станиславским подспудный смысл чеховской драматургии режиссер стремился раскрыть в спектаклях: «Тончайшие ощущения души проникнуты у Чехова неувядающей поэзией русской жизни. Они бесконечно близки и милы нам, неотразимо обаятельны».
В послеоктябрьский период мхатовская Чеховиана, хотя и не сопрягалась со временем в социально-политическом смысле, выигрывала в другом – спектакли МХАТа как раз времени и противостояли. Среди кровавых оргий эпохи, общего одичания, страшного попрания всех социальных и нравственных норм непритязательные чеховские герои остались камертоном человечности, интеллигентности, нравственной просветленности, памятью о жизни, одухотворенную красоту которой не оценили и не сумели сберечь. В 1920-е годы это еще было важно и как противостояние разгулу бездуховного фальшивого авангардистского искусства. О неотразимом нравственном воздействии чеховских спектаклей Художественного театра и, в частности, образов, созданных Станиславским, сохранилось немало свидетельств. В связи с возобновлением «Дяди Вани» во МХАТе (1926) один из критиков поставил ему в заслугу то, что «на первый план правдиво и ярко выступили человек и человечность, мы соскучились о человечности»16. Известный историк Художественного театра Н. Н. Чушкин свидетельствовал: «Астров Станиславского меня потряс… был воспринят как откровение… повлиял на всю мою дальнейшую жизнь».
Режиссеры и артисты МХАТ строили театр, в котором талантливо раскрывалась жизнь человеческого духа, и актер выступал не в роли лицедея, развлекающего публику, а становился проповедником добра и красоты. Традиционные для русского искусства человеколюбие и правдоискательство нашли развернутое воплощение в их творчестве. Отстаивая реализм, правду чувств, живого человека, как основу национального искусства, мхатовцы возвращали театру живую психологию, искали театральность пьесы не в искусственных преувеличениях формы, а в скрытом внутреннем психологическом движении. Именно так ставились произведения русской классики.
По отношению к «Левому фронту» Станиславский и Немирович-Данченко были непримиримы и беспощадно его критиковали.
Вакханалия самодовлеющего формотворчества, псевдоноваторство вызывали резкие протесты Станиславского.
Он не мог смириться с тем, что «режиссеры» пользовались актером не как творящей силой, а как пешкой, которую переставляют с места на место, не требуя при этом внутреннего оправдания того, что они заставляют актера осуществлять на сцене. Его возмущал лжегротеск, попытки превратить исполнителей в «мертвые, бездушные куклы», подвергнуть актеров обработке, при которой они «становятся наиболее страдающими и истязуемыми лицами».
Протестуя против захлестнувших сцену левацких экспериментов, Станиславский прозорливо отметил, что так называемые «новые веяния» не являлись естественной эволюцией в актерском деле, а «лишь искусственно привитой модой».
В неменьшей степени Станиславского тревожила проблема национальной самобытности русского театра, проблема ее сохранения и упрочения. В первые годы революции и в начале 1920-х годов в связи с агрессией авангардистских, космополитических и воинствующе антирусских тенденций в художественной жизни он волновался по поводу тяжелого положения русского национального театра, в сферу которого он включал театры: провинциальный (он «разрушен»), Александринский в Петрограде, московские Малый и Театр Корша и наиболее сохранивший устои – МХАТ. Многие мысли Станиславского и сегодня звучат остросовременно. Оценивая театральную Москву послереволюционных лете ее «огромным количеством театров и направлений», он замечал: «Пусть все из них интересны, нужны. Но далеко не все из них органичны и соответствуют природе русской творческой души артиста. Многие из новых театров Москвы относится не к русской природе и никогда не свяжутся с нею, а останутся лишь наростом на теле»17. Критикуя псевдоноваторство, компилятивность, бездуховность и дилетантизм «левых» сценических течений, основанных, как правило, на «теориях иностранного происхождения», Станиславский всматривался в корни опасной болезни. «Большинство театров и их деятелей – нерусские люди, не имеющие в своей душе зерен русской творческой культуры», – писал он.
И позднее, волнуясь по поводу того, что силы, чужеродные Художественному театру, действуют внутри его (в частности, группа, возглавлявшаяся режиссером И. Я. Судаковым), он настаивал на том, чтобы «отделить уже назревшую группу судаковцев», и сетовал по поводу того, что «начальство» на это не соглашалось. Он был убежден (1934): «В течение почти десяти лет судаковская группа не может слиться и никогда не сольется с МХТ… Это кончится плохо, сколько бы ни представлялся Судаков моим ярым последователем. У всех этих лиц другая природа. Они никогда не поймут нас»18.
В ту пору Станиславский настойчиво указывал, что театр и его искусство стали, как никогда, нужны человечеству для самых высших и благородных целей. Протестуя против театра «забавляющего», против «режиссерских трюков», он призывал его служителей отдать свои силы «ради национальной, патриотической и общечеловеческой цели» – показать «душу целого народа».
Всему, что исходило от режиссерского штукарства, что шло от «зрелища» и было обращено только к «глазу и уху» публики, была объявлена война.
Спектакли «академических» театров следовали традициям национальной культуры: на их подмостках торжествовало искусство, которое пренебрегало фантасмагорией маскарадности, узорчатостью, витиеватостью игры, звонами шутовских бубенцов, пряностями и чарами «чистой» театральности. Цель смысл и поэзия творчества виделись в ином. Канон древних определял прекрасное как блеск истины. Русская традиция, чуткая к задушевности, сердечности, утверждала красоту, которая, как заметил Пушкин, должна быть еще и блеском добра, добром в действии.
В эпоху, когда, как писал Станиславский, «кинематограф и зрелищный, забавляющий, постановочный спектакль забивают театр и его подлинное искусство» (в наши дни этот натиск обрел удесятеренную силу), режиссер ратовал за «другой», идейный театр, который нужен человечеству для самых высоких целей, – создавать подлинную жизнь человеческого духа на сцене, «согреть душу простого зрителя», но одновременно показывать и «душу целого народа».
К концу 1920-х годов в соперничестве двух направлений в театральной культуре – космополитического авангарда и русского национального реализма – явственно обозначились исчерпанность, бездуховность, гипертрофированный биологизм, формализм авангардизма, мейерхольдовской сценической школы. Попытки «левого фронта» канонизировать свою систему, претензии на политическую и художественную гегемонию – провалились.
На исходе этого десятилетия наметилась новая фаза обновительных процессов. Рождалась новая драматургия, восстанавливалась адекватность в истолковании классики. Пробиваясь к правде жизни, лучшие театры утверждали свое искусство на путях психологического реализма и содержательного жизнеподобия. Подтверждением тому были спектакли «Пугачевщина», «Дни Турбиных», «Горячее сердце» (МХАТ), «Любовь Яровая» (Малый театр), «Шторм» (Театр им. МГСПС), «Воздушный пирог» и «Конец Криворыльска» (Театр Революции) и другие.
И становилось все очевиднее, что не гегемония, не самовластье режиссуры, а опора на драматургию, тесный союз с актером способны дать театру дальнейшее движение, уберечь от ложных путей. Об этом заговорили и некоторые из большевистских вождей. Преодолевая свои космополитические пристрастия, А. Б. Луначарский декларировал необходимость защиты «великого русского языка», «русского реализма». Ещё в 1925 году (в докладе «Основы театральной политики Советской власти») нарком просвещения предполагал возможность нормализации художественного процесса, связывая будущие завоевания искусства с верностью «драгоценным формам прошлого».
Вместе с тем конец двадцатых явился началом новой волны преследований научной и художественной интеллигенции. Усиливалась политическая цензура, репрессивные методы против инакомыслия становились нормой. Большевистская командная система, подчиняя себе разные сферы общественного бытия, постепенно двигалась к унификации творческого метода, все настойчивее требовала организационного и идейно-эстетического единства (на практике – однообразия) художественной деятельности – соответственно взглядам и вкусам властных политических вождей.
Примечания
1 Бухарин Н. Экономика переходного периода. М., 1920.
2 Сб. «Власть и художественная интеллигенция», М., 1999. С. 163.
3 «Петербургские новости», 1911, 4 октября.
4 Литературное наследство. Т. 89. Блок. Письма к жене. М.: Наука. 1978. С. 354.
5 Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. М.: Искусство. 1968. С. 3.
6 Рампа, 1924, № 5. Или Мейерхольд в русской театральной критике. М., Артист. Режиссер. Театр. 2000. С. 142.
7 Луначарский А. В. Об изобразительном искусстве. Т. 2. М.: Советский художник. 1967. С. 116.
8 Русский советский театр. 1921–1926. Л.: Искусство. 1975. С. 208.
9 Кугель А. Р. Профили театра. М.: Совкинопечать. 1929. С. 96.
10 Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. М.: Искусство. 1968. С. 322.
11 Там же. С. 165.
12 Встречи с Мейерхольдом. Сборник воспоминаний. М.: ВТО. 1967. С. 418.
13 Большой драматический театр. Л.: БДТ. 1935. С. 128.
14 Немирович-Данченко В. 77. Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки. М.: ВТО. 1980. С. 264.
15 Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве / Станиславский К. С. Сочинения в 8 тт. Т. 1. М.: Искусство. 1954. С. 224.
16 Ермолинский С. «Дядя Ваня» (МХАТ). Комсомольская правда, 1926, 4 июня. Или МХАТ в русской театральной критике. Ч. 1. М., Артист. Режиссер. Театр. 2009. С. 179.
17 Станиславский К. С. Мое гражданское служение России. М.: Правда. 1990. С. 597.
18 Станиславский К. С. Сочинения в 8 тт. Т. 8. М.: Искусство. 1961. С. 355.
Русская драматургия в Европе М. А. Дмитриева
Драматургия русского зарубежья первой волны – явление разноликое, неоднородное и мало изученное. Здесь много имен, совершенно неизвестных современному читателю. Однако эти авторы, иногда «невысокого литературного калибра», по выражению Г. Струве, создали необходимый драматургический фон, откликнулись на духовные интересы и ожидания русской эмиграции. Вначале это были пьесы, посвященные последним трагическим событиям русской истории – разрушению Российской империи, убиению царской семьи, укреплению новой большевистской власти, тяжелой заграничной жизни «в рассеянии сущих». Это, например, были пьесы Павла Северного (1922) и Петра Крачкевича (1928) об убийстве в 1918 году Николая II. Со временем тематика пьес мало менялась. Так, в пьесе Леонида Изюмова «Отзвуки минувшего» (Белград, 1924) вспоминались события французской революции, но параллель проводилась всеми узнаваемая – между казнью Марии Антуанетты 17 октября 1793 года в Париже и расстрелом царской семьи в Екатеринбурге. Однако, как писала Нина Берберова, русской публике был нужен не только театр-воспоминание, но и театр-зеркало, в котором бы отражалась жизнь.
И такой театр возник. Поиск ответа на тяжелые вопросы бытия заставил драматургов обратиться к библейской поэтике. Исполненные горечью и отчаянием, авторы подходили к материалу с определенной этической меркой, с выстраданным стереотипом: большевики – представители вселенского зла, разрушители жизни, культуры, традиции. «Бывшие имперцы» – несчастные жертвы, отправленные на заклание. Так, А. Котомкин-Савинский, талант которого за рубежом в полной мере раскрылся в гуслярской поэзии и игре, написал пьесу «Сатанисты» (Прага, 1921), где описал террор большевиков в Ташкенте. Обвинительный приговор чекистам выносит одна из героинь в завершающем произведение монологе: «Вы нелюди… Вы сатанисты… Проклятые!»1.
В такой же оценочной манере работал и Михаил Арцыбашев, занимавший жесткую антисоветскую позицию. Он был самым непримиримым противником большевистского режима среди русских эмигрантов в Польше. Известно, что его газетные выступления в связи с процессом М. Конради, убившего советского дипломата В. В. Воровского, способствовали тому, что убийца был оправдан.
В книге «Вечный мираж» (1919 г.) Арцыбашев последовательно излагал свои взгляды на религию и революцию. Арцыбашев видел в религии только мечту человека о лучшем будущем и считал, что в самые отчаянные времена христианство в русском обществе было подменено лжерелигией социализма. В результате Арцыбашев провозглашал либерально-интеллигентскую точку зрения: если религия необходима, ею должна быть любовь к человеку, только вот какой должна быть эта любовь, он не определил.
Кроме того писатель называл себя последователем библейского царя Соломона, «единственным современным представителем экклезиастизма»2. Арцыбашев абсолютизировал пессимистические мотивы Книги Екклезиаста, не замечая в ней указанного выхода – приятия Промысла Божия. В таком же эк-клизиастическом духе написал он в эмиграции драму «Дьявол» (1925), которая в течение многих лет с огромным успехом шла на подмостках театров Варшавы, несмотря на довольно запутанный абстрактно-символический сюжет. Это было некое попурри, сложное хитросплетение разнообразных аллюзий, цитаций и парафраз из произведений мировой и русской литературы с экзистенциальным содержанием. Тенью прошли в пьесе пушкинский Каменный гость, промелькнули отсылки на произведения Достоевского и Леонида Андреева. Полемически глубокие фрагменты этих произведений теряли свою богословскую остроту, сохраняя только отрицательно-мрачный пафос. В результате мир в пьесе представал грандиозным дьявольским балом со множеством аллегорических масок. В калейдоскоп запутанных мистификаций Арцыбашев вписал собственную версию легенды о Фаусте, отталкиваясь от канонического гетевского текста. Он стремился связать историю о Фаусте с современностью, «со злобой наших дней»3. Эмиграции жизненно важно было увидеть свою жизнь включенной в раму вечных сюжетов о борьбе добра со злом. И Арцыбашев не жалел красок, разворачивая перед зрителем мрачные пропасти ада. В Прологе пьесы говорилось:
Легенда старая, но мысль ее нова <…> Услышите вы здесь и старую, как время, И вечно юную историю о том, Как человек, отчаяньем томимый, В бессмысленной борьбе с судьбой неумолимой Не видя выхода и счастия нигде, Запродал душу Сатане 4.В отличие от гетевского творения, в пьесе Арцыбашева торжествует Мефистофель, а не ангельский мир. Спор за душу Фауста ведется не между Богом и Дьяволом, а между Дьяволом и одной из «ипостасей» Бога, по вольной интерпретации Арцыбашева, – Духом любви. Арцыбашев не боялся модернистских богословских измышлений, следуя в этом хотя бы Д. Мережковскому. В варианте Арцыбашева Фауст еще и слеп. Эту слепоту зрителю надо воспринимать символически, благодаря слепоте Фауст избавлен от знания настоящего мирского зла. Мефистофель заключает пари с Духом любви, убежденный, что Фауст, обретя зрение, через год сам будет искать смерти, разуверясь в людях. Сам Дух любви у Арцыбашева декларирует романтические социально-революционные лозунги, прямо в духе шиллеровской «Оды к радости». Он прославляет «идею светлую всеобщего слиянья» всех со всеми:
В объятьях братских. Радость созиданья Заменит жажду разрушенья, и тогда Над миром вновь взойдет прекрасная звезда В сиянье радостном свободы и равенства…5Таким образом, упрощается и роль Фауста, он становится вождем-революционером, провозглашающим равенство, братство и свободу. Этот драматургический пассаж должен был создать у зрителей впечатление, что именно им, в начале двадцатого века, суждено пережить «новое обличие Фауста», его новый приход, последний и самый безнадежный. Гетевский Фауст был избавлен от самоубийства звоном пасхальных колоколов, а в финале освобожден ангелом из рук Мефистофеля. Герой Арцыбашева в противовес своему предшественнику выпивает яд «забвенья смертного, как воздуха, алкая…» 6. Политически подчеркнутым оказывался момент появления в пьесе трех человек из Комитета – прямая аллюзия на трех правителей Советской России: Ленина, Троцкого и Каменева, как раз в минуту фаустовского ликования («Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»). Комитетчики объясняют герою-романтику, что революция может быть замешана только на крови, а братство и мир достанутся не всем:
Инакомыслящих мы потерпеть не можем! С лица земли мы их стереть должны, И знайте, если мы их всех не уничтожим, На гибель сами мы тогда осуждены!7.Оказывается, сам дьявол был «Постановлением Верховного Совета <…> председателем назначен Комитета» 8. В финальной ремарке, в лучших традициях модернистского театра, спародированного еще Чеховым в «Чайке», автор подчеркивает торжество зла: «Закрыв лицо руками, медленно удаляется Дух любви, опускаясь во тьму. Красный свет озаряет фигуру Дьявола, который стоит, хищно простирая руки над миром и гордо подняв безобразную голову» 9. В общем, страшно…
Вывод М. П. Арцыбашева был печален. По его убеждению, в 1917 году не только в России свершилась окончательная победа мирового Зла над Добром, но в масштабе всего мироздания. Литературоведы считают, что «столь безапелляционно мрачного финала в решении глобальных проблем космического миропорядка мировая литература не знала». Это пессимистический вывод был близок религиозно-философским предчувствиям Д. Мережковского и других авторов книги «Царство Антихриста» (Берлин, 1922).
Сравнение советского общества с дьявольским театром возникает и в финале пьесы Н. Евреинова «Шаги Немезиды» («Я другой такой страны не знаю…»), рассказывающей о жизни партийной элиты. Образ справедливой богини возмездия приобретает апокалиптический оттенок. Этот мотив введен неожиданным сценическим приемом: слова диктора из радиоприемника звучат как приговор: «Немезиде невтерпеж. Мы уже слышим энергичную поступь ее приближающихся шагов».
Мотивами мщения и гнева насыщена и драматургия В. Набокова. С советской властью у него были не только идейные, но эстетические разногласия. Писатель относился к коммунистическому режиму с брезгливостью, презрением, отказывал ему в каком бы то ни было праве наследования русской культуры. Набоков не питал иллюзий по поводу возрождения России. Россия для него завершилась навсегда, и все, что поисходило после 1917 года, к ней не имело никакого отношения. Дальше, говоря словами одного из персонажей романа Набокова «Подвиг», была лишь одна «блатная музыка». «Раньше всего, – обращается главный герой пьесы "Человек из СССР" к бывшему помещику, решившему от эмигрантской тоски бежать в Советский Союз, – отучитесь говорить "Россия". Это называется иначе».
На появившийся на сцене и литературе устойчивый психологический тип русского беженца обратил внимание Н. А. Бердяев: «Тип "белого" эмигранта вызывал во мне скорее отталкивание. В нем была каменная нераскаянность, отсутствие сознания своей вины и, наоборот, гордое сознание своего пребывания в правде… Свобода мысли в эмигрантской среде признавалась не более, чем в большевистской России. На меня мучительно действовала злобность настроений эмиграции. Было что-то маниакальное в этой неспособности типичного эмигранта говорить о чем-либо, кроме большевиков, в этой склонности повсюду видеть агентов большевиков. Это настоящий психопатологический комплекс, и от этого не излечились и поныне»10.
Положение эмигрантской элиты было, действительно, неустойчиво и трагично. Как заметил исследователь, «это было собрание индивидуумов, разъединенных своей самоценностью»11. Собиранию русского театрального эмигрантского мира способствовали возникающие союзы, например, Союз сценических деятелей 1927 года, в Париже. Среди его целей значилась в старинном духе заповедь: «охрана достоинств и интересов русского искусства, в особенности театра»12. Председатель Союза, князь Сергей Волконский, желая избавить эмиграцию от гнетущего бремени инородности, давал духовное прочтение понятию странник, так болезненно воспринимаемому в эмиграции: «Странствие есть память, это прошлое в настоящем. Никакая пустыня не пуста, когда есть, что вспомнить, всякое свое странствие человек в себе несет, с собой несет, потому что каждое меняет его, после каждого он уже не тот» 13.
Любимая эмигрантской публикой Парижа актриса Мария Германова прямо писала о необходимости христианского пути для театральных деятелей: «Всякий артист, который чего-нибудь стоит, должен быть верующим и хранить огонь веры во глубине своей души»14. Она не испытывала особых надежд на гармоничное существование в отрыве от России, остро переживала потерю русской культуры, в том числе и в области театра, но стремилась, как могла, если не на родине, так в зарубежье, остановить этот обвал своими силами. На преодоление нравственного кризиса надеялись и другие драматурги.
Знаменательна в этом смысле пьеса писателя и драматурга Ильи Сургучева «Реки Вавилонские»(1922), поставленная в Русском театре в Праге. Кроме известной беженской тематики здесь звучит призыв к бодрости и жизнестойкости, формулируется религиозно-философская мысль о России. Неслучайно в пьесе вспоминается и древнерусский текст «Слова о погибели русской земли». Россия переживала тяжелые исторические вехи, но возрождалась и крепла – уроки истории поддерживали и укрепляли Сургучева в его политической и литературной деятельности. Известно, что незадолго до смерти Сургучевым были написаны следующие строки: «…И не было ни войн, ни революций. Стоит, как град Петров, Россия, и никакие врата адовы не одолеют ее» 15.
Пьеса «Реки вавилонские» была посвящена жизни русских эмигрантов в одном из лагерей близ Константинополя. На фоне тяжелого беженского быта возникает любовь бывшей помещицы, замужней дамы Нины Александровны к русскому Художнику. Персонажи пьесы – «бывшие» люди Российской империи – прокуроры, губернаторы, адвокаты, артисты. Обитатели лагеря знают, что домой возвратиться не могут, но, несмотря на невзгоды, налаживают жизнь на чужбине. В пьесе вспоминают, что в Европе особенное впечатление производил некогда русский синодальный хор, четырехголосное пение. Но на предложение Англичанина исполнить духовные песнопения Художник пафосно отвечает, используя цитату из 136-го псалма Псалтыри: «Не споем. Знаете, как евреи на реках Вавилонских? Они развесили на вербах замолкшие лютни свои и отвечали: "Како воспоим песнь Господню на земле чужой?" Нет, гордый бритт, <…> петь наши национальные песни сейчас мы не будем. <…> мы подождем…»16. Понятно, что ждать нужно будет долго, может быть, до конца дней. К такому терпению беженцы готовы.
Однако меланхолически-покаянный мотив довольно быстро перерастает в брюзжание и бытовое филистерство беженцев. Возникает пародийная перекличка с пьесой «На дне» М. Горького. В череде тостов персонажей, звучащих в «Реках вавилонских» в Рождественскую ночь, нет ни одного – за русскую армию, за русских офицеров17.
Противоположностью к этим настроениям является боевая программа офицера Эргардта, супруга Нины Александровны. Сам Эргардт сравнивает свое неожиданное для всех появление в лагере с понятием «Бога из машины», как в античных трагедиях. Выражение «Deus ex machine» было крайне символично для Сургучева. В июле 1921 г. в очерке «Жертва вечерняя» он сравнивал Россию с «deus ex machina»: «И всюду так, и всегда, начиная с монгольского ига, Россия кого-то спасала, устраивая чужое довольство и счастье. Везде, всегда мы были в роли того «Deus ex machina», который является человеку в трудную минуту и разрубает гордиев узел всяческих неудач и злоключений. Не маленький народ, а самая могущественная, самая великая, самая обильная страна мира добровольно легла под нож социализма. Шестая часть света отдала свои бесконечные земли, свои дремучие леса, свои моря, свою церковь, свою семью, свою славу, свою честь – все отдала под социалистическое опытное поле. <…> И опять, во второй раз, была спасена Европа. Своим позором, своим великим разореньем и униженьем во второй раз спасла ее Россия» 18.
И сам И. Сургучев в период своего собственного «константинопольского сидения» принимал самое деятельное участие в пропагандистской кампании по сохранению Русской армии, проводимой главой Русского Бюро печати в Константинополе Н. Н. Чебышевым. В феврале 1921 г. при Бюро печати был создан журнал «Зарницы» – «полуофициальный» орган Ставки Верховного командования Русской армией, а затем и Русского Совета. Почти тысяча экземпляров каждого выпуска бесплатно отправлялось в лагеря Галлиполли, Чаталджа и на Лемнос 19.
Итак, вечной тоске беженцев Сургучев надеется противопоставить духовный стоицизм и политическую борьбу. Многочисленные аллюзии и цитации из русской и мировой литературы в пьесе «Реки вавилонские» создают не только привычный для «беженской» литературы ностальгический антураж, но и комически обыгрывают неизменное интеллигентское нытье. «Подайте типу Максима Горького» – говорит бывший Губернатор в пьесе. Николай Евреинов в «Эволюции русской драмы» также пародийно заставляет причитать героиню весь спектакль: «Ах, если бы увидеть Кременчуг»,20 напоминая «в Москву, в Москву» из «Трех сестер».
Однако идейная программа Сургучева шла дальше трагического фарса. Насыщенное нагнетание цитат и реминисценций из русской и зарубежной литературы создавало ощущение того, что от бывшей жизни остался один текст, да и тот поверхностно воспринятый, только на уровне слов, а не метафизики. Наступило время духовных перемен, страдания во спасение, время наказания за былое равнодушие. Реплика Седьмого персонажа из толпы: «Вот когда человечество воистину, по-настоящему, съело плод с древа познания и добра и зла, и вот теперь по-настоящему, воистину, Бог выгнал его из рая. Не нужно было бы так много знать, господа… <…> Это вернее, чем вы думаете. Лишь только теперь мы увидели свою наготу. Вы смотрите, вы подумайте, только теперь узнав и цену чести, и цену крови, и цену стыда, и цену боли, и цену уважения человеческого достоинства, – все узнав! – мы впервые почувствовали свою наготу…»21. «А я, господа, думаю, что все, что сейчас в России случилось, – все ей на превеликую пользу пойдет. Правильно все случилось, по заслугам! <…> Оно, господа, если руку на сердце положить, то большевики, конечно, мразь, – но они много правильного сотворили… Много!»22 – говорит один из персонажей.
Таким образом, в противовес возникшей в 1920-е годы в Русском зарубежье драматургии мщения, Сургучев создает пьесу о необходимости духовного единения интеллигенции за рубежом, пробуждения от долгого интеллигентского сна. Он предлагал увидеть в новом страшном историческом круговороте испытание, данное душе во благо. В противном случае рискует сбыться известное пророчество Достоевского о «русских за границей» из романа «Идиот»: «И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия… помяните мое слово, сами увидите!»23 В пьесе звучит много философско-религиозных размышлений о России, замечается ее ведущая, охранительно-христианская роль в европейской истории.
В то же время офицер Эргардт оказывается в финале пьесы сломленным, так как не может перенести измены жены. В предсмертной молитве, обращенной к Богу, Эргардт просит Творца: «Прими же дух Твой, который Ты вселил в меня, и вдохни его в нового человека, и покажи ему, как Ты показал мне, дали Твои, широты Твои, святости Твои. И не казни его любовью земною…»24. Некоторые исследователи допускают, что это обращение можно трактовать в духе буддийского догмата о перевоплощении душ.
Чуждая православному канону, молитва Эргардта воспринимается со знаком вопроса. Да и вообще, прямые упоминания персонажей «Вавилонских рек» о вере отзываются темой «грядущей синтетической религии»-очевидно, в духе всемирной религии Н. Рериха, что говорит об абсолютном церковно-православном индифферентизме героев Сургучева. Персонаж под «№ 20» заявляет: «Этот век создаст новую религию, новую нравственность»25.
Итак, драматургия первой волны русской эмиграции характеризуется двумя основными тенденциями. Одни авторы разрабатывали тему ожидаемого яростного возмездия и апокалиптически, в «образе зверя» воспринимали большевистскую власть. Другие драматурги, выбрав более мягкий путь, рассматривали творящуюся на их глазах историю в ритмах собственного покаяния и жили надеждой на грядущее собирание России и русских сил. В то же время на драматургию ранней эмиграции сильно повлияло модернистское отношение к христианской религии, сложившееся в начале двадцатого века. Отсюда следует крайний либерализм и индивидуализм в трактовке и восприятии христианской образности.
Примечания
1 Котомкин-Савинский А. Сатанисты. См.: Славяне и Восток. Сб. I / Под ред. В. Е. Белановича-Вубова и А. Е. Котомкина. Прага, 1921. С. 73.
2 [Электронный ресурс] // .
3 Арцыбашев М. П. Записки писателя. Дьявол. М., 2006. С. 503.
4 Там же. С. 501–502.
5 Там же. С. 506.
6 Там же. С. 678.
7 Там же. С. 648.
8 Там же. С. 651.
9 Там же. С. 682.
10 Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. М., 1990. С. 230.
11 Литаврина М. Г. Русский театральный Париж. СПб., Алетейя. 2003 // Предпосылки возникновения русского театра. С. 25.
12 Цит по: Литаврина М. Г. Русский театральный Париж // Театр в русской диаспоре. Полемика среды. С. 35.
13 Волконский С. Быт и бытие // Воспоминания: В 2 т. Т. 1. М. 1992. С. 192–193.
14 Цит по: Литаврина М. Г. Русский театральный Париж // Пражане в Париже. Мария Германова и ее труппа. С. 87.
15 Борисенко С. Н. Душа его с Россией не простится… [Электронный ресурс] // http:// /.
16 Сургучёв И. Д. Реки Вавилонские // Литература русского зарубежья. М., 1990. Т. 1. Кн. 1. С. 274.
17 Николаев Д. Д. «Реки Вавилонские» И. Д. Сургучева: поэтика и контекст. [Электронный ресурс] // http://www. academia.edu/989158/Reki_Vavilonskije_l._Surgucheva._ Poetika_i_kontext_by_D.D._Nikolaev (дата обращения 12.03. 2016).
18 Там же.
19 Там же.
20 Литаврина М. Г. Русский театральный Париж. Строительство театра. С. 128.
21 Николаев Д. Д. «Реки Вавилонские» И.Д. Сургучева: поэтика и контекст. [Электронный ресурс] // http://www. academia.edu/989158/Reki_Vavilonskije_l._Surgucheva._ Poetika_i_kontext_by_D.D._Nikolaev (дата обращения 12.03. 2016).
22 Там же.
23 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 8. С. 510.
24 Сургучёв И. Д. Реки Вавилонские // Литература русского зарубежья. М., 1990. Т. 1. Кн. 1.С.265
25 Сургучёв И. Д. Реки Вавилонские // Литература русского зарубежья. М., 1990. Т. 1. Кн. 1. С. 284.
Кино
Кинематограф на переломе истории В. А Гусак
Период 1917–1934 гг. непросто поддаётся описанию – по причине отсутствия фильмов, которые могут настраивать исследовательскую оптику. Собственно, вопрос заключается в самом наличии картин, где проявляются христианские смыслы. Таких примеров – убедительных как с точки зрения прямого обращения к христианским ценностям, так и опосредованного их отображения – обнаруживается не много. Приходится признать, что ни в начале своего пути в России, ни тем более при ранней советской власти кинематограф не смог выработать модель христианского миросозерцания, доступную массовому зрителю, способную раскрыть тот духовной процесс, который описал философ И. А. Ильин в своей знаменитой работе «Основы христианской культуры»: «Человеку „от природы“, следовательно, от Бога, дан некий способ земного бытия, трёхмерная живая телесность, душа с её разнообразными функциями и силами, индивидуальная форма жизни и инстинкта; сила любви и размножения, голод и болезни, сопричисленность к вещам и животным на положении их разумного и благого господства, раздельность и множественность людей; необходимость творческого труда и хозяйственного предвидения; климат, раса, язык и т. д. Из этого данного нам способа земной жизни вытекает множество неизбежных для нас жизненных положений, заданий и обязанностей, которые мы и должны принять, осветить и освятить лучом Христианского Откровения и изжить практически, в трудах, опасностях и страданиях, приближаясь к Божественному и одолевая противобожественное» [4, с. 319].
Здесь встаёт ещё одна проблема. Заключается она в сложности отображения Божественной природы и связанной с нею святости средствами кино, оперирующего «внешними» материальными формами. Отсюда возникает необходимость в особом киноязыке, нормативной эстетике, способных выразить суть христианской сакральности. Известный отечественный мыслитель Ф. А. Степун в статье «Кино и театр», появившейся в ту пору, когда кино было ещё далеко до зрелого возраста, описал сущностные различия между двумя, обозначенными в названии, искусствами. Отводя кинематографу место в семье сугубо светских художеств – в отличие от театра, зародившегося как часть религиозного ритуала – Степун, прежде всего, обращает внимание на техническую природу кинематографа. С этим философ связывает и само качество кинематографической художественности, порождаемых ею кинематографических смыслов. «Давно известно, что миросозерцание всякого художественного произведения существенно раскрывается не в том, о чём оно говорит, а в методах и формах самого речения» [9, с. 63] – подытоживая этой мыслью свой текст, Степун отмечает ориентацию кинематографа на техническое выражение реальности, где монтаж, создающий искажённую субъективную картину тварного мира, является одним из основных методов [9].
Кинематографическая ситуация с 1917-го до середины 1930-х годов позволяет увидеть две значительные тенденции. С одной стороны, раннее советское кино не могло просто отвергнуть русский дореволюционный кинематограф со всем его художественно-производственным опытом; с другой – создавало новое киноискусство с арсеналом оригинальных выразительных средств и централизованной системой государственного кинопроизводства. Последняя тенденция, претерпев развитие и породив ряд образцовых картин, пройдя затем испытание звуком, вывела отечественный кинематограф к новым рубежам – к фильмам «социалистического реализма».
После национализации (декрет Ленина о переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения от 27 августа 1919 г.) кинопроизводство в России оказалось полностью под контролем государственных органов – прежде всего, Всероссийского фотокиноотдела (ВФКО), осуществлявшего положения декрета, а также Кинокомитета, вскоре сосредоточившего под своим управлением всё киноимущество страны. Кинокомитет управлял национализированным кинематографом, видя в нём средство пропаганды и утверждения большевистской идеологии.
Учитывая все обозначенные исторические и эстетические условия, ниже мы рассмотрим наиболее очевидные примеры. Некоторые из них известны и неоднократно описаны в киноведческих исследованиях. Более всего примеры эти интересны тем, что христианские смыслы в них проявляются как бы сами собой, ввиду обращения к ним авторов «по мере необходимости», и являются прямыми заместителями образов религиозного характера.
До августа 1919 года в России продолжался недолгий период, когда в прокат выходили фильмы, чьё производство началось ещё до октября 1917-го. Особенно продуктивным на картины, сохранявшие стилистические особенности фильмов дореволюционной поры, художественные качества которых определялись законами коммерческого кино, оказался 1918-й год. Заслуживает упоминания так называемый «сатанинский цикл» – ряд фильмов с бульварным сюжетом, замешанным на мистике, и снятых как коммерческая продукция частных кино-фабрик. Сюда же следует отнести и серию фильмов «Ищущие бога», в каждом из которых рассказывалось о сектах предреволюционной России.
«Ищущие бога» появились и дошли до кинотеатров по ряду причин. Прежде всего, из-за продолжавшего существовать частного кинопроизводства, которое сохранялось в Крыму, не занятом частями Красной армии до 1920 года.
В Ялте, например, снимаются такие фильмы как «Девьи горы» («Легенда об антихристе») (1919) Александра Санина, «Отец Сергий» (1918) Якова Протазанова. Киновед Р. Янгиров так пишет об «Отце Сергии» и о фильмах ялтинской кинофабрики: «Одной из немногих художественных удач этого периода стал протазановский фильм "Отец Сергий", причисленный сейчас к числу вершинных достижений раннего русского кино. Художник Александр Лошаков мастерски воспроизвёл в нём интерьеры православного храма, но главным украшением картины стала тонко исполненная Иваном Мозжухиным роль духовного лица. <…> эта и некоторые другие удачи вселили в ценителей кинематографа надежду на новые успехи, но революционная смута быстро развеяла этот оптимизм. Следом <…> на московский экран вышла новая халтурная лента ("Царь Иудейский") на евангельскую тему, которую с возмущением встретили зрители и критика» [13, с. 52]. Исследователь отмечает различие картин, отдавая предпочтение отнюдь не наскоро снятой и безвкусной биографии Христа, а серьёзной, как и другие картины Протазанова этих лет, экранизации полемичной по своему содержанию новеллы Толстого. Фильм обладал ярко выраженным драматизмом и переданным в актёрской игре острым психологизмом, что способствовало развитию философских мотивов и проблематики христианской аскетики, заявленных в новелле Толстого.
В этой связи можно упомянуть ещё одну экранизацию, предпринятую Я. Протазановым с тем же И. Мозжухиным в главной роли – «Сатана ликующий». Появление фильма в октябре 1917-го на экранах сопровождалось отзывами критики, отмечавшей художественный уровень картины. Сюжет её основывался на приёмах беллетристики, заостряя проблематику понятия «греха» в драматическом финале. История пастора, подвергшегося искушению и попавшего в плен чувственных наслаждений, трагически обрывается. Герой погибает в финале, вместе с ним погибает муж кроткой и благочестивой в начале картины Эсфирь. Переживая трагическую утрату, Эсфирь осознаёт произошедшее между нею и пастором как греховную страсть, вызванную созерцанием и мистическим воздействием картины с изображением Сатаны.
Сюжет претерпевает у Протазанова художественную обработку, более всего демонстрирующую эстетический вкус постановщиков. Вот одно из типичных мнений по поводу картины «Сатана ликующий»: «Поставлена картина, за исключением немногих ненужных мест, когда фигурирует Сатана "самолично" – с молниями, кривляньями, – в хороших, выдержанных "под заграницу" тонах. Очень хороши световые эффекты, особенно в первой части, когда Сатана во время грозы стучится к пастору. Продуманы декорации и тщательно выбраны» [1, с. 402].
Большинство картин, начатых до октября 1917 года, подобно экранизации «Отца Сергия» или «Сатане ликующему», имели очевидные художественные качества: драматические акценты, создаваемые операторской работой, работой художника-постановщика, актёрской игрой. Вместе с тем, сюжетная составляющая исчерпывалась мелодраматическими схемами, в которых греховные отношения или побуждения сталкивались с моральной рефлексией персонажей, а символы христианства, часто представленные в оптике обывательского восприятия, служили духовным антуражем. Используя предметы церковного культа, иконы, церковные интерьеры (не всегда достоверно воссозданные в декорациях кинопавильонов), облачения священников, постановщики этих фильмов, стремясь соответствовать содержанию литературного первоисточника, апеллируют скорее к усреднённым представлениям о культе и духовной основе православия и христианства в целом.
Довольно внушительный ряд картин, выпущенных в первой половине 1920-х годов, сюжетно отсылал к русской истории в преломлении фольклорных мотивов, представляя её вместе с тем в иллюстративном, карикатурно-сатирическом качестве. «Унижение крестьянина», «глупые и жестокие баре», «самодовольные попы» – эти мотивы постоянно присутствовали в сюжетной ткани.
В основном интерес к подобным мотивам проявлялся в агитфильмах. С 1918 по 1920-й было снято около восьмидесяти таких картин уже на новых советских кинофабриках. Агитфильмы отличались лаконичностью сюжета, «плакатной» простотой, и всей своей эстетикой выражали один из центральных принципов агитации новой власти – эффективное воздействие кино на массовое сознание.
Главным в агитфильмах стал метод, который историки назвали «методом художественной иллюстрации»: «Метод художественной иллюстрации был необходим в первые годы советского кино. Он был приспособлен к задачам агитационного искусства и сыграл свою положительную роль» [7, с. 69]. В агитках часто присутствовали признаки комедийного жанра, и прежде всего, – сатиры, о чём заявлялось уже в названии «О попе Панкрате, тётке Домне и явленной иконе в Коломне». Если касаться этого агитфильма, поставленного в 1918 году по одноимённой басне Д. Бедного Николаем Преображенским и Александром Аркатовым, то можно заметить, как сатира в нём быстро переходит в обличение православного духовенства [10, с. 63]. Фабула киноагитки «О попе Панкрате» выглядиттак: обедневший поп Панкрат хочет сделать свой приход богатым. Купив на базаре икону, он зарывает её в землю и рассказывает всем о вещем сне тётки Домны, которой приснилось место, где зарыта чудотворная икона. Икону помещают в церковь, что заметно увеличивает число прихожан. Поп соседнего прихода пишет на Панкрата жалобу епископу. Тот в свою очередь разобравшись, забирает чудотворную икону себе. Финал картины предполагал ироничную оценку и развенчание всякой «поповской деятельности».
В агитационном фильме «Крест и маузер» (1925) изобличаются «агенты католической церкви», чьи тайные действия на территории советской России были документально обоснованы и легли в основу сценария картины. Один из участников съёмок, режиссёр и актёр Владимир Гардин в своих мемуарах, ссылаясь на Луначарского, позже отмечал точность соответствия этой картины задачам антирелигиозной пропаганды того времени: «Для специфической "советской" картины в наши дни требуется, на мой взгляд, прежде всего два достоинства: 1) сильное агитационное воздействие и 2) захватывающая фабула» [2, с. 156–157]. И далее Гардин продолжает: «У нас было несколько неплохих советских картин, но, пожалуй, ни одна из них не была таким ярким ударом в лицо врага, как "Крест и маузер" [2]. Под врагом автор фильма подразумевает духовенство.
Ещё один пример – фильм Алексея Разумного 1929 года «Бегствующий остров». Картина не сохранилась, но сюжет её известен и, подобно сюжетам других картин, типичен. Отличие заключается в среде и времени, где происходит действие: община старообрядцев-раскольников в первые годы советской власти. Молодой старообрядец Гавриил приезжает в город, где наблюдает множество изменений: жизнь меняется буквально на глазах. Увиденное неожиданно изменяет представления героя. Раскольник возвращается в тайгу в свой скит, но вскоре принимает решение бежать оттуда, в чём ему помогает начальник местной милиции, которому, в свою очередь, нахождение в ските грозило смертельной опасностью. История эта, кажется, словно стремится стать приключенческим сюжетом. Вместе с тем, сам кинорежиссёр в своих мемуарах вспоминает об этой работе и её задачах: «Столкновение старого и нового в таком остросатирическом ключе позволяло не только поставить антирелигиозный фильм, но и рассказать о бурном процессе социалистической реконструкции, охватившем всю страну» [7, с. 119]. Можно думать, что «Бегствующий остров» – фильм более серьёзный и идеологически выверенный в сравнении с агитфильмами, но и он несёт печать сатирически-обличительного и резко критического отношения к религии.
Здесь можно было бы обратиться и к другим примерам «атеистической» сатиры в кино 1920-х. Изобразительно и сюжетно при их иллюстративном качестве картины эти часто схожи между собой.
Сточки зрения антирелигиозного пафоса исключительными выглядят съёмки вскрытия мощей Сергия Радонежского, проведённые съёмочной группой Дзиги Вертова. Фильм назывался «Вскрытие мощей Сергия Радонежского» и вышел как отдельный киноочерк в 1919-м году.
Вертов был отправлен запечатлеть для истории важное событие: процесс вскрытия мощей в Троице-Сергиевой лавре, – один из нескольких, показательно устроенных большевиками с весны 1919-го по указанию Ленина. Вскрытие мощей Святых Сергия Радонежского, Тихона Задонского, Макария Жабинского, ярославских чудотворцев князей Василия и Константина и т. д. было запланированной серий акцией в рамках широкомасштабной антирелигиозной программы. Известно, что по приказу большевистского правительства была создана специальная «техническая комиссия вскрытия мощей», которая, помимо вскрытия, занималась их уничтожением. Известно также, что Ленин резко осуждал всех, кто скептически отзывался о целесообразности этой затеянной им лично кампании [8, с. 41].
Съёмки в Троице-Сергиевой лавре производились группой Вертова 11 апреля 1919 года и являлись документальной фиксацией действий игумена Лавры и одного из иероманахов, снимающих покровы и вынимающих мощи святого из раки. Непосредственно наблюдавшими за действиями духовных лиц, производивших вскрытие, были два врача.
Основное время в этом фильме камера показывает снятие покровов в открытой раке со стороны изголовья. Один раз в середине возникает кадр толпы верующих и зевак, ждущих за пределами храма. Ближе к концу зритель видит как настоятель и иеромонах вынимают мощи из раки с другой точки – со спины игумена. Следует укрупнение: в руках одного из совершавших вскрытие – отделённая глава Святого.
Акцентируя внимание на атеистическом послании, которое несут собой уже одним фактом своего появления агитационно-антирелигиозные картины, как игровые, так и документальные, следует выделить одну, общую для них всех особенность. Во всех фильмах христианский культурный код работает, располагаясь над фабульным содержанием и над смыслами киноповествования. Для его распознавания необходимо подключать религиозную и культурную память, которая формирует значения, отталкивающиеся от материального содержания кадров и совершающие движение в противоположном направлении.
Обращаясь к кинопроцессу конца 1920-х-начала 1930-х, следует отметить ряд примеров, где сюжетно не касаясь христианской темы или мотивов, фильм визуально всё же отсылал к ней. Любопытным примером в этой связи может показаться картина Фридриха Эрмлера «Обломок империи», вышедшая в 1929 году. Первая мировая война. Участник белой армии унтер-офицер Филимонов контужен. Ужасы войны со всех сторон подступают к нему, являя образы страшной, искажённой реальности. Зрителю понятно: такая трансформация связана с психикой героя, сформированной войной. В одном из эпизодов Филимонов видит крест с распятием, где на лицо распятой фигуры одет противогаз. Этот дерзкий, выходящий из традиции образ для создателей фильма – свидетельство травмированного сознания Филимонова. Одновременно распознаваемый как Распятие, это-образ православных корней культуры, в которой изначально сформировался герой.
Ещё один пример, где образные решения, придуманные авторами, активно формируют параллельные смыслы, отсылающие к христианской традиции – вышедшая на экраны в 1929 году картина Ефима Дзигана «Бог войны». В ней также поднимается тема человека на войне, и рассказывается об участии духовных лидеров и представителей разных религиозных конфессий в военной компании. Рефлексии героев по поводу войны «окрашены» религиозной образностью и символикой, в том числе появляются православные священники в полном облачении, окружённые церковным антуражем. Они, как и представители других религий в соответствующей обстановке, благословляют народы на войну, но выглядят скорее авторитетно, чем карикатурно.
Примеры «Обломка империи», «Бога войны», других картин, свидетельствуют о смещение христианской темы на периферию общего киносюжета [5, с. 435]. Связано это прежде всего с тем, что на рубеже 1920-1930-х годов советское кино готовится к тем глобальным переменам, которые произойдут в следующем десятилетии. Проблематика, постановка тем в условно-дистанцированной подаче, характерной для немого кино, оказываются «неуместными» в новых производственных планах, директивах и документах по развитию кино 1930-х годов.
Среднестатистический советский фильм 1930-х годов-точка отсчёта художественных и содержательных координат, показателен как пример процесса по заметному и всестороннему упрощению системы выразительности кино. Нет эксцентричных ракурсов, двойных экспозиций, экспрессивной композиции кадров, ассоциативного монтажа. Во время съёмок сложных массовых сцен постановщики не прибегают к многокамерной съёмке, позволявшей при монтаже выстраивать разноплановый образ события. Сцены в павильоне снимаются камерой только с одной фронтальной точки. Монтаж сохраняет последовательность действия и логику событий.
Как таковой фильм на экране с его особым реализмом, претерпевавший влияние сложившейся в первые годы существования звукового кино «кинотеатральности», уже не предлагал зрителю отвлечённые от советской действительности сюжеты и темы. Возобладавший вскоре социалистический реализм оказался тем подавившим всё остальное, генеральным стилем, который поставил перед кино новые тематические задачи и минимизировал попытки визуально осмысливать «отживающие» темы. Религиозные вопросы в стране, которая, согласно официальной идеологии, приблизилась к коммунистическому будущему, считались само собой решёнными раз и навсегда.
На таком социально-культурном фоне выглядит смелой попытка постановки Сергеем Эйзенштейном в середине 1930-х годов картины «Бежин луг», в основу которой были положены обошедшая в 1932 году газеты страны история про пионера Павлика Морозова, зверски убитого отцом и родственниками за доносительство на них руководству местного сельсовета в посёлке Северного Урала, и одноимённый рассказ И. Тургенева из цикла «Записки охотника».
Перед тем как перейти к этому незавершённому фильму, обратимся к недавнему авторитетному источнику. В предисловии к своему исследованию «Живые и мёртвое. Заметки к истории советского кино 1920-1960-годов» киновед Е. Марголит пишет, предуведомляя дальнейший более подробный разбор персоналий и фильмов 1920-х: «Через сопереживание добровольной искупительной жертве героя окружающие приобщаются к ней и тем самым преображаются – разве не это главный сюжет "Потёмкина"? Стоит ли оговаривать специально, что строящие Прекрасный новый мир художники вовсе не осознают себя правоверными христианами, но здесь неумолимо срабатывает код культурного пространства, к которому они приобщаются, пусть даже воспринимая это приобщение как вторжение с целью кардинального пересоздания» [6, с. 10].
Как известно, режиссёр приступил к работе над картиной в 1934 году, а позже появились две заметно отличающиеся её редакции. Ни в первой (1935), ни во второй (1936) фильм «Бежин луг» не касался напрямую тем, связанных с религиозными вопросами. Сценарий А. Ржешевского шёл по следам истории гибели Павлика Морозова (переделанного в картине в Степка Самохина) и заимствовал отдельные описательные фрагменты из рассказа Тургенева. История в фильме повествует о том, как, узнав о предательстве сына и обосновывая своё решение ветхозаветным принципом отцовской кары сына за непослушание, отец-кулак убивает Степка. Производство картины было закрыто при участии, как выяснилось позже, министра кинематографии СССР Бориса Шумяцкого, и «Бежин луг» быстро стал фильмом-легендой, который никто не видел. Слишком велика была на тот момент осторожность министра кинематографии, которая, впрочем, не спасла его впоследствии от репрессий.
Может быть, не сразу, но с годами всё более явно фильм Эйзенштейна прочитывается на основе «библейской» символики. Вот мнение одного из современных исследователей творческого наследия Эйзенштейна В. Забродина: «Режиссёр в качестве гражданина искренне пытался воплотить социальный заказ, но он же, как поэт, подключался к художественной традиции – и неожиданно в истории убийства кулаками пионера отзовётся библейская составляющая, сюжет о жертвоприношении, Степок и его отец будут увидены Эйзенштейном Исааком и Авраамом» [3, с. 259].
Если обратиться к созданному в 1967 году, на основе сохранившихся монтажных срезков «Бежина луга», фотофильму режиссёра Сергея Юткевича и киноведа Наума Клеймана, то невозможно не заметить доминирования в композиции фильма сцены разгрома храма. В этой своеобразной реконструкции авторского замысла, в большей степени воплощённого в первом варианте фильма, Юткевич и Клейман неподвижными кадрами демонстрируют всю мощь эпизода, вскрывающего глубинные пласты народного религиозного сознания. Во второй редакции фильма, основанной на переработанном режиссёром совместно с писателем И. Бабелем, сценарии, «церковный эпизод» в сюжете заметно минимизирован [12, с. 129–152].
В известной статье «Ошибки "Бежина луга" сам режиссёр оценивает эпизод в церкви, помещая его в ряд «гипертрофии обобщений», «мчащей» все образы к «мифологически застилизованным фигурам и ассоциациям» [11, с. 386]. Все буквально впечатывающиеся в сознание зрителя образы эпизода были даны, по характеристике Эйзенштейна, «сознательно иронически» [11]. Учитывая предвзятость статьи «Ошибки "Бежина луга", написанной в целях публичного раскаянья перед вышестоящим партийным и кинематографическим начальством, всё же нельзя не отдать должное переосмыслению в процессе съёмок кинорежиссёром своего замысла и корректировке им значения первоначально задуманных и подробно разработанных эпизодов, имевших большую художественно-смысловую нагрузку. Подчеркнутый показ предметов культа и символов христианства, появление в киотах вместо ликов святых лиц Степка и крестьян, другие образные решения – всё это рождает цепочку ассоциаций: христианская святость – святость человеческой жертвы, в дальнейшем – жертвы пионера Степка. По Эйзенштейну, процесс перелома старого крестьянского сознания должен иметь своих жертв и своих святых мучеников. Смысл этот формируется словами «жертва» и «мученик», и возникает, когда в изображении начинает активно работать христианская образность, окружающая героев.
Подведем итоги. Став творцами зримой идеологии коммунистического государства, советские кинематографисты 1917–1934 годов преследовали атеистические цели. Учитывая онтологическую (предметно-чувственную) природу художественного образа в кино, можно констатировать, что кинематографическое обыгрывание православной образности, создание специальных ассоциаций и аллюзий способствовало в итоге проявлению на экранах страны победившего пролетариата христианских смыслов, пусть даже в рамках «непримиримого» атеистического дискурса. Рассмотренные выше картины могут послужить тому примером.
Литература
1. Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России (1908–1919). М.: НЛО, 2002.
2. Гардин В. Р. Жизнь и труд артиста. М.: Искусство, 1960.
3. Забродин В. Эйзенштейн: кино, власть, женщины. М.: НЛО, 2011.
4. Ильин И. А. Одинокий художник. М.: Искусство, 1993.
5. История советского кино 1917–1967. В 4 тт. Т. 1. М.: Искусство, 1969.
6. Марголит Е. Живые и мёртвое. Заметки к истории советского кино 1920–1960 гг. СПб.: МАСТЕРСКАЯ «СЕАНС», 2012.
7. Разумный А. Е. У истоков… Воспоминания кинорежиссёра. М.: Искусство, 1975.
8. Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917–1941: Документы и фотоматериалы. М., 1996.
9. Степун Ф. Кино и театр // Искусство кино. 1992. № 10. С. 54–63.
10. Херсонский X. Страницы юности кино. Записки критика. М.: Искусство, 1965.
11. Эйзенштейн С. М. Избранные статьи. М.: Искусство, 1956.
12. Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 тт. Т. 6. М.: Искусство, 1971.
13. Янгиров Р. Другое кино. Статьи по истории отечественного кино первой трети XX века. М.: НЛО, 2011.
Заключение А. Л. Казин
История продолжается до тех пор, пока люди радуют Бога. В современном мире, однако, всё больше признаков, что радость Его иссякает. «Малый» апокалипсис бывает и внутри истории. Да иначе, вероятно, и невозможна была бы жизнь на Руси – тут всегда виден день первый и день последний. Именно это придает нашей культуре особую трагическую красоту.
Часто приходится слышать, что Россия не любит свободы. Так говорят не только «западники», но и «славянофилы», только с разным знаком: первые сетуют, вторые одобряют. Отношения между Россией и свободой действительно непростые. Весь вопрос в том, что понимать под свободой. На Востоке, на Западе и в России эта категория трактуется по-разному.
В предельном обобщении, Восток – родина мировых монотеистических религий. В первую очередь, это касается иудаизма и ислама, единый Бог которых – это Абсолют, творящий мир из ничего. Выражаясь в терминах теории культуры, это религиозная классика, где творчество совпадает с творением, слово – с делом, онтологическая горизонталь – с мистической вертикалью. Бог мыслит вещами. Дело человека в таком хронотопе – исполнение закона (613 заповедей Моисея и т. п).
Появление христианства на пространстве восточной классики означало переход к своего рода религиозному «модерну», где Абсолют в лице Бога-Сына нисходит в мир с целью спасения твари. Нисходя с неба на самое дно падшего бытия, Христос нарушает тем самым все формальные границы между «верхом» и «низом» мироздания (жертвенный кенозис). Именно это было «для иудеев соблазном, для эллинов – безумием». Приняв на себя природу человека, Спаситель восстановил утерянные божественные качества твари – и прежде всего, её творческую свободу. Восток в целом этой жертвы не понял и не принял (распятие Христа), Европа же приняла христианство в рационально-юридической форме римского католицизма. По целому ряду признаков – строгая правовая кодификация, папоцезаризм, схоластика и др. – католическая церковь фактически стала продолжением языческой римской империи. В определенном смысле это было сохранение Востока на Западе – классический абсолютистский тип религиозности продолжал свое действие внутри самого европейского христианства («тяжелый» романский стиль, жесткая вертикаль готики). Современная история Запада как духовной и цивилизационной реальности начинается только с XV века, когда эпоха Ренессанса обозначила собой движение от теоцентриз-ма к антропоцентризму. В отличие от Востока, Запад свел вечность ко времени, онтологические ценности – к инструментальным, соборность – к индивидуализму. Бесспорным достижением европейской цивилизации стал суверенный индивид как субъект права и культуры, однако утрата таким субъектом субстанционального (классического) духовного содержания привела его к опасным экзистенциальным опытам со свободой, вплоть до союза с Мефистофелем (фаустовская идея).
Что касается России, то она никогда не принадлежала ни Востоку, ни Западу. Ни тот, ни другой не признают её подлинно своей. Ориентализация России («византийский» Киев, «татарская» Москва) оказалась столь же поверхностной, как и её последующая вестернизация. В отличие от Востока, русская христианская классика изначально включала в себя творческую активность личной воли. Вместе с тем, в отличие от Запада, религиозная свобода на Руси никогда не доходила до культа автономного индивида, оставаясь, так или иначе, в рамках соборного целого (царство, империя, община). Восточное рабство у Абсолюта или западное соперничество с ним – не русское занятие. Европейская свобода пережила ряд смертей – смерть Бога, смерть человека, смерть автора. Восточная душа по существу не знала религиозной свободы. Противоречие между «тайной» свободой, восточной волей и западной формой – это движущая сила русской истории.
Именно в таких условиях сформировался парадоксальный цивилизационный синтез, впоследствии получивший название советской культуры, элементами которого стали переосмысленные энергии соборной русской традиции (прежде всего идея жертвенности), вошедшие в соприкосновение с коллективистским коммунистическим идеалом и практиками мистического авангарда. Результаты – от Белого и Горького до Малевича и Мейерхольда – у нас перед глазами. Советской культуре противостояла православная творческая деятельность – от зарубежной классики в лице, например, Шмелёва или Гречанинова до «тайных христиан» внутри самой советской цивилизации. Русская история и русское искусство оказалось расколотыми юридически, политически и религиозно. Основной задачей первого тома нашего исследования и было искусствоведческое и мировоззренческое осмысление указанного антиномического состояния «отчалившей» России. На примере ряда ключевых направлений и имен авторы стремились проанализировать это противоречие в его культурно-эстетических аспектах. Насколько им это удалось, судить читателю. В завершение скажу только, что для относительного преодоления рокового раскола понадобилась искупительная жертва Великой Отечественной войны и знамя победы над Берлином. Но это уже тема следующего тома.
Сведения об авторах
Галимова Елена Шамильевна – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Гладкова Ольга Игоревна – кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Горн Анна Викторовна – кандидат искусствоведения, доцент Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.
Гусак Василий Андреевич – кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
Дмитриева Маргарита Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
Жданова Ельена Васильевна – докторант института истории искусств Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg (Германия).
Зобнин Юрий Владимирович – доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Казин Александр Леонидович – доктор философских наук, профессор, и. о. директора Российского института истории искусств (РИИИ), зав. кафедрой искусствознания Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
Круглов Роман Геннадьевич, аспирант Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
Любомудров Алексей Маркович – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
Любомудров Марк Николаевич – кандидат искусствоведения.
Моторин Александр Васильевич – доктор филологических наук, профессор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
Резвых Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, научный сотрудник Мемориального Дома-музея С. Н. Дурылина, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Сокурова Ольга Борисовна – доктор культурологии, доцент Санкт-Петербургского государственного университета.
Чернышёва Татьяна Алексеевна – кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского государственного института культуры.



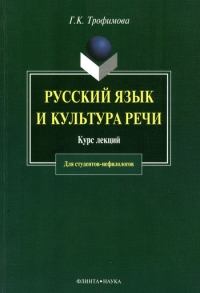
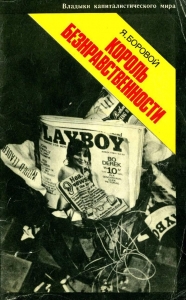
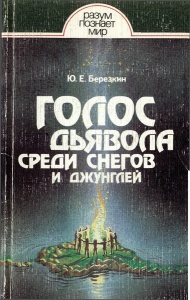

Комментарии к книге «Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ века – начала XXI века: 1917–2017. Том 1. 1917–1934», Александр Леонидович Казин
Всего 0 комментариев