Дмитрий Кузьмин Русский моностих: Очерк истории и теории
Памяти М.И. Шапира
Введение
Моностих – однострочное стихотворение – представляет особую ценность для исследователя. Обращение к таким «крайним, на границе ряда, явлениям» позволяет глубже разобраться в фундаментальных свойствах поэзии, стиха[1] вообще, поскольку «конструктивный принцип познаётся не в максимуме условий, дающих его, а в минимуме» [Тынянов 1993, 31] – иными словами, устройство и функционирование одинокой стихотворной строки должно проливать свет на устройство и функционирование любой стихотворной строки и стихотворного текста вообще. История моностиха, развернувшаяся, главным образом, в XX веке, составляет интегральную часть истории развития русского стиха, которую в значительной степени – несмотря даже на такие фундаментальные достижения отечественного стиховедения, как [Гаспаров 2000], – еще только предстоит написать (ср. [Гаспаров 2003a] о контурах этой будущей задачи), поскольку огромная часть подлежащего изучению материала становится доступной исследователям лишь на протяжении последних 25 лет, после снятия ограничений на публикацию неподцензурной и эмигрантской литературы, составляющей по сути дела наиболее важную часть русского литературного процесса.
Между тем состояние изучения русского моностиха невозможно расценить как удовлетворительное. Достаточно сказать, что до сих пор специально обращались к исследованию этой формы всего-навсего три автора: В.Ф. Марков ([Марков 1963], с незначительными дополнениями в [Марков 1994]), С.Е. Бирюков (глава в [Бирюков 1994], с незначительными дополнениями в [Бирюков 2003]) и С.И. Кормилов ([Кормилов 1991a, 1995] и примыкающие тексты, особенно [Кормилов 1996])[2]. Значение пионерской работы первого из них трудно переоценить, однако она, будучи предназначена для литературно-художественного альманаха, а не для научного издания, во многом носила очерковый, эскизный характер: целый ряд суждений и предположений – порой весьма точных, порой довольно спорных – высказывается В.Ф. Марковым почти без аргументации и никак не иллюстрируется конкретными текстами. Во многом то же относится и к обзору С.Е. Бирюкова, входящему в состав популярного издания, впервые представляющего широкому читателю целый ряд экспериментальных форм русской поэзии. Труды С.И. Кормилова по моностиху носят гораздо более основательный характер, однако посвящены, собственно, не этой форме самой по себе, а обоснованию достаточно дискуссионной теоретической идеи о «маргинальных системах стихосложения» и потому многие свойства моностиха как такового оставляют без внимания.
Сам корпус текстов, находящихся в поле зрения всех трех исследователей, сравнительно невелик. Марков оперирует 22 моностихами 12 русских авторов (в переиздании 1994 г. добавлен еще один текст 13-го автора) – из этих текстов по меньшей мере 8 вызывают, как будет показано нами далее, серьезные сомнения (в том, что это действительно самостоятельные однострочные стихотворения, а не что-либо иное) – и 33 собственными моностихами. В собрании моностихов, приложенном к обзору [Бирюков 1994], 107 текстов 38 авторов, в [Бирюков 2003] состав текстов слегка изменен (124 моностиха 39 авторов), несколько ошибочных интерпретаций (например, записанное в одну строку двустишие Николая Гнедича [Бирюков 1994, 60]) исправлено, другие сомнительные решения остались. Кормилов в [Кормилов 1995] цитирует или упоминает 200 литературных моностихов 36 авторов (не считая тексты, которые он сам характеризует как сомнительные или переходные). Ни один из трех исследователей не учитывает ряд текстов, без которых историю моностиха в России сложно себе представить, – например, второй по времени публикации русский моностих, принадлежащий Дмитрию Хвостову, или тексты Леонида Виноградова, с которых на рубеже 1950–60-х гг. начался постепенный рост популярности однострочной стихотворной формы в русской неподцензурной поэзии. Только В.Ф. Марков привлекает для сопоставления с русским моностихом отдельные образцы этой формы в поэзии других стран, однако набор приводимых им текстов (9 стихотворений 5 новоевропейских авторов) весьма скуден и достаточно случаен.
Кроме того, ни один из трех исследователей не интерпретирует историю русского моностиха как историю, т. е. не пытается обнаружить в ней определенную логику событий, преемственность одних текстов по отношению к другим, – ограничиваясь, в лучшем случае, изложением хронологии событий (в ряде случаев ошибочной: так, моностих Александра Гатова, относящийся ко второй половине 1930-х гг., Кормилов датирует 1950-ми [Кормилов 1995, 74], по времени его повторной публикации).
Все вышесказанное, разумеется, не означает отрицательной оценки работы, проделанной В.Ф. Марковым, С.Е. Бирюковым и С.И. Кормиловым: им принадлежит и честь формирования первоначального канона русских моностихов (включая ряд труднодоступных текстов), и постановка вопроса о соотношении моностиха с различными смежными явлениями, и множество отдельных тонких и глубоких наблюдений. Однако принципиально труды всех трех исследователей в области моностиха относятся к этапу накопления и первоначального освоения материала. Лишь благодаря достижениям этого этапа становится возможной дальнейшая обобщающая и систематизирующая деятельность в соответствующей области.
Те или иные отдельные эпизоды из истории русского моностиха не получили за пределами работ трех названных ученых почти никакого внимания – за исключением моностихов Валерия Брюсова, упоминаемых так или иначе во множестве работ, но так ни разу и не подвергшихся специальному изучению (в результате которого, как показано нами, само их количество существенно убавляется, а история создания предстает в совершенно новом свете), книги моностихов Василиска Гнедова, остающейся предметом значительных разногласий, требующих нового рассмотрения, и, в самое последнее время, моностихов Владимира Вишневского, обсуждение которых вне контекста истории формы, на фоне в лучшем случае Карамзина и Брюсова, оказывается малопродуктивным. Даже мимолетные обращения к вопросу о моностихе в историко-литературных и общелитературоведческих исследованиях редки, и, возможно, это к лучшему, поскольку неизученность предмета порождает совершенно ни на чем не основанные заключения – вроде заявлений о том, что моностих «встречается в русской литературе весьма редко и связан, как правило, с жанром эпитафии» [Есин 1995, 23–24], «восходит к латинской традиции прежде всего» [Смулаковская 1997, 131], «чаще всего употребляется внутри цикловых образований» [Орлицкий 2015, 144] и т. п. В русских литературоведческих изданиях справочного и энциклопедического характера упоминания о моностихе, как правило, сведены к минимуму, а редкие исключения также вызывают недоумение. Так, А.П. Квятковский загадочным образом квалифицирует как моностих каждую строфу фольклорного жанра страданий (представляющую собой рифмованное двустишие) [Квятковский 1966, 288], а Б.П. Иванюк сообщает о том, что «в некоторых национальных литературах он стал традиционной формой, например, испанский комический моностих dolomas (род. де Кампоамор)» [Иванюк 2008, 129] – при том, что созданный Рамоном де Кампоамором авторский жанр doloras (именно так) не только остался исключительно его личным достоянием, но и занимал не менее четырех строк, а чаще – 8–12 (но даже если Иванюк под Рамоном де Кампоамором с его doloras подразумевает Рамона Гомеса де ла Серну с его грегериями, в самом деле заложившими плодотворную традицию, то и в этом случае дело обстоит иначе[3]).
Что касается зарубежных исследователей, то нам известно единственное обращение к вопросам истории русского моностиха из-за пределов России: это труд Ф.Ф. Ингольда, составившего (на основе [Бирюков 1994] и материалов журнала «Новое литературное обозрение», посвятившего серию публикаций в вып. 23, 1997 г., проблемам поэтического минимализма) антологию современного русского моностиха [Geballtes Schweigen 1999] (92 текста 38 авторов, параллельные тексты по-русски и по-немецки) и написавшего к ней предисловие. Корни современного русского моностиха Ингольд представляет себе весьма приблизительно (открывая список основоположников формы именем никогда не писавшего моностихов Велимира Хлебникова – и вовсе не включая в него Брюсова), а в предложенной швейцарским славистом беглой характеристике недавнего прошлого русской литературы удивительно обнаруживать отзвуки вульгарного социологизма, напрямую выводящего эволюцию литературных форм из текущих общественно-политических обстоятельств: «Радикальная редукция объема текста облегчала производство, размножение и распространение тогда еще нелегальной печатной продукции. К тому же министихи можно было одновременно рассматривать как структурную пародию на эпические большие формы социалистического реализма, выхолощенную риторику политического руководства и коммунистическую партийную прессу» [Ingold 1999, 6] – все это придумано не без изящества, но не имеет никакого отношения к литературной реальности[4].
Теоретики стиха обращались к моностиху существенно чаще, хотя и по касательной: те или иные соображения по поводу моностиха встречаются в работах Ю.Н. Тынянова, В.М. Жирмунского, Ю.М. Лотмана, П.А. Руднева, М.В. Панова, Г.Н. Токарева, М.Л. Гаспарова, В.П. Бурича, А.А. Илюшина, Ю.Б. Орлицкого, М.И. Шапира. В большинстве случаев, однако, в поле зрения теоретиков находились при этом единичные тексты – только те, которые пользуются достаточно широкой известностью (моностихи Николая Карамзина, Валерия Брюсова, Самуила Вермеля, Ильи Сельвинского, книга моностихов Василиска Гнедова), – а потому далеко не все замечания ученых, вызванные тем или иным конкретным текстом, могут быть распространены на все однострочные стихотворения. Разрозненные высказывания различных исследователей по поводу моностиха, его просодического статуса и места в литературной типологии никогда не подвергались систематизации, не сводились воедино.
Вопросы общей поэтики моностиха, различных возможностей, реализуемых авторами различного склада в этой форме, ставились только В.Ф. Марковым и И.Л. Сельвинским [Сельвинский 1958a, 73–74; 1962, 113–114], однако незначительное количество текстов, которыми они располагали, не позволило им развить те или иные предположения сколько-нибудь подробно. Беглые замечания некоторых ученых по поводу поэтики моностиха вызывают большей частью недоумение – в том числе и потому, что неясно, на какой корпус текстов эти замечания опираются (например: «принято считать, что данная устойчивая форма лишена непредсказуемости» [Казарновский 2012b, 208]).
Даже терминологию вопроса нельзя признать устоявшейся. Вместо восходящего к древнегреческому образцу и общего для многих западных языков[5] термина «моностих» В.Ф. Марковым была без каких-либо пояснений введена калька «однострок» – что идет вразрез с русской стиховедческой традицией, которая, как правило, не переводит и не калькирует терминов древнегреческой поэтики, даже когда их значение значительно отличается от античного в силу разницы национальных просодий. Славянизированное именование было принято некоторыми исследователями и авторами или в качестве терминологической замены моностиху, или в качестве синонима[6], а в недавнее время были даже предприняты попытки содержательного разграничения двух терминов. Так, «Литературная энциклопедия терминов и понятий» предлагает называть одностроком «жанр, представляющий собой одну строку, в которой в отличие от моностиха невозможно определить стихотворный размер» [Быстрова 2001] – трудно понять и отчего однострок является (в отличие от моностиха?) жанром, и что, собственно, вытекает из невозможности определить в строке стихотворный размер – энциклопедия не поясняет, означает ли это квалификацию однострока как текста стихотворного, прозаического или какого-либо иного; вдобавок первый же из приводимых в статье примеров – «… зашили, как футбольный мяч…» Яна Сатуновского – представляет собой очевидный четырехстопный ямб. Не менее неожиданную терминологическую новацию предложил в недавнем интервью С.Е. Бирюков: «Моностих – это стиховедческое определение, независимое от поэтической ценности данного текста. Однострок – это определение, имеющее отношение к повышенному творческому началу, которое мы можем именовать поэтическим» [Блиц-интервью 2009, 167]) – сколь ни соблазнительно терминологически отграничить хорошие стихи от плохих, но за невозможностью как-либо верифицировать «повышенное творческое начало» возникает подозрение, что идея Бирюкова, будь она воплощена, привела бы к последовательному именованию одних и тех же текстов моностихами в одних работах и одностроками в других. Свой вклад в терминологическую неустойчивость внес и введенный В.П. Буричем[7] третий термин, «удетерон», имплицирующий весьма своеобразную теоретическую трактовку моностиха как текста и не стихотворного, и не прозаического (подробнее в Главе 1) – но при этом в той или иной мере употребляемый и специалистами, которые в целом концепцию Бурича не разделяют (прежде всего, [Орлицкий 2002, 32, 563], но за ним и, например, оппонирующая ему [Невзглядова 2003, 316]), вплоть до полного ее игнорирования: «удетерон, стихотворение, состоящее из одной строчки, разновидность верлибра» [Чибисова 2001, 82][8]. Понятно, однако, что от содержательных импликаций не свободны и два других термина, поскольку моностих естественно понимать как стихотворную форму, тогда как стихотворность однострока не постулируется[9]. Твердо исходя из стихотворности моностиха (и обсуждая в Главе 1 как теоретические основания, так и эмпирические свидетельства этого), мы, естественно, последовательно оперируем термином «моностих»[10].
В целом приходится констатировать, что мера исследованности русского моностиха может быть оценена как незначительная. Впрочем, по-видимому, это относится и к зарубежному моностиху: так, Ж. – П. Детюйер в беглом обзоре материалов о моностихе во французских справочно-энциклопедических изданиях приходит к весьма неутешительным выводам [Desthuillers 1994, 39], а в американской научной литературе можно встретить, например, замечание о том, что «со строчками в поэзии дело обстоит так же, как с полами в мире биологии: их нужно не меньше двух, чтобы сам вопрос о поле имел смысл» [LaFleur 1983, 199]. Даже в авторитетнейшей «Принстонской энциклопедии поэзии и поэтики» еще в 1993 году Т.В.Ф. Броган начинает статью «Моностих» со слов: «Интересный вопрос – возможно ли однострочное стихотворение» (ограничиваясь в дальнейшем изложении сообщением об античных однострочных гномах, эпиграммах и эпитафиях, которые «метричны и потому, предположительно, считались в каком-то смысле поэтическими») [Brogan 1993]; в издании 2012 года интригующий зачин убран, а упоминание об античных прецедентах дополнено разбором поэтики «Поющего» Гийома Аполлинера, однако теоретическое осмысление проблемы ограничивается замечанием о том, что, «хотя большинство современных моностихов неметрично и потому некоторые могут видеть в них скорее шутки и остроты (jokes and aperçus), чем стихотворения, наиболее успешные из них действуют так же, как другие очень короткие стихи» [Brogan e. a. 2012] – кажется, американские специалисты примыкают к С.Е. Бирюкову в вопросе о том, что лишь самые лучшие моностихи являются стихотворными. Относительно подробное освещение моностих получил только в румынском литературоведении, в связи с книгой моностихов классика румынской поэзии Иона Пиллата, однако даже самое развернутое исследование [Chelaru 2011], при всех содержащихся в нем любопытных деталях и ценных наблюдениях, носит весьма эскизный характер. Непроработанность теоретического статуса моностиха в мировой литературе, как и в русской, сопряжена с неисследованностью его истории, которая попросту «никогда не была написана – возможно, потому, что сам предмет казался незначительным» [Chevrier 2005, 293].
Между тем моностих заслуживает пристального внимания по целому ряду причин. Исторически и теоретически он важен как феномен, маркирующий границу стиха, и при этом, благодаря малому объему каждого текста и обозримому количеству текстов, позволяет провести анализ того или иного элемента текста или аспекта поэтики с привлечением всех имеющихся текстов данной формы. Кроме того, последовательное изложение истории определенной стихотворной формы на протяжении всего XX века могло бы стать прецедентом, дополняющим более привычный подход к истории стиха как истории тех или иных его структурных элементов (метра, рифмы и т. п.) или типов (например, верлибра).
Доступный нам корпус русских моностихов, т. е. самостоятельных однострочных литературных стихотворных текстов, собранный в печатных источниках, в Интернете, в архивах разных авторов, превышает 4000 текстов (точную цифру назвать невозможно, поскольку ряд случаев носят выраженный пограничный характер) и принадлежит более чем 200 различным поэтам от Карамзина до наших дней. Подавляющее большинство текстов последних 50 лет (но также и отдельные более ранние произведения) вводятся в научный оборот впервые. Иные из них принадлежат малоизвестным и второстепенным авторам, однако для истории и теории формы имеют решающее значение[11]. В то же время по некоторым давно известным текстам (особенно это касается моностихов Валерия Брюсова) впервые привлекаются архивные источники, позволяющие прийти к новым выводам и выдвинуть новые гипотезы. Широкий охват материала дает возможность впервые проследить исторические закономерности в развитии русского моностиха, выделить в этом развитии определенные этапы и тенденции. Этот же материал, исследуемый в последней главе статистическими методами, позволяет выделить различные авторские стратегии в использовании данной формы, различное понимание ее художественного потенциала. Отдельному рассмотрению – с целью более точного определения подлежащего исследованию материала – подвергнуты смежные с моностихом явления. Впервые в таком объеме привлекаются и параллели из истории зарубежного моностиха: французского, итальянского, испанского и латиноамериканского, английского и американского, японского, румынского, белорусского.
Методологическая опора на стиховедческую концепцию Ю.Н. Тынянова, с нашей точки зрения, не только позволяет корректно выделить корпус подлежащих исследованию текстов, но и дает ключ к анализу конкретных произведений; принципиальную важность для нашей работы имело также развитие идей Тынянова в трудах Ю.М. Лотмана и М.И. Шапира. Рамку для нашего исторического обзора задали намеченные М.Л. Гаспаровым в [Гаспаров 2000] общие контуры истории русского стиха. Некоторые теоретические идеи В.Ф. Маркова и С.И. Кормилова были взяты нами на вооружение. При обращении к различным периодам в истории русского моностиха и к различным персоналиям, вовлеченным в эту историю, мы опирались на работы, посвященные этим периодам и авторам, – особое значение имели для нас работы В.Г. Кулакова по новейшей русской поэзии [Кулаков 1999] и – несмотря на значительные теоретические расхождения с нашей позицией – капитальный труд Ю.Б. Орлицкого [Орлицкий 2002].
Приношу мою глубокую благодарность, прежде всего, Ю.Б. Орлицкому, на протяжении многих лет сопровождавшему мою работу над этой темой своим вниманием и поддержкой и, в частности, легитимизировавшему защиту в 2005 году первой редакции настоящей работы (сравнительно с которой итоговый текст расширен примерно вдвое) в качестве диссертационного исследования в Самарском государственном педагогическом университете. В свое время с первыми набросками будущей книги ознакомились В.И. Новиков и М.И. Шапир, чьи отзывы и советы были для меня важны. Теми или иными подсказками, дополнительными сведениями, консультациями и содействием я обязан Вл. А. Лукову, С.В. Сигею, В.И. Эрлю, Б.В. Дубину, Н.М. Азаровой, М.А. Амелину, И.А. Пильщикову, О.А. Коростелёву, С.Е. Ляпину, С.А. Завьялову, В.В. Зельченко, Д.М. Давыдову, А.Л. Полян, Г.Г. Лукомникову, К.М. Корчагину, К.Р. Керимову, Е.Н. Горшковой, Г.М. Утгофу, Д.А. Суховей. За помощь в поиске материалов я весьма признателен Н.Е. Горбаневской, О.С. Лившиной, Д.Д. Безносову, А.Б. Устинову, С.И. Погодиной, Л. Фричинскому, Ч. Бёрду, Дж. Суиду, У. Хиггинсону, М. Келару, М. Маурицио и С. Гуаньелли, а также программе Библиотеки Конгресса США «Open World» (координатор М. Пышкина), благодаря которой я получил возможность поработать в Библиотеке Айовского университета, и создателям интернет-сервиса Sci-Hub. Публикация некоторых предварительных материалов книги стала возможной благодаря содействию А.Д. Алёхина, Т.Г. Михайловской, С.И. Кормилова, Н.М. Азаровой, И.А. Пильщикова, В.С. Полиловой и А.С. Белоусовой.
1. Моностих как теоретическая проблема
Интерес к феномену моностиха, продемонстрированный начиная с 1920-х гг. многими стиховедами, привел к формированию нескольких теоретических подходов, настоятельно требующих сопоставления. Рассмотрим основные позиции по вопросу о статусе моностиха в литературе, предложенные разными авторами.
1) Моностих не является, строго говоря, ни стихом, ни прозой.
М.Л. Гаспаров: «Особого рода трудности при определении положения текста между стихом и прозой возникают тогда, когда этот текст слишком короток. В этом случае ни о внутреннем <ритмическом> членении текста, ни о поворотах (разбивке текста на стихи; лат. versus «поворот», – Д.К.), ни об их предсказуемости не возникает и речи. Текст воспринимается как стих или как проза исключительно в зависимости от контекста… Эта строка (моностих Самуила Вермеля, – Д.К.) среди прозаического монолога показалась бы несомненной прозой, но на странице альманаха или стихотворного сборника ощущается как стих» [Гаспаров 2001, 19].
Еще дальше идет В.П. Бурич, вводящий специальное понятие «удетерон» (греч. «ни то, ни другое») для любых однострочных текстов, которые, с его точки зрения, принципиально не могут быть квалифицированы как проза или стихи [Бурич 1989, 144]; правомерность нового термина ввиду «принципиальной невозможности отнести его (однострочный текст, – Д.К.) в силу минимальных размеров ни к стиху, ни к прозе» поддерживает Ю.Б. Орлицкий [Орлицкий 2002, 563], к ней же, видимо, склоняется и В.П. Москвин: «сомнения в стихотворном либо прозаическом статусе моностиха отражены в одном из его наименований – удетерон» [Москвин 2009, 308].
2) Моностих, строго говоря, является прозой.
Эту наиболее радикальную позицию занимает Г.Н. Токарев: «Почему практически нет стихотворений величиной в одну строку (существующее количество моностихов в общем объеме стиховой культуры столь малочисленно, что не является статистически значимой величиной…)[12]? Моностихов нет потому, что всего по одной строке текста невозможно определить, должны ли в нем происходить регулярные и системные метаграмматические соотнесения коннотаций… Логично будет считать подобную единицу организованной речи прозаической формой (строго говоря, однострочные речевые образования типа “О, закрой свои бледные ноги!” (sic! – Д.К.) считаются стихами по не собственно стиховым признакам – созданы поэтом, напечатаны среди “нормальных”, бесспорных стихов в одном сборнике и т. д.)» [Токарев 1983, 47].
На каких же представлениях о поэзии основывают эти авторы отказ причислить к ней моностих?
Своеобразная концепция В.П. Бурича лежит в стороне от современной стиховедческой традиции. Стихи он определяет как «высказывание или совокупность высказываний, записанные по определенной графической схеме» [Бурич 1989, 144]. Заметим, что расплывчатость понятия «графическая схема» позволяет отнести его и к «удетерону» (вообразим, например, строчку, в которой каждая следующая буква больше или меньше предыдущей). Исправить эту накладку можно было бы, говоря, вместо «графической схемы», о «графической расчлененности». Гораздо принципиальней вопрос о функциях поэтической графики, которые, по Буричу, сводятся к «наилучшему способу выявления метрической и рифмической конвенции» (в метрическом, или, по Буричу, «конвенциональном» стихе) и «закреплению, авторизации нюансов смысла и экспрессии» (в свободном, или, по Буричу, «либрическом» стихе); последнее означает, что графическая разбивка, делающая текст стихотворным, не вносит в него ничего нового (ведь «нюансы смысла и экспрессии» в нем, по Буричу, уже содержатся), а лишь фиксирует, в терминологии Бурича, «первичный ритм», т. е. синтаксическое членение текста[13]. Эта точка зрения, восходящая к В.М. Жирмунскому[14], была опровергнута еще Тыняновым, показавшим, что стихотворный ритм, материальным выражением которого служит графическая разбивка, представляет собой нечто принципиально отличное от «первичного ритма» и его сгущения – ритма прозаического, более того, этот стихотворный ритм выступает как самостоятельная смыслопорождающая сила даже в той разновидности верлибра, где стиховое членение совпадает с синтаксическим [Тынянов 1993, 42, 50–51, 114]. Игнорирование открытых Тыняновым факторов единства и тесноты ряда приводит концепцию Бурича к методологической некорректности: формальное единство поэзии не сопряжено ни с каким единством содержательным; мало того, что форма у Бурича оказывается, в духе древней и коварной аналогии, стаканом, – в него еще мыслится возможным наливать совершенно разные напитки[15].
Удивительно, но факт: чисто формальным критерием готов обходиться в определении поэзии и один из крупнейших российских теоретиков стиха М.Л. Гаспаров. В цитированной работе[16] он называет стихом «речь, четко расчлененную на ‹…› отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой; каждый из таких отрезков тоже называется “стихом”» [Гаспаров 2001, 6]. Разумеется, дальше Гаспаров указывает на семантическую значимость этой расчлененности, на то, что «соотносимость и соизмеримость» «расширяет сеть связей, в которые вступает каждое слово» (правда, связи имеются в виду исключительно вертикальные) [Гаспаров 2001, 7]; оговаривает он и то обстоятельство, что стиховая расчлененность может и не быть выражена графически. Однако основное определение не перестает от этого быть односторонним[17].
Подобную односторонность, отрыв формального критерия от содержательного резко критикует Г.Н. Токарев. Апеллируя к тыняновской постановке проблемы слова в стихе, он определяет стих как «такую форму организации словесного материала, в которой присутствует легко различимый сигнал, указывающий на то, что в данном тексте метаграмматические связи между единицами становятся регулярными, системными и сущностными» [Токарев 1983, 45]. Речь идет о деформированной, в тыняновских терминах, семантике. Сильная сторона этого определения очевидна: предпринята попытка увязать формальный аспект и содержательный. Правомерно, однако, задаться вопросом: коль скоро графическая расчлененность, узнаваемый метр и т. п. элементы стиха – не более чем сигналы (а это весьма убедительная позиция, восходящая к Ю.Н. Тынянову при посредстве Ю.М. Лотмана[18]), что же за сила тогда деформирует семантику, результатом какого воздействия являются регулярные, системные и сущностные метаграмматические связи? Умалчивая об этом, Токарев довольно быстро загоняет себя в терминологическую ловушку: констатируя, вслед за Тыняновым, Р.О. Якобсоном и П.А. Рудневым, что в стихе «отношения между языковыми единицами разворачиваются в двух разнонаправленных плоскостях: по традиционной грамматической горизонтали и по метаграмматической вертикали» [Токарев 1983, 61], он далее переводит метафору «горизонталь vs. вертикаль» в прямое значение и рассматривает метаграмматические корреляции исключительно между языковыми единицами, находящимися в разных стихах, т. е. взаиморасположенными по вертикали[19] (между тем Тынянов как раз напоминает, что «слово в стихе вообще динамизованно, вообще выдвинуто, а речевые процессы сукцессивны, – вот почему законной формой поэзии может быть ‹…› даже один стих (ср. Карамзин, Брюсов)» [Тынянов 1993, 75]). Но точно так же трактует семантическую роль стихотворной графики Гаспаров!
Таким образом, во всех трех случаях – у Бурича, у Гаспарова и у Токарева, – в основе непризнания моностиха – стихом лежит представление о том, что необходимым признаком стихотворной речи является ее – как правило, выраженная графически – расчлененность на стихи, т. е. стихов должно быть больше одного. Со всей определенностью это утверждают В.А. Никонов: «Основа стиха – соотнесенность…. Отдельный стих не существует как стих – он становится им лишь в ряду других» [Никонов 1962, 622], Ю.Б. Орлицкий: «Стих подразумевает не столько определенным образом организованный отрезок речи, сколько отношение строк» [Орлицкий 2002, 563], В.П. Москвин: «Определим стихи как отрезки речи, регулярная соразмерность которых воспринимается как ритмическая. Из этого определения следует, что минимальная основа ритмовки – два стиха» [Москвин 2009, 21][20]. Такой подход – безотносительно к проблеме моностиха – опирается, вероятно, на формулировку Б.В. Томашевского: «Ритм может быть наблюден и в отдельной строке, но только ряды стихов создают в нас впечатление общего ритмического закона» [Томашевский 1929, 25–26][21]. К формуле Томашевского мы еще вернемся, рассмотрев прежде иные позиции по вопросу о моностихе.
3) Моностихом является только метрическая одинокая строка.
Первым отметил «возможность ‹…› моностихов, конечно, построенных на основе известной заранее и отчетливо выраженной метрической системы», В.М. Жирмунский [Жирмунский 1975, 62]. Еще более категоричен был А.А. Илюшин: «Метр моностихов кажется очевидным и не вызывает сомнений» (последующие оговорки Илюшина призваны, в сущности, только подтвердить этот тезис) [Илюшин 1988, 63–64]. В.Ф. Марков также полагает, что «примеры строк, где действительно нельзя установить метрической картины без окружения, настолько редки», что ими в разговоре о метрике моностиха можно пренебречь [Марков 1994, 349]; впрочем, позиция Маркова к этому, как увидим далее, не сводится.
Если понимать все эти утверждения в чисто констатирующем плане, то сразу выясняется, что статистика исследователей подвела: уже скандальная «Смерть искусству!» Василиска Гнедова (1913) дает сразу несколько примеров неметричности или метрической неоднозначности, и далее на протяжении XX века примеры метрически неопределенных либо метрически вариантных (то есть поддающихся различной интерпретации в метрическом отношении) одиноких строк умножаются (тексты, цитируемые и анализируемые в главах 3–5, легко позволяют в этом убедиться). Но высказывания и Жирмунского, и Илюшина вполне можно истолковать в определительном ключе: моностихи, не построенные на основе известной метрической схемы, невозможны, а метрически неочевидные одинокие строки моностихами не являются. К этой же идее склоняется, по-видимому, В.Е. Холшевников, замечающий, что «одинокая строка может быть воспринята как стих только на фоне развитой поэтической традиции данного размера» (курсив наш, – Д.К.) [Холшевников 2004, 114]. Наиболее твердо и ясно формулирует эту позицию М.В. Панов[22]: «Будем различать: мельчайшие единицы метра; их сочетание, подлежащее повтору; пределы, в которых осуществляется повтор. В стопном размере эти три единицы такие: слог – стопа – стих. В тактовике – такие: такт – стих – строфа, сочетание стихов». Поэтому, делает вывод Панов, «возможен моностих ‹…› стопным метром», а «тактовый моностих» – «это столько же стих, сколько проза. Различие между ними нейтрализовано. Потому что тактовик по своей сути должен разыгрываться на протяжении нескольких стихов» [Панов 1989, 340–341][23].
Терминология Панова не должна вводить в заблуждение: из приводимого им примера (моностих Ильи Сельвинского) ясно, что тактовиком он называет дольник, противопоставляя тем самым строго метрический («стопный») стих любому другому (как и, по всей вероятности, Жирмунский и Илюшин в вышеприведенных высказываниях)[24]. К правомерности такого противопоставления можно подходить с разных сторон.
Панов напоминает – и это чрезвычайно важно, – что стих – основная, но не элементарная единица стихотворной речи. Понятие стопы, как это уже не раз подчеркивалось, требует реабилитации: акцентируя внимание на том, что стопа – не реальность, а абстракция, современное стиховедение едва не упустило из виду, что абстракция – это ведь тоже реальность, только особого рода[25]. Детальное рассмотрение этого вопроса выходит за пределы нашей темы, поэтому заметим лишь, что позиция Панова возвращает нас к тыняновскому положению о том, что «системный (метрический, – Д.К.) стих основан на выделении более мелких метрических единиц внутри единства (стиха, – Д.К.), которые и кладутся в основу дальнейшего протекания метра. Каждое частичное неразрешение изготовки этой мелкой единицы динамизирует системный стих» [Тынянов 1993, 43]. Но, с точки зрения Ю.Н. Тынянова, таким же образом устроен и дольник («паузник» – в современной ему терминологии)!
Сколь бы логичным ни было введение Пановым трехуровневой иерархии метрических единиц, при ее применении не учитывается то принципиальное обстоятельство, что повтор в поэзии – это повтор не равных единиц, а приравненных[26]; дольник приравнивает разносложные стопы (или, если угодно, разносложные междуиктовые интервалы) и потому точно так же, как и строго метрический стих, укладывается в трехуровневую схему «слог – стопа (доля) – стих». Больше того, можно сказать, что принципиально не укладывается в нее только верлибр, в котором по определению приравниванию подлежат только строки. Поэтому утверждение В.Ф. Маркова: «В книжке стихов-одностроков строка, не подходящая ни под один из известных размеров или типов, будет ощущаться как однострочный верлибр» [Марков 1994, 349], – содержит противоречие в определении: для того, чтобы квалифицировать стих как верлибр, одной строки недостаточно[27]. Заметим, однако, что, при кажущейся близости этого утверждения позиции Гаспарова и несмотря на цитированную выше другую мысль Маркова, сближающую его с Илюшиным и Жирмунским, данная формулировка предъявляет новую позицию по вопросу о статусе моностиха.
4) Моностих является стихом ввиду действия тех или иных внешних по отношению к нему факторов.
Нечто подобное наряду с Марковым утверждает П.А. Руднев: «Моностих предполагает некий контекст – в данном случае (моностих Брюсова, – Д.К.) нужна привычка читательского слуха к анапестическому ритму, а также и то, чтобы этот текст находился на равных правах с другими, соседними текстами, чья совокупность дала бы цикл, сборник или книгу стихотворений» [Руднев 1989, 80].
Отличие формулировок Маркова и Руднева от позиции Гаспарова – тонкое, но весьма принципиальное: в данном случае утверждается, что контекстная обусловленность достаточна для признания текста стихотворным[28]. По-видимому, с ними солидарен и Ю.М. Лотман, говорящий об «отрывках, воспринимающихся как стихи только благодаря тому, что они включены в более обширные контексты, которые обладают минимальным набором признаков поэзии, но, взятые в отдельности, не могут быть отличены от не-поэзии» [Лотман 1972, 45].
Последовательному обоснованию такой точки зрения посвящен фундаментальный труд С.И. Кормилова «Маргинальные системы русского стихосложения». В отличие от основных систем стихосложения – т. е. метрического стиха, дольника, тактовика и т. п., – «маргинальные системы суть системы в ‹…› полном и точном смысле: их метро-ритмические характеристики сами по себе, с точки зрения акцентологии и силлабизма, однозначно не определяются или вовсе “не работают”, а актуализируются, будучи включены в какие-то иные, дополнительно взятые отношения» [Кормилов 1991а, 54]. Рассматривая моностих как одну из таких маргинальных систем, Кормилов повторяет: «Метр, который в основных системах первичен, в этой маргинальной системе вторичен. Есть он или нет – для моностиха не главное… Стихом его делает не это, а “стыки” присущей ему имманентно структуры и тех или иных параметров, выходящих за его пределы, актуализирующих эту структуру, если там есть что актуализировать, если же нет – наделяющих стиховым качеством нечто весьма далекое от обычного стиха…» [Кормилов 1991а, 298][29].
И вновь мы сталкиваемся с необходимостью вернуться к вопросу о том, что такое стих, прежде чем решить, что такое моностих. Правда ли, в частности, что в «основных системах стиха» (пусть даже в строго метрическом стихе) метр (пусть даже понимаемый расширительно, по Колмогорову) первичен?
Проблема соотношения метра и ритма, волновавшая еще Андрея Белого, нашла свое решение в работе М.И. Шапира «Metrum et rhythmus sub specie semioticae»[30]. Обобщив весь опыт русского стиховедения ХХ века, Шапир возвращает нас к тыняновским представлениям о Ритме как общем (конструктивном) принципе всякой поэтической речи [Шапир 1990, 65]; принцип этот, поясняет Шапир, состоит в единстве звучания и значения, метр же и ритм суть два способа его реализации – конвенциональный и неконвенциональный [Шапир 1990, 81], или, иными словами, Ритм, взятый в аспекте единичного факта (ритм) или в аспекте всеобщего закона (метр) [Шапир 1990, 69]. Таким образом, Ритм несводим к метру и может репрезентироваться непосредственно ритмом[31]. Несводим Ритм и к явлениям акцентологии и силлабизма: еще Б.В. Томашевский замечал, что «все элементы звучания могут быть факторами ритма» [Томашевский 1929, 13][32]; хотя, в самом деле, в русской стихотворной традиции именно эти ритмические определители наиболее привычны, наиболее конвенциональны, чаще всего носят метрический характер (разграничение метрических и ритмических явлений Шапир основывает на том, что «элементы ритма ‹…› возвращают реципиента к предыдущим местам стихового ряда, а элементы метра ‹…› выполняют как предсказующую, так и ретросказующую функцию» [Шапир 1990, 70][33]).
Теперь мы можем ответить на вопрос, заданный по поводу определения поэзии, данного Г.Н. Токаревым: деформированная семантика, установление регулярных метаграмматических связей, характеризующие поэзию, суть проявление работы Ритма, представляющего собой повтор различного в подобных позициях и подобного в различных позициях (раскрывая тем самым сходство в различии и различие в сходстве) и действующего по конвенциональным (канонизированным) и неконвенциональным (неканонизированным) каналам[34].
Но означает ли это, что любой стихотворный текст может быть опознан как таковой сам из себя? Очевидно, нет. Обнаруживать в тексте явление Ритма побуждает нас конвенциональной природы сигнал (см. выше у Г.Н. Токарева и Ю.М. Лотмана). Можно сказать, что именно сигнал актуализирует в восприятии специфически стиховую структуру текста. Наиболее канонизированным сигналом такого рода является стиховая графика (см. выше у Ю.М. Лотмана), и это, вообще говоря, справедливо и для моностиха, поскольку коррелятом стиховой графики является окружающее стихотворный текст чистое пространство страницы (в наиболее развернутом виде эту мысль формулирует О.И. Федотов: «Моностих должен быть в принципе одиноким, занимать на странице абсолютно отдельное место. Окружающее его пространство – не пустая формальность. Оно целенаправленно подчеркивает структурную самостоятельность и самодостаточность стихового ряда… Оно берет на себя роль знака, указывающего на особое место в строфической системе…» [Федотов 2002, 19] – однако еще в отзыве В.В. Розанова на моностих Валерия Брюсова в качестве важного для восприятия элемента указывалось «пустое поле листа, ее (строку, – Д.К.) окружающее»[35]). Принципиальную графическую изолированность моностиха могут дополнять отсутствие абзацного отступа и другие специфичные для поэзии приемы графического оформления, помимо которых могут восприниматься как стихотворные лишь наиболее канонизированные разновидности стиха – но и в них мы имеем дело не с отсутствием сигнала, а с приобретением ведущим элементом структуры – например, каноническим метром, – сигнальных функций. В этом смысле характерно, что первому русскому моностиху Николая Карамзина не помешала быть опознанным в качестве моностиха узкая печатная полоса «Московского журнала», в котором при первой его публикации окончание не уместилось и вылезло во вторую строку: сигнальную функцию приняла ямбическая метрика, а графическое отклонение было прочитано как информационный шум.
С.И. Кормилов подчеркивает, однако, что фактор, актуализирующий стиховую структуру, может даже и привнести ее в текст, сам по себе таковою не обладающий. Применительно к моностиху он указывает, например, на «поэмы» из «Смерти искусству!» Василиска Гнедова, состоящие из одной буквы и знака препинания (поэмы 11 и 14), констатируя, что принадлежность этих текстов к поэзии никак не обусловлена их структурой и мотивируется исключительно контекстом. В связи с этим Кормилов предлагает последовательно считать стихотворность любого моностиха контекстно обусловленной [Кормилов 1991а, 297–298].
Между тем вторжение в стихотворный контекст – в данном случае, контекст книги стихов (впрочем, степень спаянности произведения Гнедова дискуссионна – см. стр. 143–148), – гетерогенных элементов можно интерпретировать иначе: с помощью понятия «эквивалентов текста», введенного Ю.Н. Тыняновым для «всех так или иначе заменяющих <стихотворный текст> внесловесных элементов» [Тынянов 1993, 35][36]. Буквы Гнедова точно так же не являются стихотворными сами по себе, как подробно разобранные Тыняновым строчки, составленные из точек, у Пушкина. Как и другие эквиваленты слова, они не могут составлять самостоятельный литературный текст[37]. Уже с отдельными словами дело обстоит несколько иначе: в составе сложного стихового целого (например, у того же Гнедова, а затем у Владимира Эрля) они представляют собой элементы стихотворные, взятые же в отдельности – по всей вероятности, должны быть интерпретированы как тексты литературные, но не стихотворные и не прозаические[38], – вот где пригодился бы термин В.П. Бурича «удетерон»[39]! Там же, где мы имеем дело хотя бы с двумя словами, возникает принципиальная возможность стиховой структуры, – таков наш ответ на сакраментальный вопрос Франсуа Ле Лионне: «Начиная с какого количества слов возможна поэзия?» [Ou. li. po 1973, 175][40].
С другой стороны, предположению о контекстной обусловленности стихового свойства моностиха противоречат примеры смешанного стихотворно-прозаического контекста, в котором, как выясняется, моностих может себя обнаруживать. Чрезвычайно выразителен в этом плане цикл Александра Вайнштейна «Апофеоз бессистемности» [Вайнштейн 1994, 139–168], включенный автором в книгу стихов, но определенный им самим как «сборник мыслей, афоризмов, максим, парадоксов». Он состоит из 330 текстов малой формы, начинаясь безусловно прозаическими: «Человек стоит выше ангела, так как обладает свободой выбора. Ангел свой выбор сделал.» – при типично прозаической (хотя и без абзацного отступа) форме записи какой-либо сигнал к поиску Ритма и осмыслению текста как поэтического отсутствует. Однако затем автор постепенно подводит читателя к необходимости задумываться, применительно к каждому тексту, о его принадлежности к прозаической или стиховой речи. Это достигается введением аллюзий к известным (в кругу предполагаемых читателей данной книги) поэтическим текстам[41], частичной ритмизацией (возможно, даже и метризацией) прозаических фрагментов («В море можно исчезнуть. В небе можно спастись. Земля – это летящая Атлантида.» – при оформлении этого текста стиховой графикой можно получить более или менее безусловный дольник), использованием в качестве самостоятельных текстов начальных строк стихотворений, напечатанных в этом же сборнике («Мир, не знающий войн, – это мир без истории.» – ср. [Вайнштейн 1994, 109]). Наконец, появляются тексты, содержащие отчетливый сигнал стиховой структуры – узнаваемый метр (их около 50, причем большая часть – пятистопный ямб); некоторые из таких метрических фрагментов больше похожи на записанные «в подбор» двустишия («Мы мир населяем, как пчёлы по сотам. Мир селится в нас, как Всевышний в обитель.»). Таким образом, в читателе формируется установка, заставляющая искать в тексте работу Ритма (= взаимодействие звучания и значения = деформированную семантику = регулярные метаграмматические связи) и в зависимости от результатов этого поиска интерпретировать текст как стихотворный или прозаический.
Сходным образом построен цикл Ольги Зондберг «Это недолго» [Зондберг 2007, 40–67], включающей 359 микроминиатюр. Так же поначалу идут типично прозаические тексты, по большей части занимающие более одной строки: «Вы еще спросите, справедливо ли то, что люди отдыхают на море, а пальто в шкафу». На этом фоне, однако, спорадически встречаются заметно укороченные фрагменты, обнаруживающие те или иные признаки стихотворности: метричность («Вот женщина, похожая на ягоду в варенье.», «Куда метро идет, туда и мы пойдем.»), паронимическую аттракцию («Ветки и ветрено.»), внутреннюю рифму («Вот кальвадос, а вот подземный переход.»). Постепенно таких текстов становится все больше и больше, падает сама средняя длина текста: если на первом развороте публикации она составляет 11,8 слова (включая служебные), и однострочна чуть менее чем половина фрагментов (11 из 23), то из последних 23 фрагментов однострочны все, и средняя их длина 5,7 слова. Благодаря этому чем дальше, тем внимательнее мы к проявляемым теми или иными фрагментами признакам стихотворности – и к концу цикла готовы увидеть внутреннюю рифму не только там, где она сравнительно точная («Уступайте места котам без хвоста.», «Курьеры ходят по карте, звери спят на асфальте.»), но и там, где она выражена консонансом или аллитерацией («Контакт с неорганическим миром через кусок школьного мела.», «Будем реалистами, когда вырастем.»).
Не менее показательно устройство цикла Михаила Кузьмина «Кристаллические секунды» [АРВ 1991, 295–297]. Как и в предыдущих случаях, он начинается однозначно прозаическими текстами: «Если бы не страх перед завтрашним днем, мы бы уже давно жили в будущем» – графика текста прозаическая, с абзацным отступом, хотя без знаков переноса и с выравниванием по левому краю. Последующие семь текстов точно такие же, и хотя установка на поиск ритма у читателя присутствует (цикл опубликован в поэтическом издании – «Антологии русского верлибра»), но сигнала в тексте усмотреть невозможно. Особенно знаменательно графическое решение текста «Носи всегда ту маску, под которой тебя нет»: дело в том, что по ширине полосы в рассматриваемом издании этот текст должен был бы уместиться в одной строке, отчего его прозаический статус стал бы менее очевидным (пропал бы абзацный отступ), – поэтому слово «нет» все-таки перенесено в следующую строку. Установка на поиск стихотворности ослабевает. Но затем следует переломный текст – двустишие:
В поэзии главное – тайна, в прозе – конспирация.– характерно, что его тема – именно противопоставление стиха и прозы. Этот текст заново актуализирует установку на поиск стихотворности – и в заключительных четырех текстах цикла этой установке отвечает сигнал: отсутствие абзацного отступа и однострочность текстов[42]. Дальнейший анализ мог бы показать, как стихотворная структура реализуется в этих текстах[43] через метр (один из текстов – пятистопный дактиль) и/или звуковую инструментовку, поддержанную стечением морфологически сходной лексики:
Темное прошлое – родина светлого будущего. Воспоминание – возвращение сознания из бытия.На чередовании стихотворных и прозаических миниатюр, заставляющем читателя все время искать в тексте сигналы стихотворности, построены также цикл Виктора Коваля «Моя народная мудрость» [Коваль 1991][44], книги Вилли Мельникова «in SPE» [Мельников 1994] и Яна Невструева «Под мутным небом за серым дождем» [Невструев 1997] и др. Помимо воли автора так функционирует раздел «Из записных книжек» в посмертном сборнике Владимира Бурича [Бурич 1995] (подробнее см. стр. 245–246).
В то же время в отсутствие установки на обнаружение стихотворности отдельные однострочные миниатюры в прозаических циклах могут обладать структурой, которая в акцентологическом и/или фоническом аспекте более или менее подобна стихотворной, однако эта структура не примет на себя сигнальную функцию, так что, например, попадание одинокой строки в силлабо-тонический размер будет прочитываться как обычная для короткого участка прозы случайная метричность (образец такого положения вещей – «Грегерии» Рамона Гомеса де ла Серны, в которых случайные метры нередки и в оригинале, и в русском переводе Натальи Малиновской [Гомес де ла Серна 1983, 299–341]). Абсолютизация метрических или иных элементов структуры, интерпретируемых как показатель стихотворности вне зависимости от наличия установки и сигнала, приводит к обнаружению моностиха там, где его нет. Выразительны в этом отношении размышления В.В. Жибуля: «Некоторые одностроки А. Дебиша имеют все признаки афоризма (“Поздно не бывает никогда – даже для смерти”, “Абсурд – путь к истине”[45]) или афоризма и моностиха одновременно (“Камни вырастают из молчанья”, “За черной шторой – черный свет”). Последние по семантико-синтаксической и образной структуре напоминают грегерии ‹…› Видимо, сам автор даже и не разделяет свои миниатюры на поэтические и прозаические: в его цикле “Все так просто: Мгновенные впечатления” (Усе гэтак проста: Імгненныя ўражанні) представлены миниатюры всех выявленных нами типов, причем в некоторых из них “принцип одной строки”, важный для моностиха, не выдержан» [Жыбуль 2009]. Конечно, Жибуль напрасно признаёт или не признаёт афоризмы моностихами в зависимости от характера тропа и безотносительно к ритмике и даже (как следует из последней фразы) графике текста; в действительности обсуждаемая публикация [Дэбiш 1999] включает 90 миниатюр, из которых 50 однострочны, а остальные 40 содержат от 2 до 4 строк (графика прозаическая, с красной строкой), – однако и среди однострочных фрагментов, и среди остальных обнаруживающие достаточно отчетливую для принятия на себя сигнальной функции ритмическую структуру пренебрежимо малочисленны.
Возможно, однако, и обратное: однострочный текст в стихотворном контексте, прочитываемый не как моностих. Книга стихов Николая Моршена «Эхо и зеркало» состоит по большей части из стихотворений исключительной формальной изощренности: в ней достигает пика интерес автора к словотворчеству [Грищенко 2008, 299–300], широко представлены различные разновидности аллитерации, сложные ритмические и строфические конструкции, внутрисловный перенос и многие другие приемы, акцентирующие специфику стихового развертывания материала (впрочем, попадается и верлибр). На этом фоне посредине книги возникает озаглавленный однострочный текст:
Афоризм
Сочинять афоризмы – плёвое дело. [Моршен 1979, 47]Казалось бы, единственный однострочный текст внутри стихотворного сборника должен (во всяком случае, по С.И. Кормилову) прочитываться как моностих – по крайней мере, сформированная на протяжении всей книги установка подталкивает к такому прочтению. Однако название текста, выступая как сигнал, ставит эту установку под сомнение: ведь афоризм – прозаический жанр (см. подробнее в гл. 2). В структурном отношении строка, конечно, может быть прочитана как восходящий четырехиктный дольник, однако эта ритмическая характеристика мало что нам дает: не видно, каким образом ритмика этой фразы деформирует ее семантику. Напротив, выраженная мысль вполне прозаична: сочинение афоризмов, то есть прозаических миниатюр, явно не представляется затруднительным на фоне той виртуозности, которая требуется для сочинения расположенных вокруг стихов. Логически следует, что именно этот единственный текст стихотворного сборника Моршена вернее интерпретировать как прозаический: установка на стихотворность не подкреплена сигналами, структура не обнаруживается; такая интерпретация хорошо согласуется с замечанием Л.С. Флейшмана о том, что творческие поиски Моршена в этот период «наряду с демонстративно эксперименталистским началом, характеризуются установкой на литературную традицию поэтической шутки, ‹…› альбомной игры» [Флейшман 1981, 73].
Наконец, автор может предпринять целенаправленные шаги по затемнению стихотворной либо прозаической природы текста. Так, в книге избранных стихотворений Доналда Джастиса [Justice 1995, 104] находим цикл «Из блокнота» (From a Notebook), где безусловно стихотворные миниатюры соседствуют с очевидной малой прозой, которая в практике американского поэтического книгоиздания легко встраивается в поэтический сборник, не претендуя никоим образом на стихотворность. Шестая часть в цикле из девяти текстов выглядит так:
FROM A SPY NOVEL: «Maybe you knew Bliss by another name.»[46]Рецензент книги Джастиса особо останавливается на этом тексте, отмечая, что поэт «даже фразу из шпионского романа превращает в меланхоличное (wistful) однострочное стихотворение» [Dirda 2004]. Но стихотворение ли это? Пояснение по поводу происхождения данной фразы дано в одной строке с самой фразой, но оформлено той же капителью, какой названия некоторых других частей цикла, и отделено значительно увеличенным пробелом, побуждающим читателя усомниться в соотношении двух частей текста. В рамках выработанного выше подхода мы должны сказать, что установка на поиск в тексте сигналов стихотворности Джастисом создана, однако присутствующие в тексте сигналы нарочито противоречивы, не могут быть однозначно расшифрованы – а потому мы так и не знаем твердо, следует ли нам рассматривать структурные элементы, позволяющие стихотворную интерпретацию (например, кольцевую аллитерацию [məi] / [əim]), как релевантные или как нерелевантные, случайные. Похоже, что в этом тексте оппозиция стих/проза нейтрализуется.
Другой интересный случай неотчетливости сигнала можно усмотреть у Пабло Неруды. Принято считать, что он включил два моностиха в свою первую книгу «Собрание сумерек» (Crepusculario, 1923). Однако Неруда действовал тоньше. В первом издании сборника (и ряде его переизданий) моностих, графически оформленный так же, как и другие стихотворения книги, только один (напр., [Neruda 1942, 119]):
Спящая вода
Прыгать люблю в воду, чтобы упасть в небо.Ему предшествует ([Neruda 1942, 99]) название одного из разделов, вынесенное на отдельную полосу и данное соответствующим шрифтом, однако совершенно нетипичное по длине и характеру:
MI ALMA ES UN CARROUSEL VACÍO EN EL CREPÚSCULO (МОЯ ДУША КАК КАРУСЕЛЬ ПУСТАЯ СРЕДИ СУМЕРЕК)Традиционная установка не предполагает стихотворности названий, и названия предыдущих разделов (предшествующий, например, называется «Сумерки Марури», по названию улицы, на которой жил Неруда, сочиняя книгу) не ставят эту установку под сомнение. Но подаваемый этим названием сигнал противоречит установке – и позволяет обнаружить у строки стихотворную структуру: как отмечал позже Л. Марио, она явно распадается на рифмующиеся полустишия [Mario 1991, 473]. Это в какой-то степени подготавливает появление однострочного стихотворения, способное вызвать непонимание у латиноамериканского читателя 1920-х годов, прежде с этой формой в испаноязычной поэзии не встречавшегося (см. стр. 189–190). Однако в позднейших изданиях (можно предположить, в связи с нормализацией моностиха как формы: какая-то специальная подготовка читателя с расшатыванием установки более не нужна) эта строка печатается уже не как название раздела, а как моностих (с точкой в конце и первыми двумя словами, повторенными как название текста) [Neruda 1973, 62].
К сожалению, понятия сигнала и установки не были в должной мере усвоены литературоведением из семиотики, хотя к соответствующей проблематике многие авторы так или иначе подходили: например, в сходном направлении размышляли Ж. Женетт [Genette 1969, 150] и Дж. Каллер [Culler 1975, 161–164], пользовавшиеся, однако, терминологически нестрогими формулировками (attitude de lecture у Женетта, type of reading у Каллера)[47]. Поэтому их применение к литературным текстам может оказаться неоднозначным. Мы исходим из того, что установка предшествует восприятию текста (ср. у Ю.М. Лотмана: «Представление о том, что воспринимаемый нами текст – поэзия, ‹…› – первично» [Лотман 1964, 133]), побуждая искать в нем сигналы его стихотворной природы (поскольку мы рассматриваем поэзию как маркированный член оппозиции). Поэтому, относя к сигналам на равных правах «позу говорящего и название произведения», Лотман, очевидно, не различает сигнал и установку: ведь название является хотя и специфической, но частью текста, а значит, может нести сигнальную функцию, поза же декламатора, безусловно, относится к сфере установки. Близкие соображения встречаются и других исследователей. Так, О.И. Федотов (со ссылкой на Й. Грабака) замечает: «Графическая сегментация служит прежде всего особого рода сигналом установки на стих, следуя которому наше сознание “вдвигает” предлагаемый ему текст в определенную внетекстовую структуру, в определенную историческую традицию» [Федотов 1997, 38]. Наиболее последовательно останавливается на этом круге вопросов М. Червенка, в разных работах возвращающийся к «сигналам включения соответствующих текстов в традицию стихотворной словесности (поэзии), т. е. восприятия их звуковой организации как ритмической» [Червенка 2011, 144], – но и он, вслед за Лотманом, в свой «реестр “возбудителей” ритмической интенции» на равных правах включает «издание книги в поэтической серии», «тематические элементы, обычные для поэтического текста», «звуковые последовательности и повторы» и «характерное разделение текста на строки» [Червенка 2011, 147–148], то есть элементы установки (вне текста), сигналы (в тексте), элементы ритмической структуры (звуковые повторы)[48] и более или менее иррелевантные ритмике стиха факторы (поскольку для современной поэзии вопрос о выделении «обычных для поэтического текста тем», очевидно, не стоит); впрочем, встречающееся в другой работе Червенки замечание о том, что «графическая форма текста, разбивающая его на строки, заканчивающиеся еще до начала страничных полей, располагается на границе между внутритекстовыми и внетекстовыми сигналами ритма» [Червенка 2011, 113], возможно, следует интерпретировать как альтернативную терминологическую возможность (установка = внетекстовый сигнал), едва ли удачную в связи с тем, что внутритекстовый сигнал выполняет обязательную посредующую функцию между установкой и структурой. В любом случае семиотическое осмысление стиха остается недостаточным и требует дальнейшего развития и систематизации[49].
Итак, в предложенных терминах наше разногласие с позицией С.И. Кормилова по вопросу о моностихе можно сформулировать так: Кормилов полагает, что в «маргинальных системах» и, в частности, в моностихе установка является необходимым и достаточным условием стихотворности, два же других звена триады (сигнал и структура) могут отсутствовать или, во всяком случае, нерелевантны; мы, напротив, полагаем, что моностих характеризуется этой триадой точно так же, как и «основные системы стихосложения», дефектность же триады в любом ее элементе конституирует явления, принципиально не относящиеся к стиху (как, например, упоминавшиеся выше опыты Всеволода Некрасова и Ры Никоновой).
Таким образом, маргинальность явления моностиха для поэзии следует понимать в том смысле, что моностих маркирует тот край, тот минимум условий, за которым мы имеем дело уже не со стихом. Моностих – тот пробный камень, на котором проверяется справедливость любых претендующих на общезначимость суждений о поэзии. Лучшим тому подтверждением может служить подобная проверка цитированного выше тезиса Б.В. Томашевского: «Ритм может быть наблюдён и в отдельной строке, но только ряды стихов создают в нас впечатление общего ритмического закона» [Томашевский 1929, 25–26]. В самом деле: ритмический закон (т. е. метр) выявляется только в ряде стихов[50], ритм же обнаруживается и в отдельной строке, но Ритм может манифестироваться и непосредственно ритмом во всей его индивидуальной неповторимости[51].
Ближе всех к такому пониманию ритмической природы моностиха подходит, по-видимому, Ж.Л. Жубер, отмечающий хотя и вскользь, но со ссылкой на Тынянова, что стиховая природа моностиха обусловлена взаимозависимостями и повторами в его структуре [Joubert 2010, 187]. Из отечественных авторов на то, что ритм моностиха «создается звуковыми, или синтаксическими, или собственно метрическими повторами», указывает Б.П. Иванюк [Иванюк 2008, 127]. Не вдаваясь в вопрос о том, могут ли синтаксические повторы выступать как первичный порождающий фактор стихового ритма, важно отметить отраженную в формулировке Иванюка несводимость Ритма к метру. Однако дальнейшее замечание Иванюка о том, что такая ритмическая природа отличает «классический моностих» от «неклассического, занимающего промежуточное положение между стихом и прозой» (со ссылкой на В.П. Бурича и С.И. Кормилова), влечет за собой, кажется, некоторую терминологическую невнятицу, возвращая к размышлениям М.В. Панова и других о том, что не всякий моностих есть стих.
Необходимо указать еще на одно обращение отечественной филологии к вопросу о ритмическом строении единичного стиха. А.З. Лежнев начинает с рассуждения, непосредственно перекликающегося с позицией Кормилова: «Отдельно взятые стих, строка, фраза не имеют ритмической природы. Она создается контекстом. То, что было бы стихом в стихотворной строфе, становится повествовательной фразой в прозаическом абзаце. ‹…› Поэтому стихотворение должно состоять по меньшей мере из двух строк. Если брюсовское “О, закрой свои бледные ноги!” воспринимается как стихи, то это потому, что оно подано как стихи и на стиховом фоне, да и то оно возбуждало долгое время недоумение своей однострочностью» [Лежнев 1937, 192]. Но сразу вслед за этим утверждением Лежнев поправляет себя: «Это не совсем точно. Дело в структуре стиха. ‹…› В длинной строке, например, гекзаметрической, волнообразный рисунок ритма намечен так определенно и полно, что уже единственный изолированный стих дает о нем представление. ‹…› Важнее, чем протяженность метрической строки, ее внутреннее строение. Возьмем строку: “Мчатся тучи, вьются тучи”. Она будет воспринята как стиховая при всяких условиях. Действительно, изменим текст следующим образом: “Мчатся тучи, вьются тучи, идет дождь”. Ритм все еще ощущается. ‹…› Это происходит оттого, что ритмическая структура подчеркнута сильными добавочными средствами. Стих распадается на две симметрические половины, состоящие из одинаково построенных коротких фраз, где повторение (слова “тучи”) создает “нагнетательное” действие, смысловое и ритмическое, поддержанное к тому же густой звукописью. Это – законченный в себе кристалл, сгусток ритма, стиховая природа которого очевидна. Попробуем ослабить его ритмическую интенсивность, не нарушая метра. Возьмем эквиритмическую фразу: “Воет ветер, мчатся тучи, идет дождь”, – стихотворный ритм уже почти не чувствуется. ‹…› А ведь мы только уничтожили повторения и несколько ослабили густоту звукописи, оставив синтаксический параллелизм коротких фраз, сохраняющих свою самостоятельность. Поэтому слабый отзвук метра еще отдается здесь. Уничтожим параллелизм и заставим метрическую строку врасти в прозаический текст: “Надвигался вечер. Посвежело. Мчались тучи, роняя на бегу крупные и редкие капли дождя”. Вряд ли бы кто, читая абзац, догадался, что в нем заключена правильная ритмическая строка (“Посвежело. Мчались тучи”), и выделил бы ее в чтении» [Лежнев 1937, 192–194].
Эти размышления А.З. Лежнева принадлежат к нескольким страницам, посвященным стиху, в его книге «Проза Пушкина» (и по причине своего происхождения в поле зрения стиховедов обычно не попадают). Поскольку Лежнева в первую очередь интересует возможность опознания стихотворных элементов в прозаическом тексте (то есть, в отсутствие установки на стих), постольку метр выступает для него совершенно обязательным элементом (то есть тем элементом структуры, который принимает на себя сигнальную функцию). Но нам важно отметить у Лежнева отчетливое понимание того, что Ритм не сводится к метру и не исчерпывается им – а значит, работа Ритма может быть обнаружена и в отдельно стоящем стихе, на чем настаиваем и мы.
Заявленная нами теоретическая позиция требует, естественно, проверки анализом конкретных текстов, обнаруживающим работу Ритма в моностихе. Выразительным примером такого анализа, предпринимаемого в отношении однострочных текстов крайне редко, может послужить разбор моностиха У. С. Мервина:
Elegy
Who would I show it toЭлегия
Кому я это покажу– принадлежащий известному американскому литературоведу и критику Хелен Вендлер и наглядно демонстрирующий, что методологическая корректность лежит в основе точности и глубины интерпретации:
«Название указывает на жанр: это стихотворение, выражающее скорбь о недавно умершем. Мы замечаем, что нисходящий ритм названия отвечает теме стихотворения: “El-e-gy”. Сущностными тематическими элементами всякой элегии выступают оплакивание и восхваление ушедшего, – и здесь мы видим жалобу поэта на то, что он утратил кого-то, кого он воспевает (eulogized) в качестве наиболее значимого спутника жизни – читателя, чьему вкусу и интуиции прежде всего были адресованы стихи. Теперь этот самый необходимый друг умер, и незачем сочинять… Стихотворение заключено в рамку финальным “to”, которое эхом откликается на начальное “Who”… Вообразим это крохотное, но пронзительное стихотворение переписанным в иной форме. Название его пусть будет, допустим, “Dirge” (погребальная песнь, – Д.К.) – односложное, неметрическое слово, – а сам текст пусть будет написан в восходящем ритме: “To whom would I show it?” Нет больше никаких соответствий между содержанием и формой: название ритмически не коррелирует с текстом; живое, разговорное обращение к близкому заменено примером из учебника по грамматике; нет звуковой связки между начальным и финальным словом. Достраиваемая воображением лирическая ситуация и сущностные тематические элементы не изменились: стихотворение по-прежнему говорит о том, что незачем больше писать, когда лучший читатель умер, но художественная необходимость (conclusiveness), словесная аранжировка, врезающаяся в сознание, утрачена. Чувство осталось, искусство ушло» [Vendler 2001, 389–390][52].
Сходные рассуждения встречаем у Е.К. Озмителя, анализирующего моностих Василия Субботина:
Окоп копаю. Может быть – могилу.«Моностих В. Субботина двучленен, состоит из двух фраз, одна из которых выступает преимущественно в качестве информационной предпосылки, а вторая – эстетической интерпретацией ее и одновременно уточняющим информантным комплексом, который вносит мотив неопределенности в развитие образа-мысли. Однако уже первая часть по сути дела не только лишь информационна; ее инверсионное построение (“Окоп копаю”) обозначает наличие дополнительного информационного шума, семантическая значимость которого заключается в передаче авторских чувств, переживаний. Поэтому уже здесь создается возможность сделать предположение, что перед нами не только мысль-образ, но и образ-переживание. ‹…› В каждой части – по одной предметной детали, одной из которых произведение открывается, а второй – завершается. Это своеобразное предметно-детальное кольцо (“Окоп… могилу”) придает во многом ту смысловую завершенность стиху, которую мы ощущаем как наиболее характерную для лирической структуры. ‹…› В обеих частях моностиха опущены, но подразумеваются единицы, закономерные в естественном языке, – притяжательные местоимения, что усиливает экспрессивность и динамичность моностиха, рождает эффект сжатия, форсирования речевого потока, способствуя, если говорить другими словами, возникновению “тесноты стихового ряда”. ‹…› Аллитерирование различает и разделяет две знаковые подсистемы (к, п; к, п – м, л), а ассонансы их сочетают в единое эстетически-эмоциональное целое (о, о; о, у – о, о, у). Таким образом, устанавливается наличие системы знаковых повторов, которые не только несут познавательную, но и эмоционально-эстетическую информацию; последняя предопределяет тот факт, что в процессе коммуникации данный код воспринимается в его лирической функциональной определенности» [Озмитель 1972, 8–10][53].
Анализ Озмителя может, кажется, вызывать некоторые частные несогласия (квалификация вокализма субботинского моностиха как ассонанса выглядит проблематичной, потому что в трех из пяти случаев буква «о» обозначает безударный редуцированный звук[54]; довольно сомнительна обязательность в естественной речи притяжательных местоимений в подобной фразе – во всяком случае, вариант «копаю свой окоп» явно воспринимается как избыточный), но общий вектор его логики совпадает с нашим: моностих обнаруживает в себе структурные особенности, присущие стиху и относящиеся к Ритму в широком смысле термина.
В этой теоретической перспективе мы будем далее рассматривать историю русского моностиха как стихотворной формы и, в частности, целый ряд отдельных текстов. Перед этим, однако, необходимо уделить несколько больше внимания вопросам отграничения моностиха от некоторых других форм и явлений.
2. Моностих и смежные явления
О границе между моностихом и прозаической миниатюрой в значительной степени уже шла речь в главе 1. Добавим лишь, что эта граница не является совершенно непроницаемой относительно влияний и заимствований: не случайно, например, отмечается прямое воздействие прозаической микроминиатюры Жюля Ренара на последующую традицию французского хайку [Agostini 2001, 47][55] – причем в качестве наиболее выразительного примера фигурирует однострочный текст:
Le Ver Luisant
Cette goutte de lune dans l’herbe!– конечно, чисто прозаический контекст книги «Естественные истории», откуда этот текст извлечен, не ведет к его опознанию как стихотворного, да и в метрические схемы французской силлабики он укладывается с трудом[56], однако звуковая и акцентологическая структура строки обнаруживает ритмические эффекты, которые в ином контексте вполне могли бы конституировать стихотворный текст[57].
Настаивая, как это делаем мы, на отчетливости границы между прозой и поэзией, следует особо отметить существование ряда разновидностей литературных текстов, для которых эта дихотомия, по-видимому, не имеет определяющего значения. Таковы, например, палиндромы, для которых предписанная последовательность букв (симметричная относительно середины текста или его участка) выступает, в терминах М.Ю. Лотмана и С.А. Шахвердова, вторичным кодом [Лотман, Шахвердов 1973, 174][58], ритмическая же структура, присущая поэзии, может возникать как код третьего порядка. Как отмечают те же авторы, дешифровка трех кодов в одном сообщении представляет серьезные трудности, читателю приходится выбирать приоритет; мы можем предположить, что ритмический код, гораздо более привычный, считывается легче, чем экзотичный палиндромический, однако при эксплицированности установки и сигнала для палиндромичности (а палиндромы практически всегда публикуются в специализированных изданиях и т. п.) считывание палиндромной структуры получает приоритет перед считыванием ритмической. Вследствие этого можно говорить о том, что палиндром, даже метрический, – это, по меньшей мере, не совсем поэзия. Теоретик палиндрома А.В. Бубнов замечал по этому поводу, что «палиндром ‹…› может сочетаться как со стихами, так и с прозой; или принимать их личину» (курсив наш, – Д.К.) [Бубнов 2000, 16]; на целесообразность выведения палиндрома за пределы дихотомии «стих vs. проза» указывал и Д.М. Давыдов [Давыдов 2004, 122]. В полной мере относится это и к однострочным палиндромам – включая те из них, в которых стихотворная структура опознаётся без труда:
Тарту дорог как город утрат[59]То же можно сказать про развивающиеся в самое последнее время смежные с палиндромом формы, также основанные на жесткой регламентации буквенного или звукового состава текста (в последнее время для такого рода форм утверждаются обобщающие названия «комбинаторная поэзия» [Федин 2002; Чудасов 2009] и «литература формальных ограничений» [Бонч-Осмоловская 2009][60]), – прежде всего, речь идет про творческую практику Дмитрия Авалиани, разрабатывавшего целый ряд таких экспериментальных форм, нередко реализовывавшихся в однострочном тексте, – например, анаграммы (пары слов или словосочетаний идентичного буквенного состава):
Апельсином опламенись! Симметрия – имя смерти. Демократия моет дикаря. [Авалиани 2011, 36, 37, 42]– или омограммы (пары словосочетаний идентичной буквенной последовательности, различающихся только расположением словоразделов):
Злато и тоги. Зла то итоги.[61] [Свобода 2014, 12]Однако зачастую в ту же обобщающую категорию «комбинаторной поэзии» попадают типы текста с менее жесткой формализацией – например, так называемые «заикалочки» (дисфемиграммы, фонетические репризы), требующие обязательного многократного повтора группы звуков в середине строки:
Нет банана на нанайца. Цитата та татарская. Николай Байтов[Чудасов 2010, 38]– и эти тексты затруднительно квалифицировать как тексты тройного кодирования, поскольку в них всегда присутствует не регламентированный дополнительным кодом словесный (буквенный, звуковой) остаток[62].
К текстам тройного кодирования относятся и стихотворные тексты, оформленные визуальными средствами, отличными от конвенциональных средств поэтической (и, тем паче, прозаической) графики. Наиболее древней и распространенной разновидностью этой категории текстов являются фигурные стихи, т. е. стихотворные тексты, визуальная форма которых отлична от канонической и эстетически значима. Среди текстов этого рода встречаются и такие, которые в отсутствие визуальной составляющей были бы с полным основанием отнесены к моностихам. Собственно, есть даже прецедент такого «вычитания» визуальной составляющей: Карен Джангиров напечатал в «Антологии русского верлибра» моностих Андрея Кирсанова:
гордый как путь [АРВ 1991, 250]– записанный в оригинале в виде положенного набок вопросительного знака[63]. Наиболее известные эксперименты в этой форме принадлежат в новейшей русской традиции Андрею Вознесенскому (прежде всего, текст «Чайка плавки Бога», записанный в форме силуэта чайки [Вознесенский 1991, 232]; против причисления этого текста к моностихам см. [Кормилов 1995, 80]).
Другой разновидностью текстов с третьим визуальным кодом являются тексты, включающие дополнительные визуальные элементы, т. е. собственно визуальная поэзия. Здесь также известны сочинения с минималистской тенденцией, тяготеющие (если вынести за скобки визуальный элемент) к моностиху. Помимо уже упоминавшихся хорошо известных произведений Всеволода Некрасова и Ры Никоновой яркими примерами могут служить миниатюры Германа Лукомникова (времен его работы под псевдонимом Бонифаций):
дыр о чка Там темно.– в первом тексте буква «о» выколота насквозь, во втором зачернено очко буквы «а». И эти тексты моностихами в строгом смысле слова, на наш взгляд, не являются[64] – не говоря уже о более радикальных жестах, позиционированных как визуальная поэзия, вроде известного «Моностиха» Бернара Вене (Bernar Venet; род. 1941), представляющего собой сложную математическую формулу [Allan 2002, 179].
По другую сторону от моностиха (по отношению к текстам, в которых к стихотворной структуре добавлено нечто ее девальвирующее) находятся тексты, которым этой структуры недостает, – «удетероны», поскольку мы условились пользоваться термином В.П. Бурича для однословных текстов принципиально неопределимого статуса (следуя, по сути, за Ю.Б. Орлицким, предложившим расширительно использовать термин «удетерон» для «минимальных текстов, не поддающихся корректной интерпретации как стих или проза» [Орлицкий 2002, 32], – с той разницей, что Орлицкий включает в число таких текстов моностих, а мы нет).
Число однословных текстов в литературе новейшего времени не так незначительно, как можно было бы подумать[65]: так, в 1967 г. шотландский поэт Йен Хэмилтон Финлей (Ian Hamilton Finlay; 1925–2006) посвятил «однословным стихотворениям» специальный выпуск своего журнала «Poor.Old.Tired.Horse», в США в 1972–1975 гг. вышли 13 выпусков журнала однословной поэзии «Matchbook» (дословно «спичечный коробок»: листы миниатюрного формата с текстом и именем автора вкладывались в спичечные коробки), над которым работал поэт и перформер Дэйв Морайс (Dave Morice; род. 1946), использовавший для этого проекта литературную маску поэтессы Джойс Холланд (Joyce Holland).
Любопытно, что в этих двух изданиях преобладают тексты совершенно разного типа. Авторы Старого Света, редуцируя собственно текст к единственному слову, сталкивают его с названием, кратким или развернутым (см. также прим. 458 на стр. 322):
Апрель
проявление Валери ДжиллисЯкорь облака
ласточка Йен Хэмилтон Финлей[Atoms 2000, 163, 164]К этому типу принадлежит и самый, вероятно, известный однословный текст в мировой литературе, написанный еще в 1924 г.:
Pourquoi J'Écris?
Parce que…Почему я пишу?
Потому… Блез СандрарПер. с франц. Михаила Кудинова[Сандрар 1974, 129]– здесь, однако, название и текст связаны и риторической конструкцией, и совокупным метром (полустишие александрийского стиха передано по-русски через трехстопный анапест); Б.П. Иванюк в связи с этим квалифицирует стихотворение Сандрара как моностих [Иванюк 2008, 128].
Американская традиция однословных текстов строится на других основаниях. Часть авторов журнала «Matchbook» обращалась к технике found poetry, «присваивая», публикуя за своей подписью, разные более или менее экзотические слова и фокусируя внимание на их самоценной выразительности:
апокатастасис Аллен Гинзберг ацетилхолинэстераза Джон БаткиДругие конструировали свои собственные слова с более или менее прозрачным смыслом – по большей части сложного состава, хорошо встраивающиеся в один ряд с вышеприведенными:
психазм Том Вейтч метафория Розмари Уолдроп армадилдо Билл Заватски тиктактильный Айра ШтейнгрутБлизкий подход выработал одновременно Рон Силлиман (Ron Silliman; род. 1946), включивший в свою книгу стихов «Nox» [Silliman 1974] полтора десятка однословных текстов, образованных посредством словесных деформаций, особенно усечений:
ганизатор ефтьНаиболее известный однословный текст в американской поэзии, написанный Арамом Сарояном (Aram Saroyan; род. 1943) в 1965 году и вызвавший политический скандал четырьмя годами позже[66], несколько отклоняется от этой линии:
lighght– здесь семантизируется особенность английской орфографии с ее непроизносимыми буквами: по мнению Б. Граммена, «Сароян ставит нас лицом к лицу с невыразимостью (ineffability) света, таинственной сущности, чьи составляющие некоторым образом здесь и при этом отсутствуют, подобно тому как “ghgh” присутствует (и неуловимо мерцает), но не произносится в слове, ‹…› и односложное слово намекает на беззвучное и невесомое распространение света, одно “gh” за другим» [Grumman 1997]. Именно эта линия, названная Грамменом «инфравербальной поэзией» (см. также [Kostelanetz 2001, 304])[67], получила наиболее обширное развитие в однословной литературе рубежа XX–XXI веков, главный импульс которой был задан поэтом Джефом Хатом (Geof Huth; род. 1960), экспериментировавшим с этой формой с 1987 года и предложившим для нее термин «псолэомвы» (pwoermds). Хат составил и выпустил сперва антологию «&²» (2004), а затем ряд других сборников однословной литературы, с 2008 года каждый апрель в Интернете проводится Международный месячник сочинения псолэомв (/). И сам Хат (например, [Huth 1993, 75]), и пишущие о его текстах и проекте критики (например, [Tabios 2010]) отмечают в псолэомвах близость к визуальной поэзии – Э. Тэйбиос, например, обращает внимание на то, что в тексте
eithierдобавленная в слово «either» (тот и другой) буква i создает зеркальное отражение ei|ie, иконически выражающее его значение; еще очевиднее этот эффект в другом тексте Хата, где замена i на j мотивирована формой графемы, напоминающей о рыболовном крючке:
fjshjngВо всех рассмотренных случаях характеризующая поэзию структура в тексте обнаружена быть не может – в остальном же случаи эти весьма различны, и дальнейшее исследование типологии и эстетического функционирования однословных текстов, постепенно выделяющихся в особую разновидность литературы, представляет существенный интерес. Среди прочего следует отметить, что на формирующихся границах этой разновидности литературы с гораздо более традиционными поэзией и прозой, в свою очередь, существуют немногочисленные, но любопытные с теоретической точки зрения тексты, та или иная квалификация которых дополнительно затруднена. В частности, при отграничении однословных текстов от неоднословных (и, следовательно, поэтических либо прозаических) затруднение представляют тексты, в которых под сомнением само количество слов[68], – таковы миниатюры, построенные на трансформации единственного слова, и по меньшей мере одна их разновидность – основанное на перетекании одного слова в другое «кругозвучие» (по [Бирюков и др. 1998]) – обладает несомненными признаками Ритма:
АлтайАлтайалтаялтаялтаЯлта Бонифаций (Герман Лукомников)Другой класс явлений, требующий сопоставления с моностихом и отграничения от него, – это строки стиховой структуры, не являющиеся самостоятельными произведениями. Простейший случай здесь – одностишие, то есть однострочная строфа или, в другой терминологии, «изолированный стих» в составе целостного стихотворного произведения. Стиховедческая наука с большой неохотой признавала на протяжении XX века правомерность выделения однострочной строфы – не в последнюю очередь потому, что такая строфа может существовать только на фоне других строф большего объема, представленных в том же тексте (впрочем, Ж. – Л. Аруи указывает на стихотворение Поля Элюара «Комендантский час»[69], вроде бы написанное однострочной строфой: в контексте авторской книги увеличенный интерлиньяж одного текста на фоне стандартного интерлиньяжа остальных не может не прочитываться как структурно значимый [Aroui 1994, 109–110]; встречаются подобные соображения и у других исследователей[70]). Между тем П. Павличич, исследовавший этот случай наиболее подробно [Pavličić 1993, 9–56], отмечает, что «изолированный стих имеет особую силу воздействия на ритм стихотворения, на организацию его композиции и на концентрацию его смысла», так как в малом объеме сосредотачивает энергию, эквивалентную энергии целой строфы [цит. по: Кормилов 1991а, 271][71]. Нетрудно увидеть, как такое явление готовит почву моностиху в сознании автора, читателя, исследователя[72]. Интерес к выразительным возможностям изолированного стиха породил, между прочим, такое любопытное явление, как «горизонтальная поэзия» Леонида Виноградова: рифмованные стихотворные миниатюры, в которых каждый стих занимает подчеркнуто изолированное положение – расположен на отдельной странице [Виноградов 1998] (подробнее см. стр. 207–208 и прим. 306 на стр. 190).
«Однострочная строфа» занимает, с точки зрения самостоятельности, промежуточное положение между обычным стихом (в составе многострочного стихотворения) и моностихом. Возможны, однако, и более тонкие градации. Так, некоторые исследователи отмечают различную степень самостоятельности стихов многострочного стихотворения. В.С. Баевскому принадлежит мысль об особом – более самостоятельном – статусе первой строки стихотворения: «В известном смысле он (первый стих, – Д.К.) представляет все произведение, сигнализирует об особенностях его метрики, языкового строения и содержания, являясь своеобразной моделью целого» [Баевский 1972, 22][73]. Рассматривая поэтический текст как объект философской рефлексии, к аналогичному выводу приходит Н.М. Азарова: «первая строчка “транслируется” на весь текст или имплицирует весь текст, ‹…› перестает быть названием стихотворения, а становится самим стихотворением, то есть первая строчка превращается в моностих» [Азарова 2010, 452]. По-видимому, желанием закрепить такую роль начальной строки, а не одними лишь соображениями книжного дизайна можно объяснить склонность некоторых авторов к шрифтовому выделению первого стиха (например, курсивом, как в книге Сергея Соловьёва «В зеркале отца» [Соловьёв 1987]). Еще более показательно избирательное использование этого приема Светланом Семененко в книге «Свет в декабре» [Семененко 1985]: стихотворения, не имеющие названий, оформлены в ней двумя различными способами – там, где первый стих может (по мнению автора, надо полагать) одновременно выполнять функции названия, он выделен прописными буквами (так же, как собственно названия в этой книге), при этом обычно заменяющие название «звёздочки» – астериски перед таким стихом опускаются; в остальных случаях астериски присутствуют, а первый стих графически оформлен так же, как последующие; по-видимому, этот прием заимствован Семененко у эстонского поэта Яана Каплинского, которого он переводил на русский язык[74]. Аналогичное решение встречаем – вероятнее всего, независимо от Семененко – в книге Андрея Чемоданова [Чемоданов 2004, особенно 16, 21][75].
Своеобразным результатом рефлексии поэта над особым, условно самостоятельным статусом первой строки стал цикл Аркадия Штыпеля «Четыре книги», каждое стихотворение которого представляет собой как бы страницу содержания поэтического сборника, составленную из первых строчек вошедших в него стихотворений (строки пронумерованы и снабжены открывающей кавычкой, однако не имеют кавычки закрывающей и концевого многоточия), – в результате, поясняет Штыпель, «каждый стих, по идее, предстает перед читателем как фрагмент двух текстов: наличного и виртуального. То есть как одна из строчек наличного стихотворения, написанного в жанре “перечня стихов”, и как заглавная строчка виртуального “стихотворения” из виртуальной “книги”» [Штыпель 2007, 84]; иными словами, из представления об относительной автономии начального стиха возникает представление о нем как об идеальном материале для центона (и уж затем происходит игровое переворачивание ситуации: псевдоцентон, сложенный из несуществующих текстов-источников).
Своего рода доказательством от противного для представления о начальном стихе как потенциальном моностихе служит практика обратного превращения: дописывание моностиха, превращающее его в первую строку многострочного стихотворения. В русской поэзии такой прецедент единичен и находится на периферии этой схемы: однострочный фрагмент Сапфо в переводе Вячеслава Иванова София Парнок использовала в качестве первой строки посвященного Марине Цветаевой стихотворения «Девочкой маленькой ты мне предстала неловкою…» [Полякова 1983, 39, 70]. Однако в румынской поэзии книга моностихов Иона Пиллата, опубликованная им в 1936 году уже в статусе живого национального классика, вызвала ряд однотипных оммажей – рифмованных четверостиший с моностихами Пиллата в качестве начальных строк, а поэт Мирча Стрейнул (Mircea Streinul; 1910–1945) написал таким образом целую книгу под названием «Лирические комментарии к стихотворениям в одну строку Иона Пиллата» (1936) [Chelaru 2011, 33–41], резонно квалифицированную как образец «ошибочно понятой верности» старшему автору [Cistelecan 2002, 18].
В меньшей степени внимание поэтов и исследователей привлекало обособленное положение финального стиха: А. Пардо приводит ряд примеров из испанской и французской поэзии в диапазоне от коротких моральных резюме в баснях Лафонтена до авторов 1980–1990-х гг. [Pardo 2004, 209–220] – при этом, что вряд ли верно, не различая изолированные стихи, отделенные отбивкой, и не выделенные строфически финальные строки, совпадающие с рамками предложения. В той же работе указываются некоторые менее частотные случаи стихотворных строк с более высокой степенью самостоятельности – например, пронумерованные синтаксически завершенные строки в одном стихотворении Эдуардо Фрайле Вальеса [Pardo 2004, 218–219][76].
Иначе, в присущем ему субъективистском ключе, ставит вопрос о различной степени самостоятельности отдельного стиха в составе многострочного стихотворения В.Ф. Марков: «Каждый может привести пример поражающей, волшебной, запомнившейся строки из стихотворения, которое целиком могло в памяти и не сохраниться. Почему запомнилась именно эта строка? Часто потому, что она стихотворение; остальное присочинено, чтобы выглядело (выделено Марковым, – Д.К.) как стихотворение… Навеянная Пушкиным строка <Хлебникова> “Русь, ты вся – поцелуй на морозе!” – первая в стихотворении. На ней надо было и кончить[77]. Другое начало, “Песенка – лесенка в сердце другое” – настоящий однострок, да еще редкого, пословичного качества. Всё, что Хлебников к нему добавил, – неинтересное бормотание. Много таких нереализованных одностроков и у других поэтов» [Марков 1994, 348]. Далее Марков приводит ряд, по его выражению, «стыдливых одностроков», принадлежащих Державину, Лермонтову, Некрасову, Мандельштаму[78].
Хотя модальность утверждения Маркова кажется нам совершенно недопустимой, само его наблюдение (впервые, впрочем, сделанное Брюсовым, – см. об этом стр. 133)[79], безусловно, схватывает важную реальность: наряду с авторским моностихом можно говорить и о моностихе «читательском», который представляет собой строчку, выхваченную читателем из многострочного текста и затем существующую автономно в читательском сознании. Правда, примеры, приводимые Марковым, в значительной мере произвольны: так, самодостаточная, с точки зрения Маркова, державинская строка «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?» едва ли способна к автономному функционированию из-за напрашивающегося с неизбежностью вопроса: «Когда?»[80]. Это и нормально для читательского восприятия, огорчительна лишь безапелляционность оценок, вечная спутница неразличения читательской и экспертной позиции в рамках одного высказывания.
Корректнее, акцентируя внимание именно на субъективном выборе реципиента, ставит вопрос Юрий Иваск в рецензии на работу Маркова: «Есть еще читательские одностроки – чужие стихи, которые вдруг сами собой произносятся, бормочутся. Это жесты души… Вот иллюстрация. Рано утром Иванов приехал в большой незнакомый город: Чикаго. Вышел пройтись. Настроение неважное: зачем все это? Зачем – я? К черту Чикаго и меня в придачу! Но знакомое белесое небо, синеватый иней на деревьях, и вдруг сказалось – почти спелось…
Утро седое, утро туманное…Это Тургенев. Но мы знаем этот “однострок” от Блока: одно свое стихотворение он начал этим, давно уже забытым, тургеневским стихом. Однако это всё “история литературы”… С читательской точки зрения существенно другое: нашему Иванову удалось “облегчиться” – это и его однострок, единственный и неповторимый жест души» [Иваск 1964][81]. Тому же феномену – индивидуальному «выхватыванию» единственной строчки из стихотворения – посвящено и появившееся почти одновременно с рецензией Иваска эссе Константина Ваншенкина, вряд ли знакомого с публикацией Маркова: «Каждому, кто любит и знает поэзию, кто часто читает или слушает стихи, знакомо, вероятно, такое наблюдение: ты чем-то занят, задумался и вдруг ловишь себя на том, что давно уже повторяешь машинально какуюнибудь известную тебе стихотворную строчку… Я постарался сейчас вспомнить, какие строчки в последнее время вот так, непроизвольно возникали в моем сознании» [Ваншенкин 1965] – далее приводится ряд отдельных стихов Пушкина, Маяковского, Пастернака, Владимира Луговского и Николая Ушакова, с характерными и психологически точными комментариями: «Я поймал себя на том, что очень долго повторяю эту строку. А вот следующая за ней строчка повторяться никак не хотела, более того, она мешала мне, и я произнес ее, лишь сделав усилие» и т. п.[82] Одновременно с Марковым (и со ссылкой на его параллельную работу) сходные рассуждения находим у одного из ведущих филологов украинской эмиграции И.В. Качуровского, отмечающего, что «фрагмент, обладающий достаточной независимостью и законченностью, чтобы считаться отдельным произведением, ‹…› если он меткий и сильный, начинает жить собственной жизнью», тогда как «контекст, из которого происходил этот стих, исчезает и забывается», – а потому, хотя «никто из украинских поэтов к моностиху, кажется, не обращался[83], однако моностих в нашей поэзии существует и даже занимает в ней довольно важное место» – с дальнейшими примерами способных к автономному существованию в читательском сознании строк Ивана Франко [Качуровський 1967, 69–70].
Наибольшее распространение идея относительной самодостаточности фрагмента, выделенного из целого стихотворения читательским восприятием, приобрела во Франции, где Жорж Помпиду в 1961 г. включил в свою «Антологию французской поэзии» (впоследствии неоднократно переиздававшуюся) особый раздел-постскриптум, состоящий из таких фрагментов, из которых около 100 – от Эсташа Дешана и Франсуа Вийона до Поля Валери и Поля Элюара – однострочны [Pompidou 1961, 487–517]; в свою очередь французский поэт Жорж Шеаде составил «Антологию одинокой строки» [Schehadé 1977], включающую 219 изъятых из контекста строк самого разного происхождения, в том числе и не вполне стихотворного, как в случае с переводом изречения Гераклита[84]. Явным образом указав на книгу Шеаде как источник своего вдохновения, небольшой сборник с тем же названием выпустил и мексиканский поэт Марко Антонио Кампос [Campos 2003]. Своеобразной девиацией метода Помпиду и Шеаде[85] стала книга Жака Жуэ «Моностихирование Лафонтена» [Jouet 1995], в которой каждая басня Лафонтена была представлена моностихом – но не извлеченным из лафонтеновского оригинала, а скомпонованным наново с тем, чтобы суммировать его содержание: иногда вполне реферативно –
Лягушка лопнула, от важности раздувшись.– а иной раз новым емким образом:
Песнь голода: зерно в закромах муравья.В России о своеобразной антологии читательского моностиха, в рамках которой ведущие переводчики поэзии представляли бы своих любимых иноязычных авторов наиболее яркими, с их точки зрения, строками, еще в 1990-е гг. несколько раз объявлял в публичных выступлениях Павел Грушко, затем в 2005–2007 гг. коллективная антология читательского моностиха создавалась сообществом «Студия моностиха» (/) в Живом журнале (основные авторы – поэт Дмитрий Сумароков <fratrum> и филолог Елена Эфрос <kototuj>)[86]. Однако первый полномасштабный авторский проект в области читательского моностиха осуществил лишь в 2014 году Артем Верле, опубликовавший три цикла с однотипным названием «Неполное собрание строчек» [Верле 2014], каждый из которых включал в себя по 35 нумерованных строк, извлеченных из стихотворений Константина Случевского, Аполлона Майкова и Льва Мея соответственно; Верле выбирает у них строчки в том или ином отношении странные, неловкие, в изолированном виде особенно контрастирующие с современными читательскими ожиданиями в отношении поэтов XIX века, – например, из Случевского:
Мозг порасплескался в бедных головах…или
Особых способов и видов людоедства…Читательский моностих представляет собой результат переключения читателя в позицию автора. Любопытным частным случаем этого явления выступает практика ряда авторов, сперва как бы встающих в позицию читателя по отношению к собственным многострочным текстам – вычленяя из них самодостаточные, на их взгляд, стихи и придавая им самостоятельный статус. Помимо уже приводившегося в пример Александра Вайнштейна такой метод активно использует Павел Грушко. А далее уже остается один шаг до появления моностиха в результате отказа автора от «присочинения» (пользуясь выражением Маркова) других строк: как указывает О.И. Федотов, «отдельного разговора заслуживают моностихи, образовавшиеся в результате авторского вымарывания неудачных фрагментов текста» [Федотов 2002, 23]. Так, по устному свидетельству С.В. Сигея, поздний моностих Василиска Гнедова
Твой взгляд блестел настоящим велосипедомпредставлял собой исходно первый стих многострочного текста, остальные строки которого были вычеркнуты автором в рукописи. Американский поэт Чарльз Райт рассказывал: «Однострочное стихотворение в моем сборнике “Китайский след” (China Trace, 1977) стоило мне нескольких дней работы. ‹…› Оно становилось все длиннее, а потом ужалось (shrank). И я решил, что можно оставить одну строчку вместе с названием. Так что я пробовал сочинять стихи в одну строку – вы тоже можете попробовать. Это адски трудно!» [Wright 2008, 25][87] Сходное признание находим у Елены Кацюбы: «У себя я нашла один единственный моностих: “Пламя живет в глазах, глядящих на пламя”. Помню, что пыталась эту строчку как-то приспособить. Продолжить ее или наоборот – завершить ею стих. Не получалось. Строка либо торчала, как пружина из дырявого дивана, либо вообще терялась. Так и оставила ее пылать внутри себя в книге “Игр рай”» [Блиц-интервью 2009, 170–171]. Последний стих своего многострочного стихотворения опубликовал отдельно, в чуть подправленном виде, испанский поэт Мануэль Альтолагирре (см. стр. 190) – правда, спустя 23 года напечатал и многострочную версию тоже [Romojaro 2008, 56]. Примерно такую же историю имеют известные моностихи Николая Глазкова и Василия Субботина (подробнее см. стр. 173–174 и 217–218), по меньшей мере два моностиха Яна Сатуновского, в том числе знаменитое
Главное иметь нахальство знать, что это стихи. [Сатуновский 2012, 686]Есть и предположение об аналогичном происхождении заложившего традицию западного моностиха новейшего времени стихотворения Гийома Аполлинера [Decaudin 1993, 47]. Впрочем, встречается и противоположный подход: «Однострочное стихотворение – это не более пространное стихотворение после сжатия (condensed), не более крупный блок текста, сведенный к единственной тонкой черточке. Оно не создается способом, которым Паунд будто бы сочинял свое “На станции метро”, сократив в течение 18 месяцев 39 строк до 18-ти, а потом 18 – до 2. Так это не работает» [McFee 2008, 66] – пишет поэт Майкл Макфи, автор книги моностихов «Еще короче говоря» (The Smallest Talk), явно опираясь больше на собственный опыт, чем на историю вопроса. Отметим, однако, что для появления моностиха недостаточно удаления автором других строк, имевшихся в черновом варианте текста: необходимо еще явно выраженное намерение автора считать оставшуюся строку завершенным текстом. Без такого намерения мы по-прежнему будем иметь дело не с моностихом, а с однострочным черновым фрагментом – из которого, далее, может создать читательский моностих его публикатор, как это фактически произошло с множеством древнегреческих фрагментов (ср. стр. 118–120 о переводческой работе Льва Мея).
Наряду с читательскими моностихами, превращенными в отдельное произведение конкретным вторичным автором (или, в виде частного случая, тем же первичным), существуют и строки, самодостаточность которых зафиксирована в культуре, – широко употребляющиеся изолированно и при этом не отсылающие, с точки зрения как говорящего, так и слушающего, к первоначальным контекстам, не осмысляющиеся как фрагменты подразумеваемого целого. Именно так функционируют, например, знаменитая формула Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» или строка Льва Озерова «Великий город с областной судьбой» в культурном сознании огромного большинства знающих эти тексты. Д. Уэрта указывает на строку из стихотворения Октавио Паса[88], которая «обособилась и звучит в цитатах, как если бы была моностихом (а возможно, уже и превратилась в него)» [Huerta 2013, 96].
Своеобразной разновидностью читательского моностиха является, согласно еще одной остроумной догадке В.Ф. Маркова, однострочный эпиграф. Правда, догадка эта сформулирована Марковым неосторожно и неточно: с утверждением «Идеальный эпиграф – однострок» [Марков 1994, 348] невозможно согласиться не столько из-за того, что существует сколь угодно много эпиграфов иного, как меньшего, так и большего объема, сколько в силу того, что оно не учитывает функциональной неоднородности эпиграфов. Между тем эпиграф может нести одну из двух основных функций (иногда обе): вводить мотив, образ или проблематику через «чужое слово», создавая установку на диалогичность (причем важен именно сам факт представления слова как чужого; предельный случай здесь – автоэпиграф), – или устанавливать определенную интертекстуальную связь с тем именно текстом или авторским идиолектом, откуда взят эпиграф, «потенциально вмещая в себя всю ту литературно-художественную структуру, откуда он заимствован» [Виноградов 1934, 153–154]; Н.А. Кузьмина называет эти два случая эпиграфом автономным и эпиграфом метонимическим, замечая при этом, что «универсальная функция эпиграфа – диалогизирующая – по-разному реализуется в описанных типах: в автономных эпиграфах имеет место диалог “эпиграф – текст под эпиграфом”, в метонимических – “текст-источник эпиграфа – текст под эпиграфом”» [Кузьмина 1997, 63][89]. Несложно увидеть, что лишь в первом случае функционирование эпиграфа аналогично функционированию моностиха и вообще самостоятельного текста, во втором же принципиальна именно несамодостаточность эпиграфа, то, что он представляет собой часть некоторого целого[90]. Любопытно, что поэтическая рефлексия отношений моностиха и эпиграфа обратилась к вопросу с другой стороны, рассматривая не моностишный потенциал эпиграфа, а эпиграфический потенциал моностиха; об этом пишет Михась Стрельцов (оригинал на белорусском языке):
Эпиграф
Я хочу написать строку, только одну строку, которую наивный поэт с головой кудрявой, как облако, мог бы взять как эпиграф. Напишу хоть вот так: «Я однажды видел плохого человека». [Стральцоў 1987, 70]– текст интересен еще и в том отношении, что один из стихов в нем выделен эксплицированной метапоэтической рефлексией. Практически, однако, ни один случай использования моностиха в функции эпиграфа нам не известен.
Другой элемент перитекста[91], в некоторых случаях выступающий как смежное по отношению к моностиху явление, – это название стихотворения: оно по умолчанию однострочно в подавляющем большинстве случаев[92] и вполне способно обладать собственной ритмической структурой, а в новейшей поэзии подчас реализует потенциал ритмической и семантической самостоятельности [Веселова 1999, 154]. В наибольшей степени обладает такой самостоятельностью название книги стихов или раздела в ней – на что в ряде случаев и обращают внимание критики. Так, Наталья Горбаневская, рецензируя книгу стихов Сергея Вольфа «Розовощекий павлин», начинает с недоумения: «Павлина этого я искала по всей книге: откуда он взлетел в заголовок?» [Горбаневская 2004, 71] – чтобы закончить: «Мы можем компетентно объяснить, что такое “Розовощекий павлин”. Это моностих:
Розовощёкий павлин– трехстопный дактиль с первой безударной (или почти не ударной) стопой, редкая форма в трехсложных размерах» [Горбаневская 2004, 76] (полужирное выделение ударных гласных принадлежит автору статьи, – Д.К.). Аналогичным образом М.Г. Павловец, обозревая книгу стихов Ираиды Лёгкой «Подземная река», обращает внимание на название одного из разделов сборника «Подземная река детского языка» – «по своей смысловой емкости напоминающее стих – однострок, моностих» [Агеносов, Павловец 2000, 253]. В обоих замечаниях рецензентов вполне очевидно, что при квалификации названий как моностихов ритмические соображения переплетаются с семантическими[93]. На сходство с моностихами названий отдельных стихотворений или стихотворных сборников указывали также Г. Маклауд (применительно к Уоллесу Стивенсу) [MacLeod 1983, 66], Я. Курсите [Kursīte 1988, 189] и другие авторы; ср. также название-моностих Пабло Неруды, о котором шла речь на стр. 35.
Мы рассмотрели ряд случаев, в которых стих, находящийся в составе многострочного целого, приобретает ту или иную меру самодостаточности. Явления эти смежны с моностихом, но никоим образом, вопреки прямолинейным сближениям В.Ф. Маркова, ему не тождественны – прежде всего, в связи с тем, что читательский моностих любой разновидности, поскольку он вынужден как бы завоевывать и отстаивать свою самодостаточность, непременно тяготеет к максимальной завершенности: к синтаксической полноте, к эксплицитным композиционным конструкциям (вроде параллелизма с почти идентичным словесным наполнением в цитированном стихе Ольги Берггольц), – и к максимально выраженной стихотворности – т. е., применительно к русскому поэтическому сознанию, метричности. Более того, согласно остроумному замечанию М.Ю. Безродного (по поводу пушкинской фразы «Мы ленивы и нелюбопытны»), явно выраженные признаки стихотворности могут способствовать широкому распространению кратчайших цитат, не отсылающих к изначальному контексту, даже в том случае, если контекст-то был прозаический [Безродный 1996, 44–45]; подробный анализ этой же фразы, предпринятый Н.В. Перцовым, объясняет ее «странное обаяние» не в последнюю очередь ее «ритмической изощренностью» [Перцов 1997, 15–18]. Напротив, для авторского моностиха, самодостаточного по определению, все это вовсе не обязательно[94].
Особую проблему представляют собой однострочные части многочастных стихотворных текстов: какой мерой мерить их самостоятельность?
Очевидно, что полярными явлениями на шкале «самостоятельность – несамостоятельность отдельного текста» выступают, с одной стороны, книга (или подборка) стихов (в особенности если она составлена не автором), с другой – единый многочастный текст; середину шкалы отмечает феномен «цикла» (ср. [Тюпа 2003]). Отечественное литературоведение, работая преимущественно с материалом XVIII–XIX вв., интересовалось, главным образом, соотношением «цикл – книга», и даже здесь положение дел далеко от ясности, несмотря на работу И.В. Фоменко, Л.Е. Ляпиной и других исследователей[95]. Противоположный фланг изучен существенно хуже, за исключением разве что привычных для XIX века жанрово определенных форм – поэмы, романа в стихах. Несамостоятельность элементов такого целого не вызывает сомнений[96]; это относится, естественно, и к однострочным фрагментам: Кормилов называет в качестве примеров однострочные разделы поэм Максимилиана Волошина «Меч» и Ильи Сельвинского «Улялаевщина» [Кормилов 1992b, 3–4], сюда же можно добавить однострочную главку из поэмы Андрея Вознесенского «Оза», отнесенную к моностихам С.Е. Бирюковым [Бирюков 1994, 62]. Однако в ХХ веке, с размыванием жанровых границ, мы сталкиваемся с большим количеством многочастных структур, расположение которых на оси «многочастное стихотворение – цикл» дискуссионно[97].
Наметим лишь некоторые критерии, позволявшие нам в ряде случаев ответить на вопрос о самостоятельности или несамостоятельности частей многочастного целого.
Не является самостоятельной часть целого, если она входит в состав формальной единицы, на которые членится это целое. С.И. Кормилов указывает в качестве примера [Кормилов 1992b, 3–4] на двухчастное стихотворение Александра Ерёменко «Кочегар Афанасий Тюленин…», где однострочная 2-я главка входит в состав строфы – рифмованного четверостишия:
Ты не знаешь, просёк ли он суть твоих выкладок пьяных. Но вернул же тебе он «тамянку»…2.
А ведь мог не вернуть.Другой известный пример, иногда возникающий в обсуждении проблемы моностиха, – концовка второго раздела книги Поля Верлена «Мудрость», ее финальный текст, получивший в старом русском переводе Эллиса название «Сонеты к Спасителю». В этом разговоре Бога с человеком первые шесть нумерованных реплик – отдельные сонеты, часть VII – развернутый монолог Бога в трех сонетах, часть VIII – заключительные излияния человека, представляющие собой сонет с оборванной последней строкой, и наконец часть IX – полустишие, дополняющее эту строку до александрийского стиха, итоговые слова Бога человеку: «Pauvre âme, c’est cela!»[98] [Verlaine 1962, 272] – разумеется, эти слова не могут интерпретироваться как отдельный текст, в том числе и потому, что без них неполон ни александрен, ни сонет.
К этому же типу случаев примыкает одностишие Анри Волохонского:
Адам
Адам неописуем. [Волохонский 2012, 227]– которое во всех публикациях следует за многострочным стихотворением «Ева», заканчивающимся такими строками:
– О где же, где она? Полна ветвей и травами пьяна Волна ветвей – о где она? Кричало это множество мужей Когда она несла свою красу им Увидев это множество мужей Крича: Адам! – неся свою красу им.– прихотливая рифменная схема всего текста ослабляет предсказующую, метрическую функцию рифмы, хотя две тавтологические рифмопары и создают эффект ретардации с ожиданием финального пуанта; тем не менее, не подлежит сомнению, что одинокая строка образует с предшествующим текстом единое целое: и благодаря рифме, и благодаря метрике (стих трехстопного – или четырехстопного, если включать название, – ямба прибавлен как контрастный постскриптум к стихотворению, которое написано пятистопным ямбом – за исключением отмечающей в нем композиционный рубеж трехстопной строки, с которой мы начали цитату), и благодаря содержательному конфликту между женским началом, требующим экзальтации, эмфатических повторов, и мужским началом, неинтеллигибельным для самого себя; при этом отграничение одностишия не номером, как в двух предыдущих примерах, а названием создает дополнительное напряжение, намеренно усиленное автором путем включения «Евы» и «Адама» в состав цикла «Темные твари» наряду с четырьмя другими стихотворениями, самостоятельность которых не вызывает сомнений[99].
Не является самостоятельной часть целого, если ее метро-ритмические характеристики при изолированном рассмотрении отличаются от таковых при рассмотрении в составе целого, – например, если эта часть, будучи ритмически амбивалентна сама по себе, приобретает в составе целого ритмическую однозначность. В связи с этим неправомерно, на наш взгляд, включение в число моностихов (Марковым и затем Бирюковым) последней части произведения Евгения Шиллинга «Humoresque»[100] [Шиллинг 1916]:
Лучше б он был нищим.Текст Шиллинга написан трехсложным размером с переменной анакрусой, местами расшатанным до тактовика. Предшествующие одностишию две части явно тяготеют к трехстопному дактилю: 14 строк из 16, оставшиеся 2 имеют схему *2*0*. На этом фоне одностишие становится ритмически однозначным и читается согласно схеме *2*0*1. Между тем в изолированном положении естественно видеть в этой строке трехстопный хорей.
К аналогичным выводам ведет анализ пространной публикации Рафаэля Левчина «Моностихи» [Левчин 2011], в составе которой 244 однострочных фрагмента распределены в 11 разделов, выдерживающих определенное единство тематики и ритмики: в частности, четвертый раздел написан своеобразным дериватом гексаметра – с предцезурной каталектикой, дающей на границе полустиший стык двух иктов, характерный для пентаметра:
Княжеский ужин сна, нищий завтрак побудки. Как политрук в штpафбат, гностик пришел к манихеям.В этом контексте так же прочитываются и строки, которые в ином случае обнаруживали бы другую ритмическую структуру – например, четырехстопного анапеста:
Обнаженный герой ест восторги и слёзы. На доспехах твоих пляшет солнечный зайчик.В целом, разумеется, преобладание единой метрической или ритмической тенденции способствует, при прочих равных обстоятельствах, опознанию текста как цельного, а отсутствие такой тенденции, полиметрия, – как цикла[101].
Для разграничения цикла и многочастного целого может быть важен характер знаков, используемых для разделения частей. Например, Давид Бурлюк в книге «Энтелехизм» разделяет разные «опусы» линейкой, тогда как внутри текстов в качестве разделителя использует ряд точек (opp. 27, 35, 53, 63); поэтому то обстоятельство, что части ор. 21 «Два изре» [Бурлюк 1930, 19] разделены именно линейкой, дает основание считать этот опус циклом, а две его части – самостоятельными стихотворениями.
Против самостоятельности частей свидетельствует содержащееся в них автореферентное указание на их место (начальное, финальное и т. п.) по отношению к целому. Так, в тексте Геннадия Айги «Лето с Прантлем» [Айги 2001, 254–257] показательна 16-я часть:
Шестнадцатая страница: Солнце над горизонтом.Аналогичным образом в тексте канадского поэта Майкла Ондатже «Девять ощущений» 6-я часть состоит из единственного стиха:
Пять стихотворений ни слова о речных креветках. Five poems without mentioning the river prawn. [Ondaatje 2000, 38]– характеризуя таким образом предшествующие пять частей (хотя и названные не частями, а стихотворениями).
Разумеется, разграничение цикла и многочастного целого на уровне слова, образа или синтаксиса более проблематично, чем на уровне метрики или графики[102].
Против самостоятельности отдельных частей свидетельствует обилие сквозных повторов. Этот фактор усугубляется, если повторяются в неизменном или слегка трансформированном виде не только отдельные слова, но и целые выражения, предложения или части предложений, синтаксические конструкции, а также если некоторые части состоят исключительно из повторяющихся элементов. Так, в ранней поэме Рафаэля Альберти «Арион» [Alberti 2006, 15–33], однострочные главки которой иногда (например, [Huerta 2013, 95]) причисляют к моностихам, 57 главок из 111 содержат слово «море» в позиции обращения, и этот повтор (наряду с другими, более локальными – например, пять главок подряд с одинаковым зачином «Здесь лежит море») выступает основным композиционным стержнем текста.
Эта логика рассуждений требует, на наш взгляд, вопреки сложившемуся обыкновению, признать статус единого многочастного текста за так называемой второй серией «Пословиц и песенок» (Proverbios y cantares) Антонио Мачадо, вошедшей в состав его книги «Новые песни» (1924) и интересующей нас не в последнюю очередь в силу того, что среди ее 99 фрагментов – наряду с 19 четверостишиями, 69 трехстишиями рифмованным восьмисложником (андалузская фольклорная поэтическая форма solear), 7 двустишиями и 4 более пространными элементами – имеется один однострочный фрагмент, многими испанскими источниками признаваемый одним из первых, если не первым испанским моностихом и включенный в собрание В.Ф. Маркова (в его переводе):
Ведь сегодня вечно длится. [Марков 1963, 256]Нельзя не согласиться с Г. Собехано в том, что внутренняя связность этой последовательности фрагментов особенно заметна на фоне первой, более ранней серии «Пословиц и песенок» (в которой лишь один фрагмент из 53 короче 4 строк, а в самом длинном их 16), – Собехано указывает и на ритмическую спаянность благодаря преобладанию soleares, и на устойчивый образно-тематический контур целого, и на повторы конструкций (например, на три дистантно расположенных четверостишия с совпадающими двумя начальными стихами: «И однако… / О, и однако!»), далее же особо останавливается на однострочном фрагменте VIII и отмечает, что он дословно повторяется в качестве второго стиха в двустишии XXXVIII и перефразируется в заключительной строке восьмистишия LXXIX, а главное – тесно примыкает к предшествующему четверостишию VII, представляя собой ответ на содержащийся в нем тройной риторический вопрос и присоединяясь к одной из рифменных цепей [Sobejano 1976, 61–64] – что и передано в русском переводе Валерия Столбова:
Новый век? Разве доныне не грохочет все та же кузница? И вода, извечная узница, течет не по старой долине?* * *
Сегодня – всегда доныне. [Мачадо 1977, 271]Нам остается только сделать заключительный вывод о том, что такой характер взаимодействия между частями конституирует не цикл, а неразрывное единство[103].
Сходную картину можно увидеть в «Пяти черновых тетрадях Дагды» (Dagdas piecas skiču burtnīcas) – произведении латышского поэта Райниса (Rainis; 1865–1929), первоначально опубликованном в виде пяти отдельных сборников, вышедших один за другим в 1920–1925 гг., и после этого, но в соответствии с изначальным авторским планом, объединенном под общим названием. Сам Райнис квалифицировал эту последовательность текстов как «роман», снабдив ее небольшой прозаической рамкой – рассказом и размышлением о судьбе молодого человека по имени Дагда, которому делегировано авторство всех стихов; сюжетная канва «Тетрадей», однако, с трудом восстанавливается из последовательности лирических отрывков разной степени завершенности. Как указывает Я. Курсите, Райнис в 1920-е гг. разрабатывал тип композиции поэтической книги, в котором граница между отдельными текстами принципиально ставится под сомнение [Kursīte 1985, 90–92], – в этом подходе можно видеть опору на актуальный для периода латышского национально-культурного строительства фольклорный прецедент: народные четверостишия-дайны, которые «при необходимости могли объединяться с другими дайнами похожей тематики и образовывать цикл» [Kursīte 2002, 83]; Райнис опирался также на итальянский песенный фольклор [Rainis 1979, 9], поскольку начинал работу над «Тетрадями Дагды» в Италии и Дагду как своего молодого alter ego поместил там же. Уже первый однострочный элемент в «Тетрадях Дагды» характерен: за стихотворением «Что поют итальянские парни» (Ko dzied itāļu zēni), представляющим собой цепочку стилизованных любовных признаний, следует отделенный «звёздочками» – астерисками комментарий:
И сторнели эти – так поют в народе! Un šie storneļi ir īstas tautas dziesmas! [Rainis 1978, 23]– комментарий будто бы прозаический, но вместе с тем выдержанный в шестистопном хорее (в переводе Сергея Шервинского без сохранения метричности: «Эти сторнели[104] настоящие народные песни!» [Райнис 1981, 265]). Первая книга «Тетрадей Дагды», «Addio bella!», изобилует короткими фрагментами, отделяемыми друг от друга с помощью астерисков (при том, что в начале неозаглавленных стихотворений-частей Райнис астериски не использует, просто располагая каждое на отдельной странице), – с легкой руки самого поэта в латышской терминологии за такой конструкцией закрепилось название «пачки строчек» (saiņu pantiņi) [Rainis 1979, 163; Kursīte 2002, 351]. Кратчайшие из таких фрагментов однословны (но таким образом Райнис выделяет только географические названия, отмечающие путь странствий героя, и имена персонажей), однако и однострочные элементы нередки – вот типичная страница[105]:
Рассвет орленку юных сил придаст, Со скал крутых в простор он смело прянет, Покуда ночь внизу еще морозит и туманит, – А с ним и я. И мощный взмах взорвет воздушный пласт –* * *
Черных глаз вероученье, В нем одном благословенье – Кто это сказал?* * *
Мой путь усыпала черешня лепестками –* * *
Море большое нас островом малым качает –* * *
Мой взгляд блестит в твоих глазах, Как месяц в озере – [Rainis 1978, 61]– несамостоятельный, «черновой» характер этих фрагментов подчеркнут обилием тире на концах строк. Во второй книге «Тетрадей Дагды», «Змеиные слова» (Čūsku vārdi), характер однострочных элементов меняется (хотя концевое тире остается): Я. Курсите называет их «одностроками-девизами» (moto vienrinde) [Kursīte 1985, 92]. Занимая отдельную страницу, однострочные фрагменты предваряют последующие многострочные части текста, организуя систему ближних и дальних повторов. Так, «однострок-девиз»
То было так давно, – уже почти не вспомнить –непосредственно предшествует стихотворению, начинающемуся этой же строкой и озаглавленному «То было так давно», и следующему, начинающемуся строкой «То было так давно, – как мог я это вспомнить?» [Rainis 1978, 93–95][106]. Следующие три однострочных фрагмента расположены дистантно [Rainis 1978, 105, 121, 143], но объединены анафорой и в конце концов соединяются в трехстрочное стихотворение [Rainis 1978, 151]:
Есть змея – погибель: жало страх и боль сулит. Есть змея – бессмертье. Есть змея – новая жизнь: ее укус целит.Завершающий «Змеиные слова» однострочный фрагмент
Как солнце на себя возьмет все наши беды – [Rainis 1978, 165]– повторяется в качестве эпиграфа на контртитуле четвертой части «Тетрадей Дагды» «Серебристый свет» (Sudrabotā gaisma) [Rainis 1978, 252], а затем еще раз как завершающая строка многострочного фрагмента [Rainis 1978, 262], за которой наконец следует ответ («Так все цветы…»). Таким образом, у Райниса, в отличие от Мачадо или Альберти, повтор коротких фрагментов осуществляется в тексте, составленном из разномасштабных композиционных элементов, однако это не снижает его объединяющей, цементирующей функции.
В русской традиции многочастные произведения, построенные на многочисленных повторах, особенно характерны для Геннадия Айги, в поэзии которого вообще «тавтологический повтор становится одной из основных упорядочивающих структур» [Суслова 2013, 287]. Так, в тексте «Читая Норвида» [Айги 1992, 195–199] две ключевые фразы, варьируясь, повторяются в 6 главках из 18, причем 4 из них не содержат иного текста:
4
когда Тоска-давно-б-средь-трупов-быть когда Провинцию-живых-Пора-покинуть9
когда Пора-средь-трупов-быть-Пора когда Провинцию-живых-Пора-покинуть12
когда Тоска-средь-трупов-быть когда Провинцию-живых-Тоска-покинуть ‹…›13
когда Тоска-средь-трупов-быть-Тоска ‹…›16
когда Провинцию-живых-Тоска-покинуть18
когда Тоска-средь-трупов-быть-Тоска когда Провинцию-живых-Пора-покинутьПодобная техника варьирования, в том числе с использованием однострочных элементов, встречается и у других авторов – например, у Анны Альчук:
Наземный пейзаж
ЗА(РЯ дом)Подводный пейзаж
за рядом ряд рыбВойна
заря дом зарядом [Альчук 2005, 18]– несмотря на то, что у трех миниатюр нет объединяющего названия, а шрифт каждого из трех названий совпадает со шрифтом, используемым в этом издании для самостоятельных текстов, не приходится сомневаться в том, что на одной странице (при неукоснительном выделении отдельной страницы каждому отдельному тексту в книге) они собраны не случайно: различная сегментация одной и той же последовательности знаков интересует Альчук именно как набор альтернативных возможностей, каждая из которых должна отбрасывать отсвет на остальные.
Уже упоминавшийся текст Геннадия Айги «Лето с Прантлем» – как и несколько других у Айги, полностью состоящий из однострочных фрагментов, – построен на повторах иного рода, акцентирующих не столько различия варьируемых элементов, сколько различия позиций, в которых они встречаются:
1
Поле и камень.– первая часть задает два ключевых образа, из которых в дальнейшем интенсивнее эксплуатируется первый, постоянно вступая во взаимодействие с семантическим полем звука:
2
Поле, – задели песню, – дрожь.9
Поле: голос кукушки – издали: обозначение дали – здесь.14
Поле, – песня – будто порезанная.21
Поле: Свист Сиротства.– так что финальные три части:
35
Поле и камень.36
Молчание.37
Камень.– значительно сдвигают фокус внимания, впервые сосредотачивая его на втором образе из двух благодаря вынесению его в завершающую часть однословного (удетеронного) объема, которой предшествует другая такая же, сопоставляющая образу камня мотив молчания; такая перефокусировка внимания была подготовлена выше:
12
На сосне работал и пел – дятел.13
Сосна.Понятно, что квалификация «Лета с Прантлем» как цикла привела бы к абсурдному предположению о том, что Айги написал однословные тексты «Сосна», «Молчание» и «Камень», а также два одинаковых однострочных стихотворения «Поле и камень», тогда как в составе многочастного целого и повторяющаяся часть, и части, замещенные удетеронными элементами, выступают выверенно точными звеньями единой структуры. Таким образом, мы видим, что против самостоятельности частей свидетельствует ситуация, при которой некоторые из них при изолированном прочтении оказываются семантически опустошенными, тривиальными. Подобных примеров у Айги немало – приведем по крайней мере еще один:
Затерянная страница (или: Снег в саду)
1
бумажка в ветре2
вэай вьюзавый сда ю целестни вьюзавый и эйдса оэй истни3
и не найти [Айги 1997, 36]– очевидно, что первая часть в изолированном рассмотрении не представляет особенного интереса, а третья оказывается семантически опустошенной, тогда как в составе целого между ними устанавливается сильная корреспондирующая связь (поскольку они играют роль грамматически нормативной рамки вокруг заумного, хотя и довольно очевидного с точки зрения ближайших семантических ассоциаций, срединного элемента).
Еще один чрезвычайно интересный и показательный текст Айги, «Лето с ангелами» [Айги 2001, 246–248], состоит из 28 однострочных элементов, которые, в отличие от предыдущих случаев, не только пронумерованы, но и озаглавлены. Автор в небольшом прозаическом предуведомлении рассказывает историю его создания: сперва он «заполнял однострочными багателями ‹…› записную книжку», а затем из них «составил небольшой цикл», – и авторское определение «Лета с ангелами» как цикла, и квазижанровое (об авторских квазижанрах см. [Орлицкий 2002, 585]) обозначение его частей как «багателей»[107] как будто свидетельствуют о самостоятельности частей. Однако структура целого говорит, скорее, об обратном. Очевидно, что ключевые образы – «ангелы» и «цикламены» (отождествляемые друг с другом) – повторяются в «Лете с ангелами» чрезвычайно интенсивно (слова «ангел» и «ангельский» в разных формах встречаются 20 раз, слово «цикламен» в разных формах – 11 раз), но имеются и более выраженные повторы:
1. Пролог к «ангельским» багателям
ветер: Бог потерял тетрадку со стихами о цикламенах7. А слева – одинокая азалия
ветер: простуженный Бог уронил носовой платокНазвания частей постоянно отсылают друг к другу, зачастую с использованием дейктической лексики:
5. Другие цветы справа от цикламенов (Рождественская звезда)
называются «мама выходит замуж»15. Снова цветы по имени «Рождественская звезда»
раскрасневшаяся мама за ткацким станком21. Снова – «Рождественская звезда»
мама под красным солнцем жнет рожьНо особый интерес представляет использование в названиях частей буквенно-цифровых индексов: в первый раз в «6. Приятное видение (или: Ц-18)», лишь во второй раз с расшифровкой: «10. Дальше: Ц-21 (то есть двадцать первая запись о цикламенах» и затем еще в шести названиях. Важно, что номера в индексах, следуя в порядке возрастания, не совпадают с нумерацией частей, заметно превышая их, – таким образом Айги указывает на то, что текст в его настоящем виде именно составлен на основе некоторого «предтекста», который неявным образом продолжает просвечивать сквозь опубликованную версию. Это хорошо согласуется с содержащейся в названии части 10 ее квалификацией как записи: Н.М. Азарова обосновала формирование в позднем творчестве Айги специфического жанра записи, для которого характерна так называемая «недоопределенность», в том числе и относительно границы между завершенностью и незавершенностью текста, его самостоятельностью и несамостоятельностью [Азарова 2008, 271]. Более или менее очевидно, однако, что все перечисленные факторы препятствуют интерпретации отдельных однострочных элементов «Лета с ангелами» как независимых[108].
В большинстве случаев, следовательно, у Айги мы находим не моностихи в составе циклов и не циклы моностихов, а многочастные стихотворения, в которых все или некоторые части однострочны. Но всегда ли это так – сказать сложно. В частности, книга «Мир Сильвии. Часть первая» состоит из 30 однострочных элементов, расположенных по одному на странице (отдельное издание 1992 года воспроизводит факсимильно текст, вписанный поэтом от руки в записную книжку, со всей небрежностью рукописи, включая не уместившиеся по ширине листа «хвосты» строк, а под ним дает на каждой странице французский и бретонский переводы; факсимильное воспроизведение первоиздания, в свою очередь, см. в [Айги 2001, 258–293]), – лексических и образных повторов здесь почти нет, но зато повторяется конструкция: все 30 элементов номинативны, 18 из них построены по схеме «свойство (выражено прилагательным или причастием) + предмет/явление/субъект (выражено существительным или замещающим его валентность речевым фрагментом) + агенс (деятель или обладатель, выражено генитивом субъекта/принадлежности)»:
блаженная улыбка молока неожиданная бабушка пуговицы одинокое «угу» гладиолуса– а остальные 12 представляют собой те или иные модификации этой схемы:
забывчивость лютика песнь голубого кувшинчикаВ совокупности все 30 однострочных элементов составляют своеобразную парадигму, призванную, по-видимому, в некотором роде исчерпать мир маленькой французской девочки. Достаточно ли этого, чтобы объявить каждый из них несамостоятельным, а произведение единым?[109] Трудно сказать: возможно, здесь перед нами вновь идущая из рукописного «предтекста» «недоопределенность»[110]. Не менее неочевиден случай текста (или все же цикла?) «Двенадцать параллелей к Игорю Вулоху» [Айги 1998, 3–14], в котором не слишком безусловные повторы протекают не на уровне синтаксических конструкций, а на уровне ключевых слов и образов, которые в принципе могут быть свойственны и циклу. Однако в заметке «От автора» говорится: «Несколько частей из “Двенадцати параллелей Игорю Вулоху” ‹…› входят в книгу “Тетрадь Вероники”» [Айги 1998, 29] (заметим, частей, а не стихотворений, – впрочем, как мы видели выше, терминологической строгости в отношении подобных нюансов Айги придерживается не всегда). В книге «Тетрадь Вероники», в самом деле, имеется текст «В дни болезни» [Айги 1997, 23], составленный из четырех частей «Двенадцати параллелей…», первая и четвертая из них однострочны и образуют своеобразную рамку текста (поскольку болеющий ребенок впрямую упоминается только в них).
1
болезнь ребенка беспокойство деревьев[111]4
о Боже вздрог ребенкаГрафика текста не отличается от еще нескольких многочастных текстов в этой книге, которые никак не могут быть сочтены циклами: напр., текст «Твое первое море со мной» [Айги 1997, 75], построенный на синтаксическом и образном параллелизме первой и третьей части. В конечном счете, видимо, приходится признать оба текста – и «Двенадцать параллелей Игорю Вулоху», и «В дни болезни» – равноправными самостоятельными многочастными произведениями[112]. Тем не менее, разумеется, все произведения Айги этого рода являются значимым звеном в истории употребления, осмысления и трансформации русского моностиха – хотя практику обсуждения их частей, в т. ч. однострочных, в качестве отдельных текстов следовало бы признать неправомерной[113].
То же относится и к самиздатской книге Алексея Хвостенко (1940–2004) «Подозритель», датируемой 1965 г. и опубликованной двадцатью годами позже [Хвостенко 1985]: из 50 нумерованных частей в ее составе 17 однострочны, и влияние их на последующую работу с однострочными текстами ряда ленинградских неподцензурных авторов бесспорно. Некоторые из этих однострочных фрагментов тяготеют к модернистской энигматичности:
Зимой постоянно горит бумага– несколько ассоциативных ходов (семантические поля «зима» и «бумага» связаны семой «белый», горение бумаги не дает необходимого зимой тепла), ни один из которых не позволяет интерпретировать этот моностих однозначным образом. Большинство фрагментов, однако, строится на основе широко понимаемого принципа found poetry, в соответствии с которым автор «вычитывает, находит сокрытую поэзию в прозе и “освобождает” ее, делает ее видимой» [Байтов 2004, 209–210]. Так, В.И. Эрль указал нам (в устном сообщении), что моностих
Апатия – самая сильная страсть– представляет собой фрагмент высказывания Сэмюэла Беккета[114], приведенный газетой «Советская культура» в качестве иллюстрации духовного загнивания западной цивилизации[115]. Другие части не имеют, по-видимому, никакого определенного авторства и просто выхвачены из речевого потока:
Постараемся вспомнить Цветы оживают[116] Совсем другоеОснованием для такого выхватывания послужило автору, вероятно, то, что это «случайные метры» (двухстопные анапест, амфибрахий и ямб соответственно; собственно, и будто бы беккетовская фраза, заимствованная из газетной статьи, представляет собой четырехстопный амфибрахий). Хвостенко недвусмысленно предпочитает синтагмы, побуждающие читателя к попыткам достраивания речевой конситуации (не той, из которой эта синтагма в самом деле извлечена, – она вполне могла встретиться в самых разных обстоятельствах[117], – а той, в которой ее употребление в наибольшей степени раскрывало бы ее семантический потенциал) и одновременно выявляющие некоторый неочевидный нюанс собственной семантики. Так, оборот «совсем другое» проявляет в изолированной позиции известную парадоксальность: свойство «быть другим» относительно и не предусматривает количественных градаций, невозможно быть «более другим» или «менее другим», и в связи с этим тривиальное в разговорной речи усиление «совсем другое» проблематизируется, влечет за собой вопрос: если есть «совсем другое» – значит ли это, что есть и «не совсем другое»? Таким образом, стратегической задачей Хвостенко в этом тексте является критика дискурса[118]: как по своим основным задачам, так и по композиции и структуре «Подозритель» Хвостенко является прямым предшественником «стихов на карточках» Льва Рубинштейна, в которых отдельные части бывают наделены признаками стихотворности, вплоть до метричности (тогда как другие могут быть вполне прозаическими). Разделяя в вопросе о стихотворном либо прозаическом статусе текстов Рубинштейна позицию М.И. Шапира, интерпретировавшего новаторство Рубинштейна как создание авторской системы стихосложения [Шапир 1996, 301, прим. 10][119], мы должны прежде всего отметить, что тексты эти, вопреки своей предельной полиритмичности, представляют собой, безусловно, целостные произведения – в силу того, помимо прочего, что многие их части, будучи в массе своей (и особенно стихотворные) предельно опустошенными семантически («– Ну что я вам могу сказать?», «Он и полезней, и вкусней.» и т. п.), обретают смысл лишь в контексте всего произведения[120]. Так же, в сущности, обстоят дела и у Хвостенко:
10.
Люди – канарейки Я разглядываю их Перед тем как взять перо ‹…›14.
Мыши Маленькие мыши Мыши – мыши15.
Жуки Маленькие жуки Жуки – жуки– видно, например, что фрагменты 14 и 15, в изолированном виде выглядящие чистой тавтологией, прочитываются как вполне содержательные утверждения на фоне фрагмента 10 (жуки – жуки, мыши – мыши, и только люди – какие-то канарейки). Все это дает основания П.А. Казарновскому заметить, что в книге Хвостенко «сюжет проблесками себя обнаруживает, скорее провоцируя его видеть, чем являясь во всей красе» [Казарновский 2009, 304].
В отличие от массированных повторов у Айги и Хвостенко – немногочисленные повторы, напротив, могут затруднять идентификацию текста в качестве цикла или многочастного целого, как это предполагает И.В. Фоменко [Фоменко 1992, 57]. Занимательным примером «недоопределенности» в этом отношении может служить проект австралийского поэта Йена МакБрайда (Ian McBryde; род. 1953) «Щепки» (Slivers), по поводу которого автор заявлял: «Эти стихотворения задуманы мною как отдельно стоящие, самостоятельные произведения, но могут также прочитываться и как часть единого целого» [Prater 2004]. В трех публикациях «Щепок» в периодике [McBryde 2004a, 2004b, 2004c] состав текстов значительно различается, но все три начинаются и заканчиваются одним и тем же однострочным фрагментом. Такая рамочная композиция наводит, скорее, на мысль о едином тексте, однако три публикации одинаковой структуры, но разного состава это предположение существенно подрывают. Впрочем, в ставшей итогом проекта одноименной книге [McBryde 2005] этот прием не использован, и критика отмечает в ней именно отдельность «стихотворений, которые закончились прежде, чем начались, предотвращенных (aborted) стихотворений» [Alizadeh 2006].
Против самостоятельности частей свидетельствует такая образная структура целого, при которой содержание образа не выявляется в рамках одной части[121]. Так, в полностью составленном из однострочных элементов тексте Глеба Симонова «Всемирная история рек» значительная часть элементов не может быть прочитана и понята вне контекста, создаваемого названием и соседними частями:
* * *
в смысле – «откуда?»* * *
там просто выше медный завод– во втором из фрагментов модальная частица «просто» принимает функцию союза, придавая предложению синсемантический характер.
В многочастном произведении Ганса Арпа «Речи» соседствуют две нижеследующие части (перевод с немецкого Владимира Топорова):
Во образе роз лучезарных и звезд вы увидите ангелов парящих на бесконечно светлом просторе. Как подступиться к ним с нашими безумно прогрессирующими несъедобными бонбоньерками. Беззвучно как прежде ангелы умываются светом. А мы при этом залезли по самые уши в дерьмо. • • Речи ангелов ангелам. [Сумерки 1990, 157–164]Содержание последнего образа становится ясным из предыдущей части: ангелы обращают свои речи исключительно друг к другу, не удостаивая ими людей, которые не могут к ним подступиться. Этого и нескольких других подобных случаев в структуре «Речей», на наш взгляд, достаточно, чтобы отклонить интерпретацию их как цикла и, тем самым, вычленение из состава этого произведения трех моностихов, как это делает С.И. Кормилов [Кормилов 1995, 82]. Так же обстоят дела с трехчастным стихотворением Геннадия Айги «Тишина» [Айги 2001, 15]: его вторая однострочная часть –
Однако молчание – дань, а себе – тишина.– пользуется отдельной известностью и считается эмблематической для творчества Айги («Жизнь есть тишина. Поэзия есть молчание. Поверившему в эти две простые истины мир Айги откроется сразу, без долгих разговоров» [Новиков 2001, 5]), а союз в начальной позиции в самостоятельных текстах Айги часто встречается (причем в раннем периоде творчества, к которому относится «Тишина», чаще всего именно противительный – «а», в дальнейшем – «и»), однако на самом деле этой однострочной формулой Айги противопоставляет первую часть текста – о вынужденном молчании советского человека («эта ненужность / стране от меня и нужна») – третьей части, трактующей о тишине как среде осуществления поэта («и в этом я есть – как Поэзия есть»).
Некоторые случаи менее очевидны. Так, не лишена проблематичности композиционная целостность многочастных структур Игоря Жукова (в частности, из книги «Язык Пантагрюэля» [Жуков 2007]), состоящих, по мнению А.В. Скидана, «из пронумерованных разнородных фрагментов, чей речевой жанр может варьироваться от каламбура до силлогизма, от обрывка бытовой фразы до мини-диалога, от словарной выписки до исторического экскурса, от сердца горестных замет до решительно смущающих всякий непредвзятый ум пропозиций и максим» [Скидан 2008, 334] и демонстрирующих, что «сознание, нашпигованное материальнотелесными электронными образами, народными и инородными обрывками мыслей, не способно соединять их иначе, кроме как с помощью паратаксиса или техники коллажа» [Скидан 2008, 337–338]: в них, полагает Скидан, «минимальным сегментом, задающим алгоритм композиционного членения» выступает «фраза-моностих с отчетливо артикулированной эвфонией и метрической схемой» [Скидан 2008, 335][122]. Не ставя напрямую вопроса о статусе произведений Жукова как циклов или многочастных композиций, Скидан пишет о них как о произвольной последовательности фрагментов, отмечая «нумерологический, подчеркнуто “внеположный” принцип их соединения». И, однако, в каждой из композиций Жукова обнаруживаются те или иные вертикальные связи между фрагментами, существенно трансформирующие образное содержание некоторых из них и релевантные для прояснения смысла целого. Вполне репрезентативно в этом отношении начало открывающего книгу текста «Шпион Диснейленда»:
1
блондинка Изабель Аджани пьет коньяк и мечтает о пиве и рыбепиво и рыба рядом2
моя дочь ест только под телерекламу как собака Павлова3
люди в темных очках встречаясь взглядами проваливаются друг в друга4
Костя Цзю избил Чавеса5
румын работает в родной школе скелетом6
натюрморты с горячими блюдами можно писать только очень быстро пока блюда не остынут7
он умер от разрыва сердца когда увидел свою бывшую жену в порнофильме8
Годар изменял мне с Мао Цзедуном я его простил9
моя дочь работает в зоопарке львом10
за таким приличным ужином вам очень пошел бы перстень с камнем11
с момента прибытия она постоянно отдавалась себе и думала что кроме нее никто этого делать с ней не умеет12
хиппи-казак повар-проститутка токарь-пекарь смежные профессии– хорошо заметно, что в экспозиции задается сквозная тема окруженности человека медийными образами (актеры, режиссеры, спортсмены и т. д.), вторгающимися в частную жизнь и вызывающими глубокую, в том числе эмоциональную вовлеченность (2, 7 и 8). При этом частная жизнь манифестирована двумя семантическими полями – еды и эротики, – независимыми друг от друга вплоть до фрагмента 12, устанавливающего между ними параллель («повар-проститутка ‹…› // смежные профессии») и заставляющего задним числом переинтерпретировать как параллельные друг другу и фрагменты 10–11, каждый из которых на свой лад проводит мотив (не)самодостаточности акта потребления в отсутствие соучастника/наблюдателя/шпиона. Одновременно развивается тема нетождественности человека самому себе, расподобления с самим собой, в том числе через уподобление Другому (от 2 к 9 через 5). Обособленность и случайность фрагментов у Жукова оказывается, таким образом, поверхностной и мнимой: их спаянность, не позволяющая квалифицировать композиции Жукова как циклы, весьма велика.
В некоторых случаях, однако, окончательное суждение о цельной или циклической природе текста вынести, по всей вероятности, невозможно. Так, произведение Татьяны Нешумовой «Стихотворения для очень сухой кожи» [Нешумова 2012] своим названием указывает скорее на цикл:
1.
стопка книг штопка надежд2.
дыры смысла и смысл дыр3.
сыр любви с плесенью со слезой а вальс с чертовщинкой4.
не вой под грузом5.
ты ковбой я конвой6.
женщины передавали его друг другу как эстафетную палочку7.
своим однополчанам я сочувствую8.
собрала сумку для своей новой одинокой жизни крем для очень сухой кожи ноутбук рукописная книжка Архиппова потом в течение десяти минут то бралась за сумку то отпускала ее это упражнение тренировало во мне смерть9.
слезы бессилия иссушают10.
письмо отправлено корзина пустаОднако пристальный взгляд заставляет задуматься о том, что фрагменты 1–2 объединены мотивом дыры (которая подлежит либо штопке, либо поиску смысла), фрагмент 7 обнаруживает свое содержание только в сопоставлении с фрагментами 5 и 6 (под «однополчанами», скорее всего, разумеются товарищи по «конвою» – женщины, передающие друг другу одного мужчину «как эстафетную палочку»), фрагмент 9, по-видимому, служит ключом к названию, смещая акценты в текстуально более близком и композиционно вершинном фрагменте 8, а слегка оксюморонный образ «рукописной книжки» в этом фрагменте перекликается с книгами из первого фрагмента и письмом из последнего, причем книги ассоциируются с надеждой, «рукописная книжка» с колебанием («то бралась… / то отпускала…»), а письмо (вероятно, электронное, но удерживающее семантику рукописности, самодельности) – видимо, с утратой надежды («корзина пуста»). Достаточно ли этого для квалификации «Стихотворений для очень сухой кожи» как цельного многочастного текста? Трудно ответить однозначно.
Со значительными трудностями связана и квалификация листовок Сергея Шаршуна – авторских изданий объемом в 2–4 печатных полосы, которые Шаршун печатал с 1922 по 1973 год, ретроспективно оценивая этот свой проект как своеобразный журнал, вышедший более чем 50 выпусками под разными названиями [Лавров 2005, 687]. Традиционно эти листовки (никогда, впрочем, не подвергавшиеся специальному исследованию) понимались как свободная россыпь «изречений, афоризмов и определений» [Пахмусс 1983, 348], нечто вроде вынесенной на публику записной книжки [Андреенко 1981, 389]; на то, что спонтанность соединения фрагментов носит у Шаршуна осознанный и продуманный характер, нам уже приходилось указывать [Кузьмин 2006]. Большинство шаршуновских фрагментов безусловно прозаические, изредка попадаются и отчетливо стихотворные, от двух до восьми строк, и в целом ряде случаев встречаются однострочные фрагменты, способные обнаруживать определенную ритмическую структуру, хотя наличие побуждающего к ее обнаружению сигнала зачастую неочевидно (а в отсутствие сигнала триада стихотворности оказывается дефектной, и признание текста стихотворным может состояться только как акт рецептивного произвола). Но по крайней мере в одной листовке сигнал как раз недвусмысленным образом есть: это листовка «Русский хай-кай» (1929) [Ливак, Устинов 2014, 390], название которой предлагает интерпретировать последующие тексты даже не просто как стихотворные, а как примыкающие так или иначе к определенному стихотворному жанру, родство которого с моностихом будет обсуждаться дальше (см. стр. 101–102 и 256–258). При этом среди вошедших в состав этой листовки фрагментов есть как заведомо прозаические, так и демонстрирующие явственную работу Ритма:
Белград и Загреб: Восток и Запад. Флаг лижет воздух пламенем.– к жанру хайку, впрочем, как бы широко его ни понимать, это ни малейшего отношения не имеет. Любопытно, однако, что именно в этой листовке Шаршун показательнее всего проводит образно-тематический лейтмотив: в первом же прозаическом фрагменте возникает образ «закалываемого четвероногого», которым чувствует себя ненароком лирический субъект, и далее эта тема заостряется через приземление материала и делегирование субъектности закалываемым и заколотым («Варя мясо (суп) – ощущаю все его боли…», «Телят везли на бойню – и они дьяконскими голосами читали себе отходную» и др.). Тем самым «Русский хай-кай» обнаруживает свойства единого текста (и это возвращает нас к названию, в котором мы вместо ожидаемого множественного числа обнаруживаем единственное; строго говоря, и форма «хайкай» вместо «хайку» должна обозначать скорее цепочку связанных стихотворений, хотя такого тонкого знания японской поэтической терминологии от Шаршуна ожидать странно); правда, как раз потенциально стихотворные фрагменты в образно-тематическое взаимодействие вроде бы не вовлечены, выступая своего рода лирическими инкрустациями. Но значит ли это, что к другим листовкам Шаршуна, в гораздо меньшей степени проявляющим внутреннюю связность, этот вывод также применим, – неясно, вопрос требует дальнейшего исследования.
Разумеется, все вышесказанное – только подступы к проблеме разграничения цикла и многочастного целого, и наблюдения, сделанные нами на ограниченном материале нашего исследования, подлежат проверке на гораздо более широком круге переходных и неопределенных явлений – число которых в новейшей поэзии растет.
Однострочные тексты с признаками стихотворности, не являющиеся самостоятельными произведениями, могут находиться и в составе прозаического или прозиметрического[123] целого. Этот вопрос подробно рассмотрен Кормиловым [Кормилов 1992b, 6–12] (см. также [Семьян 2006, 79–81]); дополнительно стоило бы отметить, что и здесь мера самостоятельности одностиший различна. Скажем, если приводимые Кормиловым примеры из Алексея Ремизова характеризуются в большинстве случаев синтаксической связанностью с окружающим (безусловно, прозаическим) текстом:
А когда за архиерейской обедней мальчики альтами затянут «Святый Боже», и вправду не знаешь: ли на земле ты, ли на небе!– то отмеченная им же одиночная строка
Вы слышите смычковый звук полета?из текста Андрея Вознесенского «Экзистенциализм» синтаксически независима и абсолютно обособлена графически [Вознесенский 1991, 201]. Вообще в произведениях, построенных на композиционных приемах монтажа и коллажа, мера самостоятельности отдельных частей – как стихотворных, так и прозаических, – может быть весьма проблематична и требует отдельного исследования[124]; мы пока можем лишь констатировать, что в ряде случаев вхождение тех или иных фрагментов (в том числе однострочных) в состав такого сложного целого не мешает им, с точки зрения авторов, функционировать параллельно в качестве самостоятельных текстов (например, так обычно у Вилли Мельникова).
Как несамостоятельные моностихи можно рассматривать и однострочные тексты, не являющиеся частью какого-либо целого, но вместе с тем не являющиеся, по-видимому, и целым, т. е. разного рода наброски, метрические примеры и т. п. Впервые обративший внимание на подобные случаи В.Ф. Марков писал, что «некоторые из них так и остаются строчками, иные выглядят законченными стихотворениями» [Марков 1994, 347]. С читательской точки зрения, безусловно, ничто не мешает воспринимать «иные» наброски и фрагменты как законченные стихотворения – важно, однако, не выдавать это впечатление и ощущение за объективную данность[125]. В то же время незыблемость границы между завершенным и незавершенным текстом сама по себе ставится современными исследователями под сомнение: по всей вероятности, именно стремление акцентировать в незавершенном тексте его чреватость завершенностью, неабсолютный характер этой незавершенности вызвало к жизни предложенное М.Ю. Михеевым понятие «предтекста» как «текста в его неокончательном, черновом, незаконченном виде, к которому автор еще предполагает вернуться, чтобы его переписать или дополнить» [Михеев 2007, 6] или, добавляет Н.М. Азарова, «чтобы посмотреть текст, не исправляя, не изменяя степень законченности» [Азарова 2008, 274]; вместе с тем сопряженное с этим подходом фокусирование внимания на пороговом характере жеста публикации («как авторское решение об определении степени законченности текста, так и решение публикатора, подготавливающего текст, являются в известной мере волевыми» [Азарова 2008, 274]) не отменяет качественного различия между авторской волей как абсолютной и публикаторской волей как условной, требующей мотивировок, и в этом смысле «публикаторский моностих» оказывается разновидностью читательского.
Отграничивая моностих от смежных явлений, приходится иногда сталкиваться с сознательными, по всей видимости, шагами, предпринятыми автором для того, чтобы проблематизировать квалификацию данного текста как моностиха. Особенно выразителен в этом отношении прием, встретившийся нам у Жака Рубо [Roubaud 1967, 45, 52]: два стихотворения, состоящие из заглавия, одной стихотворной строки и последующего «эквивалента стиха» – строки точек:
Я вернулся…
Я вернулся, с подошв отряхнув рыжий прах пустынь… …– снова «недоопределенность»: завершенное высказывание чревато незавершенностью, продолжение возможно, хотя и оставлено за кадром (субъект застывает на границе топосов, любое продолжение потребовало бы обращения к одному из них; визуальная интерпретация точек как облетевших с подошв песчинок была бы, вероятно, избыточно смелой). В русской поэзии известен текст похожей структуры у Дмитрия Максимова:
Как в астрономии бесчеловечно. … [Максимов 1994, 63]– и здесь, вероятно, строка точек означает в самом деле утраченное (забытое) продолжение (напр., [Монахова 2008, 471]), но и в этом случае эквивалент слова легко семантизируется (в отсутствие человека – а «бесчеловечно» в заданном предыдущим словом ассоциативном поле означает еще и «безлюдно» – последующее высказывание оказывается бесцельным и остается невыраженным). Еще отчетливее семантика эквивалентов слова в тексте Олега Чухонцева, который датирован 1971 годом, но впервые опубликован только в 1997-м:
Так много потеряно, что и не жаль ничего!.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. [Чухонцев 1997, 121]– «поэт тем самым смоделировал принципиальное для него сочетание свободы (дарованной в данном случае читателю) и утраты, развоплощенности» [Лейдерман и Липовецкий 2003, 331]; по собственному признанию автора, в этом случае «из двадцати уже написанных строк осталось однострочие»[126] [Чухонцев 2013, 43].
Гипотетический моностих, моностих, который мог бы состояться, не прими поэт иное решение, – нередкий предмет внимания не только поэтов и критиков, но и исследователей, особенно когда речь идет о многострочной записи текста, который можно было бы вытянуть в одну строку. Ироническую рефлексию этой возможности демонстрирует американский поэт Люк Брэннон (Luke Brannon; род. 1972):
Стихотворение в одну строчку записанное по вертикали[127]С.И. Кормилов в качестве примера обсуждает [Кормилов 1991а, 246–247, 252; Кормилов 1995, 75] стихотворение Миланы Алдаровой «Сопереживание»:
желал он музу – заимел жену! [Алдарова 1988, 194]– считая его все-таки моностихом на том основании, что при записи в одну строку получился бы пятистопный ямб, а «современная поэзия легко выстраивает какие-либо стихи в столбик или лесенку» [Кормилов 1991а, 252]). В общеметодологическом отношении трудно согласиться с такой готовностью пренебречь одним из уровней организации текста – ведь «теоретически в произведении искусства нет ни одного элемента, который можно было бы заменить другим так, чтобы это не повлияло на качество и объем эстетической информации» [Басин 2008, 15]. Расхождение графического членения с метрическим используется в русской поэзии (в частности, для отражения ритмических явлений) по меньшей мере со времен Велимира Хлебникова и Андрея Белого [Степанов 1928, 52–53; Белый 1966, 565], и еще Б.В. Томашевский отмечал, что «только авторская разбивка придает строке полноту, соответствующую поэтическому содержанию стихов» [Томашевский 1959, 20–21]. Кажется, проблема со стихотворением Алдаровой в том, что функциональная нагрузка его графической разбивки сомнительна: сильнодействующие паузы конца строки призваны, по-видимому, добавить двум выделяемым словам весомости или неожиданности, но не могут изменить общее качество прямолинейной сатирической безделки[128]. Однако стоит Кормилову перейти к текстам более значительных авторов, как функции расхождения графики и метра становятся очевидными: скажем, в тексте Ивана Ахметьева
он любит и хочет как лучше [Ахметьев 1993, 44]– графическая обособленность второго глагола приводит к обогащению его семантики чувственным элементом[129], едва ли ощущавшимся бы при записи текста в одну строку, хотя при этом и образовался бы трехстопный амфибрахий. В целом на принципиально различный характер текстов идентичного словесного состава, но различной графики указывал в 1923 г. М.М. Кёнигсберг [Кёнигсберг 1994, 157–158], взвешиванию и сопоставлению выразительных возможностей однострочной и многострочной записи одной и той же словесной последовательности посвящена специальная статья одного из ведущих теоретиков современного американского хайку Ли Гёрги [Gurga 1999], да и сам Кормилов в другой работе отмечает различие двух редакций – однострочной и двустрочной – другой миниатюры Ахметьева [Кормилов 1992a, 125][130].
Между моностихом, записанным, как полагается, в один стих, и моностихом, переписанным в несколько стихов, т. е., следовательно, уже не моностихом – лежит, однако, переходная область: однострочный текст, сегментированный «лесенкой». Возможно ли квалифицировать такой текст как однострочный – или следует считать, что строк в нем столько, сколько у «лесенки» «ступенек»? Мы склоняемся к первому из двух ответов: ведь во многострочном стихотворении статус «ступеньки» принципиально неравен статусу целого (графически нерасчлененного) стиха – значит, и по отношению к моностиху «лесенка» выступает не более чем добавочным средством графической сегментации[131]. Впрочем, таких примеров в известном нам корпусе моностихов (напомним, около 4.000 текстов) всего 18 – причем половина из них выделяет в отдельную «ступеньку» каждое слово, тем самым лишь дополнительно акцентируя общий принцип выделенности слов в стихе:
Море моет, морит. Вольно волнам… Анатолий НестеровТе или иные индивидуальные графические решения способны, однако, еще больше затемнить вопрос: таков текст Александра Очеретянского
чай кофе вино пиво молоко хорошо– в этом «постмодернистском каталоге питья по нисходящей» ([Плеханова 2007, 264]) последний элемент, резюмирующее цепочку существительных предикативное наречие, для усиления контрастного эффекта отделён отбивкой, не позволяющей определенно квалифицировать этот текст как однострочный или многострочный. Намеренное дистанцирование от моностиха можно увидеть в излюбленной форме Полины Андрукович – своеобразном «полуторастишии», вторая укороченная строка которого сдвинута вправо, ближе к правому краю первой строки, но не настолько далеко, чтобы напоминать традиционное разбиение «лесенкой»:
а если мягкость только Здесь, в жизни? [Андрукович 2014, 24]– исследователи творчества Андрукович сходятся в том, что разрыв строки в таких ее текстах обладает значительным содержательным эффектом [Сдобнов 2016, 53–54, 55; Цибуля 2016, 35].
В качестве более редкого примера деформации однострочного текста, не приводящей, по-видимому, к его переходу в многострочный, можно привести несколько текстов Юрия Зморовича, в которых один из элементов дан более чем в одном варианте и эти варианты записаны по вертикали:
борол Ты сидел, мой друг, на троне леса: манил семенами чащи зверьё. ласкал [Зморович 2006, 39]Однако опыт «разветвленного» (en fourche) моностиха у Жака Жуэ, с альтернативной версией второй половины строки, записанной выше или ниже основного варианта в спиралевидной форме, на манер отпадающего лепестка [Chevrier 2005, 287–291], следует уже, по-видимому, отнести к визуальной поэзии.
Все рассмотренные нами до сих пор смежные с моностихом явления лежат внутри литературы. Между тем, как указывал еще Марков, едва ли не самая многочисленная группа текстов, во многом близких к моностиху, – это нелитературные тексты, не отличающиеся зачастую от моностихов по структуре.
С одной стороны, к этой группе относятся тексты фольклора: паремии и примыкающие к ним (например, загадки). Многие из них по своим Ритмическим (в смысле М.И. Шапира) свойствам неотличимы от моностихов, и традиция интерпретации пословиц и поговорок как моностихов в фольклористике существует (напр., [Хамаганов 1959, 105; Кондаков 1995, 134–135, Бойко 2012]). Однако фольклорный генезис обуславливает одну важную особенность этих текстов: у них нет определенного графического решения, или, вернее, таковое, будучи привнесено в текст исследователем-фольклористом, зафиксировавшим его (как произведение) в письменной форме, не является его изначальной, неотторжимой частью. Поэтому интерпретация кратчайших фольклорных текстов как моностихов, кажущаяся на уровне «здравого смысла» самоочевидной, в действительности всегда произвольна[132]. Разумеется, необходимо здесь иметь в виду и то, что исторически появление этих фольклорных текстов предшествовало возникновению и укоренению в русской национальной культуре самого противопоставления стиха и прозы, в связи с чем рассматривать их в рамках этой парадигмы не вполне корректно[133]. Отчасти это относится и к новейшим производным малых фольклорных жанров – «анти-пословицам» в терминологии В. Мидера[134], – в той мере, в которой речь идет не об отдельных авторских текстах, функционирующих изолированно, а о речевых единицах, инкорпорированных в тексты большего объема и различного (литературного, публицистического, разговорного) типа речи и функционирующих как квазицитаты.
С другой стороны, существует широкий круг письменных текстов, структурно идентичных моностиху, но в функциональном отношении не являющихся литературными. В нелитературном моностихе вместо поэтической функции языка доминирует, так или иначе, прагматическая. Основными разновидностями нелитературного моностиха выступают моностих «лапидарного слога» (надгробных и аналогичных надписей; детально исследован в [Кормилов 1991а; 1995]), рекламный моностих, моностих политического лозунга, мнемонический моностих школьных правил и т. д. На интуитивном уровне отграничение подобных текстов от собственно литературных не вызывает затруднений, как бы ни была в них отчетлива стихотворная форма (выразительный пример С.И. Кормилова – шестистопный ямб лозунга «Идеи Ленина живут и побеждают» [Кормилов 1995, 84]). Напрасно только Кормилов интерпретирует это явление как доказательство того, что «в ряде случаев поэтичность является непременным условием стихотворности» [Кормилов 1991а, 42]: стихотворным этот лозунг является вне всякой зависимости от его поэтичности. С другой стороны, нельзя упускать из виду, что «поэтичность» произведения есть не что иное, как доминирование в нем поэтической функции, а соотношение функций в произведении изменчиво, причем «с течением времени область кондициональной литературы неуклонно расширяется под действием ‹…› тенденции к вторичному эстетическому использованию текстов» [Женетт 1998, II:358]. И как сегодня мы воспринимаем как литературные ряд произведений Античности, в которых поэтическая функция явно не доминировала, – так, возможно, спустя какое-то время, с утратой прагматической актуальности, наиболее выдающиеся образцы рекламных текстов – например, приводимые В.Ф. Марковым («Nation needs Nixon», «We sell for less» [Марков 1994, 347] – звуковая организация текста явно выступает здесь как конструктивный фактор) – будут восприниматься как литературные памятники ушедшей эпохи[135]. Во всяком случае, именно перемещение произведения через границу между литературным и нелитературным отчасти обусловило все своеобразие случая, стоявшего у истоков русского моностиха, – карамзинской «Эпитафии», для которой характерна функциональная амбивалентность: будучи выбита, как утверждает Карамзин, на реальном надгробии, она, конечно, принадлежит «лапидарному слогу», но, опубликованный с указанием автора в составе стихотворной подборки сперва в периодическом издании, а затем – в поэтическом сборнике, этот же текст становится полноправным литературным произведением (и затем возвращается в «лапидарный слог», когда позднейшие читатели извлекают его из печатного источника и используют для действительного памятника[136]) – ср. [Гаспаров 1997a, 301] об аналогичной эволюции античной эпиграммы.
Наконец, нужно указать на еще одно смежное с литературным моностихом явление – моностих в составе синтетического произведения искусства. Наиболее известный пример здесь – подписи Максимилиана Волошина к своим картинам. Сам Волошин отмечал (в письме 1917 года художнице Юлии Оболенской), что эти стихи – «вовсе не заглавия акварелей. Их сочетание не параллельно. ‹…› Здесь главное стих, акварель служит только музыкальным аккомпанементом. ‹…› Это одна из возможностей сочетания слова с рисунком. ‹…› Надо искать симфонического, а не унисонного звучания» [Волошин 2004, 725][137]. В парижском собрании поэзии Волошина напечатаны (большей частью впервые) свыше 150 таких подписей, в т. ч. 35 однострочных ([Волошин 1984]), в более позднее собрание сочинений [Волошин 2004] включены 253 надписи, из которых 56 однострочных (С.И. Кормилов также причисляет к моностихам еще четыре текста, хорошо укладывающихся в метрическую схему одной строки [Кормилов 2009, 27]). В дальнейшем синтез визуального и словесного рядов оказывался в центре внимания многих художников, включавших словесный элемент непосредственно в визуальный текст; именно с моностихами таким образом работали, в частности, Йен Хэмилтон Финлей (см. стр. 315), Вилли Мельников в своих «фотостихоглифах» и другие авторы[138]. Представляется, что с методологической точки зрения следует рассматривать произведения такого рода отдельно – поскольку их элементы, принадлежащие к разным видам искусства, неизбежно оказывают друг на друга деформирующее действие (распространяющееся, вплоне вероятно, и на графику стиха). Это же относится и к вербальной части синкретических музыкально-поэтических произведений, «извлечение» которой всегда сопряжено с теми или иными трудностями. Так, наиболее известный однострочный текст песни в русской традиции – «Золотые лошади» Бориса Гребенщикова:
Хорошо бы золотых лошадей за копыта цапать. [Гребенщиков 2007, 73]– в составе записанной в 1982 г. для альбома группы «Аквариум» «Акустика» песне на самом деле повторяется восьмикратно (скорее, как два четырехстрочных куплета с инструментальным проигрышем между ними), с последующей серией предикативов «цап», «цап-цап», и редукция этого словесного комплекса к моностиху точно так же представляет собой деривацию нового произведения, как новое произведение возникает в результате того, что словесный текст оказывается положен на музыку[139].
Завершая обзор форм и явлений, отграничивание которых от моностиха представляется необходимым и в ряде случаев проблематичным, – т. е. обладающих более или менее сходной с моностихом структурой, – нельзя не отметить, что, с точки зрения читательского – а зачастую и авторского – сознания, наиболее близкой к моностиху формой является, безусловно, любая другая стихотворная миниатюра, прежде всего верлибрическая. Особенно часто сближается с моностихом форма трехстишия, также получившая развитие в России только в нынешнем столетии, – о восприятии моностиха и трехстишия как близких, родственных форм свидетельствуют многие авторы, активно работающие со стихотворной миниатюрой, например: «Мне вспоминается мой путь к моностиху… Что послужило мне основой для находок? Несомненно, что на меня произвели впечатление лаконичные стихи японского искусства, прежде всего хокку Басё» [Нирмал 2003, 111][140]. Более того, современные авторы, ориентирующиеся в своем творчестве непосредственно на японскую традицию хайку, – назовем прежде всего Алексея Андреева и Александра Белых, – настойчиво проводят как в своей поэтической практике, так и в теоретизирующих высказываниях мысль о том, что передача японского хайку трехстишием, строго говоря, совершенно произвольна, поскольку в подлиннике хайку представляет собой один столбец иероглифов, внутреннее членение которого (обычно не на три части, а на две в отношении 2:1 – своего рода «полуторастишие») осуществляется особыми «разделительными словами» – «киредзи»[141] (впрочем, несущими и значительную эмоциональную нагрузку [Barthes 2003, 104–105]); следовательно, полагает Андреев, «настоящие японские хайку, которые записываются в одну вертикальную колонку, соответствуют одной горизонтальной строке в западных языках» [Андреев 1999, 338] – и эта позиция, разделяемая и рядом западных авторов[142], парадоксальным образом сближается с аксиоматическим утверждением Р. Барта о том, что, хотя французское хайку невозможно, однострочный текст мог бы играть его роль [Barthes 2003, 58].
В новейшее время непосредственно у границы моностиха возникает ряд новых стихотворных форм, создатели и пропагандисты которых явственным образом учитывают опыт моностиха с одной стороны и хайку с другой стороны. Прежде всего это относится к танкетке – миниатюре-двустишию объемом в шесть слогов (с рядом дополнительных формальных ограничений), предложенной Алексеем Верницким в 2003 году, быстро завоевавшей признание в Интернете и вызвавшей определенный интерес в профессиональном сообществе [Тонконогов 2004; Прокошин 2006]. Утверждая в связи с танкетками, что «не только с точки зрения формы, но и в плане содержания их можно рассматривать как форму, промежуточную между хокку и одностишиями», Верницкий – едва ли не умышленно – редуцирует содержательный план моностиха к «иронично-философской сентенции» [Верницкий 2007, 98] (что, как будет видно из всего дальнейшего изложения, неверно), – однако гораздо интереснее в теоретическом отношении общая посылка Верницкого о потребности поэзии в твердых формах и необходимости появления новых твердых форм ввиду утраты прежними актуальности[143]. Эта постановка проблемы напрямую перекликается с предложением М.И. Шапира понимать моностих как твердую форму, т. е. произведение, целиком являющееся членом определенной парадигмы, любой член которой соотнесен со всеми остальными [Шапир 2000c, 65], – и, не исключено, может выступать подступом к вопросу о причинах устойчивого роста популярности моностиха в новейшей русской поэзии. Принципиально танкетки, в которых единственный стихораздел естественным образом выступает как главный элемент Ритма, отграничены от моностиха со всей определенностью – однако характерно, что ряд авторов танкеток охотно обращается к такой ритмической структуре, которая при «вытягивании» танкетки в одну строку давала бы метрический стих:
Фемида третий глаз первый блин колобком свежесть невежества [Ерошин 2012, 12, 21, 66]Другая попытка конституировать твердую форму в зазоре между моностихом и хайку принадлежит Вере Лавриной [Лаврина 2011], экспериментирующей с «шестисловием» – текстом фиксированного объема в шесть слов[144], безразличным к наличию стихоразделов, но подвергаемым обязательной визуализации: «Некоторые стихи, не несущие прямолинейно негативной или позитивной эмоции, можно записать как восходящей, так и нисходящей лесенкой, что меняет оттенки смысла:
на холме. это осенний лес Цветопад – Цветопад – это осенний лес на холме.‹…› Запись моностихом с возвышением над ним одного слова подчеркивает его семантическую важность и преодоление мирской горизонтали:
Господь Мнится мгновенье назад здесь проходил»,– и еще целый ряд вариантов, основанных на семантизации различных способов расположения на плоскости листа, никогда, однако, не приводящих «к стиранию грамматических отношений, к тому, чтобы стихотворение расположилось среди молчаливого пространства листа как чистое словесное созвездие» [Genette 1969, 151]. По-видимому, и обязательность стихографики, и подсчет слов функционируют у Лавриной как инструменты проблематизации канонических стиховых определителей; но поскольку, как мы уже отмечали со ссылкой на [Лотман, Шахвердов 1973, 174], использование более чем двух кодов в одном тексте ослабляет считываемость каждого – постольку параметр количества слов, менее очевидный, в меньшей степени взаимодействующий с остальными и никак не связанный с определяющим феномен стиха давлением звучания на значение, оказывается в текстах Лавриной фактически невостребованным.
При всем различии своего устройства и бытования и танкетки, и «шестисловия» представляют собой выразительные примеры того, как от понимания моностиха как маргинального явления, чье положение относительно некоторой границы должно быть определено, сегодняшнее литературное сознание переходит к пониманию моностиха как явления, относительно которого проводятся границы и определяется положение новых форм.
3. История моностиха в России: от Николая Карамзина до Николая Глазкова
Первый русский литературный моностих точно известен[145]. В 1792 г. Николай Карамзин (1766–1826) опубликовал в 7-м выпуске своего «Московского журнала» пятичастный цикл «Эпитафии», завершавшийся однострочным текстом:
Покойся, милый прах, до радостного утра!Цикл был предварен авторским предисловием, сообщавшим: «Одна нежная мать просила меня сочинить надгробную надпись для умершей двулетней дочери ея. Я предложил ей на выбор следующие пять эпитафий; она выбрала последнюю, и приказала вырезать ее на гробе» [Карамзин 1792].
Печатные отзывы современников на эту публикацию нам неизвестны. Однако само их отсутствие свидетельствует о том, что текст Карамзина не воспринимался как нечто из ряда вон выходящее: в «лапидарном слоге» – особой категории текстов, включающей надписи на надгробьях, монументах, иных архитектурных сооружениях и произведениях искусства, – однострочность была широко распространена со времен Античности[146], «надписи-моностихи давно были вполне в порядке вещей» [Кормилов 2012a, 8]. «Лапидарному слогу» отдавали дань многие, в том числе ведущие представители русской поэзии 2-й половины XVIII века, прибегая в том числе и к однострочной форме, особенно тогда, когда это диктовалось условиями размещения надписи – например, на триумфальной арке (подробнее см. в [Кормилов 1993]). Жанры «лапидарного слога» – такие, как эпитафия или подпись к портрету, – параллельно существовали и в литературе. Однако среди многочисленных эпитафий и подписей, появлявшихся в печати до Карамзина, моностихов нет. Возможно, это связано с тем, что большинство этих текстов писалось не для того, чтобы действительно попасть на монумент или другое сооружение, а в видах публикации или иного обнародования автономным образом[147]. Карамзин, по-видимому, первым реализовал изначальную функциональную и категориальную амбивалентность подобного текста, предназначив его как для публикации, так и для использования «по назначению» – впрочем, в письме друга Карамзина, переводчика Александра Петрова можно усмотреть сомнение относительно подлинности рассказанной Карамзиным истории: «Из надписей твоих последняя ‹…› нравится мне отменно… Она проста, нежна, коротка и учтива к прохожему… Однако ж, мне кажется, критического мнения даром оказывать не можно: и потому ты необходимо должен сообщить нам подробное и обстоятельное описание монумента, к которому она сделана» [РСЭ 1998, 496]. Легко предположить, что новизна карамзинского подхода ускользнула от внимания современников; возможно, с этим связано и то, что данный карамзинский текст не создал традиции литературного моностиха, хотя в «лапидарном слоге», по наблюдениям С.И. Кормилова, вызвал волну дериватов и подражаний [Кормилов 1991][148]. С другой стороны, на беспоследственность карамзинского моностиха может проливать свет раннее замечание Ю.М. Лотмана: «Художественное восприятие этого моностиха подразумевает в читателе ясное чувство того, что перед ним в качестве законченного стихотворного произведения выступает отрывок… Но поскольку в этом, лишенном почти всех признаков поэзии, тексте читатель безошибочно чувствует поэзию, и очень высокую, автор тем самым утверждает мысль, что сущность поэзии вообще не в ее внешней структуре, что упрощение, обнажение текста поэтизирует его» [Лотман 1966, 40]. Замечание это, объяснимое в контексте общих размышлений Лотмана о характере поэтических новаций Карамзина, кажется ничем не подкрепленным в отношении данного конкретного текста, в котором «признаки поэзии» – будь то «признаки стихотворности» в виде шестистопного ямба или «признаки поэтичности» в виде построения полустиший на перекличке эпитетов – налицо; важнее, однако, мысль Лотмана о том, что однострочная эпитафия Карамзина отрывочна, что в ней по сути чего-то недостает для завершенности высказывания: мысль эта, видимо, ошибочна, но ошибочна ввиду проецирования на карамзинский текст 1792 года эстетики фрагмента, бурное развитие которой началось, благодаря Фридриху Шлегелю и Новалису, буквально несколько лет спустя и наложило заметный отпечаток на трактовку малых жанров в романтической традиции – к которой, однако, данный текст не принадлежал.
В этом отношении характерно, что единственным безусловно литературным моностихом в жанре эпитафии – то есть непосредственно продолжающим карамзинскую традицию – оказался текст более чем далекого от романтических веяний Дмитрия Хвостова (1757–1835), опубликованный в 1804 г. в журнале «Друг просвещения»:
Надгробие королю польскому
«Се на чужом брегу кормило корабля!» [Хвостов 1804a][149](последний польский король Станислав Понятовский после третьего раздела Польши был вывезен в Петербург, где и умер в 1798 году). Обращают на себя внимание кавычки, в которые заключена единственная строка: вероятнее всего, они оформляют восклицание как своего рода цитату – то ли передавая впечатление от автора любому условному прохожему, то ли представляя надпись как будто бы имеющуюся на надгробии в самом деле. В том же номере журнала, хотя и за иной, криптонимической подписью, опубликована и заметка Хвостова «О краткости надписей»[150], обосновывающая минимизацию надписей лапидарного слога: «В Санкт-Петербурге в Александровской Лавре, на месте, где погребен победитель турков, низложитель Польши, спаситель Италии, сказано:
“Здесь лежит Суворов”.Ничто не может быть простее и величественнее таковых надписей. Истинная слава умеренна и не требует пышных украшений, она светоносна сама по себе. ‹…› Нет нужды изъяснять ни о чинах, ни военачальстве покойного Генералиссима: ибо в уме любопытствующего видеть его гробницу одно имя рождает понятия о его нравах, о суровой жизни и победах» [Хвостов 1804b, 153–154], – трудно счесть соседство этих двух публикаций совпадением, однако краткость хвостовской надписи и надписей, приводимых в его статье, очевидно разноприродна: редукцию текста к одиночной метафоре едва ли возможно мотивировать стремлением избавить его от «украшений». При всем том в итоговом собрании сочинений Хвостов, спустя 26 лет, печатает другую, четырехстрочную версию своей эпитафии Понятовскому:
Кто ведает, костьми где ляжет? Смиренно мудрый скажет, В Петрополе зря прах сарматов короля: На берегу чужом кормило корабля. [Хвостов 1830, 318]Между тем столь одобрительно встреченная Хвостовым эпитафия Суворову, предложенная Гаврилой Державиным (1743–1816) в 1800 году, также рассматривается некоторыми учеными в качестве одного из ранних русских моностихов: так, В.Ф. Марков помещает ее в свою антологию, указывая в обоснование своего решения, что «в изданиях Грота и Гуковского она с полным основанием печатается среди стихов» [Марков 1994, 345][151]. С.И. Кормилов замечает в связи с этим, что «основание здесь не такое уж полное», хотя бы потому, что «3-стопный хорей в XVIII в. крайне редок: 10 текстов ‹…› у пяти поэтов из 25-ти <обследованных> – и отнюдь не легко узнаваем в однострочии» [Кормилов 1993, 19][152]. Но и литературность данного текста, высеченного на надгробной плите Суворова в Александро-Невской лавре и явно не предназначенного автором для публикации, – не менее проблематична, чем его стихотворность, тем более что Я.К. Грот, на авторитет которого ссылается Марков, особо не настаивает ни на той, ни на другой, комментируя первую публикацию этого текста (в подготовленном им полном собрании сочинений Державина, соответствующий том которого вышел в 1866 году)[153] следующим образом: «Эта надпись ‹…› встречается отдельно в тетрадях нашего поэта, и мы помещаем ее таким же образом в подтверждение, что она точно принадлежит Державину»[154] [Державин 1866, 380]. Более того, хотя этот том «Сочинений» и озаглавлен «Стихотворения», несколько выше в примечании к надписи «На мраморную колонну, в Красной мызе Нарышкиных…» Грот замечает: «Здесь в первый раз встречается у Державина надпись, написанная в прозе так называемым лапидарным слогом. Ниже будет напечатано еще несколько подобных надписей» [Державин 1866, 346], – констатируя, таким образом, присутствие в томе текстов, не являющиеся ни стихотворными (в понимании Грота), ни литературными (в теперешнем понимании). Мы не обязаны соглашаться с Гротом: прозаичность подобных надписей с сегодняшних позиций может быть оспорена уже применительно к тексту, вызвавшему данное его замечание (он обнаруживает сильную ямбическую тенденцию и представляет собой, согласно Кормилову, «полуторастишие» [Кормилов 1995, 54]); с другой стороны, принадлежность текста к «лапидарному слогу» для Грота, возможно, совсем не означала его «нелитературности». Совершенно очевидно, однако, что подкрепить авторитетом Грота отнесение державинской эпитафии Суворову к литературным моностихам не удается[155].
С куда бóльшим основанием можно говорить об этом по поводу державинского же текста «На гроб князю Петру Михайловичу Голицыну»:
Стой, Зависть, стой – и устыдись! [Державин 1866, 490]Здесь перед нами гораздо более частотный по сравнению с трехстопным хореем предыдущего случая четырехстопный ямб, эффектный звуковой повтор – признаки стихотворности налицо; что же касается литературности, то случай остается проблематичным, но следует отметить, что на реальном надгробии Голицына этой надписи нет (и, по предположению Кормилова [Кормилов 1993, 17–18], надпись для этого и не предназначалась), зато намерение Державина, хотя и гораздо более позднее, опубликовать данный текст зафиксировано (он включен автором в состав подготовленной, но не успевшей выйти из-за смерти Державина «Части VII» его сочинений [Державин 1866, 490 и VIII][156]). Тем не менее и Марков, и Бирюков обходят этот текст молчанием[157]. Сопоставление двух державинских текстов проводит только Ю.Б. Орлицкий, рассматривая их, однако, специфическим образом – с точки зрения ритмического соотношения собственно текста и заглавия: «Заглавие <эпитафии Суворову>, как и текст, обладает силлабо-тоническим метром: это анапест, в то время как сама эпитафия написана трехстопным хореем. То есть произведение в целом (заглавие + текст) при традиционном подходе (курсив наш, – Д.К.) можно было бы трактовать как своего рода полиметрическую стихотворную композицию» – рассуждения этого рода приводят Ю.Б. Орлицкого к признанию «удетеронной природы как обоих однострочных текстов, так и их заглавий» [Орлицкий 2002, 564]. Между тем описанный подход никак нельзя назвать традиционным: апелляция к ритмике заглавия при определении ритмической природы собственно текста – прием абсолютно нетрадиционный[158] и методологически сомнительный.
Вернувшись, спустя полтора столетия после Я.К. Грота, к рукописному архиву Державина и, в частности, к проекту «Части VII» его сочинений, Н.П. Морозова в недавнее время дополнила разряд державинских однострочных надписей еще двумя (отчего Грот воздержался от их публикации, сказать трудно):
На гроб князя Дмитрия Михайловича Пожарского
Прочь, злоба!Надпись к портрету адмирала Федора Федоровича Ушакова
Не раз он потрясал перунами Стамбул. [Морозова 2010, 302]В первом случае, однако, как указывает сама Морозова, отдельно зафиксированная Державиным эпитафия лишь воспроизводит элемент финала известной оды «На коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского» (1789, опубл. 1798):
А на твоей покрышке гроба Простую надпись лишь: Прочь злоба! Отечества напишет друг.– но если в составе строки четырехстопного ямба с женским окончанием финальный спондей после ослабленного третьего икта, заполненного склонным к энклитизации наречием «лишь», прочитывается как эффектный ритмический пуант, то в изолированном употреблении ритмическое взаимодействие этих двух слов можно искать разве что в перекличке групп «сонорный + ударный ‘о’» – кажется, что считать на этом основании стихотворным неметрический трехсложный текст рубежа XVIII–XIX веков было бы по меньшей мере анахронизмом. Во втором тексте из публикации Морозовой, напротив, шестистопный ямб не оставляет иного выбора, кроме как признать надпись стихотворной и, наряду с надписью «На гроб князю Петру Михайловичу Голицыну», прибавить ее к немногим достоверным образцам литературного эпиграфического моностиха.
Наименьшая определенность существует в случае с однострочными текстами из неопубликованых рукописей Ивана Хемницера (1745–1784). Восемь таких текстов впервые напечатаны в «Полном собрании стихотворений» Хемницера, в разделе «Двустишия и афоризмы», в комментариях к которому Л.Е. Боброва и В.Э. Вацуро пишут: «Часть двустиший Хемницера являются, несомненно, самостоятельными законченными произведениями. Однако возможно, что среди публикуемых двустиший и афоризмов есть и поэтические “заготовки”…» [Хемницер 1963, 351]. В этом комментарии обращает на себя внимание нерешительность ученых, опасающихся не только назвать однострочные фрагменты стихотворными (в результате чего само название раздела оказывается заметно неоднородным), но даже предположить их (в отличие от двустиший) самостоятельность. Все восемь строк строго метричны (шестистопный ямб), отличаются синтаксической и логической законченностью и в принципе вполне могли бы функционировать самостоятельно; однако очень похожая по структуре строка «По взгляду не суди: обманчив внешний вид.», сохранившаяся в тех же рукописях Хемницера, имеет при себе помету автора «В баснь» [Хемницер 1963, 271], что, конечно, не может не вызвать аналогичного предположения и в отношении других хемницеровских однострочных фрагментов[159]. Поэтому мы полагаем, что готовность В.Ф. Маркова и вслед за ним С.Е. Бирюкова (а до них – С.А. Матяш) причислить тексты Хемницера к моностихам [Матяш 1991, 43; Марков 1994, 345, 354; Бирюков 2003, 93] не вполне основательна: вопрос об их статусе остается (и, видимо, останется) открытым (так считает, кажется, и С.И. Кормилов [Кормилов 1993, 16]).
Близкое вплоть до неразличимости родство первых русских литературных моностихов с «лапидарным слогом» обеспечило им естественность и бесконфликтность вхождения в культурный контекст – и вместе с тем предопределило скорое пресечение едва начавшей складываться традиции однострочной формы: движение поэзии от классицизма к сентиментализму, от сентиментализма к романтизму и далее вывело эпитафию из числа активно функционирующих в литературе жанров.
Вышесказанное не означает, однако, что идея однострочного стихотворения не возникала в XIX веке. Чрезвычайно интересное свидетельство[160] находим в письме Петра Вяземского (1792–1878) Константину Батюшкову (от 9 декабря 1811 г.): «Позвольте еще спросить: что такое смерть опередить[161]? Оно мне кажется ‹…› дурным подражанием известному некоторым охотникам стиху его сиятельства князя Петра Андреевича “И смерть свою предупреждая!” Вы, может быть, надеетесь, что этот стих, не имея ни предшественников, ни потомков, как и большая часть стихов его сиятельства, может быть присвоен, – но нет, вы ошибаетесь, и страшитесь последствий! Он мне велел вам сказать, что он от этого стиха не откажется ни за какую цену, и даже что обстоятельства, гонения людей и Судьбы не позволят ему прибавить хотя бы еще стих, чтоб, по крайней мере, сделать дистих, то он решится напечатать его одиноким! Не примут в журналы – в прибавления “Московских ведомостей”, не примут и тут – в особом издании!» [Вяземский 1994, 126]. Конечно, 19-летний Вяземский шутит; но за этой шуткой видна важная черта его творческого сознания: внимание к отдельной строке, способность придавать ей отдельное, самостоятельное значение, – этой черте суждено было вполне развиться много позже.
Мотив единственной строки, к которой нужно (или не нужно) дописать вторую, встречается далее у Александра Пушкина (1799–1837) в прозаическом наброске «Роман в письмах» (1829), герой которого Владимир – как принято считать, до известной степени автобиографический персонаж [Цявловская 1958, 282, 287] – пишет из деревни в столицу приятелю следующее:
Наконец и я пустился в поэзию. Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за что Лиза очень мило бранила меня):
Глупа как истина, скучна как совершенство.Не лучше ли:
Скучна как истина, глупа как совершенство.То и другое похоже на мысль. Попроси В. приискать первый стих и отныне считать меня поэтом.
[Пушкин 1960, 490]
– надпись к портрету может рассматриваться как подвид «лапидарного слога» и как таковая вполне могла бы быть однострочной – однако в данном случае мыслится ее вымышленным автором исключительно как заготовка для будущего двустишия, так что для замечаний о пушинских моностихах (например, [Строганов 1999, 189]) оснований тут нет.
Шутки Вяземского и Пушкина на тему однострочности никак не связаны с обращением к этому приему Карамзина, Державина и Хвостова. Это, однако, не значит, что у них совершенно нет претекста. 13 февраля 1783 года ежедневная французская газета «Journal de Paris», литературный отдел которой вел по большей части один из ее соредакторов Оливье де Корансе (1734–1810), опубликовала следующий материал [Journal de Paris 1783, 181–182]:
ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА ПРИ ПАРИЖСКОЙ ПОГОДЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ В ОДНУ СТРОКУ, ПРЕДОСТАВЛЕНО БЕЗВОЗМЕЗДНО В ПАРИЖЕ, ИЗ ПОРТФЕЛЯ ОДНОГО БЛАГОРОДНОГО ВОИНА
(se trouve gratis à Paris, dans le porte-feuille d’un Gentilhomme Fantassin)
Предварительное замечание от автора
Вопреки господам Томсону и Сен-Ламберу[162], чьими дарованиями я восхищаюсь, дерзну заявить со всей убежденностью, что никогда еще не доводилось мне видеть подлинной Весны в этих областях Европы, где нам суждено обитать.
Обаяние этой поры знакомо лишь Малой Азии, [Эгейскому] Архипелагу да берегам Средиземного моря. Греки научили нас воспевать Весну; сырые же и леденистые ветры, властвующие у нас над головой, учат нас без этого обходиться.
Соловей отнюдь не поет в окрестностях Парижа; нет, он стонет от ужаса и изумления. Да и как бы он мог толковать о любви промозглыми и пасмурными ночами, истребляющими почти всегда большую часть наших весенних плодов и весенних радостей?
Лето в нашем умеренном климате представляет собой не что иное как оргию жары и пыли.
Достохвальная наша осень обильна засухами и грозами и едва дозволяет земледельцу собрать жатву, избегнувшую разрушительных причуд погоды. Что же касается зимы, то предоставляю моим читателям (исконным парижанам и иным жителям столицы) судить, верно ли говорит о ней мое стихотворение.
Впрочем, если мое творение и не доставит всем удовольствия, то оно по крайней мере, льщу себя надеждой, обладает уж тем достоинством, что никому не наскучит.
ВРЕМЕНА ГОДА, Песнь первая и последняя Дожди да и ветра; ветра или дожди. (De la pluie & du vent, du vent ou de la pluie.)[163]Этот текст был также перепечатан в издававшемся дважды в месяц дайджесте французской прессы «Journal politique, ou Gazette des gazettes» (выпуск за первую половину марта 1783 г.) [Journal politique 1783, 45–46]. А в 1787 году Пьер Жан-Батист Нугаре (1742–1823), плодовитый французский литератор, выпустил в Лондоне сборник анекдотов «Живая картина Парижа, или Забавные разности», где воспроизвел стихотворение вместе с предисловием, прибавив также ценные сведения о его дальнейшей судьбе:
Один поэт, о котором известно лишь, что зовется он Римайе[164], член Общества литераторов, предложил прибавить еще стих к этому, единственному в своем роде, стихотворению, какого даже и Древние не могли себе представить и какое могло бы сделать эпоху в нашей литературе. Вот в чем состояли перемены, которые желал бы произвести мсье Римайе:
В любой сезон, Париж, иного ты не жди: Дожди или ветра, ветра или дожди. (Dans les quatre saisons à Paris l’on essuie De la pluie et du vent, du vent et de la pluie.)Другой поэт, большой любитель точности, отнюдь не желая ничего добавлять к этому особенному шедевру, потщился доказать, что, напротив, следует отсечь от него половину, и таким образом тема явится с новой силой:
Дожди или ветра.Славный же гений, которому мы обязаны сим стихотворением, хранит молчание, скромно утаив свое имя, в то время как его обожатели и его завистники усиливаются или прилепиться к его славе, или навести тень на ее сияние; и тщетно в Journal de Paris, по обычаю театральной публики, требуют автора [Nougaret 1787, 36–38].
На протяжении последующих 25 лет этот анекдот еще несколько раз появлялся в печати, с незначительными изменениями[165], пока в 1813 году не был напечатан, снова в Лондоне, в третьем томе «Мемуаров исторических, литературных и анекдотических» – книги, основанной на ежемесячном журнале «Литературная корреспонденция», выпускавшемся Фридрихом Мельхиором Гриммом (1723–1807) для полутора десятков подписчиков со всей Европы, преимущественно королевской крови. В этом журнале история про удивительное однострочное стихотворение помещена под февралем 1783 года – к этому времени, на 30-м году издания, сам Гримм уже в значительной степени утратил к нему интерес, и журналом занимался его секретарь Якоб Генрих Майстер (1744–1826). В этой редакции, однако, заключительная часть новеллы выглядит иначе, поскольку сообщение обращено к другому кругу читателей:
Этот шедевр принадлежит графу де Ла Турай[166], состоявшему при Его Высочайшей Светлости принце Конде. Он его прочитал одному из своих друзей, обладавшему весьма взыскательным вкусом, примолвив при том: Ручаюсь, вы не сочтете это сочинение слишком длинным. Прошу меня извинить, отвечал ему друг Север (Sévèrus)[167], оно вдвое длиннее, чем нужно. Дожди или ветра – этого достаточно. [Mémoires 1813, 29–31]
– исчезли незадачливый сторонник традиционных форм Римайе и литературная общественность, разыскивающая автора через газету, а имя остроумного сочинителя предано гласности, но самое главное – пуант уже не в том, что изобретено однострочное стихотворение, какого и Древние не видывали[168], а в том, что на всякую краткость найдется еще большая краткость[169].
Все периодические издания, приложившие руку к распространению этого анекдота, активно читались в России, а различные сочинения Нугаре пользовались известной популярностью начиная с 1780–1781 гг., когда вышел русский перевод одного из его собраний анекдотов, под названием «Тысяча и одно дурачество» [Кукушкина, Лазарчук 2010, 151]; среди русских переводчиков Нугаре был двоюродный дядя Батюшкова Платон Соколов, – словом, вероятность знакомства Пушкина и Вяземского с какими-то из указанных французских источников весьма велика[170] (хотя документально зафиксировано только чтение ими следующего переиздания «Correspondences» Гримма, вышедшего в 1829–1830 гг. – напр., [Пушкин 1969, 34][171]).
Следующим любопытным и важным этапом в становлении взгляда на однострочный текст как на правомерную форму стихотворного произведения стала работа Льва Мея (1822–1862) над переводами анакреонтики, проходившая в 1850-е гг. Полностью анакреонтика Мея, собранная самим автором, появилась в печати уже после его смерти, в 1863 году, в заключительном томе 3-томных «Сочинений» поэта, и затем несколько раз переиздавалась вплоть до 1911 г. В рамках подраздела с характерным названием «Надписи, эпитафии, эпиталамы и отрывки» Мей по сравнению со своими предшественниками увеличил корпус русской анакреонтики более чем на 40 фрагментов, 15 из них в переводе однострочны. Разумеется, это не было таким радикальным эстетическим жестом, каким стало появление спустя 30 лет знаменитого моностиха Брюсова; не следует, впрочем, и приуменьшать решительность Мея: его работе предшествовали пять больших публикаций других переводчиков, каждый из которых стремился дать читателю полное представление о поэте, – и все они обошлись без однострочных фрагментов[172]. Однако поучительнее всего – не сам факт появления однострочных античных фрагментов в русском переводе, а то обстоятельство, что при сопоставлении их с подлинниками выявляется совершенно определенная переводческая тенденция[173]: сознательно или бессознательно Мей стремится придать отрывкам максимально законченный характер. Чаще всего это проявляется в элиминировании различных служебных слов – γὰρ, δε, τε и т. п., в подлиннике явно связывавших сохранившийся текст с предшествовавшим. Но для нас особенно ценны те случаи, когда Мей приводит к метрически и синтаксически полноценному виду отрывки, метрический статус которых сомнителен. Так, строкой пятистопного дактиля:
Вязями лотосов перси они украшают… [Мей 1863, 93]– Мей передает отрывок, сохранившийся в книге Афинея «Пир мудрецов» и не позволяющий однозначно установить метрическую структуру, в силу чего и графическое решение различается в различных публикациях греческого оригинала, от двустишия в основополагающем [Bergk 1843, 674] до новейших изданий, выносящих первое слово в предыдущий стих:
πλεκτὰς δ’ ὑποθυμίδας περὶ στήθεσι λωτίνας ἔθεντο [Campbell 1988, 80][174].Еще более разительный пример – гексаметрическая строка Мея
Если бы мне умереть!.. я другого исхода не знаю. [Мей 1863, 89]– соответствующая двустишию подлинника:
’Από μοι θανεῖν γένοιτ’∙ οὐ γὰρ ἂν ἄλλη λύσις ἐκ πόνων γένοιτ’ οὐδαμά τῶνδε [Bergk 1843, 677][175].Все это свидетельствует о том, что единственный стих – при наличии определенной логической и синтаксической законченности – представлялся Мею способным к самостоятельному существованию, основой которого оказывался его версификационный статус полноценного русского стиха.
Опыт Мея долго оставался уникальным – вплоть до 1910-х гг., когда к мельчайшим фрагментам античных авторов – Архилоха, Алкея, Сапфо и др. – стали охотно обращаться Вячеслав Иванов и Викентий Вересаев (впрочем, в 1891 г. два однострочных текста[176] включает в свой перевод «Эпиграмм» Марциала Афанасий Фет). Судить о том, насколько работы Мея повлияли на Брюсова, едва ли возможно, хотя сам Брюсов в одном из позднейших автокомментариев к своим однострочным опытам ссылается на античный моностих как пример для подражания[177]: история брюсовского обращения к моностиху убедительно показывает, что интерес к античной однострочности не был здесь первопричиной, а, скорее, одним из проявлений общей тенденции – наступающей эпохи модернизма – «времени широчайшего обновления и перестройки всей системы поэтических средств», эпохи, когда «поэзия отчетливо противопоставляет себя прозе и сосредотачивается на тех художественных заданиях, которые прозе недоступны» [Гаспаров 2000, 214][178].
Традиция приписывает Валерию Брюсову 8 или 9 моностихов [Марков 1994, 345; Кормилов 1991а, 72; Брюсов 1973, 568; Брюсов 1974, 236–237 и др.], из которых, впрочем, он рискнул напечатать лишь один – знаменитое
О закрой свои бледные ноги.Еще семь были опубликованы в 1935 г. А.Н. Тер-Мартиросяном[179]; в собрании сочинений 1973–75 гг. добавлен еще один однострочный текст (правда, один из напечатанных в 1935 г. исключен). Однако эта традиционная точка зрения[180] должна быть оспорена.
Хронологически первыми брюсовскими моностихами считаются две строки, датированные 27 ноября 1894 г. Комментаторы Собрания сочинений указывают, что они представляют собой перевод двух строк из сонета Шарля Бодлера «Красота». При обращении к автографу этих строк в записной книжке Брюсова «Мои стихи» (ОР РГБ, ф. 386, ед. 14.5/1, л. 28) выясняется, что он имеет своеобразный вид: вверху листа расположена строка
Я прекрасна, о смертный! Как грёза камней – [181]затем оставлено свободное место (что вообще для записных книжек Брюсова нехарактерно: обычно текст в них идет очень плотно), далее следует вторая строка:
Никогда не смеюсь, никогда я не плачу.– вписанная поверх зачеркнутого варианта:
И смех мне незнаком и незнакомы слёзы.– и, наконец, далее оставлено пустое место до конца страницы. Такое расположение текста с неопровержимостью свидетельствует о том, что перед нами – не два моностиха, выборочно переведенные Брюсовым из Бодлера, а перевод всего бодлеровского сонета, оставленный Брюсовым на ранней стадии работы: вначале им был переведен 8-й стих, легко укладывающийся в шестистопный ямб, затем – 1-й, хорошо легший в четырехстопный анапест (ближе отвечающий ритму бодлеровского оригинала: ср. Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre), после чего 8-й стих также переделывается Брюсовым под этот размер, но дальше работа почему-то не пошла, и место для стихов 2–7 и 9–14 осталось пустым[182]. Однако затем И.М. Брюсова, составляя для этой записной книжки «Оглавление № 1» (там же, л. 1–6), указывает каждую из двух строк как отдельное стихотворение – и отсюда, по-видимому, берет начало ошибочная интерпретация.
Следующими по хронологии считаются два моностиха от 29 ноября 1894 г. Их самостоятельность также проблематична. Первый из указанных текстов –
Я знаю искусство, страданья забыв– в автографе имеет на конце вовсе не точку, как в публикации А.Н. Тер-Мартиросяна (и у следующих за ним В.Ф. Маркова и С.Е. Бирюкова), а сокращение «etc.» (ОР РГБ, ф. 386, ед. 14.5/1, л. 45об), употреблявшееся иногда Брюсовым для обозначения неоконченных произведений (ср., напр., там же, л. 13об); видимо, поэтому в собрание сочинений Брюсова 1970-х гг. эта строка не включена.
Есть ряд любопытных особенностей и у автографа второго текста:
На пике скалы у небес я засну утомленно.С одной стороны, перед ним вместо заглавия стоит число «XII» римскими цифрами; с другой – после него стоит в скобках слово «Кошмар», и к этому слову сделана помета «в огл<а>вл<ение?>»[183]. Номера с I по XI, которых естественно было бы ожидать в непосредственной близости от текста под номером XII, в указанной записной книжке отсутствуют. В каком оглавлении рассчитывал Брюсов поместить заглавие «Кошмар» – также совершенно неясно. Наконец, слабо прослеживается связь текста и названия: в том, чтобы заснуть в таком не совсем привычном месте, еще нет ничего особенно кошмарного, если же предположить, что кошмар лирическому герою приснился, то удивляет непрописанность этого мотива. Отсюда, в свете истории с двумя бодлеровскими строчками, несложно предположить, что перед нами – еще один перевод, не продвинувшийся дальше первого стиха. Этим легко объясняются и номер, и помета: и то, и другое относится к иноязычному подлиннику (гипотетический текст-оригинал значился в некоей книге под номером «XII», а в ее содержании – под заглавием «Кошмар»). Брюсов, как правило, никак не отделяет в своих записях оригинальные сочинения от переводов, но если отделяет, то, в частности, как раз указанием на номер текста в книге-источнике (обычно, правда, называя и саму книгу – см., напр., там же, лл. 88, 89). Разумеется, такое предположение остается гадательным до тех пор, пока вышеприведенная строчка не будет сверена с начальными строками «XII-х номеров» во всех книгах, откуда Брюсов мог переводить стихи в ноябре 1894 г., – эту задачу мы оставляем грядущим брюсоведам; до тех пор, однако, утверждать самостоятельность и этой брюсовской строки оказывается невозможным.
Пятый брюсовский моностих по традиционному счету (и, похоже, первый настоящий) – тот самый, который знают все:
О закрой свои бледные ноги.Однако при изучении автографа этого текста мы обнаруживаем знакомую картину (там же, л. 50). Над текстом – номер «XIII»; под строкой – свободное место до конца листа. Сам текст содержит правку: первоначальный вариант –
Обнажи свои бледные ноги.– затем первое слово зачеркнуто, сверху написано «Протяни». Итоговый вариант, появившийся в печати, в автографе отсутствует. По-видимому, и здесь перед нами – осколок незавершенного перевода. И, вероятно, лишь впоследствии, просматривая свои записные книжки при подготовке третьего выпуска «Русских символистов», Брюсов по-новому взглянул на этот отрывок и принял решение о его отдельной публикации[184], а заодно внес в имеющийся текст правку, изменившую его первоначальный смысл на противоположный[185].
Затем на протяжении более чем полугода какие-либо однострочные фрагменты в брюсовских записных тетрадях отсутствуют. Но в августе 1895 г. Брюсов получает тираж «Русских символистов» с опубликованным моностихом, – и это, по-видимому, возвращает его к размышлениям об этой форме[186] и желанию экспериментировать с нею: 24 августа в очередной записной книжке «Мои стихи» (ОР РГБ, ф. 386, ед. 14.5/4, л. 24об) появляются три однострочных текста, впервые, судя по всему, задуманные и воплощенные Брюсовым как моностихи[187]. Они включены в состав цикла, открывающегося 12-строчным стихотворением «Призрак и тень» («Под звуки безжизненных вёсел…»), над которым стоит римская цифра I. Затем под цифрами II и III следуют два моностиха:
И никого и ничего в ответ.– и
Твои глаза простят мои мечты.Далее начат набросок многострочного текста, не относящегося к циклу, зачёркнут, и дописан текст под номером IV:
Воскреснувшей страсти безумные очи.На соседнем листе (л. 25) следует другое стихотворение, а в самом низу страницы – так, что на развороте он находится рядом с предыдущим, – расположен еще один моностих:
На бледный лик луны упал дрожащий свет…Этот текст также обозначен номером IV: то ли по ошибке, то ли потому, что Брюсов рассматривал его как вариант для завершения цикла (и тогда два текста под одним и тем же номером не случайно записаны рядом). Все эти тексты – включая открывающее цикл многострочное стихотворение – Брюсовым при жизни не печатались.
Появление брюсовского моностиха в «Русских символистах» вызвало волну критических откликов, причем, как впоследствии справедливо замечал Ю.Н. Тынянов, «“Почему одна строка?” – было первым вопросом, ‹…› и только вторым вопросом было: “Что это за ноги?”» [Тынянов 1965, 265][188]. Подчас до второго вопроса даже не доходило – скажем, рецензент еженедельника «Звезда»[189] ограничился первым: «Почему, напр., глупая строка:
О, закрой свои бледные ноги.представляет собою полное законченное стихотворение?» [А.З. 1895]. Почти дословно повторяется это замечание в отзывах Николая Михайловского в «Русском богатстве» [Михайловский 1895] и Ангела Богдановича в журнале «Мир Божий» [Богданович 1895]. Некоторые критики останавливались на этом тексте подробнее, воспринимая его, однако, исключительно как благодатный материал для упражнений в остроумии: «Коротко до излишнего, даже запятая пропущена после этого великолепного “О”. Стихотворение, которое хорошо уже по одному тому, что напоминает стишок Ахилла на состязании в остроумии и находчивости. “О, горе тому, кого я побью,” – говорит Ахилл», – иронизирует Арс. Г. (Илья Гурлянд) в газете «Новости дня», и добавляет: «Но все-таки, что должно означать это ‹…› произведение?» [цит. по: Брюсов 1991, 680]. В том же ключе выступает Владимир Соловьёв: «Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: “ибо иначе простудишься”, но и без этого совет г. Брюсова, обращенный очевидно к особе, страдающей малокровием, есть самое осмысленное произведение всей символической литературы» [Соловьёв 1990, 152–153]. О том, насколько всеобщий характер носило читательское недоумение по поводу однострочной формы, свидетельствует письмо Брюсову его товарища по Кружку любителей западноевропейской литературы при Московском университете Василия Долгинцева[190]: «Может быть<,> в этой строке заключается целая поэма? До “одностишия” у нас еще никто не додумывался» [Брюсов 1991, 682].
Впрочем, не следует упускать из виду, что это недоумение возникало на фоне общего непонимания поэтики Брюсова и «Русских символистов», и моностих оказывался лишь наиболее простым и очевидным поводом для выражения этого непонимания (ср. характерное «напр<имер>» в первой из приведенных критических цитат)[191]. На готовность консервативной критики употреблять две-три ходовые цитаты в качестве эмблемы модернизма вообще сетовал уже в 1901 году Василий Кандинский: «если дело идет о современном движении в искусстве, они вставляют для пикантности пару “декадентских" стишков (непременно “Фиолетовые руки на эмалевой стене”, “О, закрой свои бледные ноги”, “Черви черным покрывалом” и т. д.)» [Кандинский 2001, 382][192]. Голос Кандинского не был услышан: не прошло и трех недель после публикации его статьи в газете «Новости дня» за 17 апреля, как в «Новом времени» 4 мая вышел фельетон Графа Алексиса-Жасминова (Владимира Буренина) «Новый талант, а может быть, даже и гений» [Буренин 1901], начинающийся следующим образом: «Позвольте, читатель, рекомендовать вам новое изумительное дарование – поэта Митрофана Гордого-Безмордого. ‹…› Поэтическое вдохновение пробудилось в г. Гордом-Безмордом сразу. Счастливым поводом этого пробуждения было прочтение однострочной пьесы г. Добролюбова[193]: “Закрой свои бледные ноги”. ‹…› Он в подражание г. Добролюбову сочинил в одно мгновение целых три однострочных шедевра: “Оближи свои бледные пальцы”, “Тихо высморкай носик лилейный” и “Не стриги никогда свои ногти”[194]. Сочинение этих шедевров тотчас же создало г. Гордому-Безмордому блестящую репутацию в среде московских и петербургских декадентов и символистов» (Буренин даже печатает три пародии на моностих Брюсова в подбор, не выделяя их графически как стихи[195]). Готовность массового сознания видеть в брюсовском моностихе квинтэссенцию модернистского поэтического метода была настолько высока, что сама, в свою очередь, стала предметом осмеяния: в сатирическом рассказе Тэффи «Карьера Сципиона Африканского» (1907) пародийный журналист-щелкопер вставляет в газетную рецензию в качестве общего места: «многим здравомыслящим людям давно надоела фраза вроде “О, закрой свои бледные ноги”, как сочиняют наши декаденты» [Тэффи 1997, 85].
Справедливости ради следует отметить, что представление о моностихе Брюсова как о наиболее концентрированном выражении некоторой общей для ранней русской модернистской поэзии закономерности могло влечь за собой куда более существенные выводы. В этом смысле особенный интерес представляет статья Льва Троцкого «О Бальмонте», вышедшая в 1901 году в иркутской газете «Восточное обозрение». В начале статьи Троцкий воспроизводит полностью 16-строчное стихотворение Бальмонта – однако делает это в обратном порядке, от последнего стиха к первому, замечая в итоге: «Бальмонт является верным носителем декадентского идеала, который состоит в полной эмансипации каждой строки от всей пьесы ‹…›. Раз строка представляет собой совершенно самостоятельную пьесу, ни в какой связи с предшествующими и последующими не состоящую, то почему, в самом деле, не читать этих пьес в любом порядке? И отсюда уже один, хотя все-таки смелый шаг до того, чтобы напечатать эти шестнадцать строк в виде шестнадцати самостоятельных стихотворений, вроде знаменитого “О! закрой свои бледные ноги!” или менее известного “Эй, молодые орлы!”»[196] [Троцкий 1926, 168]. Далее Троцкий рассуждает о декадентской поэзии как неверной, но по-своему логичной реакции на социальный и эпистемологический кризис, как абсолютизации аналитического дробного, фрагментарного мировосприятия («пропускать через свой поэтический аппарат жизнь по мелочам, в розницу») ввиду неспособности к синтезу (присущей, впрочем, не только модернистам, а почти всем имеющимся социокультурным группам), – все это может вызывать самые разные возражения[197], но нам важно то, что в моностихе Брюсова Троцкий видит наиболее радикальную реализацию некоторого общего принципа, то самое тыняновское «крайнее, на границе ряда, явление». С другой стороны, мысль Троцкого (отчасти коррелирующая, как мы увидим чуть ниже, с мыслями, которые высказывал сам Брюсов) влечет за собой вопрос о различной самостоятельности отдельных строк в разных стихотворных текстах – и эта далекоидущая идея ведет в том числе и к Владимиру Маркову с его «Трактатом об одностроке».
Но и на фоне Троцкого, не говоря уже о малоразличимых газетных критиках, особняком стоит отзыв Василия Розанова, уделившего брюсовскому моностиху довольно много места в рецензии на книжную продукцию символистов, дважды (с разночтениями) напечатанной в периодике в 1896 г. (журналы «Русский вестник» и «Русское обозрение»), а затем вошедшей в состав книги Розанова «Религия и культура» (1899). Розанова, не по Тынянову, интересуют сперва «ноги», а уж потом однострочность[198]: «Женщина не только без образа, но и всегда без имени фигурирует обычно в этой “поэзии” ‹…› как это, например, видно в следующем классическом по своей краткости стихотворении, исчерпываемом одною строкою:
О, закрой свои бледные ноги!Угол зрения на человека и, кажется, на все человеческие отношения ‹…› здесь открывается не сверху, идет не от лица, проникнут не смыслом, но поднимается откуда-то снизу, от ног, и проникнут ощущениями и желаниями, ничего общего со смыслом не имеющими…» [Розанов 1990, 165–166], – и дальше: «Новый человек ‹…› всё более и более разучается молиться: ‹…› его душа обращается только к себе. Всё, что ‹…› мешает независимому обнаружению своего я, ‹…› для него становится невыносимо, ‹…› до тех пор, пока это я, превознесенное, изукрашенное, ‹…› на развалинах всех великих связующих институтов: церкви, отечества, семьи, не определяет себя ‹…› в этом неожиданно кратком, но и вместе выразительном пожелании:
О, закрой свои бледные ноги!– причем по точке, замыкающей строку, и по пустому полю листа, ее окружающему, мы заключаем, что некоторый “субъект” без остатка выразил все внутреннее свое содержание» [Розанов 1990, 173].
Важно, что, при общем неприятии творчества Брюсова[199], Розанов не только расценивает моностих как законную форму поэтического высказывания, но и отмечает ее адекватность авторской интенции (в собственной, разумеется, интерпретации). Для Розанова однострочность не равна фрагментарности: он рассматривает текст Брюсова как целостный и законченный. Стоит отметить и опережающую время апелляцию Розанова к пустому пространству, на фоне которого существует стих, и внимание к знаку препинания (поскольку ощутимость роли пунктуации в художественном целом повышается по мере уменьшения общего объема текста, – см. главу 5). Любопытно, что последнее обстоятельство не помешало Розанову в обоих случаях процитировать брюсовский моностих с двумя отступлениями против пунктуации подлинника: с восклицательным знаком на конце и запятой после «О». В этом, впрочем, он не был одинок ни тогда (одно из этих разночтений или оба встречаются в большинстве случаев цитирования брюсовского моностиха критикой), ни после: достаточно сказать, что точно так же, с восклицательным знаком и запятой, печатает брюсовский моностих столетием позже Розанова В.Ф. Марков [Марков 1994, 354]. И если подстановку запятой легко объяснить стремлением к более распространенной пунктуационной традиции (на что обратил внимание уже цитированный И. Гурлянд[200]), то написание с восклицательным знаком очевидным образом переносит экспрессивность восприятия текста на сам текст[201] – к чему текст, впрочем, отчасти подталкивает, поскольку, в отсутствие явно данного в тексте адресата у выраженного повелительным наклонением глагола побуждения, провоцирует читателя хотя бы на мгновение принять требование лирического субъекта на свой счет. В этом аспекте важно, что требуется от адресата совершить некоторое движение, жест – причем в значении соответствующего глагола присутствует сема финализации: «закрывают» (не «укрывают», не «прикрывают») что бы то ни было – скорей всего, решительно, полностью и бесповоротно[202].
Розанов, разумеется, не был единственным, кто стремился доискаться смысла брюсовского моностиха. Этот вопрос занимал литературную общественность не один десяток лет[203]. Константин Эрберг вспоминает, как в 1905 году подлинным смыслом «брюсовского курьезного стихотворения в одну строку» интересовался у автора Вячеслав Иванов, на что Брюсов будто бы отвечал: «Чего, чего только не плели газетные писаки по поводу этой строки, ‹…› а это просто обращение к распятию: католические такие бывают “раскрашенные”» [Эрберг 1979, 124][204]. Эту же версию, но в более развернутом виде, приводит в своих воспоминаниях Мариэтта Шагинян со ссылкой на Владислава Ходасевича: «Владя Ходасевич снисходительно объяснил нам смысл этого непонятного брюсовского стиха, состоявшего из одной-единственной строчки: “Бледные голые ноги на ремесленных фигурах богоматери, по всем проезжим дорогам Польши, например, – это натурализм, опошление культа Мадонны, – брюсовский моностих выразил пасквильность, нечистоплотность натурализма… О, закрой свои бледные ноги! – это целая философия, целый бунт в искусстве!”» [Шагинян 1971, 622]. Слегка отличающаяся трактовка – в мемуарах Вадима Шершеневича: «Он (Брюсов) мне рассказал, ‹…› что, прочитав в одном романе восклицание Иуды, увидевшего “бледные ноги” распятого Христа, захотел воплотить этот крик предателя в одну строку, впрочем, в другой раз Брюсов мне сказал, что эта строка – начало поэмы об Иуде, поэмы, позже уничтоженной автором» [Шершеневич 1990, 456–457][205]. Вторую из этих интерпретаций поддерживает Эллис: «Никто из “критиков” и не подозревал, что строка о “бледных ногах” начинала собой стихотворение, обращенное к распятью, искалеченное цензурой» [Эллис 1996, 118]; отголосок этой трактовки, приписывающей честь открытия русского моностиха неизвестному цензору[206], возникает спустя полвека в письме Юрия Терапиано про «одну строчку, оставшуюся от карандаша цензора, которую В. Брюсов, в виде протеста, сохранил в своей книге» [Коростелёв 2008, 312]. К тому, что в стихотворении говорится все же о ногах женщины, склонялся, видимо, Иннокентий Анненский, заметивший мимоходом, что моностих Брюсова навеян строчками Стефана Малларме (из стихотворения «Don de Poёme») «О la berceuse, avec ta fille et l’innocence / De vos pieds froids…» [Анненский 1979, 328] – трудно сказать, насколько это предположение правдоподобно, но, как бы то ни было, такой интертекст сдвигает брюсовский моностих ближе к ернической интерпретации Соловьёва, чем к обличительной Розанова: у Малларме речь идет о замерзших ногах жены поэта, спящей вместе с дочерью-младенцем, пока сам поэт ночь напролет пытается дать рождение стихам [Малларме 1995a, 386][207].
Любопытно, однако, что все подобные трактовки принадлежат именно критикам и мемуаристам (хотя бы они и ссылались на самого Брюсова), да к тому же достаточно удалены во времени от появления в печати обсуждаемого текста[208]. Меж тем высказывания Брюсова, причем по большей части относящиеся непосредственно к 1895 году, носят совершенно иной характер: касаясь «скандального» стихотворения в письмах и интервью, он неизменно апеллирует к соображениям чисто формального порядка. Уже в августе 1895 г. Брюсов пишет П. Перцову о Бальмонте как «поэте отдельных строк», настаивая: «Вы не признаёте этой поэзии, а она нарождается, смелая и победная. ‹…› Мое третье стих<отворение> в 3 вып<уске “Русских символистов”> не больше как смелое забегание вперед. ‹…› Отдельно взятый стих прекрасен» [Брюсов 1927, 35]. Эту же мысль развивает и обобщает он в сентябрьском ответе рецензенту «Новостей дня» И. Гурлянду: «Современная поэзия от обработки целого всё более и более переходит к обработке частностей – и это мировой закон развития для всякого искусства. ‹…› Крайний шаг в этом направлении и сделал я своим стих<отворением>» [Брюсов 1991, 678]. В более популярной форме, но вместе с тем и более категорично высказывает Брюсов свои соображения в ноябрьском интервью корреспонденту петербургских «Новостей» Н. Року: «Если вам нравится какая-нибудь стихотворная пьеса, и я спрошу вас: что особенно вас в ней поразило? – вы мне назовете какой-нибудь один стих. Не ясно ли отсюда, что идеалом для поэта должен быть такой один стих, который сказал бы душе читателя все то, что хотел сказать ему поэт?..» [Ашукин 1929, 85][209] – в этом переходе из авторской позиции в читательскую и обратно сквозит, особенно если вспомнить происхождение брюсовского моностиха, опыт Брюсова-переводчика, который, по словам М.Л. Гаспарова, «выхватывал из переводимого произведения несколько необычных образов, словосочетаний, ритмических ходов, воспроизводил их на русском языке с разительной точностью, а все остальное передавал приблизительно» [Гаспаров 1997b, 122]. Наконец, уже спустя годы Брюсов, отрицательно отвечая на прямой вопрос А. Измайлова относительно присутствия в знаменитом моностихе скрытого религиозного мотива (см. цитату в прим. 177 на стр. 121), снова апеллирует к чисто формальным резонам.
Тем не менее, с известной вероятностью можно говорить о том, какое тематическое поле – религиозное или эротическое – преимущественно подразумевал Брюсов на самом деле в связи с «бледными ногами». Дело в том, что это словосочетание встречается в его поэзии еще раз, только уже не в моностихе:
И когдa, после всех упоений, Мы нa солнце посмотрим в тревоге, Я сожму твои бледные ноги, Зaцелую в томленьи колени.– еще и тот же трехстопный анапест. Это четверостишие, входящее в состав первого стихотворения в цикле «К моей Миньоне», вспомнил в связи с брюсовским моностихом, кажется, только Т. Климович, отмечавший, что «это позволяет рассматривать “О закрой свои бледные ноги” прежде всего в эротическом контексте, хотя возможны и иные гипотетические интерпретации (например, типично декадентский культ болезни, широко понимаемой импотенции, или тоже характерная для эпохи оппозиция одежды и наготы)»[210] [Klimovicz 1989, 66]. Отдельно писал о стихотворном цикле «К моей Миньоне» Н.А. Богомолов, подчеркивавший, что временной разрыв между созданием этого цикла в 1895 году и его публикацией в 1913-м в первом томе «Полного собрания сочинений и переводов» ([Брюсов 1913, 59–60] – спустя полсотни страниц после первой републикации моностиха) говорит об огромных переменах в общественном мнении, случившихся в этот период: «Открытое введение эротических мотивов в поэзию при тогдaшней, девяностых годов, цензуре было невозможно. ‹…› В 1913 году стaло очевидно, что опробовaнные Брюсовым в девяностые годы пути теперь стaли общедоступными» [Богомолов 1999, 103] (в том, насколько прав Богомолов относительно Брюсова и 1913 года, мы убедимся чуть ниже). Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство: это первое стихотворение цикла «К моей Миньоне» датировано августом 1895 года – то есть ровно тем временем, когда третий выпуск «Русских символистов» был получен Брюсовым из печати: легко себе представить, что освеженные в памяти впечатления от одних «бледных ног» вызвали в новом тексте другие.
Резонанс, полученный брюсовским текстом, был огромен. Крохотное стихотворение помнилось спустя годы и десятилетия, выступая в качестве квинтэссенции брюсовской поэзии (а то и вообще поэзии рубежа веков), – при том, что оценка и расстановка акцентов могли различаться в деталях. Максимилиан Волошин в 1907 г. пишет с сожалением: этот текст «заслонил от нее (читающей публики, – Д.К.) на много лет остальное творчество поэта. ‹…› Эта маленькая строчка была для Брюсова тяжелым жерновом в тысячи пудов…» [Волошин 1989, 409]; зато Сергей Есенин в 1924 г., в неопубликованном некрологе Брюсову – с явным сочувствием: «Он первый сделал крик против шаблонности своим знаменитым:
О, закрой свои бледные ноги». [Есенин 1962, 213]Лариса Рейснер в 1916 г. от лица народившегося акмеизма попрекает Брюсова его ранней смелостью (и позднейшим дрейфом в сторону «парнасской» умеренности): «Еще недавно эта фраза звучала своеобразным вызовом, чуть ли не дерзанием, новизной. И что же? Не прошло и десяти лет, “бледные ноги” забыты, осмеяны, стыдливо куда-то спрятаны. Наши “великие” – Бальмонт и Брюсов – ‹…› корифеи, “Пушкины”, превосходительные лирики, – что сталось с ними? Бедные, вымученные книги, жалкие слова, нудные рассуждения!» [Рейснер 1989, 241] Нина Берберова в 1947 г. замечает, что «его поэзия непонятна широкой публике; лишь знаменитое стихотворение в одну строку: “О, закрой свои бледные ноги” приводило толпу в неистовство» [Берберова 1999, 158]. Борис Зайцев в мемуарном очерке 1963 г. именно брюсовским моностихом иллюстрировал и аргументировал убийственный отзыв: «Брюсов был расчетливый честолюбец, может быть, и сознательно шел на скандал, только чтобы прошуметь» [Зайцев 2002, 216]. И даже в 2006 г. Юрий Арабов (правда, в романе от лица нарратора) находит уместным пристроиться в кильватер к этой линии трактовок: героиня «была экзальтирована наподобие институтки, которой в начале прошлого века заповедовал один неталантливый циник: “О закрой свои бледные ноги!” Впрочем, как мне сказали, циник имел в виду совсем не институтку, а распятого на кресте Бога, за что и поплатился. От него, циника, осталась одна эта фраза…»[211] [Арабов 2006, 10] (редкое и правильное отсутствие запятой в брюсовском моностихе компенсируется ошибкой в датировке). Известно, что брюсовский текст занимал Льва Толстого[212], Антона Чехова [Чехов 1996, 520], Александра Куприна (согласно воспоминаниям Иды Наппельбаум [Наппельбаум 2004, 18]), Самуила Маршака[213], как примету времени вспоминали его Анатолий Мариенгоф [Мариенгоф 1998, 153] и Александр Вертинский [Вертинский 1990, 73], как к претексту апеллировали Волошин и Федор Сологуб[214], Николай Заболоцкий[215] и Вагрич Бахчанян[216], а Роман Гуль в романе «Азеф» вложил брюсовскую строку в уста знаменитого провокатора[217]; впрочем, идея К. Проффера о том, что к моностиху Брюсова отсылает Владимир Набоков в «Лолите» (репликой Шарлотты «ne montrez pas vos zhambes») [Proffer 1968, 21], кажется, оснований под собой не имеет [Долинин 2014, 151]. Особенно поразительно цитирование знаменитого моностиха в поздних, датируемых 1970-ми годами, мемуарных записках В.В. Шульгина – в контексте не только далеком от всякой литературы, но и не позволяющем никаких иронических импликаций: «В одиннадцать часов одиннадцать минут умирающая перестала хрипеть. Я припал к ее ногам, высунувшимся из-под одеяла. “О, закрой свои бледные ноги”. Я, прикасаясь к ним лбом, держал их в своих руках, пока они не стали холодными» [Шульгин 1994, 233][218]. Скандально знаменитая строка не оставалась достоянием лишь литературной элиты: так, Яков Глатштейн в мемуарной повести колоритно описывает, как случайный попутчик на пароходе, плывущем из США в Европу в 1934 году, напевает младенцу «Казачью колыбельную» Лермонтова, после каждого куплета прибавляя речитативом «некогда знаменитое однострочное стихотворение» «О закрой свои бледные ноги» [Glatstein 1957, 109; Glatstein 1969, 59][219].
Резюмируя тему спустя столетие, Е.В. Иванова практически повторяет мысль Волошина: «Почти на десятилетие имя Брюсова в глазах читающей публики стало неотделимо от его однострочного стихотворения, а само это стихотворение ‹…› стало своего рода эмблемой декадентства» [Иванова 2002, 10]. Но если то, что имя Брюсова зачастую вызывало и вызывает первой ассоциацией знаменитый моностих, по большому счету, конечно, всего лишь аберрация культурной памяти, то, безусловно, обратное (упоминание о моностихе вызывает в сознании Брюсова прежде всего) – абсолютно справедливо. Поэтому неудивительно, что следующие появившиеся в русской поэзии моностихи создавались в очевидном диалоге с брюсовской строчкой.
Первые две ответные реплики в этом диалоге обычно не попадают в поле зрения стиховедов (в контексте истории моностиха мы обращаемся к данным текстам впервые), поскольку принадлежат авторам, связанным с поэзией лишь по касательной. Один из них – Владимир Гиляровский (1853–1935), чьи стихи всегда пребывали в тени его же очерков. В «Записках писателя» Николая Телешова, в главе, посвященной Московскому литературно-художественному кружку (возникшему осенью 1899 г. [Телешов 1966, 24]), находим следующий эпизод:
Гиляровский ‹…› не оставил без своего экспромта эту «поэму» в одну строку. Он шутливо заявил, что у него тоже есть «поэма» в одну строчку, под заглавием: «Рим» – про римского папу.
– Слушайте! Вот она:
Папа спит… И видит – маму… [Телешов 1966, 30]Разумеется, перед нами пародия – однако ее характер остается не вполне ясен, поскольку текст Гиляровского не имеет решительно ничего общего с моностихом Брюсова (за вычетом, разумеется, самого факта однострочности – но трудно себе представить, чтобы такой мастер иронико-сатирического экспромта, как Гиляровский, ограничился столь отдаленной перекличкой)[220]. Возникает подозрение, что моностих Гиляровского не пародиен, а пародичен (в терминологии Ю.Н. Тынянова [Тынянов 1977, 291–292]), т. е. использует брюсовский текст только как повод для иронического жеста в какой-то другой адрес (текст может быть, например, связан с какой-то тогдашней политической коллизией, в которую был вовлечен Папский престол: Гиляровский вообще охотно откликался стихотворными экспромтами на политические события). Едва ли не правдоподобнее, однако, выглядит иная гипотеза, если допустить, что Телешова при создании мемуаров подвела память, и текст Гиляровского вместе со всем эпизодом следует датировать более чем на десятилетие позже. Дело в том, что в 1911 г. Брюсов опубликовал – сперва в журнале «Русская мысль», а затем отдельным оттиском – свою статью о римском поэте Дециме Магне Авсонии и свои переводы из этого автора – в том числе перевод одного моностиха:
РИМ
Рим золотой, обитель богов, меж градами первый. [Брюсов 1994, 85]Если рассматривать текст Гиляровского как пародию не на оригинальный моностих Брюсова, а на его же перевод моностиха, то становится понятен выбор темы и названия, а также двойной характер иронии Гиляровского (в соотнесении с текстом Авсония выстраивается противопоставление: прежний Рим был обителью богов, а в теперешнем только Папа, да и тот спит; однако развитие текста Гиляровского иронически деконструирует и этот смысл: римский папа оказывается не первосвященником, а просто чьим-то отцом).
На развитие моностиха в первой половине XX века оставшаяся устным преданием шутка Гиляровского, вероятнее всего, не повлияла – хотя ее публикация в многократно переиздававшихся с конца 1950-х гг. «Записках писателя» Телешова могла стать дополнительным источником для иронической, игровой линии в русском моностихе.
Другая ранняя реплика в ответ на первую публикацию Брюсова осталась, по-видимому, незамеченной вовсе. Петр Успенский (1878–1947), знаменитый философ-мистик, оказавший определенное влияние и на искусство русского авангарда [Janecek 1996a, 37–40, 43–45], в начале своего творческого пути сам находился под влиянием авангардной русской поэзии, свидетельством чему стала его первая книга, изданная в 1917 г. под названием «“Кинемодрама” (не для кинематографа)» (с подзаголовком «Оккультная повесть») и переиздававшаяся впоследствии по-английски (в вольном переводе автора) под названием «Странная жизнь Ивана Осокина». Повесть эта считается автобиографической, а образ ее главного героя Ивана Осокина соотносится исследователями с самим Успенским; заключительные события в личной жизни героя повести относятся в биографии Успенского к 1905 г., и предполагается, что написана повесть тогда же, по горячим следам [Wilson 1993, 13–14; Ровнер 2002, 21]. В одном из заключительных эпизодов книги Осокин, непризнанный поэт, жалуется своей возлюбленной на непонимание со стороны обычных людей:
Ах, я вам расскажу смешную историю. Я поехал третьего дня на этот пикник с Леонтьевыми, потому что думал, что вы будете тоже. В общем, было очень скучно. Но день был удивительный. Было холодно и все сияло. Снег – пухлый и рыхлый, на полях, на озере, на соснах. Солнце светило, и все сверкало. Особенно, когда мы выехали из леса и перед нами открылась внизу вся дорога. Понимаете, у меня было впечатление, что огромный белый кот лежит кверху брюхом и нежится на солнце и мурлычет. Такие настроения лучше всего передаются в однострочных стихах, потому что чем больше вы оставите воображению читателя или слушателя, тем лучше. И я выразил это все в одном стихе:
Белое, пушистое брюхо зимы. [Успенский 1917, 136–137]Собеседники героя не приняли этой поэтической формы и стали требовать у него продолжения.
Аргументация героя Успенского в пользу моностиха явно не уступает брюсовским доводам в убедительности и при этом не повторяет их. Подаренный же Успенским своему персонажу моностих отстоит от текста Брюсова весьма далеко в силу двух основных свойств: неметрического характера стиха и достаточно прозрачной лирической интенции (авторская расшифровка образа выглядит как сама собой разумеющаяся, что вряд ли можно сказать об аналогичных брюсовских). В этом отношении моностих Осокина/Успенского близок к моностиху Самуила Вермеля, о котором см. ниже. Возникает даже предположение, что соответствующий эпизод мог быть вписан Успенским в текст повести позднее, ближе ко времени ее публикации в 1917 г., уже после появления в печати ряда других однострочных текстов, в т. ч. моностиха Вермеля, – однако документировать такое предположение вряд ли возможно: нам не удалось обнаружить никаких указаний на то, что рукопись ранней повести Успенского сохранилась в каком-либо архиве.
Третий (?) по счету ответ Валерию Брюсову, принадлежавший Василиску Гнедову (1890–1978) – по выражению С.В. Сигея, «самому изобретательному из всех русских футуристов» [Гнедов 2003, 5], – стал, без сомнения, самым громким: в апреле 1913 года Гнедов напечатал книгу «Смерть Искусству!: Пятнадцать (15) поэм» [Гнедов 1913a], включавшую 14 однострочных текстов (в том числе четыре «удетерона» – два «однословных» и два «однобуквенных») и пятнадцатую «Поэму конца» – озаглавленный чистый лист[221]. Несмотря на 20-летний временной разрыв, «зависимость подобного рода произведений от г. Брюсова» была тотчас отмечена литературоведом и критиком А.А. Шемшуриным, посетовавшим, что «сочинить их через 19 лет после брюсовской строчки, не упоминая о всем памятном еще происшествии на русском Парнасе, – просто неблагодарно» [Шемшурин 1913, 21][222]. Однако «упоминание» как раз есть: при всем многообразии ритма гнедовских «поэм» первая из них воспроизводит употребленный Брюсовым трехстопный анапест[223]:
Полынчается – Пепелье Душу.Но эпатажный характер моностиха как явления был, конечно, Гнедовым усилен: большинство текстов озаглавлено (причем объем названия соотносим с объемом самого произведения), каждому тексту предшествует надзаголовок «Поэма», подчеркивающий минимальность текста по контрасту с массивностью приписываемого ему жанра[224], да и сама редукция однострочного текста к «однослову», «однобукву» и, наконец, к чистому листу акцентировала маргинальность моностиха в смысле близости его к краю литературы (если не вообще к краю речи): как несколько патетически формулирует Э. Шмидт, «создается “икона невыразимого” как самое непосредственное выражение поэтического страдания от бессилия языка» [Шмидт 1998, 270]. Радикальность эстетического жеста Гнедова усугублялась его разнонаправленностью: не только на современный ему концепт стиха, но и на представления о языке («поэмы» написаны почти исключительно заумным языком, причем сильной деформации подвергнуты не только лексика и морфология, но и синтаксис) и о книге (законченное целое, составленное исключительно из маргинальных текстов).
В языковом аспекте Гнедова в этом произведении интересует не столько заумь как таковая, сколько зыбкость границ между заумным и «умным»: часть заумных текстов несет довольно прозрачный смысл[225], особенно там, где окказионализмы образуются путем соединения легко опознаваемых корней с несочетаемыми или несуществующими аффиксами – так, в уже процитированной Поэме 1 «Стонга» легко угадывается «стон» в названии, а в тексте – «полынь», символизирующая горечь (возможно, также с библейскими коннотациями), и «испепеленная душа»[226]. Поэма 3 названием «Свирельга» определенно указывает на свирель, с которой финальное в строке слово «звукопас» (ср. «свинопас») семантически увязывается обоими компонентами (свирель издает звуки, пастух играет на свирели – М.Г. Павловец отмечает в начале «Смерти искусству!» «идиллически-пасторальный антураж» [Павловец 2009])[227]; очевидно и то, что «стонга» и «свирельга» родственны общим «суффиксом» – г–, хотя семантика этого форманта остается непроясненной. Зато в Поэме 12 («Моему братцу 8 лет. – Петруша.») лексика сугубо нейтральна, но вне речевого контекста эта фраза оказывается семантически опустошенной[228] – заостряя тем самым стержневой футуристический пафос содержательности заумного высказывания в его противостоянии стертому, автоматизированному высказыванию на нормативном языке[229].
Статус «Смерти искусству!» как книги (то есть сравнительно свободной последовательности текстов, каждый из которых обладает формально-содержательной законченностью и способен к автономному существованию) видится все более проблематичным по мере появления новых исследований, посвященных установлению ее композиционной структуры и характера взаимоотношений между ее частями: пионерский характер, по-видимому, носила в этом отношении работа Н. – О. Нильссона [Nilsson 1970] c остроумной попыткой интерпретировать однобуквенные Поэмы 11 и 14 («У –» и «Ю.») как морфемы, оформляющие отсутствующий глагол типа «улетаю», перекликающийся с текстом однословной Поэмы 10 «Убезкраю.», – эта интерпретация хорошо согласуется с опубликованным позднее С.В. Сигеем разъяснением самого Гнедова по поводу похожего окказионализма из другого стихотворения: «“уверхаю” обозначает “улетаю вверх”» [Сигей 1992, 140]. В том же направлении поисков контекстуально обусловленного значения у гнедовских «эквивалентов слова» лежит идея К.Б. Йенсена о том, что Поэма 14, будучи предпоследней и состоя из предпоследней буквы алфавита Ю, заставляет в последней Поэме 15 ожидать последнюю букву, Я, она же – личное местоимение, которое и оказывается замещено пустотой [Jensen 1983, 11][230], – эта изящная гипотеза заслуживает упоминания даже несмотря на то, что, как справедливо замечает К. Брукс, до орфографической реформы 1918 года буква Я последней не была (за нею следовали фита и ижица) [Brooks 2000, 130][231]. Все соображения этого рода требуют, в связи с изложенными в разделе 2 критериями, видеть в «Смерти искусству!» целостный многочастный текст.
Последовательному обоснованию прочтения «Смерти искусству!» как несвободной конструкции посвящена работа М.Г. Павловца [Павловец 2009], в значительной своей части полемизирующая с эдиционными решениями, предложенными в подготовленной нами републикации гнедовского текста [Гнедов 1996][232]. Анализ Павловца исходит из той же презумпции, которую мы выше сформулировали в виде общего принципа (см. прим. 75 на стр. 51): в прижизненном авторском сборнике все особенности издательского решения предполагаются соответствующими авторской воле и входящими в авторское задание. Последовательное проведение этого принципа применительно к первоизданию 1913 года, однако, наталкивается на затруднения: так, уже в [Гнедов 1992] ведущий специалист по творчеству Гнедова С.В. Сигей выправил дефисы в конструкциях «Мхи-Звукопас» (Поэма 3) и «Затумло-Свирельжит» (Поэма 4) на тире – это решение[233] никак не пояснено редактором, но, в самом деле, при тщательном обследовании первопечатного издания можно увидеть, что знаки, кажущиеся дефисами, были вписаны в корректуру от руки, т. е. это, по всей вероятности, тире, пропущенные при наборе[234]. Никак не затрагивая этот вопрос, Павловец подробно останавливается на другом элементе издания 1913 года – эмблеме типографии, размещенной на той же странице, что и завершающая книгу «Поэма конца»: предположив, что «автор не был против именно такой формы размещения на странице своего опуса, более того – сам ее санкционировал», Павловец делает из этого вывод о том, что «белое поле чистого листа вовсе не является неотъемлемой частью “Поэмы Конца”, ‹…› иначе говоря, “Поэма Конца” состоит только из собственного “квазиназвания” – надзаголовка и по сути им исчерпывается. А трактовка “поэмы” как “чистого листа” (своего рода “tabula rasa”) – результат осмысления произведения современниками автора, эпатированными творением Гнедова». Современники действительно понимали дело именно так: в частности, К.И. Чуковский эмфатически пишет о «знаменитой поэме знаменитого Василиска Гнедова, где нет ни единой строки: белоснежно чистый лист бумаги, на котором ничего не написано!» [Чуковский 1969b, 234] – но отчего произведение, состоящее из чистого листа после названия, должно было казаться современникам более эпатирующим, чем произведение, состоящее из одного названия, Павловец не разъясняет. Кроме того, тезис Павловца противоречит, по всей видимости, многочисленным мемуарным свидетельствам о том, что Гнедов публично исполнял «Поэму конца» посредством некоторого сценического жеста (движения рукой – крест-накрест, или по горизонтали слева направо и обратно, или «вроде крюка» [Пяст 1997, 176], – либо сосредоточенного молчания; различные описания этого исполнения впервые собраны в [Сигей 1992]); воспроизводя ряд этих свидетельств[235], Павловец отмечает, что «варьируется не только жест, его характер, но и продолжительность самого выступления, а также словесное обозначение начала и конца исполняемого произведения», а потому, с его точки зрения, «для автора сам жест, как и прочие моменты чтения, не были столь уж важны: жест – не эквивалент чистого листа ‹…›, а лишь форма презентации себя в качестве автора и обозначения границ исполняемого произведения – рамок, т. е. начала и конца». С этим выводом трудно согласиться: пластическая презентация вербального (или визуального) текста представляет собой перекодирование («трансмутацию» по Р. Якобсону [Якобсон 1985, 362], «экстратекстовый перевод» по П. Торопу [Тороп 1995, 14])[236], результат которого принципиально неединственен[237], но при этом все-таки исходно должен наличествовать источник перекодирования (исполнения): если у стихотворения нет текста (хотя бы нулевого), а есть только название, то исполнить его нельзя никаким жестом[238]. И здесь уместно заметить, что завершение книги однострочных текстов закрывающим жестом точно так же, как открывающий книгу метрический оммаж Брюсову, отсылает к брюсовскому претексту.
В свете вышесказанного, т. е. двух очевидных свидетельств дефектности оригинального издания, и другие свойства издания нет возможности принимать в качестве неотчуждаемых свойств текста – а это, прежде всего, касается группировки на каждой странице оригинальной «Смерти искусству!» двух-трех поэм (издательское решение, которое мы расценили как не оптимальное для данного текста, разместив в переиздании [Гнедов 1996] каждую поэму на отдельной странице)[239]. М.Г. Павловец предлагает видеть в этой группировке тематические блоки, ссылаясь при этом на замечание И.В. Фоменко о том, что вообще «в “типовом”, “классическом” варианте авторская книга стихов – это система циклов. Каждый цикл (как элемент этой системы) воплощает отношение преимущественно к одной проблеме, к одной из сфер бытия» [Фоменко 2003, 67]. Некоторые из предлагаемых Павловцом тематических перекличек аргументированы довольно убедительно – в частности, идея о том, что три текста в самой середине книги:
Поэма 6 Робкот
Сом! – а – ви – ка. Сомка! – а – виль – до.Поэма 7 Смольга
Кудрени – Вышлая Мораль.Поэма 8 Грохлит
Сереброй нить – Коромысля. Брови.– представляют собой разноплановую рефлексию Гнедова по поводу футуристической поэзии; в других случаях обозначенная Павловцом тематическая связь убедительной не выглядит: трудно увидеть «критику “традиционного”, реалистического искусства, искусства “вчерашнего дня”, которое копирует “скучную” реальность, вместо того чтобы творить ее» – в том, что за поэмой 12
Вчерает
Моему Братцу 8 лет. – Петруша.непосредственно (в пределах одной страницы, т. е. одного тематического блока) следует
Поэма 13
Издеват.Анализ Павловца, однако, умалчивает о многочисленных тематических и структурных связях между текстами, расположенными на разных страницах первоиздания, включая очевидные: «Свирельга» из названия Поэмы 3 переведена в глагольную форму «Свирельжит» в тексте Поэмы 4, а являющийся в названии этой последней «Кобель Горь» предвещает саму Горю в названии Поэмы 9 «Бубая Горя»… Павловцом не показано, что именно связи между Поэмами с одной страницы теснее, чем иные присутствующие в «Смерти искусству!» связи и подхваты, «цикловые пунктиры, складывающиеся из несоседствующих между собой текстов, которые связывает или формальный, или тематический признак, либо совместное участие в развертывании какого-то квазинарративного сюжета» [Фигут 2003, 17]. Однако и тех связей, которые им отмечены, довольно для того, чтобы представление о самостоятельности составляющих книгу Гнедова текстов, о возможности интерпретации каждого из них без привлечения остальных окончательно себя скомпрометировало[240].
Осенью того же 1913 года в печати появился и следующий после брюсовского отдельный самостоятельный моностих: в книге примыкавшего к эгофутуристам поэта-самоучки[241] из Тверской области Павла Кокорина (1884–1938?) «Музыка рифм» помещено
Утреннее стихотворение
Бог утр, Строг-мудр, мил нам свил храм. [Кокорин 1913, 3]Этот текст на свой лад не менее революционен, чем книга Гнедова: целиком пронизанный рифмой, он, казалось бы, требует какой-то иной графики: записи в два, четыре или даже восемь стихов – особенно если учесть, что среди соседних стихотворений Кокорина преобладают тексты с короткой строкой вплоть до брахиколонов:
Тал, Пег Стал Снег. Вздох Рек, – Бог Нег…Таким образом, однострочность принимает здесь вид своеобразного минус-приема, отказа от графического выявления ритмической структуры. В то же время не слишком короткий (восемь слогов) стих, полностью составленный из ударных слогов, прочитывается, безусловно, иначе, чем брахиколон. Как отмечал С.С. Аверинцев, «обилие односложных слов сгущает фактуру стиха и тормозит его движение; но дело не только в этом. Именно односложное слово легче всего воспринять как целостную и нечленимую монаду, как выявление самых первозданных потенций языка» [Аверинцев 1975, 163] – сказано это о поэзии Вячеслава Иванова, с чьим именем, по Аверинцеву, нагромождение односложных слов в русской поэзии связано в первую очередь, а квинтэссенцией этого ивановского метода считается его перевод из древнегреческого поэта Терпандра («Зевс, ты – всех дел верх! / Зевс, ты – всех дел вождь! / Ты будь сих слов царь; / Ты правь мой гимн, Зевс!») – попытка воссоздания величественных древнегреческих спондеев, не вполне удавшаяся, по мнению М.Л. Гаспарова, ввиду необходимости использования служебных слов с ослабленным ударением [Гаспаров 1993, 149–150]. И.Е. Лощиловым уже отмечалась рецепция этого ивановского перевода русским футуризмом – стихотворение Алексея Кручёных «Зев тыф сех…» [Лощилов 2008] (и под формулировкой Аверинцева относительно «выявления самых первозданных потенций языка» Кручёных бы определенно подписался), однако и у Кокорина трудно не увидеть терпандровский след: языческое божество, предмет воспевания и поклонения, не только наделено высшими свойствами, но и отвечает человеку собственным даром; наряду со скоплением односложных слов роднят текст с Ивановым и «консонантные сгущения», особенно на стыках слов [Грек 2004, 23–24]. Недаром Е.Г. Эткинд замечал, что «связи Вяч. Иванова с “авангардом” шире и глубже, чем кажется» [Эткинд 1984, 15], – но и Кокорин, возможно, предстает несколько более изощренным автором, чем принято считать с подачи Осипа Мандельштама, писавшего о «Музыке рифм»: «Ритм Кокорина органический: он находится в полном согласии с дыханием, как народная песня. Книжка Кокорина очень народна, без всякой кумачности и в то же время утонченна, несмотря на ряд грубых промахов от неумелости и наивности автора» [Мандельштам 1993, 194][242]. Загвоздка, однако, в том, что ивановский перевод Терпандра опубликован спустя несколько месяцев после появления книги Кокорина [Иванов 1914, 11]. Говорит ли это о том, что в литературных кругах Санкт-Петербурга он был несколько известен за некоторое время до публикации, или о том, что видимая преемственность в действительности оказывается конвергенцией, независимым открытием одного и того же приема при решении той же задачи, или же, паче чаяния, о том, что Вячеслав Иванов не чурался заглядывать в брошюры малоизвестных авторов и использовать их опыт, – подлежит дальнейшему разысканию. Павел Кокорин почти сразу после появления «Музыки рифм» исчез с литературного горизонта [Никольская 1994, 17], моностих его не был известен ни Маркову, ни Бирюкову, ни Кормилову и впервые републикован лишь в [ПРФ 1999, 381], но в «умеренную» линию развития футуристического моностиха он укладывается, как мы увидим ниже, очень хорошо.
Между тем радикально-футуристическая линия в развитии русского моностиха продолжилась достаточно неожиданным образом. В декабре 1913 г. в Саратове появился сборник стихов с кратким названием «Я» (зато снабженный длинным подзаголовком «Футур-альманах вселенской эго-самости»), представлявший местную поэтическую группу «психо-футуристов». В числе других текстов в альманахе помещены и два моностиха[243] за подписью «Чернакота»:
Скороколочка
музозвонофонотонопенеигрикаГубофозия
бемебепефеферрбом [Футур-альманах 1914, 5–6][244]Альманах, вызвавший в Саратове изрядный ажиотаж (потребовался даже второй тираж) [Крусанов 2010, I:2:476–478], оказался мистификацией саратовской литературной группы «Многоугольник», лидеры которой – Семен Полтавский и Лев Гумилевский – сами выступили с разоблачением и объяснением своих мотивов на специально устроенном литературном вечере 31 января 1914 года. Анонимный репортер газеты «Саратовский листок» так передает рассказ Гумилевского об истории создания альманаха: «14 декабря, после прочтения в альманахе “Шиповник” статьи Чуковского, отметившего в футуризме, как плюсы, сжатость, образность и экспрессивность языка, члены кружка решили ‹…› добиться признания их настоящими футуристами, а затем – показать, как футуризм технически несостоятелен, как легко его создать, – и тем доказать его ничтожество. ‹…› На другой день футур-альманах был уже готов, причем оказалось, что на создание его потребовалось каждому из участников не более 2 часов» [Лже-футуристы 1914].
Следует предположить, что саратовские поэты вдохновлялись в работе над своими «футуристическими» сочинениями не только и даже не столько высказанными Корнеем Чуковским критическими замечаниями (воспринятыми, судя по вышеприведенной и другим публикациям саратовской печати, не вполне адекватно), сколько многочисленными и разнообразными примерами футуристической поэзии, собранными и прокомментированными Чуковским. Это дает основания связать появившиеся в саратовском альманахе моностихи Чернакоты (под этим псевдонимом, раскрытым, как и другие псевдонимы альманаха, С.Д. Соколовым [Соколов 1924, 63], выступал Александр Галкин[245]) с однострочными «поэмами» Гнедова: шестая, седьмая и восьмая части «Смерти искусству!» были воспроизведены Чуковским [Чуковский 1969a, 242].
В моностихах Чернакоты-Галкина наиболее интересен основной текст «Скороколочки», построенный на гиперболизации характерного (больше для эгофутуристов) приема словосложения: соединены шесть основ (плюс суффикс -ик-, не являющийся продуктивным в современном русском языке, – нарушение морфологической нормы также характерно для футуристических словообразовательных экспериментов). Такое нагромождение корней (а значит, и смыслов) вызывает вопрос о пределах подобного экстенсивного семантического обогащения слова: не переходит ли количество в качество, не становится ли слово высказыванием[246]. И, кажется, не будет слишком смелым предположение, что именно моностихи из саратовской мистификации навели на размышления в этом направлении Василия Каменского (1884–1961), включившего два моностиха в свой сборник «Девушки босиком» (1917)[247]. Во всяком случае, Каменский, внимательно следивший за провинциальными рецепциями футуризма, был знаком с текстами саратовского альманаха, о чем говорил, в частности, в интервью «Саратовскому вестнику», приуроченном к предстоявшим гастролям московских футуристов в этом городе[248].
Каменский, разумеется, идет существенно дальше Галкина: в обоих его текстах несколько слов сцеплены общими инициалями и финалями в одно псевдослово (слегка напоминающее слово-предложение в инкорпорирующих языках)[249]:
Золоторозсыпьювиночь
Золоторозсыпьювиночь[250]Рекачкачайка
РекачкачайкаБлагодаря использованию невозможного в русском языке способа взаимодействия между словами Каменский со всей остротой ставит лишь намеченный у Галкина вопрос о границе между словом и предложением (высказыванием)[251]. С другой стороны, в творчестве Каменского такой способ обращения с языковым материалом органично вытекает из введенного ранее «встречного» приема: вычленения из состава слова других полноценных слов и морфем – на этом построены, в частности, некоторые фрагменты «Константинополя», первой из «Железобетонных поэм» (1914)[252]:
чьи лики ослики рыбачьи яликии, еще решительнее:
фес ки ко фе скиСледуя в этом отношении за Павлом Кокориным, Каменский рассматривает акцентирование вертикального ряда и акцентирование горизонтального начала стиха как смежные практики со сходным художественным эффектом – и вполне естественно, что если первое связывается у Каменского с разложением слова, то второе должно приводить к спаиванию слов в единое целое. При этом готовность Каменского обращаться к обоим методам могла бы предостерегать исследователей от попыток обнаружить именно в горизонтальной спайке эмблему его художественного видения – в том роде, что «слова в произведениях поэта сливаются друг с другом, создавая впечатление невесомости и текучести. Контуры поэтического мира становятся размытыми, подобно миражу» etc. [Колачковска 2006, 23] – трудно увидеть нечто миражное в лаконичном образе качающейся на речной волне чайки, поддержанном монотонностью ритмического жеста (сердцевиной строки выступает сдвоенная группа звуков – качкач–, которую можно прочесть и как глагольное междометие)[253]. Кроме того, вслед за Гнедовым и Галкиным Каменский озаглавливает свои моностихи, предельно радикализируя этот художественный жест: если в моностихах Чернакоты-Галкина название и основной текст (и, кстати сказать, подпись-псевдоним) обнаруживали определенную степень подобия (в каждой позиции – одно псевдослово, явно образованное за счет сложения, пусть даже и не всегда понятно, что с чем складывалось), то у Каменского название полностью тождественно основному тексту (см. подробнее стр. 329–330).
Другая тенденция в развитии русского моностиха берет свое начало от опубликованной в 1916 году одинокой строки Самуила Вермеля (1889–1972):
И кожей одной и то ты единственна [Вермель 1916, 14]На фоне линии Гнедов – Чернакота-Галкин – Каменский становится очевидной неправомерность оценки М.Л. Гаспарова, заметившего, что «Вермель хотел дать футуристический аналог стихотворению Брюсова» [Гаспаров 2001, 20][254], – даже если не говорить о том, что в целом Вермель, будучи близок к футуризму организационно (прежде всего, как издатель) [Крусанов 2010, I:2:519–520], в собственном творчестве особых футуристических устремлений не проявлял.
Как и Гнедов, Вермель явным образом отталкивается от Брюсова: риторически в обоих случаях перед нами обращение, гадательный у Брюсова эротизм Вермелем заявляется открыто, и даже брюсовской своего рода синекдохе, так возмутившей некогда Розанова, – от всего (женского) тела одни ноги, – Вермель придает вид законного лирического высказывания. Но если Гнедов двинулся от Брюсова в сторону максимальной смысловой и эстетической радикализации, то Вермель совершает шаг, в сущности, куда более революционный: он превращает моностих из самоцельного эстетического жеста в экзотическую, но закономерную форму поэтического выражения. С этим связана и изощренная звуковая и ритмическая организация текста: два полустишия связаны как анафорой (фонетической: и – о // и – о), так и эпифорой (этимологическая фигура в смысле Якобсона: «одной» – «единственна»), – однострочность, с точки зрения Вермеля, не создает самодостаточного художественного эффекта. Наконец, «полноправность» версификационного статуса моностиха Вермель подчеркивает тем, что включает его наряду с многострочными текстами в состав цикла «Tristia». Однако эта тихая революция на фоне длившегося уже несколько лет неутихающе скандального шествия русского футуризма осталась вполне незамеченной[255].
В том же году, что и сборник «Московские мастера» с текстом Вермеля, выходит второй выпуск альманаха «Гюлистан» с тремя моностихами Всеволода Шманкевича (1892–1933?). Стремление к утонченно-парадоксальной образности роднит Шманкевича с Вермелем (два поэта принадлежали примерно к одному кругу [Крусанов 2010, I:2:706]) и в какой-то мере напоминает раннего Брюсова:
Свети же ночью бледной грушей, моя бесплодная душа.Любопытно, между тем, что все три текста Шманкевича относятся к сверхдлинным размерам: восьмистопный ямб, шестистопный дактиль и восьмистопный дольник нисходящий, – причем в приведенном выше случае с цезурным наращением, а во втором, напротив, с усечением:
Камни? – Они увядают. Листья? – Завянут оне.Во всех трех случаях цезура приходится на самый сильный из словоразделов ([Гаспаров, Скулачёва 2004, 29–33; ср. Шапир 2000a, 163–166]), что усугубляется еще и параллелизмом полустиший: синтаксическим в последнем тексте, фонетическим – в предыдущем. В принципе сверхдлинный размер с явственным членением на полустишия не был такой уж редкостью после многолетней работы Брюсова и Бальмонта, но для моностиха это был прием неожиданный и рискованный. Его художественная оправданность небесспорна; стоит, однако, отметить, что здесь возможность (если не предпочтительность) иного графического (а значит, и ритмического) решения акцентирует избранную однострочную форму. Видно, например, что при двустрочной записи последнего текста гораздо ярче проступили бы, превратившись в вертикальные ([Гаспаров, Скулачёва 2004, 24–26]), антитеза «камни – листья» и «смысловая рифма» «они увядают – завянут оне». Тем самым у Шманкевича, как и у Павла Кокорина, однострочность принимает вид отказа от напрашивающегося графического решения, становится своеобразным минус-приемом[256].
1916 годом датирована опубликованная в 1925 г. небольшая книга стихов Стефана Окушко (1891–1948) «Орбита сердца: Двенадцать сказок на кружевном циферблате судьбы». Три текста в ней однострочны:
Сказка пяти слов…
Я видел тебя во сне…Самая короткая и самая длинная сказка…
Приди… я тоскую…Сказка в розовом конверте…
… а ты… [Окушко 1925, 23, 25, 29]Книга в целом производит впечатление дилетантской (имя автора, впрочем, позже находим среди членов бюро секции драматургов СП СССР – РГАЛИ, ф.631 СП СССР, оп.2, ед.147, лл.31–33)[257], и трудно не согласиться с критиком, саркастически заметившим о текстах Окушко, что это «сказки для детей застывшего возраста» [Якерин 1926]. Характерно, что именно в такой книге мы встречаем понимание однострочности стихотворного текста как некоторого самодостаточного эффекта, способного придать поэтическое качество нарочитой банальности; кажется, что для замечания С.В. Сигея о «влиянии Гнедова» в обращении этого автора к моностиху [Гнедов 2003, 7] оснований нет.
Можно предположить, что в последние предреволюционные и первые пореволюционные годы к моностиху обращались и другие молодые, неизвестные, провинциальные поэты, до которых весть о возможности подобных художественных жестов дошла с некоторым запозданием. Характерный в этом смысле эпизод находим в «Сентиментальном романе» Веры Пановой – книге 1958 года, описывающей юность автора в Ростове-на-Дону 1920 года (роман художественный, а не документальный, однако, по словам самой Пановой, «в нем много автобиографического, непосредственно пережитого ‹…›. Я могу точно указать реальные прототипы почти всех основных героев» [Панова 1987, 597][258]):
Появился Аскольд Свешников, весь в белом, лицо напудрено, ненормально блестели подведенные глаза; губы накрашены были сердечком. Он сказал высокомерно-сонно:
– Пирамиды. Поэма. Рыжий еги́птянин смотрит на спящего львенка.
Сказал, прошагал к двери длинными ногами в белых штанах и ушел – совсем ушел из комнаты. Севастьянов подумал, что он застеснялся и не хочет читать дальше, но оказалось – это вся поэма и есть. Аудитория зааплодировала. Один голос крикнул: “Хулиганство!” К столику выскочил Мишка Гордиенко – он был тогда легкий и тонкий, в студенческой тужурке, худые руки торчали из обтрепанных рукавов, – и закричал:
– В чем дело! Почему хулиганство! Брюсов написал: “О, закрой свои бледные ноги” – и не нашел нужным прибавить ни слова! Аскольд Свешников тоже не считает нужным разжижать свою поэму! Это его право! Не нравится – читайте Северянина! [Панова 1987, 333]
Несмотря на защитную реплику второго персонажа, молодой поэт из романа Пановой, конечно, интерпретирует моностих как протестную форму, сам явно также апеллируя к Брюсову – впрочем, скорее к Брюсову – переводчику Авсония: как в тематическом аспекте (Древний Египет заступает здесь место Древнего Рима как попытка молодого поэта зайти дальше мэтра на его собственной территории), так и ритмически (как отмечал М.Л. Гаспаров по поводу пятистопного дактиля, «правильные белые дактили совершенно явно ощущаются как близкое подобие гексаметра» [Гаспаров 1999, 222]).
Напротив, воплощенному впервые Вермелем пониманию моностиха как «нормальной» формы поэтического высказывания следует Константин Бальмонт (1867–1942), опубликовавший два моностиха в своем сборнике 1920 г. «Перстень» [Бальмонт 1920, 12], – как и Вермель, включая их в цикл («Паутинки») наряду с многострочными текстами[259]:
Всевыразительность есть ключ миров и тайн. Любовь огонь, и кровь огонь, и жизнь огонь, мы огненны.– здесь и характерный для Бальмонта сверхдлинный метр[260], и свойственная ему сентенциозность, и типично бальмонтовское отадъективное существительное, и идущий от классического сборника «Будем как солнце» мотив отождествления человека со стихией, и другие хорошо знакомые черты авторской поэтики.
Не менее «нормален» (в рамках творчества данного автора) написанный фонетической заумью моностих почти не публиковавшегося при жизни представителя младшего поколения футуристов Юрия Марра (1893–1935), датируемый впервые опубликовавшей его Т.Л. Никольской промежутком 1919–1921 гг.:
Кугых кугых брак бзы бу [Марр 1995, 54]– весьма выразительная[261] инструментовка этой строки не стоит в творчестве Марра особняком, явно апеллируя, как отметил Л.Ф. Кацис [Кацис 1998, 102], к материалу автобиографической повести «Авантюры графа Кугыкова, им самим изложенные», над которой Марр работал в это же время [Никольская 2002, 82] (добавим, что, помимо фамилии протагониста, действие повести происходит в городе Быбрей). Кацис, кроме того, полагает, что в этом тексте «“граф Кугыков” – он же Юрий Марр обещает “соавторам” “бзы пызы” Илье Зданевичу и Игорю Терентьеву “брак” с “бзы бу”, своеобразно включаясь в обсуждение проблемы терентьевского “Трактата о сплошном неприличии”», – прочерчивая тем самым интертекстуальную связь моностиха с известным манифестом Терентьева, в котором заимствованный из пьесы Зданевича «Остраф Пасхи» [Зданевич 2008, 559, 563] звуковой комплекс «бзы пызы», как показано самим Кацисом [Кацис 2000, 150–151] и вслед за ним Н.А. Богомоловым [Богомолов 2004, 140], связывает тему поэзии с темой женской телесности вообще и женского полового органа в частности (в том числе и через переворачивание графемы «б», дающее в использованном у Терентьева шрифте графему «д» и, следовательно, анаграмму его обсценного названия). Следует заметить, что в контексте фонетической зауми опознание звукового комплекса «брак» в качестве полнозначного слова и тем более выстраивание предикативной конструкции с его участием весьма проблематичны (ср. замечание М.И. Лекомцевой о том, что «слова естественного языка, попадая в тексты без определенной семантики, оказываются комплексами без фиксированного значения» [Лекомцева 2007, 290]) – однако апелляция к женскому телесному началу в моностихе Марра, вероятнее всего, присутствует: как лингвист-кавказовед он должен был знать о том, что слово «бзы» имеется как знаменательное в ряде кавказских языков – и, в частности, в кабардинском, адыгейском и убыхском означает «самка» [Балкаров 1979, 53]. А если учесть, что Марр изучал и эскимосский язык [Никольская 1989, 184], в котором имеется слово «кугых» (или «кугык»: последний согласный увулярный) со значением «(старший) брат» [Рубцова 1971, 220; Бурыкин 2005], то моностих Марра предстает великолепной иллюстрацией к многократно обсуждавшемуся тезису о зауми как иностранном языке sui generis и иностранном языке как зауми sui generis [Чуковский 1969a, 245–246; Арватов 1923, 83–84; Гаспаров 1997b, 202].
«Сворачивание» модернистского многоголосия в русской литературе 1920-х гг. не могло не наложить свой отпечаток на развитие моностиха, однако привело первоначально не к исчезновению новой формы из репертуара действующих авторов, а, скорее, к некоторому сужению диапазона возможностей. Следующие публикации моностихов относятся к рубежу 1920–30-х годов, а представленные в них тексты, хотя и написаны раньше, отражают уже новую культурно-эстетическую реальность.
1921 годом датирован опубликованный десятилетие спустя ([Сельвинский 1931, 42]) моностих Ильи Сельвинского (1899–1968):
Афоризм караимского философа Бабакай-Суддука
«Лучше недо, чем пере».Вряд ли многим позже написан и моностих Давида Бурлюка (1882–1967), напечатанный в 1930 году в его нью-йоркском сборнике «Энтелехизм» [Бурлюк 1930, 19] в составе цикла «Два изре» (включающего две миниатюры):
Большая честь родиться бедняком.В том же году в книге Сергея Нельдихена (1891–1942) «Он пришел и сказал» появился моностих
Не огрызаешься – никем не уважаешься.– в составе подборки из восьми миниатюр[262] с общей датировкой 1920–1921 годами[263] [Нельдихен 1930a, 26].
Все три текста – чего мы не видели в русском моностихе до этого – недвусмысленно апеллируют к смежному жанру малой прозы, афоризму[264]. У Бурлюка привязка к жанру обозначена авторским названием цикла (неологизм «изре» – «полуслово» по Д.А. Суховей [Суховей 2008] – однозначно опознаётся как усеченное «изречение»), у Сельвинского жанровое определение прямо содержится в названии; публикация Нельдихена не озаглавлена, но представляет собой, согласно реконструкции М.А. Амелина, осколок другой, не состоявшейся книги (которая должна была целиком складываться из подобных миниатюр) – второй ее осколок в вышедшем одновременно еще одном сборнике Нельдихена озаглавлен «Литературные фразы» [Нельдихен 1930b, 17–18], а в переписке современников поэта этот неосуществленный издательский проект фигурирует как «афоризмы “Пальцем в грудь” Нельдихена» [Нельдихен 2013, 366–367]. Но даже и без дополнительной жанровой атрибуции через заглавие, выступающее в таких случаях как «своего рода заявление о литературном намерении» [Hollander 1975, 214], – модальность общезначимой моральной максимы, сформулированной через парадокс, способна говорить сама за себя. У Сельвинского, правда, присутствует осложняющий жест атрибуции собственно текста моностиха иному говорящему субъекту (впоследствии не раз встречающийся у разных авторов)[265] – «караимский философ Бабакай-Суддук» со своими изречениями присутствует в еще нескольких стихотворениях этого же периода. В то же время стихотворность текстов во всех трех случаях также выражена эксплицитным образом: Бурлюк обращается к демонстративно традиционному пятистопному ямбу, экзотический трехстопный пеон IV у Нельдихена, усугубленный внутренней рифмой, возникает на фоне декларируемого автором, идеологом и пропагандистом свободного стиха, «протеста против подчеркнутой ритмизации», ритмическая организация моностиха Сельвинского также бросается в глаза (см., впрочем, прим. 24 на стр. 22).
Оказывается, однако, что для Сергея Нельдихена это последнее обстоятельство не являлось решающим[266]. М.А. Амелин впервые опубликовал в 2013 году еще 10 однострочных текстов Нельдихена, из которых по меньшей мере 9, датированные 1924–1928 гг., предназначались автором для публикации (в составе подготовленного в 1933 году сборника стихотворений «Гражданское мужество» – выход которого в это время, безусловно, уже не был возможен). При сохранении явной апелляции к жанру афоризма в этих текстах преобладают тонкие, отнюдь не «подчеркнутые» ритмические решения:
Разреши мне, Справедливость, немного поподличать! [Нельдихен 2013, 205]– с переломом от четырехдольного ритма к трехдольному на переломе лирического сюжета;
Человек – это звучит почти как – чиновник. [Нельдихен 2013, 207]– со сквозной аллитерацией на «ч» и первым в истории формы (см. стр. 270–277) построением текста как трансформа популярной цитаты (усечение с наращением по Г.Е. Крейдлину [Крейдлин 1989, 199–200]), так что ритмически значимым оказывается значительное превышение подставленным оборотом «… почти как чиновник» исходного «… гордо» (контрастного и по звуковому составу) в реплике персонажа Максима Горького;
Государственные преступники всех стран, соединяйтесь! [Нельдихен 2013, 212]– также трансформ с более сильной, сравнительно с исходным текстом, аллитерационной связью, компенсирующей распад метрической структуры (лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был отрефлексирован как трехстопный пеон III еще Николаем Минским, сделавшим его в 1905 году первой строкой стихотворения «Гимн рабочих»). В некоторых других однострочных текстах Нельдихена ритмический фактор оказывается менее заметен:
Не всякий научный сотрудник – наученный сотрудник. [Нельдихен 2013, 206]– однако и здесь сформированная контекстом поэтической книги (с заметно большей, чем в предыдущих книгах Нельдихена, долей метрических и рифмованных текстов) установка на обнаружение стихотворной природы однострочного текста заставляет увидеть слом трехдольной метрической инерции при переходе от субъекта к предикату.
Почти все моностихи Нельдихена так или иначе относятся к социально-политической предметно-тематической сфере, и это тоже новшество в истории формы. Но и исключения довольно красноречивы – достаточно сравнить недвусмысленный эротизм текста
Женщина должна уметь недомыться. [Нельдихен 2013, 190]– с первым однозначно эротическим моностихом Самуила Вермеля: заметное упрощение структуры (вместо изысканного вермелевского параллелизма – типичное для моностихов Нельдихена противоположение двух частей, в данном случае выраженное контрастом фоники) соответствует и огрублению, физиологизации выражаемого переживания. Это тоже свидетельство смены эпох: «Советская эпоха решительно переменила условия бытования поэзии… “Понятность массам” ‹…› стала важнейшим критерием оценки поэтической формы. Простота, привычность, свобода от сложных историко-культурных ассоциаций воспринимаются как большое достоинство, отступления от этих качеств осуждаются как формализм. ‹…› Чем смелее были эксперименты, тем глубже оставались эти экспериментальные стихи в подполье», – отмечал М.Л. Гаспаров [Гаспаров 2000, 268], но и на экспериментальных стихах, обреченных оставаться в подполье, новый социокультурный контекст не мог не сказаться.
Репутация же экспериментов предыдущей эпохи, изначально двусмысленная, в этот период упрочивалась в совершенно однозначном ключе. В 1927 г. увидела свет первая, журнальная редакция романа Сергея Сергеева-Ценского «Обреченные на гибель», в 1929 г. роман вышел отдельным изданием (впрочем, работу над романом Сергеев-Ценский начал еще в 1923-м). «Обречены на гибель», согласно этому сочинению, были разномастные представители дореволюционной интеллигенции, не осознавшие исторической правоты рабочего класса и выражающей его чаяния партии большевиков: образы этих представителей, для пущей убедительности, были сведены писателем в галерею пациентов своеобразного приватного приюта для душевнобольных – нарисованную, впрочем, местами не без симпатии. Среди этих пациентов и сочиняющий стихи студент с говорящей фамилией Хаджи, подчеркивающей и его чуждость русскому национальному духу, и фанатичную преданность персонажа собственной «вере»: Хаджи сочиняет авангардные стихи.
– Го-спо-да! – вдруг перебил его студент, томно, но очень решительно. – Разрешите прочесть вам мою последнюю поэму в тринадцати песнях!..
‹…› Точно с трудом решившись читать, начал он задушевно и негромко, почти шепотом:
Поэма конца
Песнь первая. Стонга. Полынчается – Пепелье. Душу. Песнь вторая. Козло. Бубчиги – Козловая – Сиреня… Скрымь солнца. Песнь третья. Свирельга. Разломчено – Просторечевье… – Мхи – Звукопас. Песнь четвертая. Кобель горь. Загумло – Свирельжит. Распростите.– Какой кобель? – серьезно спросил Синеоков.
– Кобель горь! – отчетливо повторил студент и тут же, точно боясь, чтобы не перебили совершенно, зачитал стремительней и певучей:
Песнь пятая. Безвестя. Пойми – поими – возьмите Душу. Песнь шестая. Рабкот. Сом! – а – ви-ка. Сомка! – а-виль-до. Песнь седьмая. Смольга. Кудрени. Вышлая мораль. Песнь восьмая. Грохлит. Серебрей нить. Коромысля. Брови. Песнь девятая. Бубая гора. Буба. Буба. Буба.– Буба, буба, буба! – повторила Эмма и поглядела изумленно на Ваню, а Хаджи продолжал певуче:
Песнь десятая. Вот! Убезкраю. Песнь одиннадцатая. Поют. У-у-у… Песнь двенадцатая. Вчерает. Ю. Песнь тринадцатая, песнь конца.Тут студент плавно провел рукою вправо, потом так же плавно влево, потом сделал рукою тщательный кружок в воздухе и сел на свой стул.
‹…› студент, не изменяя лица, как маг, сделал рукою вправо, влево и объяснил:
– Вы заметили, конечно, – последнюю песнь, – «Песнь конца», – я оголосил одним ритмодвижением… Это – поэма ничего, – нуль, – как и изображается графически: нуль! [Сергеев-Ценский 1927, 71–72; Сергеев-Ценский 1929, 91–93]
Студент Хаджи, таким образом, по воле писателя сочинил «Смерть искусству!» Василиска Гнедова – с измененным общим названием, модифицированными в связи с этим надзаголовками («песнь» вместо «поэма») и свернутыми в одну Песнь двенадцатую Поэмами 12–14 (вероятно, функциональный смысл вторгающегося в заумный текст фрагмента бытовой речи в Поэме 12 – см. стр. 142–143 – остался для Сергеева-Ценского совсем уж недоступен), а также с рядом мелких разночтений, которые можно считать опечатками[267]. То, что Сергеев-Ценский позволяет себе такое безымянное цитирование, наводящее на мысль о плагиате (поскольку средний читатель романа вряд ли мог бы опознать происхождение приводимых стихов), само по себе показательно. Но на рубеже 1920–30-х гг. о событиях 1913 года еще помнили и другие литераторы – и критическая реакция на демарш Сергеева-Ценского показательна вдвойне: «Мы знаем, что был и в самом деле такой поэт Василиск Гнедов, исполнявший в богемном кабачке “Бродячая собака” свою поэму (курсив автора, – Д.К.) – “Поэму конца”. Оригинальность поэмы заключалась в том, что она была совсем без слов и ограничивалась одним ритмодвижением. Но в жизни Гнедов был куда смешнее и саморазоблачительней, чем поэт Хаджи у Ценского» [Ефремин 1932, 211][268].
Между тем прямым продолжением линии, намеченной тремя авторами 1920-х гг., – в том числе и за счет апеллирующего к прозаическому жанру названия – стал моностих Александра Гатова (1899–1972), увидевший свет в 1939 г. [Гатов 1939, 45]:
Повесть[269]
Он в зеркало смотрел, как в уголовный кодекс.Этот откровенно публицистический текст в формальном аспекте особенно сближается с текстом Бурлюка нечастым пока в моностихе ямбом – впрочем, шестистопный ямб Гатова представляет собой, собственно, александрийский стих, мотивированный французским контекстом: «Повесть» напечатана в составе публикации, озаглавленной «Из цикла “Париж”». Гатов с юных лет был увлечен французской поэтической традицией (первоначально в лице Верлена и Верхарна) [Гатова 1974, 2], в 1926–1928 гг. жил во Франции, а по возвращении в СССР занимался в значительной мере переводом и изучением французской поэзии (преимущественно, правда, в лице Эжена Потье), так что вполне возможно, что на его обращение к форме моностиха повлияло знакомство с французскими прецедентами, от Гийома Аполлинера до вызвавших определенный резонанс во Франции второй половины 1930-х гг. моностихов Эмманюэля Лошака[270]. Моностих Сельвинского, надо полагать, также находился в поле его зрения (учитывая многолетнюю дружбу двух поэтов), да и память Гатова о моностихе Брюсова вполне вероятна[271]. При всем том в моностихе Гатова обращает на себя внимание отсутствие, помимо метрической определенности, других заметных специфически стиховых приемов – ритмических, фонических и т. п.: очередной шаг в направлении отмеченного М.Л. Гаспаровым обеднения стихотворного инструментария подцензурной русской поэзии. Ирония, как и у Сельвинского, возникает здесь и благодаря одному ключевому приему в самом тексте (у Сельвинского это субстантивация префиксов, у Гатова – неожиданное сравнение), и благодаря взаимодействию текста и названия (особенно в силу столкновения малой поэтической формы с названием крупной прозаической формы – решение, не оставшееся без последствий в дальнейшей традиции: см. стр. 330–331). Стоит сказать и о том, что текст Гатова – первый моностих русской традиции, в котором действительно можно усмотреть близость к античным образцам – а именно, к эпиграмме в ее римском, марциаловском понимании, хотя о непосредственной и сознательной ориентации на этот образец ничто не свидетельствует.
Стихотворение Гатова представляет отдельный интерес в связи с беспрецедентным резонансом, который оно вызвало. Конечно, по числу откликов Гатов не может соперничать с Брюсовым; но зато о правительственном гневе по поводу своего моностиха юный Брюсов мог только мечтать[272]. Текст Гатова был удостоен отдельного абзаца в разносной редакционной статье «О некоторых литературно-художественных журналах», появившейся в журнале «Большевик» (№ 17 за 1939 г.) и подвергшей разгрому, среди прочих, опубликовавший Гатова «Октябрь»: «Трудно сказать, то ли автор этого однострочного “произведения” учинил сознательную издевку над редакцией и читателями, то ли он страдает манией величия».
Официальную позицию по вопросу о моностихе Гатова развил в журнале «Знамя» молодой критик Даниил Данин[273], обрушивший на «это одно из самых коротких в русской поэзии стихотворений» добрых две страницы праведного гнева: «Трудно назвать эту претенциозную строку философско-лирическим стихотворением, но зато вряд ли можно найти более наглядный пример ложной многозначительности и бессодержательного глубокомыслия» и т. д. Уделив затем несколько абзацев разъяснению того, что «проблема человеческой совести» – это очень актуальная проблема, тесно связанная с «вопросами бдительности и чуткости, борьбы с предателями и врагами», Данин патетически резюмирует: эта проблема Гатова «нисколько не интересует, его задача и цель вовсе не в том, чтобы, глубоко вникнув в процессы, совершающиеся в человеческом сознании сегодня, попытаться выяснить и показать читателю смысл этих процессов… Нет. С него достаточно произнести пустую фразу. А потом торжествующе ‹…› думать: “а вы можете в одной строке рассказать целую человеческую жизнь?!” Презрение к читателю, манерность декадента, глубокомыслие пустой ореховой скорлупы – вот все, что заключено в этом одностишии» [Данин 1939, 318–319]. Несложно увидеть, что критик читал Гатова не слишком вдумчиво: во всяком случае, общее название публикации («Из цикла “Париж”»), помещающее персонажа стихотворения в другую страну, далекую от «вопросов бдительности», от его внимания ускользнуло. Но это для Данина, собственно, так же несущественно, как для авторов статьи в «Большевике»: основанием для гневного осуждения становится сам факт однострочности, сама попытка в единственной строке исчерпать некоторое поэтическое высказывание. В этом смысле критики Гатова, по сути, возвращались почти на полвека назад, к культурной ситуации, в которой появился моностих Брюсова, игнорируя движение Серебряного века к нормализации однострочной формы в качестве правомерного художественного приема.
Неудивительно, что настолько недвусмысленная позиция власти надолго (больше чем на два десятилетия) закрыла возможности публикации моностихов в СССР, – однако ошибочно было бы полагать, что они перестали создаваться. На рубеже 1930–40-х гг., когда, как отмечает И.В. Кукулин, «в среде молодых литераторов, вошедших в литературу после некоторого ослабления Большого Террора или пересмотревших в предвоенные годы основания своего творчества», в качестве одной из возможных парадигм творчества наметились «попытки выработать стилистику, на новом уровне продолжающую авангардные эксперименты времен “серебряного века”» [Кукулин 2012, 122–123], к однострочной форме – правда, без всякого расчета на публикацию – обращаются два автора.
Василий Кубанёв (1921–1942), почти всю свою недолгую жизнь проведший в городе Острогожске Воронежской области, был впоследствии причислен критикой к последнему поколению «комсомольских поэтов», в большинстве погибших на Великой Отечественной войне (Кубанёв, впрочем, на фронт не попал и умер в тылу от тяжелой болезни). Развиваясь, однако, совершенно самостоятельно, он с середины 1939 г. выказывает в своем творчестве обостренный интерес к футуристическому наследию до-ЛЕФовского периода (прежде всего, к Хлебникову). В рамках этого интереса Кубанёв обращается к моностиху, сочиняя с августа по ноябрь 1939 г. восемь текстов в этой форме (соблазнительно было бы предположить, что это обращение мотивировано знакомством с текстом Гатова, поскольку сдвоенный майско-июньский выпуск журнала вполне мог дойти до жившего в провинции Кубанёва с опозданием в пару месяцев, – однако никаких свидетельств этому нет, и прямой зависимости текстов Кубанёва от моностиха Гатова усмотреть невозможно). Пять из них были впервые опубликованы С.Е. Бирюковым, подготовившим первое отдельное издание текстов Кубанёва [Кубанёв 1981], и затем несколько раз им перепечатывались. Остальные три остались неопубликованными и находятся в архиве поэта, хранящемся в Тамбове у его сестры М.М. Калашниковой.
При этом пять опубликованных моностихов Кубанёва и примыкающий к ним шестой, не прошедший в печать в позднесоветскую эпоху ввиду идейно-политических причин[274], строятся по единой схеме: название задает предмет высказывания, а текст в эффектной афористической форме его определяет; примыкание к афористической традиции Кубанёв в полной мере осознаёт, строя один из текстов как парафраз знаменитого афоризма Юлия Цезаря:
Полководец
Привёл, обидел, победил.– однако ритмическая составляющая текста оказывается для него решающей, и миниатюры этого рода заносятся Кубанёвым именно в поэтическую тетрадь. Весьма характерно в этом аспекте, что в одном из текстов Кубанёв в рукописи проставил ударение:
Музыка
Пауза, заглшенная паузой.– в таком виде текст легко опознается как пятистопный хорей. Кубанёв видит одинаково необходимыми свойствами моностиха-афоризма как оригинальность мысли, так и акцентированность того или иного поэтического приема, будь то синтаксический параллелизм в «Полководце», аллитерация в «Музыке» или полиптотон в еще одном тексте:
Диалектика
Себя собою от себя к себе[275]Два последних моностиха Кубанёва, датированные 23 ноября 1939 г., резко отличаются от остальных: они не озаглавлены и особенно сильно тяготеют к идущей от Бальмонта к раннему футуризму фокусировке на мотивированных аллитерацией семантических сдвигах[276]:
Зияют зеркала. Вода задабривает уторы.Оба текста достаточно герметичные, во втором даже само значение слова «уторы» гадательно[277]. Можно было бы сказать, что в своем подходе к моностиху Кубанёв смещается здесь от линии Сельвинского – Гатова (и заведомо неизвестного ему Бурлюка), которую он освобождает от иронического акцента, к линии Гнедова – Вермеля; это ощущение усиливается неметрической ритмикой второго текста. Однако на исходе 1939 г. движение Кубанёва к более сложным и преимущественно лирическим стихам по неизвестным причинам пресекается, и он возвращается к гражданской поэзии, полностью лежащей в русле традиции позднего Маяковского[278].
К тому же 1939 г. восходит и единственный моностих Николая Глазкова (1919–1979):
О футболистах
Бегут они без друга, без жены…Метрика (пятистопный ямб) и построение образа на ироническом сдвиге (в самом деле, почему кто-либо иной, в отличие от футболистов, должен бежать с другом и женой? между тем семантика лишенности, убытка в сочетании с элегической инверсией программирует в читателе эмоцию жалости, которая тут же подвергается ироническому переосмыслению как ничем не оправданная) сближают текст Глазкова с текстами Бурлюка и Гатова, характер же взаимодействия текста и названия – с озаглавленными текстами Кубанёва, впервые применившего в моностихе построение, при котором текст принципиально неполон и только название восстанавливает референциальную полноту (у Глазкова эта конструкция дана в наиболее эксплицитной форме: в тексте присутствует местоимение-анафор, отнесенное к заданному в заглавии антецеденту); излишне говорить, что Глазков не мог быть знаком с текстами Бурлюка и Кубанёва, да и непосредственное влияние моностиха Гатова представляется маловероятным исходя из истории создания текста. По устному свидетельству сына поэта Н.Н. Глазкова, собственно в 1939 г. Глазковым было написано многострочное стихотворение:
Про футбол
А вот младенца два Бегут, по лужам мчась. Всё в мире трын-трава, А шапка – это мяч: Им она на кой? Они ее ногой. Их головы обнажены, Навыкате безумные глаза. Бегут те юноши без друга, без жены… Но всё равно: да здравствует азарт. [Глазков 2007, 376]После нескольких промежуточных редакций (одна из которых под названием «Футбол осенний» вошла в самиздатский сборник Глазкова «Вокзал», изготовленный в 1940 г. Лилей Брик, и была проиллюстрирована художником Николаем Денисовским [Винокурова 2006, 203]) Глазков оставил от 10 строк только вариант предпоследнего стиха и слегка изменил название; Н.Н. Глазков относит эту итоговую редакцию к началу 1940-х гг. Впервые моностих Глазкова был опубликован только в избранном 1989 года [Глазков 1989, 429], хотя, по-видимому, был распространен в устном предании[279]. Любопытно, что – на фоне ряда других случаев появления моностиха путем отбраковывания остальных строк многострочного стихотворения – манипуляция, произведенная Глазковым, не извлекает из первоначального текста его квинтэссенцию, а травестирует заложенный в нем смысл: если в исходном стихотворении футбольная тема «перемещается из сферы целесообразности в сферу свободы» (особенно на фоне ее интерпретации как аллегории борьбы и войны, характерной для советской поэзии 1930-х) [Акмальдинова и др. 2015, 126], то итоговый моностих дальше смещает тему из сферы свободы в сферу абсурда, причем «азарт» остается за рамками текста – прерогативой юношей-непрофессионалов, пинающих шапку вместо мяча, – а уделом профессионалов (важно, что изначальное название, «Про футбол», изменено на «О футболистах») оказывается выключенность из социальных и логических связей. Этот эффект хорошо согласуется с общим эскапистским пафосом неподцензурной части поэзии Глазкова.
Завершая обзор русских моностихов первой половины XX века, следует особо остановиться на проблеме однострочных стихотворений Даниила Хармса (1905–1942). Характер этой проблемы, как нередко бывает с моностихами, текстологический: значительную часть своих произведений Хармс не готовил к публикации, и позднейшие исследователи получили возможность по-разному интерпретировать те или иные изолированные стихотворные строки, обнаруживаемые в его архиве. Чаще всего в качестве самостоятельного текста публикуется строка, датируемая 1928 годом:
плачь мясорубка вскачьЭта традиция восходит к первому собранию сочинений Хармса, подготовленному М.Б. Мейлахом и В.И. Эрлем и вышедшему в Бремене [Хармс 1977, 57]. Как пояснил нам в устном сообщении В.И. Эрль, хотя отдельных строк, не лишенных признаков стихотворности, в черновых записях довольно много, составители сочли завершенным моностихом только этот текст, поскольку он, во-первых, сохранил следы напряженной работы (Хармс искал наиболее выразительную в ритмическом отношении форму) и, во-вторых, записан характерным тщательным почерком, которым Хармс пользовался для фиксации итоговых вариантов своих сочинений.
Второй пользующийся известностью моностих Хармса –
За дам по задам задам.– судя по всему, в архиве поэта не был обнаружен вовсе. На его происхождение проливает свет фрагмент воспоминаний Н. Зегжды, опубликованный А.А. Александровым: «Его тетка была моей преподавательницей русской литературы… Так как я с ней была дружна и часто заходила, то знала, что ее беспокоит судьба племянника… Он поступил в мой класс, кажется, за год до окончания и окончил с нами школу. Он уже писал стихи и на вечере-встрече на след. году читал некоторые из них, напр. “Задам по задам за дам” и проч. в этом роде, к ужасу своей тети» [Александров 1991, 539]. Мемуаристка, собственно, не утверждает, что Хармс читал моностих: ее вполне можно понять и так, что именно эта строка начинала многострочный текст или попросту особенно ей запомнилась[280]. Проблема, однако, в том, что задолго до этой публикации В.Ф. Марков опубликовал в своей антологии одностроков другой (приведенный выше) вариант текста [Марков 1963, 258] без какой-либо ссылки на источник. Личный контакт Маркова в его доэмигрантский период с Хармсом или кем-то из его окружения маловероятен[281]; скорее приходится предположить, что строчку Хармса сообщил ему кто-либо из его корреспондентов начала 1960-х гг. (см. стр. 213–214) – других представителей второй эмиграции или жителей СССР[282]. Однако никому из хармсоведов так и не удалось прояснить ситуацию: показательно, что в 4-томное Полное собрание сочинений Хармса В.Н. Сажин специально ради этого текста вводит раздел «Приписываемое» [Хармс 2001, 218].
Далее, А.А. Кобринский и А.Б. Устинов в комментариях к изданию дневниковых записей Хармса [Хармс 1991, 153] квалифицируют как моностихи еще две строки Хармса:
наконец дева сядет на конец а нос ананас– не подкрепляя это текстологическое решение никакими аргументами. Эти две строки характерным образом подобны по структуре двум приведенным выше: в одном случае воспроизводится кольцевая композиция, в другом – сквозная паронимия, – и в этом смысле легко себе представить все четыре текста самостоятельными произведениями Хармса. В то же время один из двух последних текстов приводится в контексте всей дневниковой записи ([Хармс 1991, 75]):
Сентиментален логически. Откровенен. Есть самолюбие, но не такое, как кажется со стороны, не показное и тайное. Ни в чем будете новатором. Предполагал, что, по убеждению, все, пока коммунист большевик получил образование, м. б. и высшее, но как-то или не систематическое или наоборот.
а нос ананас– и видно, что интерпретация последней строки как самостоятельного произведения сама по себе не имеет серьезных преимуществ перед пониманием этой строки в увязке с предшествующим текстом, и без того движущимся от полной внятности к известному алогизму с распадом синтаксических связей. Однако и сама возможность выбора между этими двумя интерпретациями представляется сомнительной, поскольку идея самостоятельности текста (т. е. его начала и окончания в соответствии с некоторой усматриваемой в нем самом логикой) Хармсом на протяжении всего творчества в значительной степени проблематизируется[283]; вследствие этого можно считать ненадежным опознание того или иного текстового фрагмента у Хармса как законченного целого иначе как через обнаружение авторской воли, на чем, в сущности, и настаивает В.И. Эрль.
Что до второго гипотетического моностиха Хармса («наконец дева сядет на конец»), то без обращения к контексту хармсовской записи трудно утверждать что-либо однозначно, но, скорей всего, эта запись, как и многие другие в записных книжках Хармса, не подразумевает его авторства, а представляет собой цитату – в данном случае сжатую по сравнению с первоисточником из Александра Пушкина:
День блаженства настоящий Дева вкусит наконец. Час пробьет, и… Дева сядет…– в таком виде пушкинское шуточное стихотворение, впервые наряду с несколькими аналогичными опубликованное В.Я. Брюсовым в 1903 г., перепечатано им же в [Пушкин 1919, 291] с подстрочным пояснением: «Все рифмы этих шуток “тождественные”, т. е. написание слов совершенно одинаково, хотя смысл различен»[284]. Это четверостишие помещено также в [Кручёных 1924, 21] – на знакомство Хармса с этой книгой Кручёных указывает Ж. – Ф. Жаккар [Жаккар 1995, 21], но и непосредственное попадание в круг чтения Хармса фундаментального издания Пушкина более чем вероятно[285].
Наконец, еще три текста добавил к предположительному корпусу моностихов Хармса В.Н. Сажин, включивший в раздел «Дополнения» в заключительном томе 4-томного Полного собрания сочинений Хармса три однострочных текста, датированные 1930 годом:
Буквы складывать приятно Селó сéло Нука триста раз покой[286] [Хармс 2001, 165, 167]Сам Сажин напоминает: «хармсовская текстология является достаточно сложной ‹…› проблемой – за отсутствием для всего корпуса текстов Хармса ‹…› несомненных указаний на авторскую волю» [Сажин 1997, 334], – а «что касается незавершенного, то применительно к хармсовской текстологии это проблема едва ли решаемая с безусловной надежностью» [Сажин 1997, 335], – однако и он, как и Кобринский с Устиновым, никак не аргументирует предположение о самостоятельности этих текстов.
Так или иначе, моностих или моностихи Хармса (относящиеся ко второй половине 1920-х гг., к авангардистскому периоду его творчества по Ж. – Ф. Жаккару [Жаккар 1995, 9 и сл.]), продолжают авангардную линию развития формы, намеченную Брюсовым и Гнедовым[287], ведя ее, однако, в другую сторону, чем Чернакота-Галкин, Каменский и Марр, поскольку «для Хармса в зауми основой была не фонема, а слог; более того, из слоговой зауми вырастает заумь словесная» [Кобринский 1992, 20][288]; особенно характерны наиболее утвержденный исследователями моностих, приведенный у нас первым, и последний из трех моностихов по версии В.Н. Сажина:
плачь мясорубка вскачь Нука триста раз покой– в обоих случаях некорректная адресация императива (неодушевленному предмету, явно неспособному выполнять требуемое действие, или вообще неопределенно кому) не только основывает текст на «тех комбинационных возможностях и парадигматических “пробелах”, которые хотя и предполагаются системой языка, но никогда не становятся коммуникативной нормой» [Ханзен-Лёве 2001, 94], но и демонстрирует «экстатический и даже эйфорический» modus vivendi освобожденного языка [Казарина 2008, 89].
Две версии авангардной традиции составляют вместе с иронической традицией Сельвинского, Гатова и Глазкова и лирической традицией в диапазоне от эротико-психологической изощренности Вермеля до гражданско-философской сентенциозности Кубанёва тот основной набор пониманий художественного потенциала однострочной поэзии, который стал отправной точкой для экспансии моностиха в русской поэзии 1960–90-х гг.
Сопоставляя ранний период развития русского литературного моностиха в первой половине XX века с опытом ведущих западных поэзий, правомерно говорить о пионерской, хотя и не замеченной за пределами России, роли русских авторов. Моностих Брюсова был, судя по всему, первым в новейшей поэзии отдельно опубликованным однострочным текстом. Во всяком случае, идеологически близкие Брюсову французские поэты и теоретики Шарль Вильдрак и Жорж Дюамель в 1910 г., высказывая сходные с брюсовскими соображения об эстетическом потенциале единственной строки («Прекрасная александрийская строка, напр., рассмотренная в отдельности, могла бы удовлетворить кого угодно сама по себе» [Вильдрак, Дюамель 1997, 493]), явно не представляют себе этот изолированный стих как самостоятельное произведение – несмотря на то, что, как мы видели (стр. 114–118), столетием раньше рассмотрение в отдельности «прекрасных александрийских строк», в шутку и всерьез, во Франции уже имело место[289]. Первый известный французский моностих нового времени – знаменитый «Поющий» Гийома Аполлинера (1880–1918) – в октябре 1912 г. вписан автором в гранки сборника «Alcohols» [Decaudin 1993, 33], едва ли не в ответ на предположение Вильдрака и Дюамеля, – а ведь французская поэзия на рубеже веков занимала безусловно лидирующее положение в Европе в смысле формальных новаций. Прямо называет Аполлинера «отцом однострочного стихотворения в современной литературе» Э. Мога [Moga 2007, 48], а Р. Костеланец причисляет моностих к трем важнейшим инновациям Аполлинера и указывает, что он предвосхитил тем самым рождение поэтического минимализма [Kostelanetz 2001, 22]. Литература по поводу «Поющего» обширна, не в последнюю очередь благодаря общей энигматичности текста, по поводу которого Аполлинер, в отличие от Брюсова, никаких пояснений не оставил:
CHANTRE
Et l'unique cordeau des trompettes marines– в первом приближении смысл можно передать, сохраняя александрийский стих, строкой:
И одинокий звук единственной струны.«Trompette marine» (дословно «морская труба») – это монохорд, древний музыкальный инструмент с единственной струной[290]. Анаграмма «cordeau (струна) – cor d’eau (морской рог)» вызывает сближение «cor d’eau – trompette marine», приводящее к актуализации внутренней формы фразеологизма; отмечалась также возможность прочтения «cordeau – corps d’eau (дословно «тело воды», в значении «главнейшая часть воды»)» (например, [Hollander 1975, 225]). После многих подступов к интерпретации текста в целом – включая пространные свободные ассоциации А. Рувейра [Rouveyre 1955, 67–82], остроумный анализ Дж. Каллера [Culler 1975, 177] и разыскания М. Пупона и А. Фонгаро в направлении эзотерических и мистических трактовок (Поющий и струна как Бог и сотворенная им Вселенная; гипотеза основана на знакомстве Аполлинера с гравюрой эзотерика Роберта Фладда «Вселенский монохорд») [Poupon 1976; Fongaro 1988, 81–84] – трудно не согласиться с Т. Ароном, замечающим, что «Поющий» не сводится ни к какой-либо из этих интерпретаций, ни к их сумме [Aron 1984, 60–61][291]. Характерно, однако, что, как отмечает Ж. Жуэ, для своего моностиха Аполлинер обратился к александрийскому стиху, к которому в целом был равнодушен, предпочитая более свободные формы [Jouet 2004, 8–9] (а несколько цинически настроенный по отношению к Аполлинеру Р. Помье подробно рассуждает о том, что все изысканные нюансы «Поющего» могли возникнуть в качестве побочного эффекта при подгонке к заданной метрике словарного определения монохорда [Pommier 1975]).
Лавры первооткрывателя французского моностиха новейшего времени мог бы оспаривать у Аполлинера поэт-символист Жюль Лафорг (1860–1887), который более чем тридцатью годами раньше, 19 августа 1882 года, в письме к парижской поэтессе Сабине Мюльцер (она же Санда Маали), в обычном для этой переписки несколько ироническом тоне продолжительного флирта – желая, по словам позднейшего комментатора, «разыграть свою корреспондентку и поразить ее своей удалью» [Grojnowski 1988, 43], – заявил: «Я решил больше не сочинять стихотворений длиннее чем в одну строку. И вот несколько», – далее приводя четыре моностиха [Laforgue 1925, 191]:
I
Elle avait un coeur d’or, mais était un peu dinde.II
Les oeillets panachés qu’elle m’avait donnés… (bis)III
Mon coeur ouaté de nuit ne bat plus que d’une aile.IV
Dans la paix d’or des soirs, elle chantait des choses[292].Однако свидетельств того, что Лафорг собирался использовать эти тексты как-то иначе, чем для поддразнивания своей корреспондентки, нет: в прижизненные издания Лафорга они не вошли. Содержащее их письмо было вскоре после смерти автора опубликовано в брюссельском журнале «L’Art Moderne» [Laforgue 1888, 260] и осталось совершенно незамеченным: моностихи не включены ни в посмертное Полное собрание стихотворений (1894), по словам составителя Эдуара Дюжардена «настолько полное, насколько возможно» [Dujardin 1894, V], ни в трехтомное Полное собрание сочинений Лафорга (1900–1902), в третьем томе которого несколько других писем Лафорга к Мюльцер были напечатаны, – появившись только в 1921 году в томе неизданных писем Лафорга под редакцией Р.Л. Дуайона [Laforgue 1921], но зато попав на уже подготовленную почву: рецензент издания посвятил моностихам Лафорга восторженный абзац [Bidou 1921, 372][293], а молодой поэт Александр Виалат (1901–1971) вскоре уже сообщал в письме к своему старшему коллеге Анри Пурра: «Я сочиняю стихи в манере Лафорга, то есть из единственного стиха, по образцу Les oeillets panachés qu’elle m’avait donnés. Мои еще короче, на один слог: C’était un soir où le Mark était а 30[294]» [Viallate 2003, 105]. Исследователь творчества Лафорга Д. Грожновски, комментируя эти четыре моностиха, характерным образом замечает: «Как известно, Аполлинер вознес эту форму к вершинам совершенства своим “Поющим”» [Grojnowski 1988, 43].
По-видимому, Лафорг был не единственным желающим пошутить на тему однострочных стихотворений. Шарль Бод де Морслей рассказывает в мемуарном очерке о домашнем салоне поэтессы Нины де Вийяр (речь, следовательно, идет о рубеже 1860–70-х гг.), как случайно забредший буржуа обратился к Вилье де Лиль-Адану с вопросом о том, над чем писатель сейчас работает, – на что тот будто бы объявил: «Мсье, в это время года[295], не буду от вас скрывать, я не посвящаю все свое время поэзии. Я сочиняю стихотворения в одну строку», а в ответ на благоговейную просьбу поделиться одним «вдруг ощутил вдохновение, глаза его загорелись», и он продекламировал:
Духовные стихи
Троичность Господа столь индивидуальна!Poème Religieux
La Trinité de Dieu l'individualise! [Baude de Maurceley 1890, 58]– издевательский характер строки усилен длинным словом, полностью занявшим второе полустишие. Другой автор, Джордж Мур, описывая чуть более поздний период (он жил в Париже в 1873–1880 гг.) в слегка беллетризованных мемуарах «Исповедь молодого человека», рисует не менее эффектную картину Вилье де Лиль-Адана, рассыпающего однострочные экспромты: «Я помню, как однажды утром, незадолго перед тем, как на востоке сверкнула Венера, Вилье рассказывал компании, болтавшейся вслед за ним от одного кафе до другого, что он сочинил уже драму на сюжет о семействе Ченчи и, согласно своим поэтическим принципам, ужал всю историю до единственной строки. Откидывая назад шевелюру, он сказал: “Беатриче не удовольствовалась простым убиением своего отца и вдобавок сварила из него суп. Суп подали к столу, обнесли всех гостей на пышном пиру, устроенном в честь убийства. Вот в этой точке трагедии я и помещаю свой стих:
Там жира был глазок – то был глазок отца”». [Moore 1888, 58]Эта сцена, однако, появилась только в английском издании Мура, а из вышедшей годом позже французской версии его книги была исключена. На фоне подобных эпизодов вполне убедительно выглядит фигурирующая в некоторых источниках (например, [Raitt 1954, 235]) злая однострочная эпиграмма Вилье де Лиль-Адана на Франсуа Коппе:
Ах, дайте денег мне – ведь мать свою я чту!– верится, что она могла быть сымпровизирована публично и иметь отдельное хождение [Calmettes 1902, 180], однако автор все же предназначил ее для оставшегося в набросках памфлета в прозе [Villiers de L'Isle-Adam 1986, 998].
Иногда встречающиеся упоминания о еще более ранних французских моностихах сомнительны. У Э.М. Береговской приведен будто бы моностих Виктора Гюго (с пометой «неопубликованный стих»):
Le sourire du chien est dans sa queue. Улыбка собаки в ее хвосте. Перевод Михаила Яснова[Береговская 1998, 54]– источник этой редакции нам обнаружить не удалось, но, похоже, все-таки перед нами урезанная при цитировании фраза из романа Гюго «Человек, который смеется»: «Le chien, – quelle drôle de bête! – a sa sueur sur sa langue et son sourire dans sa queue» (в переводе Бенедикта Лившица: «Собака – экое странное животное! – потеет языком и улыбается хвостом»). В том же сборнике Э.М. Береговской с переводами Михаила Яснова фигурируют два моностиха Шарля Бодлера:
J’ai pétri de la boue et j’en ai fait de l’or. Я грязь перемешал и золото слепил. La génie et l’amour sont des Devoirs faciles. Вот ноша легкая – любовь и гениальность. [Береговская 1998, 53]– эти строчки относятся к небольшой подборке разноразмерных набросков Бодлера, впервые опубликованной в 1931 г. и с тех пор традиционно печатающейся в книгах Бодлера под общим заголовком «Bribes» («Остатки», «Обрывки») [Baudelaire 1975, 1172], первый из них к тому же превратился в дальнейшем, в слегка измененном виде («Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or»), в последний стих «Эпилога ко 2-му изданию <“Цветов зла”>» (тоже, впрочем, незавершенного). Упоминаемая Л. Брейнигом [Breunig 1963, 314] строка Стефана Малларме
Флексия мертва. La Pénultième est morte.– не только, как он справедливо отмечает, не публиковалась автором отдельно от стихотворения в прозе «Демон аналогии», в котором она содержится, но и в самом этом тексте фигурирует не как изолированный стих, а как осколок несуществующего двустишия со стихоразделом посредине[296].
Наконец, совершенно безосновательно упоминание о моностихе Верлена ([Шервинский 1962, 622]; см. стр. 64–65 и прим. 29 на стр. 25)[297]. Правда, Верлену атрибутируется однострочный фрагмент из «Зутического альбома» (L’Album zutique), плода совместных развлечений верленовского круга в 1871–1872 гг.; три других однострочных текста, рассыпанных в альбоме среди прочих отрывков, миниатюр и пародий, принадлежат Артюру Рембо и Леону Валаду [Jouet 2004, 6–7]; статус этих альбомных записей, впервые опубликованных лишь в 1961 г., вероятнее всего, не отличается кардинально от статуса одиночной строки из письма Вяземского Батюшкову: это шутка для своих[298].
Таким образом, в отличие от русской модернистской традиции, поставившей моностих практически у самого своего основания, более старшая французская модернистская традиция, несмотря на многочисленные предвестья и предпосылки, пришла к моностиху на более поздней стадии развития. Возможно, именно в связи с этим аполлинеровский «Поющий», в отличие от брюсовского моностиха, не вызвал никакого специального интереса у критики и читателей: во всяком случае, ни в одной рецензии на «Алкоголи» он не упоминается.
Приоритет Брюсова мировой научной литературе практически неизвестен: даже в специальной статье П. Рида «Аполлинер и Валерий Брюсов» лишь замечено мимоходом, что объединяет их, помимо прочего, интерес к моностиху [Read 1995, 191][299]. В зарубежных публикациях о Брюсове его моностих упоминается изредка и вскользь – и, насколько можно судить, не привлекает внимания за пределами узкого круга славистов[300], несмотря на то, что первое такое упоминание (называющее Брюсова «русским Верхарном» и цитирующее его моностих исключительно в качестве греха молодости) возникает еще в 1914 году в статье А.С. Кауна, появившейся в журнале «The Little Review», важном органе американских модернистов [Kaun 1914, 15] (ср. [Kaun 1941, 57]). Английский перевод самого брюсовского моностиха появился в США в 1921 году, в составленной и переведенной Авраамом Ярмолинским и Бабеттой Дейч антологии русской поэзии за последние сто лет:
Oh, cover thy pale feet! [Modern 1921, 88]– запятая и восклицательный знак нам не в новинку, но добавленная по обыкновению экспрессия не помешала этому переводу пройти совершенно незамеченным[301]. А появление французского перевода в 1929 г. (в тексте обзорной книги В. Познера [Pozner 1929, 23]) уже удивить никого во Франции и не могло.
Новаторы моностиха в других западных поэзиях определенно ориентировались на французские образцы[302]. Так, в итальянскую традицию моностих был введен Джузеппе Унгаретти (Giuseppe Ungaretti; 1888–1970), который с 1912 года жил в Париже и был дружен с Аполлинером (посвятив ему свою первую малотиражную книгу), пока с началом Первой мировой войны не отправился обратно в Италию воевать, вернувшись во Францию уже в солдатской форме. История наиболее известного моностиха Унгаретти чрезвычайно характерна:
Солдаты
мы как будто по осени с дерева лист nous sommes tels qu’en automne sur l’arbre la feuille– в таком виде это стихотворение впервые опубликовано в сборнике Унгаретти «Война» («La guerre»), вышедшем по-французски в январе 1919 г. в Париже тиражом 80 экземпляров и составившем основу франкоязычного раздела «Последние дни» («Derniers jours») в итальянской книге Унгаретти «Радость крушений» (Allegria di Naufragi; 1919). Французские стихи Унгаретти в большинстве своем представляют собой вольный автоперевод – исследователи подчеркивают, что на книге стоит помета «Изложено на французском» (mis en français) вместо ожидаемого «Перевод с итальянского» [Violante Picon 1998, 49–50; Livi 2003, 151]. Итальянский оригинал в интересующем нас случае был опубликован в июне 1918 г.[303] в журнале «La Raccolta» – и представлял собой многострочное стихотворение:
Чувствуешь себя как на осенних деревьях листья Перевод Евгения Солоновича [ЗП 1977, 387]– таким образом, в 1918 г. однострочная форма представлялась Унгаретти приемлемой в контексте французской поэзии и слишком смелой в контексте итальянской[304]; из трех других моностихов Унгаретти в том же французском сборнике один также существует в многострочной итальянской версии, а два других по-итальянски неизвестны. На итальянский моностих Унгаретти решился значительно позже: в 1933 году для книги «Чувство времени» (Sentimento del Tempo) он сократил до одной строки опубликованное в периодике восемью годами раньше двустишие [Mezzacappa 1970, 154]:
Я слышу голубя иных потопов[305] Перевод Владимира Маркова [Марков 1994, 354]Статус первого испаноязычного моностиха, по-видимому, оспаривают друг у друга (после дисквалификации известного одностишия Антонио Мачадо, см. стр. 68–69) тексты мексиканца Хосе Горостисы (José Gorostiza; 1901–1973) и чилийца Пабло Неруды (1904–1973). Горостиса опубликовал в 1922 г. цикл миниатюр «Порт», вошедший затем под названием «Рисунки на стене порта» в его первую книгу «Песни, чтобы петь на лодках» и включающий один однострочный текст:
Маяк
Беловолосый пастух рыбацких лодок.Э. Уайнбергер полагает, что непосредственным импульсом к появлению всего цикла стал выход в том же году книги оригинальных испаноязычных хайку Хосе Хуана Таблады «Кувшин цветов», а Таблада, в свою очередь, пристально следил за поэтическими событиями Франции (а при случае не упускал возможности заявить свои претензии на приоритет относительно французских собратьев – довольно безосновательные) [Weinberger 1992, 29]. А. Руис Абреу утверждает, напротив, что вошедшие в первую книгу стихи Горостисы в значительной степени были написаны уже в 1918–1919 гг. [Ruiz Abreu 2000, 405–406], – впрочем, в любом случае в это время уже формировалась литературная группа «Современники», участники которой, и Горостиса в том числе, «с восхищением читали Хуана Рамона Хименеса и Гийома Аполлинера» [Dauster 1963, 5]. Что касается Неруды, то он включил один неоспоримый моностих (см. стр. 35) в свою первую книгу «Собрание закатов», вышедшую в 1923 г., но тоже написанную, по некоторым данным, на несколько лет раньше, – влияние моностиха Аполлинера (наряду с грегериями Гомеса де ла Серны) на этот опыт Неруды предполагается исследователями [Wilson 2008, 43].
В собственно испанской поэзии история моностиха начинается с Мануэля Альтолагирре (Manuel Altolaguirre; 1905–1959), который в 1930 году в Париже выпустил (напечатав на собственном портативном печатном станке) отдельной брошюрой «Один стих для одной подруги» (Uno verso para una amiga):
Услышь мое молчанье своим ртом.– одновременно выпустив и версию в автопереводе на французский язык, которой успешно торговал в качестве рождественской открытки (по словам Альтолагирре, это было его «самое успешное в жизни издательское предприятие») [Crispin 1983, 25]: это, конечно, не показатель опоры на аполлинеровский опыт, но привязка к французскому культурному ландшафту налицо[306].
Любопытнее всего выглядит история моностиха в американской поэзии. Предсказуемым образом в качестве пионера здесь выступил Айвор Уинтерс (Yvor Winters; 1900–1968), чье «раннее знакомство с французской поэзией оказало глубокое воздействие на его отношение к поэтическому языку (the diction of poetry)» [Davis 1983, 11]: в 1922 г., вскоре после возвращения из Франции, Уинтерс опубликовал небольшой сборник «Тень сороки» (The Magpie's Shadow), предваренный эпиграфом по-французски (из Артюра Рембо) и состоящий из 28 миниатюр, преимущественно однострочных и почти исключительно трехударных, по большей части приближающихся к трехстопному ямбу:
В ожидании снега
Родник осенний – сух.– все тексты выделяют те или иные элементы ландшафта, эмфатически акцентируя их бытийную полноту, однако для того, чтобы оценить, «как полно представление оживает в ви́дении» в моностихах Уинтерса, критике понадобилось десять лет и его последующие книги, не столь радикальные по форме [Zabel 1931, 226]: более ранний рецензент не счел неуместным признаться, что «невозможно классифицировать эту поэзию, столь новую для нас» [Andelson 1922, 344][307].
В 1920–30-е гг. однострочную форму начинают пробовать другие авторы-одиночки. Так, Эдвин Форд Пайпер (Edwin Ford Piper; 1871–1939), тяготевший скорее к обстоятельному бытописательному метрическому стиху, в книге «Дорога на Пейнтрок» (Paintrock Road, 1927) решил поэкспериментировать со свободными формами на имажистский лад [Perkins 1979, 388], – прямое влияние книги Уинтерса нельзя исключить (во всяком случае, Пайпер сохраняет и опору на локальный материал – Уинтерс, впрочем, апеллировал скорее к индейскому, – и характерный для «Тени сороки» тип взаимодействия текста с названием, при котором обозначенные в названии предметы в самом тексте сдвинуты из фокуса внимания на периферию [Comito 1986, 54]). Критика со сдержанным изумлением охарактеризовала шесть моностихов Пайпера как «самые эксцентричные (whimsical) в сборнике» [Colburn 1927, 224], хотя эксцентричность немолодого провинциального поэта не стоит преувеличивать:
Горцы
У вас там ничего не повалило прошлой ночью?Небо в барашках
И дергает луна, словно воздушный змей.Напротив, Чарльз Резникофф (Charles Reznikoff; 1894–1976) с самого начала своего творческого пути работал в направлении «крохотных зарисовок, с равным вниманием обращенных на любые проявления окружающей повседневной жизни» [Кузьмин 1999, 122], так что появление нескольких моностихов только в его книгах «Иерусалим золотой» (Jerusalem the Golden, 1934) и «Бродя туда-сюда, гуляя там и тут» (Going To and Fro and Walking Up and Down, 1941), скорее, говорит о том, что долгое время однострочная форма представлялась ему чересчур радикальной; на фоне других миниатюр Резникоффа, в большинстве своем строго документальных, впечатляющих именно точностью стоп-кадра, немногочисленные моностихи выделяются переносом акцента на метафору, как будто для единственной строки документального материала оказывается недостаточно:
Мост
Стальной скелет облака.Август
Поношенные листья на деревьях.Эти перипетии довольно типичны для развития моностиха в соответствующий период, – американское отличие в том, что здесь у однострочной поэзии обнаруживается – так же, как во Франции и в России, – богатая предыстория (по-видимому, не оказавшая никакого влияния на последующие события). Прежде всего, еще в 1860 году Уолт Уитмен включил в третье издание своей книги «Листья травы» ряд новых стихотворений – преимущественно более кратких, чем прежние, в рамках совершавшегося в это время творческого перелома, в ходе которого позиция поэта как оратора и проповедника стала вызывать у него сомнения и недоверие [Killingsworth 2007, 274]; одно из таких стихотворений может быть квалифицировано как моностих:
To old Age
I SEE in you the estuary that enlarges and spreads itself grandly as it pours in the great Sea.Однако сверхдлинный стих Уитмена в этом тексте, как и во многих других, не умещался в строке – и при публикации переходил на вторую:
I SEE in you the estuary that enlarges and spreads itself grandly as it pours in the great Sea.(такая разбивка в прижизненных изданиях [Whitman 1860, 402] и [Whitman 1867, 264]; в [Whitman 1872, 101] вторая строка начинается словом grandly, в [Whitman 1881, 218] словом it). Характерно, что в первом русском переводе, принадлежавшем Константину Бальмонту (для которого возможность однострочного стихотворения вряд ли могла быть неожиданностью, хотя в 1911 году до его собственных моностихов было еще далеко), этот текст оказался двустрочным (запятая в конце первого стиха отсутствует в издании):
Старые люди
Я вижу в вас устье реки, что растет, расширяется Вливаясь в великое море. [Уитман 1911, 128]– и прошло более 70 лет, прежде чем появился воспроизводящий точно форму оригинала перевод Наталии Булгаковой:
К старости
Я всматриваюсь в тебя, устье, как ты величественно разветвляешься и расширяешься, как ты устремляешься в море. [Уитмен 1982, 245](любопытно, как переводчик намеренно удлиняет текст, выбирая наиболее пространную лексику, стремясь, по собственному признанию, «донести до русского читателя его величавые верлибры, уловить их пантеистическое начало, сочность красок, космическую емкость» [Булгакова 2009], но, вполне возможно, и для того, чтобы сделать менее очевидным непривычно малый объем текста). Не приходится удивляться, что и в американской ситуации для того, чтобы этот моностих был прочитан как моностих, должна была сперва сформироваться традиция.
Однако в промежутке между Уитменом и Уинтерсом уместился еще один эпизод, способный напомнить нам и о шутке юного Вяземского, и о резиньяциях Лафорга, и, наконец, о прорыве Брюсова. В 1889 году в журнале «The Critic» появляется полуторастраничный текст под названием «Моностих vs. четверостишие»:
О том, что поэт – существо неспособное к действию, пока не окажется вне себя, известно давно. Но одно современное, и даже совершенно недавнее подтверждение этого принципа я имел возможность наблюдать – и даже пережить – и спешу поделиться примером. Думаю, правомерно предположить, что всякий американский сочинитель стихов однажды раздумывал над темой коренного населения, индейцев. Как бы то ни было, лишь недавно я твердо решил сочинить четверостишие, в котором сжато, но чувствительно представлялось бы зрелище Краснокожего, гонимого от одной заставы до другой до тех пор, пока наконец он не достигает последнего прибежища на Дальнем Западе, среди других исчезнувших рас и славных останков мировых династий. Я полагал, что мне удалась изрядная попытка подступиться к этой идее в следующем апострофическом[308] выплеске:
Теперь бегите за черту заката –Однако, как видно, этой почти героической строке недостает необходимого финального слога. Где, где найти волшебный фрагмент, чтобы законопатить этот анекдотически малый пробел в метре? Дни шли за днями, и всеми уловками, известными стихотворцу, – внезапным наскоком или будто бы беззаботным перебором, – я пытался завладеть потерянным словом. И вот однажды утром я проснулся – presto! волшебный фрагмент скользнул на место:
Теперь бегите за черту заката – геть! (Now get thee on beyond the sunset – git!)Теперь я знал, что поэтическое безумие, о котором говорил Платон, на миг овладело моей недостойной личностью. И настолько удовлетворил меня его плод, что я немедленно отбросил прежнее намерение сочинить четверостишие, коль скоро моностих с такой полнотой выразил мою идею, – да что там, коль скоро он выразил куда больше, чем я замышлял! Ибо стих этот воплотил не только нежный взгляд идеалиста на индейский вопрос, но и безжалостный призыв прагматиков к истреблению меднокожего аборигена. В этом припадке платонова поэтического безумия, в этом могущественном последнем слоге я воздвиг памятник (прочнее меди!) политике моей бесценной родины по отношению к ее сумрачным и беспокойным питомцам.
Более того, как подлинной словесно-грамматической виктории я могу лишь дивиться этому счастливому метеору, слетевшему с небес вдохновенного сумасшествия, – слову git, новоанглийскому по происхождению, восклицательному, неизменяемому, не состоящему в родстве с похоже звучащим императивом get (по крайней мере, непереходному). К тому же думается мне, что словечко это, столь счастливо обнаруженное мною для заполнения метрической лакуны, уже не пребывает в заточении захолустных районов, где оно родилось, но, напротив, новым вином, разрывающим старые бутылки обыденной речи, дает о себе знать как бодрящий и пикантный акцент в самых дальних краях Земли. По крайней мере, оно связано с новейшим романом, где этим взрывным слогом из уст бледнолицего неверного был отправлен в полет неправедный последователь Пророка. [Lusus 1889]
Мало того, что автор утверждает здесь содержательную самодостаточность однострочного текста, – он еще и (пусть очень бегло) указывает на роль, которую в обретении этой самодостаточности играют лексика, грамматика и… ритмика (поскольку перекличка односложных get/git может рассматриваться и в ритмической перспективе). В то же время преувеличенный тон и переход к явно издевательской литературной полемике в последнем абзаце (доискаться до адресата этой полемики не удалось, но, вероятно, к нашей теме она отношения не имеет) намекают на то, что автор высказывается не всерьез. К этому же выводу заставляет склоняться и псевдоним, которым подписан текст: Lusus Musae, «Игра музы», – отсылающий к латинской идиоме lusus naturae, «игра природы», употребимой обыкновенно в связи с разнообразными курьезами и уродствами. Псевдоним этот выбран ad hoc и более вроде бы не встречается, но принадлежность его известна, потому что ту же историю в более поздней публикации автор пересказывает уже под собственным именем – в сокращенном виде и вроде бы без юмористических обертонов [Stockton 1893, 471]: это прозаик Фрэнк Стоктон (Frank R. Stockton; 1834–1902), тесно сотрудничавший с журналом «The Critic» (см., напр., [Sherbo 1994, 212]) и в сочинении стихов (кроме как, изредка, для действовавших в его прозе персонажей) практически не замеченный [Golemba 1981, 25]. Показательно, однако, что во второй публикации вместе с юмористическим антуражем исчезает и намерение автора признать строчку с удачно найденным финальным словом в качестве завершенного текста; напротив, собеседница Стоктона поэтесса Эдит Томас (Edith M. Thomas; 1854–1925) резюмирует его рассказ о поисках слова замечанием: «Полагаю, теперь вы никогда не закончите это стихотворение».
Однако зерно, брошенное Стоктоном, взошло: одновременно с беседой Стоктона и Томас, в том же ноябре 1893 года, в другом американском литературном журнале, «The Atlantic Monthly», появилась публикация под названием «Мастер моностиха» (An Artist of the Monostich).
Художник принял нас в своей мастерской. Мы вошли – Блюститель (the Censor) и я – и бросили окрест изумленные взгляды. Главное отличие художника, его счастливое призвание состояло в том, чтобы производить исключительные впечатления едва заметными средствами. Тогда как иные гранильщики ямбов требуют себе Кохинур, он нуждался лишь в тончайшем лепестке алмаза, чтобы резать и шлифовать его с совершенным усердием. Изощреннейший блеск фантазии, остроумия, философской мысли мог быть воплощен, по его убеждению, и в малой доле карата; и сколько бы почтения к вдохновенным труженикам прежних дней ни заключало в себе его ремесло, он полагал все же, что превосходной гармонии возможно достичь и без переизбытка материала, который им представлялся необходимым. Собственно говоря, эпос претил ему; он считал, что читатель изнемогает под гнетущей толщью эпоса подобно тому средневековому художнику, которого погребло под собой серебряное бремя княжеской награды. Ода была для него, в лучшем случае, бесформенным нагромождением строк. Даже сонет виделся ему чересчур пространным и многословным. Он нашел, что четверостишие слишком затянуто для его целей, и в конце концов отверг дистих ради более лаконичной и сжатой формы, лучше всего согласной с высоким напором его Музы. Он был мастером моностиха. Единственный в своем роде, он скромно уступил нашей просьбе обследовать его мастерскую и извлечь из нее несколько образцов его искусства. Таковые, без дальнейших комментариев, прилагаются. [Atlantic 1893]
Вслед за этим вступлением были опубликованы 12 моностихов. Все они озаглавлены – причем в некоторых случаях название дает ключ к тексту, который иначе остался бы непонятным, в других, напротив, акцентирует и без того очевидный в тексте ключевой мотив:
Избранник судьбы
Планеты все дрожат перед его звездой.Прощенье
Он злится, слыша о прощенье, ведь это неплатёж долгов!В иных отношениях тексты также весьма различны: половина из них отчетливо опознаётся как пятистопный ямб (который мы переводим шестистопным), другие длиннее, в том числе заметно:
Импровизатор
Где райский веет ветр, он лиру разместил, чтоб подмечать ее напевы.Природа всех текстов отчетливо риторическая, они так или иначе тяготеют к афоризму, но предметно-тематический диапазон довольно широк:
Заря
Сквозь мрачный горизонт вплывает в море дня.Мученик
Любой ценой – узреть Его лицом к лицу.Спустя менее чем год, в августовском 1894 года номере того же журнала, последовало продолжение – публикация «Снова мастер моностиха».
Второй раз посетив, вместе с Блюстителем, мастерскую Мастера моностиха, мы нашли его за работой, гранящим и шлифующим, – как и пристало этому резчику Муз.
Блюститель, вовлекая Мастера в беседу и опираясь на его прежние суждения, спросил, в какой степени полагает он возможным сократить эпос, или же – говоря словами, позаимствованными из совсем другого, куда более механического производства, – какую нагрузку может выдержать конструкция этого типа. Почему бы, к примеру, не изложить в одной строке Илиаду?
Что ж, наш Мастер, как ни покажется это странным, был прежде воином, пока не принялся возделывать нежную ниву мирных искусств сообразно нынешнему своему небывалому призванию. И если мы отважимся предположить, что он уловил тайную толику насмешки в этом «к примеру», то предположение это не будет столь уж безоглядно дерзким. По меньшей мере от наблюдателя не ускользнуло бы, что глаза Мастера блеснули серым. Он ответил, что если бы, как это было некогда предложено, из горы Афон высекли подобие человеческого обличия[309] (труд слишком величественный, быть может), то едва ли самонадеянный инженер стал бы сводить скальную громаду к изящной камее. Подобно этому, есть и создания человеческого разума, для которых – говоря словами ранних шекспировских редакторов – уже «свершился суд» и «отвергнуты все притязания»[310].
Далее речь зашла о Мильтоновом эпосе. Тотчас Мастер заметил, – не так уж случайно, как могло бы показаться, – что Сведенборг, провидец, временами подступавший к поэту[311], достиг изрядного успеха в сокращении Мильтоновой поэмы: вспомним вдохновенную сцену спора, который по-прежнему ведут два мудреца, уже в ином мире, из-за некоторого вопроса, возбудившего в них мучительное разногласие; вспомним знаменитое описание (так близко подходящее к требованиям одинокой героической строки):
Обделенные мечами, они сражались острыми речами.[312]Пока Блюститель и Мастер развивали далее некую мысль, вызванную этим новообретенным (new-found) стихотворением, взгляд мой блуждал по мастерской; его странствию, приковав мое внимание, положила конец работа, над которой склонялся Мастер, когда мы вошли. Невольное восклицание вырвалось у меня: «Да вот же они, эпосы in parvo! С вашего позволения», – и, одушевляемые моим стремлением убедить Блюстителя в том, что поддразнивал он Мастера понапрасну, зазвучали стихи, повествующие о картинах, слишком хорошо знакомых тому, кто был воином прежде, чем сделаться художником.
Эту публикацию ([Atlantic 1894]) завершали семь озаглавленных моностихов – выдержанных в той же поэтике, но так или иначе связанных с военной темой:
Влюбленный в бою
Пока любовь не родилась, я не страшился смерти.Роковой отпор
Штурмуя высоту, до неба взобрались.Обе эти журнальные публикации появились в своеобразной рубрике «Клуб авторов» (Contributors' club), включавшей тексты без подписи (предполагалось, что внимательные читатели будут угадывать авторство). Однако принадлежность этих конкретных текстов установлена исследователями по архивным данным: они сочинены тою же Эдит Томас [Eppard, Monteiro 1983, 77, 79]. Прижизненная и быстро угасшая известность Томас была связана, преимущественно, с довольно консервативными в формальном и содержательном отношении стихами: «Читать ее стихотворения значит переноситься в тот неведомый край, который столь многие поэты называли Аркадией; она больше гречанка, чем американка», – писал о Томас Ф.Л. Пэтти в 1915 году (на той же странице своей «Истории американской литературы после 1870 года», на которой говорилось, что произведения Эмили Дикинсон сильно переоценены и вскоре будут совершенно забыты) [Pattee 1915, 341]. В последнее время, однако, наблюдается некоторое возрождение интереса к Томас в связи с ее очерками, не чуждыми «дерзкого юмора» [De Ornellas 2008, 337]. Попадание в разряд юмора, по всей вероятности, как раз и исключило этот эпизод из истории моностиха, оставив его достоянием предыстории, – несмотря на то, что, в отличие от шуток Вяземского и Лафорга на ту же тему, шутка Томас[313] получила завершающую огранку, дошла до печати и даже имела небольшой критический резонанс: во второстепенном журнале «The Editor» писательница Элизабет Черри Хейр благосклонно заметила, что напечатанные в «Atlantic» моностихи «радуют читателя, хотя ни один из них и не приближается к исторической строке Ричарда Крэшо по поводу чуда в Кане Галилейской – строке, описывающей превращение воды в вино»:
Бога узрев, вода разумно покраснела. The conscious water saw its God and blushed.[314]Далее Хейр рассуждала о том, что «стихотворцу должно быть в радость выверять и сгущать (concentrate) свою поэзию с тем, чтобы сияющая жемчужина мысли не затерялась под покровом необязательного мусора», поскольку «в большинстве стихотворений лишь две-три строки рассказывают историю, поют песню и пробуждают отклик в сердце», сравнила создание моностиха с созданием импрессионистического полотна и резюмировала предсказанием – или даже советом, поскольку журнал выходил с подзаголовком «Журнал сведений для литературных работников» (The Journal of Information for Literary Workers): «Среди малых поэтов вполне может появиться тот, кто превратится в большого благодаря моностиху» [Haire 1897] – слова поистине пророческие.
Наконец, еще один эпизод в предыстории современного американского моностиха относится к середине 1910-х гг., когда в Нью-Йорке вокруг молодого и богатого коллекционера Уолтера Аренсберга, известного прежде всего как покровитель Марселя Дюшана, образовался кружок поэтов, художников и критиков модернистского и франкофильского направления. В состав этого кружка входил, вплоть до отъезда из Нью-Йорка в 1916 году, Уоллес Стивенс (1879–1955), как раз на этот период пришлось его (весьма позднее) творческое становление, и в кружке Аренсберга Стивенс встретил поэта Дональда Эванса (1884–1921) – как отмечает биограф Стивенса, «значительного не столько тем, что написал, сколько тем, за что ратовал», подражавшего в стихах и в жизни героям французской декадентской прозы и при этом ставшего для Стивенса «поэтом, которому он больше всех обязан» [Morse 1970, 109]. Среди прочего об этой дружбе известно, что однажды Стивенс и Эванс решили совместно написать книгу моностихов – но план этот потерпел крушение, поскольку, еще не приступив к сочинению текстов, они рассорились из-за вопроса о том, как эти однострочные стихотворения будут располагаться на странице. Утверждается, что Стивенс рассказал эту историю в письме Айвору Уинтерсу, автору первой книги моностихов, появившейся не менее чем пять лет спустя, – письмо это не сохранилось и дата его, к сожалению, неизвестна, но сам Уинтерс уже в 1970-е гг. поделился воспоминаниями об этом с дочерью Стивенса [Macleod 1983, 66].
Вполне вероятно, что в каких-то национальных поэтических традициях – особенно тех, которые оказались слабее затронуты модернистской революцией рубежа XIX–XX веков, – интродукция моностиха могла задержаться, в том числе и надолго. Однако и в этом случае можно ожидать подключения к общезападной линии развития формы примерно тем же способом, то есть через французский след, – в чем можно убедиться на примере сербской поэзии, в которой появление моностиха связано с именем Бранко Мильковича (Бранко Миљковић; 1934–1961), «позднего последователя Малларме», переводчика Валери и Элюара (а также Брюсова), называвшего своей творческой задачей «примирение поэтик символизма и сюрреализма» [Hawkesworth 1976, 527–528]:
Сновидцы
Бдящий, краду то, о чем они спят.Эпитафия
Я убит слишком мощным словом.Любопытно сопоставить со всем сказанным положение дел в японской поэзии, в которой стихотворения традиционных жанров – танка и хайку – записывались в один или несколько столбцов иероглифов по соображениям визуальной эстетики, а внутренняя расчлененность достигалась использованием «киредзи», особых разделительных слов, разбивавших текст на пяти– и семисложные группы [Higginson 1992, 73–74]. Картина стала меняться в связи с западническими веяниями в национальной культуре, причем первая волна инноваций в японской стихотворной миниатюре пришлась на 1910-е годы. Сперва Накацука Иппекиро (1887–1946) в 1911 г., а затем Огивара Сэйсенсуй (1884–1976) в 1914 г. выступили с реформой хайку, одним из звеньев которой – наряду с приближением поэтического языка к разговорному, отказом от обязательных «сезонных слов» и строгого следования силлабической семнадцатисложной норме – стало упразднение киредзи: «свободные хайку» Иппекиро, Сэйсенсуя, Одзаки Хосая (1885–1926) не опирались непосредственно на западные поэтические образцы, но развивали общий радикальный поворот в поэзии хайку, инспирированный Масаокой Сики под «глубоким воздействием западных представлений о литературе и поэзии» [Сиране 2002, 78][315]. Вторая же волна революционных преобразований японской малой поэтической формы, возникшая, прежде всего, в творчестве Фуюхико Китагавы (1900–1990) и Фуюэ Андзая (1898–1965), основавших в 1924 году журнал «А» и стремившихся заместить традицию хайку никак не связанным с нею «коротким стихом» танси, напрямую вытекала из усвоения молодыми японскими авторами опыта французской постсимволистской поэзии (Китагава, в частности, переводил поэзию Макса Жакоба и манифесты Андре Бретона) [Gardner 2012, 574], а также кубистического изобразительного искусства [Мамонов 1971, 117] – и, естественно, в противовес хайку работала с урбанистической образностью, присущей футуризму:
Час пик
Турникет отсекает билет вместе с кончиком пальца.Лошадь
Военной гаванью себе набила брюхо. Фуюхико КитагаваДля полноты картины можно отметить, что в этот же период (с 1910 г. по середину 1920-х гг.) ряд японских поэтов переходит к систематической записи танка в три графических единства (три столбца или даже три горизонтальные строки, с использованием латиницы вместо иероглифов), также ориентируясь на западные образцы, – и это решение, резко полемичное по отношению к традиционной записи, проблематизировало в ней недостаточно проявленную расчлененность, т. е., собственно, «однострочность» [Sato 1987, 351–355].
Не ставя перед собой задачу проследить подробно развитие моностиха в различных национальных поэтических традициях, нет возможности сказать, является ли простым совпадением то обстоятельство, что следующий после середины 1910-х – начала 1920-х гг. всплеск интереса к моностиху в различных странах приходится на конец 1930-х – начало 1940-х (то самое время, к которому относятся в России тексты Александра Гатова, Василия Кубанёва, Николая Глазкова). В США, помимо уже упоминавшегося Чарльза Резникоффа, в 1944 г. начал публиковать поэтические листовки «Летучие свитки» («Flying Scrolls», подробнее [Fenton 1959, 84]) перебравшийся сюда английский поэт Ралф Ходжсон (Ralph Hodgson; 1871–1962) – в одиннадцати выпусках появилось в общей сложности около 30 моностихов[316]. Во Франции в 1936 г. Эмманюэль Лошак (1886–1956) опубликовал подборку из 23 моностихов в журнале «La nouvelle revue française» [Lochac 1936b] и выпустил полностью составленную из моностихов книгу [Lochac 1936a], тщательно и на протяжении многих лет продуманную композиционно [Lochac 1994, 202–203] и насчитывавшую 357 текстов[317]. В Румынии пионер моностиха Ион Пиллат (Ion Pillat; 1891–1945) в 1936 г. напечатал книгу «Стихотворения в одну строку» (Poeme intr’un vers), состоящую из 90 моностихов; еще 27 моностихов были опубликованы Пиллатом годом позже, и наконец все 117 текстов, написанные 14-сложником (представляющим собой румынский аналог французского александрийского стиха [Gáldi 1964, 94]), вошли в собрание сочинений Пиллата, изданное в 1944 году[318]. В 1946 г. книгу однострочных текстов «Спектр долговечности: 122 трупа» (Spectrul longevităţii. 122 de cadavre) выпустили в соавторстве Джеллу Наум (Gellu Naum; 1915–2001) и Вирджил Теодореску (Virgil Teodorescu; 1909–1987) – представители румынского сюрреализма, непосредственно ориентированные на Андре Бретона (прямое сопоставление этой книги со «152 пословицами на потребу дня» Элюара и Пере также встречается [Simion 2002, 116]). В целом, однако, этот всплеск интереса к моностиху оказался, как и в России, не слишком мощным – и до масштабной экспансии однострочного текста в мировую поэзию оставалось еще несколько десятилетий.
4. Современный этап в развитии русского моностиха
4.1. Начало: первые обращения к моностиху на рубеже 1950–60-х гг.
Новая страница в истории русского моностиха была открыта на рубеже 1950–1960-х гг. Для русской поэзии это было переломное время. В официальной советской литературе смерть Сталина и последовавший период «оттепели» создал новые возможности, предоставив несколько большую свободу художественного поиска по сравнению с 1930–50-ми гг.; в то же время ограниченность и неполнота этой свободы привели к началу формирования альтернативного субполя[319] неподцензурной литературы [Лосев 1995, Савицкий 2002, Долинин и Северюхин 2003]. Наконец, в литературе русского зарубежья в этот период на первые роли, тесня редеющий круг авторов старшего поколения, начали выходить представители «второй эмиграции» – литераторы, оказавшиеся за пределами СССР после завершения Второй мировой войны, а с ними в достаточно консервативную культурную среду стали проникать новые художественные идеи. И характерно, что в каждой из трех страт русской литературы середины XX века возникла своя отправная точка для развития моностиха.
По-видимому, хронологически наиболее ранним было обращение к моностиху в субполе неподцензурной литературы – в творчестве Леонида Виноградова (1936–2004). К сожалению, это обращение так и осталось не вполне документированным в силу причин, общих для поэзии самиздата: «то и дело сталкиваешься с ситуацией, когда рукопись оказывается чем-то вторичным по отношению к подлинному тексту, чем-то вроде нотной партитуры, причем, как правило, испорченной, поврежденной временем. ‹…› Многие тексты были сознательно или бессознательно ориентированы на звучание, на произнесение вслух, нередко они записывались спустя несколько лет после создания. Это связано с тем, что звучащее слово, в отличие от слова писаного, как бы неуловимо для механизма цензуры» [Кривулин 1997, 344].
Виноградов принадлежал к самой первой группе молодых ленинградских неподцензурных авторов, творчески активных начиная с 1954 г. (подробно см. [Лосев 1995]) и объединенных, помимо биографических обстоятельств, верой в незавершенность футуристического проекта и стремлением его напрямую продолжить [Павловец 2012, 154–156]; при этом первая его сравнительно представительная публикация относится к 1997 г., а первая книга – к 1999 г. Однако миниатюры Виноградова пользовались определенной известностью в литературных кругах, и, в частности, как об авторе моностихов публично вспоминали о нем в устных мемуарах начала 1990-х гг. поэты Евгений Рейн и Генрих Сапгир. Обратившись в 1995 г. за разъяснениями к самому Виноградову, мы получили от него несколько однострочных текстов, которые он сам датировал концом 1950-х:
Марусь, ты любишь Русь? Пироман писал роман. А зачем мне омнибус? Наконец-то пришла неудача.Три последних текста ни до, ни после не публиковались, первый же был ранее опубликован К.К. Кузьминским и Г.Л. Ковалёвым в антологии «У Голубой лагуны» [УГЛ 1980, 155] как двустишие и с разночтениями в пунктуации:
Марусь! Ты любишь Русь?Поскольку антология «У Голубой лагуны», как считается, в значительной мере состоит из текстов, воспроизведенных составителями по памяти (см. [Кривулин 1997, 344]), а в этом случае они еще и указывают в комментарии, что тексты Виноградова извлечены ими из эпиграфов (!) к стихотворениям Владимира Уфлянда и Глеба Горбовского, – постольку мы в статье 1996 г. расценили эту публикацию как текстологически недостоверную [Кузьмин 1996, 75]. Однако в своем первом авторском сборнике Леонид Виноградов воспроизвел этот текст в той же редакции, в какой он был дан Кузьминским и Ковалёвым ([Виноградов 1999a, 14]). И, пожалуй, эта редакция предпочтительней – по крайней мере, в риторическом аспекте: разрыв между двумя стихами соответствует паузе, требуемой для переключения внимания адресата в ответ на обращение; впрочем, из опубликованной позднее мемуарной книги Дмитрия Бобышева мы узнаём, что в однострочной версии этот текст также был знаком современникам: «Его моностихи держались на стилистическом абсурде, из которого сам собою рождался насмешливый смысл: “Марусь! Ты любишь Русь?”» [Бобышев 2003, 259]. Для нас, однако, в данном случае важнее сама ситуация графической неустойчивости текста, вообще характерная для Виноградова. Так, во второй книге Виноградова [Виноградов 1999b], вышедшей сразу вслед за первой, на стр. 19–22 помещены строки:
Трава и ветер. Тургенев, сеттер. Водка. Свитер. Я и Питер.В этом издании каждый текст размещен на отдельной полосе, ни один текст не озаглавлен, замещающие название знаки («звёздочки» – астериски и т. п.) отсутствуют, начало текста никак не выделено, – таким образом, читателю ничего не остается, кроме как интерпретировать эти строки как четыре самостоятельных моностиха. Однако в следующей книге Виноградова «Горизонтальные стихи» ([Виноградов 2001]), где, при аналогичном графическом решении всей книги, на каждой странице размещено по одному стиху, строка «Трава и ветер.» повторена 5 раз на стр. 23–27 (далее стих «Тургенев, сеттер.» на стр. 28), аналогично строка «Водка. Свитер.» дана трижды (стр. 29–31), после чего идет стих «Я и Питер.» (стр. 32). Такое решение книги делает маловероятным интерпретацию каждого стиха как самостоятельного текста, оставляя открытым вопрос о самостоятельности тех или иных фрагментов единого текста книги: в частности, нет возможности определить, представляют ли собой вышеприведенные строки два текста, в каждом из которых первый стих повторен несколько раз, или один текст с повтором стихов, спаянный ассонансом и противопоставлением лирического субъекта Тургеневу (как, предположим, современного маргинального в социальном отношении литератора – писателю-классику, принадлежащему к социальным верхам), или же весь текст книги надлежит интерпретировать как одно целое. И только следующее издание стихов Виноградова [Виноградов 2003], в котором каждый текст, помимо размещения на отдельной полосе, выделен буквицей, а кроме того – отражен в содержании (отсутствовавшем в предыдущих изданиях), снимает какую-либо неопределенность: в нем на стр. 45 и 24 соответственно напечатаны два двустишия:
Водка. Свитер. Я и Питер.и
Трава и ветер. Тургенев, сеттер.Такая публикационная история позволяет говорить о неустойчивости, вариативности графики текста как об элементе авторской стратегии.
В изданных на рубеже 1990–2000-х гг. книгах Виноградова есть еще три моностиха:
Улетаю или таю? Андрею Сергееву А я бываю ограничен? [Виноградов 1999c, 32] Тропинкаприлиплакботинку [Виноградов 1999a, 22]– в последнем случае с голофрастической записью (без межсловных пробелов), употребленной, однако, не ради семантических деформаций, как у Василия Каменского, а в чисто иконических целях ad hoc (ср.: «“Склеивание” слов может выполнять изобразительную функцию» [Зубова 2000, 304])[320]. Тексты не датированы, но по устному сообщению И.А. Ахметьева, работающего с архивом Виноградова, характер машинописи позволяет отнести их к достаточно раннему периоду творчества Виноградова, возможно – к тому же рубежу 1950–60-х гг.
Некоторые из моностихов Виноградова напоминают обсуждавшиеся выше тексты Даниила Хармса – и по приему (кольцевая рифма первого слова в стихе с последним), и по общему тяготению к авангардно-абсурдистской традиции. Непосредственное знакомство Виноградова с действительными или сомнительными моностихами Хармса не слишком вероятно, хотя какое-то соприкосновение молодых ленинградских авторов с неопубликованными текстами обериутов могло иметь место через живших тогда в Ленинграде Якова Друскина и Игоря Бахтерева[321]. Можно сказать, что миниатюры Виноградова по структуре ближе к «детским» произведениям Хармса, чем к «взрослым»: демонстрируемое эксплицитным приемом игровое начало может прочитываться в них как самодостаточное, но позволяет и попытки лирической, философской, социально-иронической дешифровки, при которой, скажем, текст
Улетаю или таю?– будет прочитан как лирико-философское размышление о смерти, а в моностихе
Пироман писал роман.– вскроется образное напряжение между страстью к огню и вкладыванием себя в такой «горючий» предмет, как рукопись.
В субполе официальной литературы первый всплеск внимания к моностиху в этот период связан с деятельностью Ильи Сельвинского, заведовавшего во второй половине 1950-х гг. кафедрой поэзии в Литературном институте имени Горького. На основе курса лекций Сельвинский выпустил в 1958 г. пособие для студентов «Стихия русского стиха» с пометкой «На правах рукописи», размноженное тиражом 350 экземпляров на стеклографе непосредственно в институте [Сельвинский 1958a]. В этом пособии страница посвящена моностиху – собственно, самой его возможности:
Стихотворение может состоять из одной-единственной строки:
Пляшут изящно они, лепокудрые дщери Зевеса.Здесь поэт Л. Мей хотел выразить ощущение древнегреческой фрески. На такой же одной строке вошел в литературу молодой Валерий Брюсов.
О, закрой свои бледные ноги!Что хотел выразить автор этим художественным произведением – не знаю, но та буря негодования, которую вызвала эта строка при своей публикации, сделала имя юному студенту, что, очевидно, от нее и требовалось.
Стихотворение в одну строку бывает очень уместным в юмористическом жанре:
Афоризм караимского философа Бабакай-Суддука:
Лучше недо-, чем пере-.Но можно вложить в одну строку и большой, серьезный сюжет. Советский поэт А. Гатов создал такое эпическое произведение, назвав его – «Повесть»:
Он в зеркало смотрел, как в уголовный кодекс.За этой строкой открывается глубокое содержание, вполне оправдывающее эту экстравагантную форму. Есть у Пабло Пикассо рисунки, в которых он одним росчерком, без всяких теней и ретуши, дает не только очертания человеческой фигуры, но и весь характер, всю жизненную дорогу своей натуры. Такие рисунки напоминает мне эта замечательная гатовская строчка. Она вполне закончена и не требует комментариев. Сравните с ней, допустим, любую строчку из любого стихотворения, ну хоть из пастернаковского: «Накрапывало, но не гнулись…» – и вы сразу же поймете всю композиционную природу строки Гатова [Сельвинский 1958a, 73–74].
Изложение Сельвинского содержит некоторые неточности (пунктуация в моностихе Брюсова привычно искажена, переведенный Львом Меем фрагмент Анакреона назван оригинальным стихотворением Мея) и передержки (начальная строка стихотворения Бориса Пастернака «Душная ночь», c которым предлагается сопоставить моностих Гатова, заканчивается анжамбаном, наводя на мысль о том, что автономному функционированию отдельного стиха мешает в первую очередь рассогласованность ритмического и синтаксического членения, – более продуктивным было бы сопоставление моностиха Гатова с таким стихом, который вопреки синтаксической завершенности не может претендовать на самодостаточность, – в этом же стихотворении Пастернака таков, например, стих «Селенье не ждало целенья…», поскольку содержащийся в нем образ не поддается дешифровке вне контекста всего стихотворения). Собственный ранний моностих (ср. стр. 161) Сельвинский приводит с пунктуационными разночтениями (ср. прим. 265 на стр. 162) и без указания авторства, как и другие цитаты из собственной поэзии в этой книге, но никак не выделенное графически название позволяет понять дело так, что автором текста в самом деле был реально существующий караимский философ[322].
Дискурс Сельвинского в этой его книге балансирует между литературоведением и эссеистикой, однако приведенный отрывок вполне можно понимать и как беглый набросок классификации возможных направлений в развитии моностиха: античная стилизация, авангардно-абсурдистская линия, юмор и лирико-философское направление[323].
Публикация Сельвинского осталась бы – по крайней мере, на первое время – достоянием студентов и преподавателей Литературного института, если бы ее обсуждение не вылилось на страницы более широкой печати: известный прозаик консервативного направления Иван Шевцов выступил с резкой критикой пособия Сельвинского, обвинив его в пропаганде формализма в поэзии: «И. Сельвинский вовсе игнорирует современную советскую поэзию, признаёт в ней лишь Б. Пастернака, С. Кирсанова, Л. Озерова, А. Гатова и себя, которых цитирует с величайшим наслаждением» [Шевцов 1958]. Отвечая на предъявленные обвинения, Сельвинский обратился, в частности, к примеру с моностихом: «Представим себе на минуту, что я послушаюсь Шевцова и откажусь от ссылки на неугодных ему поэтов. ‹…› Пример однострочного стихотворения, написанного в советское время одним-единственным поэтом – Гатовым, уйдет вместе с Гатовым!» [Сельвинский 1958b] Так после 20-летнего перерыва в открытой советской печати было заявлено о легитимности моностиха[324]. А четыре года спустя исправленное и дополненное пособие Сельвинского было издано уже массовым тиражом под названием «Студия стиха», и вышеприведенный текст о моностихе сохранился в новом издании с незначительной правкой (в частности, был полностью снят пассаж с иронической оценкой моностиха Брюсова, а также – видимо, с учетом критики Шевцова – указание на авторство той строки, с которой читателю предлагается сопоставить моностих Гатова) [Сельвинский 1962, 113–114].
В дальнейшем Сельвинский еще раз вернулся печатно к теме моностиха, вновь написав о поэте Гатове (см. прим. 270 на стр. 168), – но вернулся к этой теме и Шевцов, занимавшийся на рубеже 1950–60-х гг. наследием Сергеева-Ценского. В 1961 г. в составленном им томе Сергеева-Ценского был переиздан роман «Обреченные на гибель», в составе которого почти полностью воспроизводится книга Василиска Гнедова «Смерть искусству!», приписанная герою романа Хаджи (см. стр. 164–167); в послесловии к переизданию Шевцов писал: «Сергеев-Ценский силой своего таланта, уничтожающим беспощадным сарказмом нанес сокрушительный удар по формализму. ‹…› В четвертой главе психически ненормальный студент Аджи (sic! – Д.К.) читает свою “Поэму конца”, состоящую из тринадцати “песней”. ‹…› Да ведь это чистейший абстракционизм, которому, к счастью, не удалось утвердиться в литературе. Но зато он прорвался в живопись. ‹…› Ценский прямо говорит: формализм – искусство либо душевнобольных, либо шарлатанов и авантюристов» [Шевцов 1961, 621–622]. В своеобразных условиях «оттепельной», а затем и «застойной» советской культуры рекламно-пропагандистский потенциал такой антирекламы можно оценить как довольно существенный[325].
Наконец, в субполе литературы русской эмиграции в 1963 г. с беспрецедентной по масштабу публикацией, посвященной моностиху, выступил Владимир Марков (1920–2013) – поэт и литературовед, начинавший свои занятия литературой в Ленинградском университете под руководством Г.А. Гуковского и В.М. Жирмунского, в войну попавший в плен, а после войны оказавшийся в Западной Германии и в 1949 г. перебравшийся в США; к 1963 г. Марков уже был профессором русской литературы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Эта публикация, помещенная в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» [Марков 1963], состоит из собственных стихотворений Маркова – 33 моностихов[326] (Марков предпочитает пользоваться обозначением «однострок»), «Трактата об одностроке», наиболее ценного первой попыткой очертить историю моностиха в мировой поэзии, но содержащего также множество плодотворных соображений по теории и поэтике моностиха, и «Антологии одностроков», в которую включены 9 античных однострочных эпиграмм, один средневековый немецкий текст, 9 европейских текстов XX века и 22 русских моностиха: моностих Карамзина, державинская эпитафия Суворову, 8 текстов Брюсова, моностихи Вермеля[327], Бальмонта, Каменского, Бурлюка, Гатова, одна из поэм «Смерти искусству!» Гнедова, а также строка Евгения Шиллинга, которую мы разбирали на стр. 66, строка Даниила Хармса, о которой шла речь на стр. 175–176, и строка Александра Блока «Тайно себя уничтожить», по поводу которой Марков ссылается на запись в записной книжке Блока за 15 марта 1911 г., тут же приводя ее целиком: «Самые тайные мысли: “тайно себя уничтожить” (это строка). При всем том, что я здоров, свеж, крепок. Вино – нет, ничего» [Марков 1994, 355[328]; Блок 1930, 146], – С.И. Кормилов справедливо замечает по этому поводу, что пометка Блока «это строка» совершенно не означает «это моностих» [Кормилов 1991a, 288].
Из опубликованной О.А. Коростелёвым части эпистолярного архива Маркова видно, что о моностихах он спрашивал начиная с 1960 г. всех своих корреспондентов (в некоторых случаях знакомя их и со своими опытами в этой форме) – и получал, по большей части, малосодержательные ответы: «Однострочных стихотворений – не знаю. “О, закрой…” – не однострочное, а одна строчка, оставшаяся от карандаша цензора, которую В. Брюсов, в виде протеста, сохранил в своей книге (и она прогремела на всю Россию своей нелепостью…)» (Юрий Терапиано) [Коростелёв 2008, 312] – или: «Хочу пополнить Вашу коллекцию классическим (и притом таким певучим) одностроком: “Волга впадает в Каспийское море”. ‹…› В порядке “дружеского шаржа” отвечаю на Ваши одностроки тоже одностроком из разряда “пародий и поправок”: О, зарой свои бледные строки!» (Дмитрий Кленовский) [Коростелёв 2008, 197–198]. Впрочем, Ирине Одоевцевой моностихи Маркова понравились и «просто поразили своею точностью, глубиной и исчерпыванием темы» [Коростелёв 2008, 778], а Э.М. Райс разыскал для Маркова моностихи Эмманюэля Лошака и познакомил его с моностихами Иона Пиллата [Коростелёв 2008, 625, 640]. Значительный массив переписки Маркова, поступивший в РГАЛИ (ф. 1348) в 1997–2001 гг.[329], к настоящему времени не обработан и исследователям недоступен, – возможно, что в нем обнаружатся какие-то новые интересные подробности, проливающие свет на историю формирования марковского собрания моностихов – первого собрания в этом роде (возможно, что и в мире).
Марковский «Трактат об одностроке» так или иначе затрагивает самые разные аспекты поэтики моностиха и его бытования в культуре. В частности, намечены в нем и основные направления развития формы: «Прежде всего, это греко-римская эпитафия-эпиграмма (в России – Карамзин, Державин, частично Брюсов). Другой путь – пересаживание на европейскую почву ориентальных и иных экзотических форм (Вермель, однострок которого возник не без влияния японской танки). Для XX века особенно характерен романтический фрагмент, осложненный импрессионизмом (Бальмонт, Унгаретти). Наконец, возможен однострок, развившийся из пословицы (Мачадо), и странно, что именно на русской почве этого не произошло»[330] [Марков 1994, 346–347].
Собственные моностихи Маркова (хоть и получившего известность, прежде всего, в качестве исследователя русского футуризма, но в поэтическом творчестве автора скорее консервативного), в основном, не следуют направлениям, которые он сам выделил, – впрочем, к поэтике «романтического фрагмента»[331] можно, вероятно, отнести такие тексты, как
Печаль слетает с ласковых стволов.или
Перед картиной Бонгарта
О лодка синяя, ты в море, ты не здесь!Многие тексты Маркова (и это, пожалуй, наименее интересная их часть) близки к лирико-философской сентенциозности моностихов Василия Кубанёва – без свойственных последним парадоксальности мысли и отточенной эффектности приема:
А жизнь течет и без тебя. Мне в тягость собственное тело.Творчество
Уплата долга иль борьба с собой?Отдает Марков должное и иронической линии моностиха:
Роман в народном духе
Груша с Гришей согрешили.К этой линии примыкает небольшой цикл из трех текстов «Поправки к классикам», представляющий собой незатейливые трансформы известных стихотворных строк:
Назад без страха и сомненья! Что в вымени тебе моём?– о том, что этот метод уже был опробован Сергеем Нельдихеном, Марков знать не мог, а вот про то, что данный парафраз пушкинской строки ранее был изобретен Лилей Брик[332], как специалист по русскому футуризму мог бы и знать (С.И. Кормилов уже выражал по этому поводу удивление [Кормилов 1995, 74]).
Некоторые другие жанровые и стилистические возможности моностиха, впервые опробованные Марковым, представляются более плодотворными. Это, например, моностих как психологическая зарисовка с предметной деталью в центре:
О зеркало, о шкаф, о радиоприемник на столе!– лирическое напряжение возникает благодаря контрасту между эмоциональной насыщенностью тройного восклицания – и очевидной безличностью называемых предметов, которые сами по себе совершенно не подразумевают столь эмоционально окрашенного отношения; этот контраст прочитывается как показатель психологической достоверности (и в этом отношении современный исследователь, утверждающий, что в моностихах Маркова «мир похож на мозаику; в нем нет каких-либо причинно-следственных, логических связей. Художник лишь фиксирует отдельные моменты бытия, хаотического, беспорядочного» [Александрова 2005, 41], – очевидным образом упускает суть дела: «момент бытия», явленный в тексте, для Маркова существует на фоне других рядоположных моментов, не данных, но подразумеваемых, – точно так же, как, по его уже цитированному замечанию, единичная строка ямба существует в моностихе на фоне подразумеваемых других [Марков 1994, 349]).
Еще один любопытный опыт Маркова – моностих как своеобразный культурологический этюд:
Поэт и друг поэтов Дельвиг.– этой характеристике нельзя отказать в точности и тонкости: она отсылает и к известному по многим мемуарам дружелюбию Антона Дельвига, и к несколько двусмысленному статусу автора второго ряда, попадающего в фокус внимания преимущественно в силу биографической близости с более важными литераторами[333].
Было бы преувеличением утверждать, что к трем начальным событиям в новейшей истории русского моностиха – публикациям Сельвинского и Маркова и распространявшимся изустно текстам Виноградова – восходит большинство текстов, создававшихся в этой форме в 1960–80-е гг., не говоря уже о 1990-х: генезис тех или иных моностихов новейшего времени различен. Однако роль этих трех авторов в новой – после аналогичных сдвигов Серебряного века и закономерного отката 1930-х гг. – легитимации моностиха в качестве законной формы поэтического высказывания трудно переоценить.
4.2. Русский моностих 1960–80-х гг.: основные вехи
Выяснение хронологии событий в новейшей истории русского моностиха наталкивается на вполне естественную трудность: значительная часть текстов опубликована далеко не сразу после их создания, причем публикации не датированы. Однако некоторые даты все-таки можно определить, хотя бы с точностью до десятилетия, и логика событий здесь не выглядит случайной.
В официальных советских литературных изданиях 1960-х гг. нам и нашим предшественникам (т. е. С.Е. Бирюкову и С.И. Кормилову) удалось разыскать всего два моностиха. В 1964 г. был опубликован моностих поэта-фронтовика Василия Субботина (1921–2015):
Окоп копаю. Может быть – могилу. [Субботин 1964, 43]Наше обращение к автору за историей возникновения этого текста привело к появлению посвященного ему мемуарного фрагмента: «Позвонил мне филолог, пишущий работу о моностихе, спрашивал, как и когда было написано стихотворение “Окоп копаю. Может быть – могилу…” – одно из первых, как он говорит, в нашей поэзии стихотворений в одну строку, знал ли я до того времени какие-то другие моностихи… Я сказал, что никаких моностихов писать не хотел и не собирался, а строка эта была первой из задуманного, но так и не законченного стихотворения. И написана она была вскоре после войны. О чем должна была идти речь в стихотворении, я уже теперь не помню. Помню только, что когда однажды я перебирал какие-то бумажки с моими тогдашними записями, строчка эта попалась мне на глаза. Какое-то время я все еще считал, что начатое необходимо продолжить, но затем увидел, что ничего не надо продолжать, что сказанного достаточно. В одной из книг, вышедшей лет, наверно, через двадцать после войны, я ее, строчку эту, напечатал как отдельное стихотворение. ‹…› Были и еще какие-то другие строчки, оставшиеся недописанными, ненаписанными, которые я со временем тоже решил не дописывать, считать их сколько-нибудь законченными стихотворениями. Среди строк такого рода вспоминаются две. Одна, насколько я помню теперь, была такая:
Так срослись мы с тобой, как срастается дерево с деревом…И наконец еще одна:
Что за рок тяготеет над этой страной!Это еще в 1946 году было написано» [Субботин 1996].
Вопреки последнему замечанию Субботина, в рамках той же логики, которой мы уже следовали в случае с моностихом Валерия Брюсова (см. прим. 185 на стр. 124), датировать эти моностихи надлежит, вероятнее всего, началом 1960-х гг., когда автором было принято решение об их самодостаточности[334].
В 1968 г. свой моностих опубликовал достаточно молодой, но уже широко печатающийся красноярский поэт Роман Солнцев (1939–2007):
Ушла – надкушенное яблоко чернеет… [Солнцев 1968, 244]– любопытно, что в содержании книги этот текст, в отличие от своих соседей, представлен не первой (и, в данном случае, единственной) строкой, а замещающими название словами «Одна строка», обнаружившимися впоследствии в ряде републикаций в качестве названия (напр., [Солнцев 1984, 20] и затем [Бирюков 2003, 106] при правильном в [Бирюков 1994, 66]).
Моностих Солнцева не лишен определенной изощренности (благодаря тире и выделенной – начальной и конечной – позиции обоих глаголов между двумя предикатами устанавливается не только временнáя, но и причинно-следственная связь, так что уход возлюбленной осмысляется как причина вторгающегося в мир распада), моностих Субботина, напротив, демонстративно прост[335], но в обоих случаях невозможно усмотреть никакой апелляции к авангардному происхождению формы: моностих берется как res nullius, свободная от каких-либо культурных ассоциаций[336] – настолько, что даже беглое замечание об «эпатажном однострочном стихотворении» [Лейфер 2008, 331–332] в связи с одним из этих текстов становится возможным лишь десятилетия спустя, когда контекст уже перестал ощущаться и на ситуацию 1960-х гг. проецируется Брюсов с одной стороны и Вишневский с другой: современникам решения Субботина и Солнцева эпатажными не кажутся.
Несколько иную картину мы видим в использовании моностиха авторами, работавшими в субполе неподцензурной литературы. Их представление нельзя не начать с Василиска Гнедова (1890–1978), в 1960-е годы вернувшегося к поэзии. Один его моностих датирован 1965 годом:
Бушующее будущее опыляю.[337] [Гнедов 1992, 98]Еще один, любезно сообщенный нам ведущим исследователем творчества Гнедова С.В. Сигеем и опубликованный впервые нами в [Кузьмин 1996], относится к рубежу 1960–70-х гг.:
Твой взгляд блестел настоящим велосипедомПоздние стихи Гнедова имеют мало общего с ранними, как это произошло и с большинством проживших достаточно долго участников футуристического движения 1910-х гг. Поскольку, однако, его эволюция никак не была связана с конформистским мотивом соответствия стандартам социалистического реализма в поэзии, – постольку отказ от радикальных решений приводит Гнедова к изящным ритмическим ходам и эффектной образности. Второй текст отчетливо продолжает вермелевскую лирическую линию, а неожиданность сравнения (подспудно связанная с контрастом семантических полей: «твой взгляд» в зачине лирической миниатюры заставляет предполагать любовно-эротический разворот темы, тогда как синтагма «настоящий велосипед» апеллирует к детскому, а вернее – к мальчишескому мировосприятию) акцентирована движением стиха от коротких слов к длинным. Первый текст ближе к бальмонтовским образцам, паронимическое сближение первых двух слов разрешается резким фоническим контрастом.
В середине 1960-х гг. обращаются к моностиху ленинградские авторы младшего (следующего за Леонидом Виноградовым) поколения, принадлежащие к «левому», ориентированному на авангардную традицию крылу неподцензурной поэзии. Для кого-то из них это обращение осталось разовым экспериментом, для кого-то стало началом целенаправленной разработки формы.
1966 годом датирован моностих Владимира Эрля (род. 1947):
и яблоки проплыли в море [Эрль 1995, 9]– открывший автору дорогу к циклу моностихов (65 текстов, с единичными вкраплениями другой формы) «Из Книги Алфавит» (1973–1979) [Эрль 1995, 75–79]. Отвечая по нашей просьбе на вопрос о корнях своего интереса к моностиху, Владимир Эрль пишет: «Из предшественников мы (Хеленукты, за А.Х.В.[338] не скажу) знали только, пожалуй, Вермеля (кроме, разумеется, пресловутых бледных ног тов. Брюсова). Будучи в Москве (то ли с <Александром> Мироновым в 1965, то ли с <Дмитрием> Макриновым в 1966), мы видели у кого-то из смогистов[339] книжку Сельвинского “Записки поэта”[340], где (кажется) были однострочия. ‹…› <Позднее> на меня произвели большое впечатление однострочные верлибры Рене Шара[341]. Именно благодаря прочитанным его переводам я стал писать свой “Алфавит”». Впрочем, следует отметить (в контексте данной переписки Эрль не упоминает об этом как о самоочевидном), что за год до его первого моностиха написана книга Алексея Хвостенко «Подозритель» (см. стр. 79–82) – и опыт работы Хвостенко с однострочными фрагментами не мог не произвести на его младших товарищей «Хеленуктов» заметного впечатления.
Тексты Эрля в некоторых случаях строятся на языковой игре:
Авторитет, русалка. И это, и это.(два никак не связанных слова выступают в качестве знаков двух предельно далеких друг от друга референциальных сфер и речевых ситуаций: деловая коммуникация – и волшебная сказка), в некоторых – на культурно-мифологической аллюзии:
Волчья грудь, что он о ней знает? Кроме.(подразумевается миф о Римской волчице, вскормившей Ромула и Рема), однако наиболее устойчивой чертой авторской интерпретации формы оказывается синтаксическая и риторическая расчлененность:
Вода. Вода постоянно прекрасна. Всё, что я думал… Границы. Принимай, помни, я знаю, поможет о времени.Видно, что для Эрля значимо напряжение между единственностью стиха и сложносоставным характером высказывания, – прежде такой подход к моностиху нам встречался только шестьюдесятью годами раньше и в совершенно ином контексте у Всеволода Шманкевича (см. стр. 156). Непрозрачность смысла многих моностихов Эрля в сочетании с расчлененным, рваным синтаксисом придает текстам вид фрагментов внутренней речи, не предназначенной для стороннего слушателя. Своеобразной компенсацией по отношению к этой весьма субъективной манере письма выступает организация цикла («серии» по В.И. Тюпе) по алфавитному принципу (впоследствии использованная еще несколькими авторами – в частности, Германом Лукомниковым)[342].
Еще один представитель «Хеленуктов», А. Ник (Николай Аксельрод, 1945–2011), обращается к моностихам несколько позже, в начале 1970-х:
Петербург – это город, где ужин остыл. [Эрль 1993, без паг.] Несу чайник на поклон кипятку. [Ник 1994, 136]– оба текста написаны не позже 1974 г. В них Ник выступает автором психологической лирики, сфокусированной на точной предметно-бытовой детали, и в этом смысле далек от авангардной традиции, к которой примыкают Хвостенко и Эрль. П.А. Казарновский отмечает по поводу первого из моностихов Ника, что «четырехстопный анапест придает ему медленную торжественность», а «банальность первой части стиха контрастирует с инфантильным и на глазах взрослеющим (даже как будто подростково ломающимся) голосом» [Казарновский 2012b, 208] – в частностях эта характеристика вызывает несогласие: «банальность» оборота «Петербург – это город…» представляет собой осознанную формульность[343], а подростковая семантика в образе остывшего ужина неочевидна (явственный мотив недостатка семейного тепла по умолчанию может быть прочитан как скорее как исходящий от мужчины к женщине, чем от младшего к старшим), однако Казарновский точно ставит акцент на том, что понимание Ником моностиха как нюансированного психологического этюда сопряжено с пристальным вниманием автора к содержательности ритма: это видно и во втором моностихе, где сдвоенный анапестический каданс накладывается на двигательное представление (чайник с кипятком наклоняется над заварочным).
Не входя в группу «Хеленуктов», был близок с некоторыми ее участниками биографически и, в определенных отношениях, литературно [Савицкий 2002, 158; Шубинский 2010, 194] Леонид Аронзон (1939–1970), которому принадлежат несколько моностихов, датируемые самым концом 1960-х гг. Среди них выделяется текст
Я плáчу, думая об этом.– возникший, по свидетельству В.И. Эрля, в результате того, что «строка стихотворения “Что явит лот, который брошен в небо…” ([Аронзон 2006, I:156] – Д.К.) полтора года спустя (после его создания в марте 1968 г. – Д.К.) записывается в виде отдельного однострочия» (см. также [Аронзон 2006, I:455, II:295]); Эрль интерпретирует этот жест как знак того, что «язык поэта стремится к лаконизму, обнищанию», проводя параллель с максимой Александра Введенского «Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли» [Эрль 1991, 224]. Возможно, в контексте всего творчества Аронзона это и так[344], но сам по себе данный текст говорит скорее об отказе в уважении и доверии к языку. Как и моностихи Хвостенко, он построен на приеме референциальной неполноты, только выраженной на уровне дейксиса: «в местоимении ‹…› появляется значение имени, условно называющего некоторое известное автору, но неизвестное читателю явление или ситуацию» [Ковтунова 1986, 38]. Аронзон предъявляет сильное переживание, отказываясь (= констатируя невозможность) назвать и объяснить его и его причины[345], – и здесь, в самом деле, возникает возможность сопоставления со значимыми для Александра Введенского и Даниила Хармса случаями указания на принципиально не названные свойства обсуждаемого предмета или явления (см., напр., [Кобринский 2000, I:90]).
Другие моностихи Аронзона лишены этого концептуалистского обертона и тяготеют скорее к пейзажной лирике:
Пойдемте: снег упал на землю![346] [Аронзон 2006, I:207]– или к не менее распространенному типу лирического высказывания о поэтическом творчестве:
Строка не знает младшую сестру.[347] [Степанов 2010, 28]А.И. Степанов комментирует эти миниатюры с помощью уже знакомой нам фигуры редукции, отсечения: «Известный факт: нередко стихотворения у поэтов рождаются из одной-двух строчек, а то и из приглянувшегося словесного оборота. При этом “зародыш” стихотворения уже распознаётся автором как поэзия, которую в дальнейшем следует лишь “развернуть”, развить. А не может ли возникнуть обратная задача – “сворачивания” стихотворения: сжать текст так, чтобы поэзия в нем все-таки сохранилась, обнаружив тем самым текстуально-поэтическую единицу?» [Степанов 2010, 28]
Наконец, к тому же кругу авторов примыкал – настаивая при этом на том, что «для многих из “нас” слово “мы” вообще неприменимо» [Волохонский 2012, 553], – Анри Волохонский (род. 1936), эмигрировавший в Израиль в 1973 г. и опубликовавший в последующие полтора десятилетия как несколько моностихов, так и небольшие поэмы с включением однострочных частей. Ссылаясь на сознательный отказ Волохонского от датировки своих произведений, составитель новейшего собрания его произведений И.С. Кукуй датирует интересующие нас книги Волохонского середины 1980-х гг. годами их публикации [Волохонский 2012, 555–556], но в любом случае речь идет, вероятнее всего, о текстах начала 1980-х: в частности, сатирическая зарисовка
Немного филосо
Символоло мамарда пятиго [Волохонский 1986, 39]– определенно является откликом на книгу А.М. Пятигорского и М.К. Мамардашвили «Символ и сознание», вышедшую в Иерусалиме в 1982 году. Тексты Волохонского довольно различны и в большинстве своем приближаются к ироническому направлению в русском моностихе; особого упоминания требуют написанный практически не встречающимся в русской стихотворной практике метром – трехстопным пентоном – моностих
А ирония в апологии не нуждается. [Волохонский 1986, 25]и стихотворение
Собаки лают лают лают лаяли [Волохонский 1984, 33]– переход эпаналепсиса в полиптотон оказывается выразительной игровой иллюстрацией тыняновского принципа сукцессивности поэтической речи [Тынянов 1993, 75]: каждый повтор глагола «лают» занимает определенную долю времени, и к третьему повтору этого времени оказывается достаточно, чтобы собаки успели замолчать[348].
В то же время завершающий книгу «Шкура бубна» (вообще развивающуюся от сатиры и эпиграммы к патетике и метафизике) текст
Снег, град и роса [Волохонский 1986, 48]– сродни аронзоновскому пафосу экстатической констатации, хотя и в нем можно увидеть ту же ироническую семантизацию стиховой протяженности, если предположить, что строка начинается и продолжается зимой, а заканчивается уже весной.
Группа «Хеленуктов» была основным центром кристаллизации авангардно ориентированных авторов в Ленинграде второй половины 1960-х гг. В Москве аналогичное место занимала Лианозовская группа (подробно см. [Кулаков 1999, 11–34]). Первым из «лианозовцев» – видимо, даже раньше, чем Алексей Хвостенко в Ленинграде, – обратился к моностиху Генрих Сапгир (1928–1999). Цикл «Командировка», датированный мартом 1964 г. и состоящий из 31 стихотворной, преимущественно рифмованных миниатюр, рассказывает о городе Северодвинске: это своего рода стоп-кадры, фиксирующие либо изображение (промышленный пейзаж, тягостные сцены местной жизни), либо звук (речевые фрагменты, характерные для этой жизни). Среди немногочисленных лирических отступлений цикла, наряду с посвящением Иосифу Бродскому (как раз в это время отправленному в ссылку на другой конец Архангельской области), есть однострочное стихотворение с эпиграфом:
Когда у меня хорошее настроение, стихи сами сочиняются. Только не до конца… без рифмы…
Мальчик из Северодвинска
Впечатление впечатано в снег[349]Текст, несмотря на свойственную вообще Сапгиру «ярко выраженную паронимичность» [Шраер-Петров, Шраер 2004, 22][350], не слишком характерен для сапгировской поэтики. В этот, достаточно ранний период творчества Сапгира формальный эксперимент, который затем будет настолько значим и значителен в таких книгах Сапгира, как «Черновики Пушкина» (1985) и «Дети в саду» (1988), находится на периферии его поэтических интересов – и в этом смысле показательно, что однострочность текста нуждается для Сапгира в обосновании[351], которое и дает эпиграф. О случайности данного опыта для Сапгира можно судить по тому, что, достаточно широко публикуя как новые, так и старые тексты на протяжении всех 1990-х гг., цикл «Командировка» он так и не напечатал.
Напротив, достаточно принципиальный характер носило обращение к моностиху другого автора Лианозовской группы Яна Сатуновского (1913–1982), написавшего в 1970–77 гг. около 15 моностихов. Некоторые из них прочитываются (не в последнюю очередь благодаря специфическому пунктуационному решению: рамочным многоточиям) как речевые фрагменты:
…а укрáинцы, оказывается, укрáинцы… …зашили как футбольный мяч… …пока нас не выселили в Биробиджан… …воскресенье, понедельник, октябрь, ноябрь, макабр…[352] [Сатуновский 2012, 350, 350, 389, 261]К этим текстам, вероятно, тоже применим общий тезис В.Г. Кулакова о том, что «Сатуновский говорит не просто то, что мог бы сказать лирический автор, “центр”, а то, что может сказаться, “выговориться в стих” помимо “центра”. Он как автор уходит из “центра”, речь работает сама. Поэзия Сатуновского – это поэзия “самовитой” речи. Работа поэта – вычленить из речи поэзию, совпасть с нею» [Кулаков 1999, 225]. Однако в сопоставлении с уже обсуждавшимися однострочными фрагментами Алексея Хвостенко видно, что Сатуновского занимает не момент речи сам по себе, обнаруживающий в изолированном положении те или иные семантические, грамматические или фонические особенности, а происходящая в речи кристаллизация субъекта. Иначе говоря, как моностихи Леонида Аронзона были попыткой ответить на вопрос о минимальном размере лирического высказывания определенного типа – так эти моностихи Сатуновского отвечают на вопрос о минимальном размере высказывания, передающего определенную эмоцию, душевное движение. В этом смысле характерно, что случаи Аронзона и особенно Сатуновского – первые из рассмотренных нами, когда к моностиху обращается не более или менее молодой поэт, экспериментирующий с различными формами и приемами, а зрелый автор с вполне сложившейся поэтикой[353]. Движение к границам возможного в поэзии естественным образом привело этих авторов к маркирующей границу поэзии форме.
В противоположность текстам этого типа несколько других моностихов Сатуновского тяготеют не к фрагментарности, а к афористической завершенности:
Да, сны доказывают, что я жил среди людей. Главное иметь нахальство знать, что это стихи. [Сатуновский 2012, 377, 399]В последнем тексте особенно сильное напряжение возникает между его очевидным автореферентным характером[354] – и столь же очевидной «непоэтичностью», свободой от какой-либо метрической и звуковой организации, отсутствием каких-либо тропов и т. д.: все это приобретает характер минус-приема.
Рубежом 1970–80-х гг. датирует М.А. Сухотин единственный опубликованный моностих Всеволода Некрасова (1934–2009):
да что-то нет ничего [Некрасов 2012, 396]– ожидать от Некрасова обращения к этой форме было бы совершенно естественно, поскольку, как отмечал В.Г. Кулаков, именно Сатуновский и Некрасов «наиболее радикально развили минималистские интенции конкретизма» [Кулаков 1999, 305]. Вслед за Сатуновским Некрасов занят выявлением в мельчайших фрагментах речи их собственного выразительного потенциала – по его собственным словам, «возможностью выявиться высказыванию в условиях речевой реальности» [Некрасов 1991, 38], – и особенно пристальное внимание уделяет служебной и неполнозначной лексике; несмотря на это, раннее определение поэзии Некрасова как «поэзии служебных слов» [Эпштейн 1988, 174–175], против которого Некрасов всегда категорически возражал (см., напр., [Янечек 2009, 201]), не схватывает той экзистенциальной нагрузки, которую поэт на эти слова возлагает[355]. В данном случае фрагмент разговорной речи, порожденный, скорей всего, какой-либо мелочной бытовой ситуацией, благодаря изолированному, выделенному положению приобретает обобщенный смысл. Пробел, отделяющий «да» от последующего текста, исходно соответствует паузе в речи, но как элемент чрезвычайно важной для Некрасова визуализации и спациализации стиха [Махонинова 2009] ставит сильные акценты на окружающих его словах: «молчание вводится как необходимый, специальный компонент речи, причем расталкивающий остальные и особенно сосредотачивающий внимание на том слове, которое предшествовало молчанию, которое потребовало молчания, и на том слове, которое вновь возникло тогда, когда молчание невозможно и оно кончается» [Библер 2010, 49]. Благодаря этому одинокая частица «да» выступает как полноценный аффирмативный противовес конструкции «что-то нет ничего», изначально (в разговорном словоупотреблении) выражающей отрицание, – неопределенное же местоимение «что-то», выступая в исходном речевом фрагменте в просторечной модальной функции, возвращает себе предметность значения, вступая в прямую оппозицию «что-то vs. ничто» – при том, что категория «ничтойности» проблематизирована здесь косвенным падежом, в соответствии с наметившейся в русской поэзии второй половины XX века тенденцией обособления и субстантивации генитивной формы «ничего», находящейся в неоднозначном отношении к номинативу «ничто» [Азарова 2010, 149–155], так что в результате конструкция «что-то нет ничего» вне речевого контекста осмысляется как выражение экзистенциальной неуверенности («что-то или ничего»).
Наряду с Москвой и Ленинградом в середине 1960-х гг. небольшой круг авторов авангардного направления – «Уктусская школа» – сформировался и в Свердловске [Никонова 1995]. Ко второй половине 1960-х – первой половине 1970-х гг. относятся весьма многочисленные моностихи Ры Никоновой (Анны Таршис, 1942–2014) – центральной фигуры в этой группе. Никонова вспоминает: «В 1965–1969 гг. я страшно увлекалась минимализмом – писала стихи из двух слов и даже из одного, и даже из одной буквы, и даже из каллиграфических элементов отдельных букв… Тысячи литературных организмов-инфузорий из одной фразы (самодостаточной) составили два тома сборника “Полированный куст”. ‹…› Шедевром считала и считаю свое стихотворение из двух слов “МУХ НЕТ” (1965). Шедевр уже хотя бы потому, что коротко, ясно и легко запоминается» [Никонова 1993, 253][356].
Авторы Уктусской школы – подчас сами того не зная[357] – наследовали наиболее поздним и радикальным изводам русского футуризма: в частности, вышеописанное движение от вербального к визуальному (впрочем, также к «сонорной поэзии» и разным видам перформанса) вплоть до полного отказа от слова («Ничьи стихи не обеспечивают потребность в регулярном обожании слова, именно поэтому я в последнее время (с 1982 г.) обхожусь в поэзии без слов» [Никонова 1993, 250]) совершалось Никоновой вслед за высоко чтимым ею футуристом Алексеем Чичериным [Никонова 1995, 221]. Однако ранние тексты Никоновой носят иной раз вполне умеренный характер, представляя собой что-то вроде изолированных тропов:
Бабочка в стаде баранов Женщина с венецианским лицом [Кузьмин 1996, 79] Будь сама себе Египет [Бирюков 1994, 63]В отдельных случаях лирико-психологическая составляющая, в процитированных текстах убранная в подтекст, выходит и на первый план:
Разве розы дарят только не мне.Другие тексты Никоновой ближе к традиционной футуристической проблематике:
Егоот сутств иевцве ТАХ ин /КИ/ сти /ПЯ/ тут /ТОК/– такие опыты по деформации межсловных границ[358], ставящие под сомнение само количество слов в тексте, прямо наследуют обсуждавшимся в главе 3 экспериментам Василия Каменского – при том, что «ненормативное использование прописных букв» [Орлицкий 2002, 616], выступая в качестве одного из начальных шагов по пути от вербального к визуальному, не выводит еще текст из собственно поэтической сферы в область визуальной поэзии как смежного вида искусства, оставаясь эффективным средством визуализации стиха. В то же время вторичная семантизация образующихся псевдослов, в основу которой ложатся звуковые ассоциации, апеллирует, скорее, к идеям и практике Алексея Кручёных, включая «сдвигологию»[359].
Именно к зауми прежде всего тяготел другой участник Уктусской школы, Сергей Сигей (1947–2014). В отличие, однако, от пионера зауми в моностихе Юрия Марра, приверженца фонетической зауми в чистом виде, Сигей в своих моностихах комбинировал элементы зауми фонетической и морфологической[360], по отчетливости семантики приближаясь уже к текстам Василия Каменского: так, в тексте во втором слове совершенно прозрачен корень «печаль» (возможно, контаминированный с «лирой»), а в первом угадывается деформированное «досада» (или усеченное «надсада»). Еще любопытнее другой текст:
дсады бопечалирь [Бирюков 1994, 64] аркае взае ахОбщий для первых двух слов формант «ае» позволяет осмыслить их как относящиеся к одной и той же части речи, а конструкцию в целом – как синтаксический параллелизм; в русском языке такой формант встречается в одном из типов склонения существительных в предложном падеже (ср. «в трамвае»), однако отождествлению заумных слов Сигея с этой словоформой препятствует отсутствие в тексте предлога. Зато оба слова легко идентифицируются с глагольной словоформой 3-го лица единственного числа настоящего времени в украинском языке (ср. «вiтає»[361]). Cемантика обоих глаголов задается конечным междометием: «взае» паронимически сближается с «взывать» и «вздыхать», «аркае» в этом семантическом поле ассоциируется с формой «аркучи» из «Слова о Полку Игореве», которая хотя и представляет собой деепричастие от глагола «речь, *ректи» (с протетическим «а»), но в тексте древнерусского памятника (а современному русскому читателю эта форма известна исключительно оттуда и с соответствующей отсылкой приведена уже в словаре В.И. Даля) всякий раз употребляется рядом с глаголом «плакать»: «Ярославна плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи», «Жены руския въсплакашась, аркучи». Разумеется, любая интерпретация такого рода носит гипотетический характер, и настаивать на ней не приходится[362], но для понимания подхода Сергея Сигея к зауми симптоматична сама ее возможность, особенно в сопоставлении с манифестарными текстами Никоновой и Сигея, настаивавшими (правда, уже на рубеже 1970–80-х гг.) на поэтической стратегии «внесения своего в уже сделанное» («транспонирующее», палимпсестное письмо) и на том, что семантизация возникающего таким образом текста всегда частична [Житенёв 2012, 397]. Характерно и то, что с заумными моностихами у Сигея соседствуют тексты, построенные на паронимической аттракции:
гусеница синеет гусем злее злого лога льда [Бирюков 1994, 64][363]Впрочем, во втором из этих текстов можно увидеть отсылку к художественной концепции заумного языка, предложенной Велимиром Хлебниковым: «Первая согласная простого слова управляет всем словом – приказывает остальным. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка» [Хлебников 1986, 627]. Особенно заметен интерес Сигея к хлебниковскому принципу консонантного единоначатия в еще одном моностихе, где этот начальный согласный – протетический:
во внебе втихая втеснина водушиНаконец, известно единичное обращение к моностиху еще одного представителя Уктусской школы, Валерия Дьяченко (род. 1939), датированное 1972 годом:
Ударение
Хочу пришлá. [Самиздат 1997, 561]– с характерным для этого автора акцентом на «поэзии грамматики».
Помимо авторов, принадлежавших или примыкавших к трем названным поэтическим группам, к моностиху обращались и авторы-одиночки. Наиболее значительное в количественном и качественном отношении явление здесь – относящийся к 1966 году самиздатский сборник киевского поэта Юрия Зморовича (род. 1946) «Книга лучей», включающий 115 моностихов (и еще пять затесавшихся среди них двустиший) [Зморович 2006, 33–57]. При публикации сборника спустя 40 лет автор предпослал ему предуведомление: «Эта книга была написана в юношеском экстатическом стремлении к Высшим Живительным силам, под влиянием древней китайской традиции 120-кратного обращения-молитвы и гимнических отрывков создателей мелической поэзии Алкея и Сафо». Апелляция к китайскому претексту в самих стихах практически не прослеживается (однажды, впрочем, упоминается пагода), а древнегреческий след местами просматривается, в частности, в спорадическом употреблении характерных составных эпитетов (краснодревный, чистопутный, краснодольний, сильногрудый, златомудрый); в нескольких моностихах фигурируют Атлант, Венера, Марс – однако в других встречаются Рама, Моисей, Эсфирь, гипотетические древнеславянские божества: Зморович апеллирует к мифологической древности вообще. Ритмика моностихов Зморовича по большей части свободная, хотя в некоторых текстах слышны далекие отголоски античной метрики – например, большого асклепиадова стиха:
Из побега стрел в дорог естество – éлей песнь.– или, в качестве единичного случая, семистопный дактиль, осмысляемый, вероятно, как дериват гексаметра:
Робко возок, претворяясь в стихию Атлантову – внемлет, не смеет.Даже в большей степени, чем у Владимира Эрля, моностихи Зморовича воспроизводят найденный в свое время Всеволодом Шманкевичем контраст-конфликт между единством стихового ряда и его синтаксической и ритмической расчлененностью. Внутри этого подхода Зморович обращается к разным способам организации текста – от риторически мотивированной и потому в конечном счете очень ясной инверсии:
Будни, слушайте: «Народы, что правят тобой, Вождь, как красивы!»– до простой перечислительной конструкции, элементы которой, однако, подчас связаны по смыслу достаточно нелинейным способом:
Рукопожатье, хилое слово, пóры лица, несметность воздуха, человек.Авангардные устремления Зморовича зафиксированы, например, в послесловии к созданному годом раньше самиздатскому «Изборнику»: «слова-объекты-ассоциации имеют свою музыкально-смысловую текстуру. Они и должны быть достаточно абстрактны и загадочны и представлять гроздья смыслов и звучаний» [Зморович 2006, 64] – неудивительно, что во многих моностихах «Книги лучей» также присутствует некоторая референциальная размытость, компенсируемая фонически и ритмически:
Или – мала; или ладна наивно; либо в избытке дыханье; верьте, права. Конь там, бег, барьеры; – машины кручены в пирамиды клада.При этом Зморович легко прибегает не только к типично футуристическим, но и к напоминающим скорее о символизме образным построениям:
Нескончаем, полынью сетуя, грешный град слёз: вёснами будет. Любомилые свиданья снéга – роз; время молодости зим.– и даже к связанным с более ранней традицией славянизмам и поэтизмам (несть, стезя, чадо, чело, дщери, зрится, млечный, ратный, лобзанье): видно, что для автора важна прежде всего дистанцированность от усредненного языкового норматива советской поэзии, и однострочная форма, помимо прочего, прочитывается в этом контексте как жест демонстративного отстранения от ее же строфического норматива.
В тот же период ряд авторов обращается к моностиху спорадически и, видимо, более или менее независимо друг от друга. 1965 годом датирован цикл стихотворений «Тридцать три рассказа» московского (а затем нью-йоркского) поэта Сергея Петруниса (род. 1944), включающий и два моностиха:
пели – кутались по колодцам вертелась вода [Петрунис 1982]Единственный моностих Савелия Гринберга (1914–2003) – поэта, который в юности входил в «Бригаду Маяковского» и на протяжении всего творческого пути «ощущал себя наследником футуристической традиции» [Бараш 2003, 456], – не датирован:
Строка на переезд из одного района в другой
Москва пролетала отнятым счастьем [Гринберг 1979, 67]– но по содержанию текста следует предположить, что он относится еще к московскому периоду жизни поэта, т. е. написан до 1973 г., когда он эмигрировал из СССР в Израиль.
1975 годом датирован моностих другого московского автора Александра Карвовского (1933–2005), писавшего по-русски и по-французски (в силу биографических причин: Карвовский родился во Франции в семье эмигрантов и репатриировался в Россию в 1950-е гг., так что родными для него являлись французский язык и французская культура):
Великие загадки
Людвиг ван Бетховен / а. гитлер [Карвовский 1991, 25]– художественный эффект моностиха в значительной мере основан на графическом решении текста: косая черта, разделяющая два имени, функционирует как иконический знак противопоставления, а сосредоточенные в правой части особенности графики – отказ от прописных букв (в нормативной орфографии маркирующих имена собственные) и редукция имени к инициалу – вносит в текст авторскую оценку.
1977 годом датирован моностих киевского (впоследствии нью-йоркского) поэта Александра Очеретянского (род. 1946)
не день а дань [УГЛ 1986, 215]– любопытно, что редактор-издатель К.К. Кузьминский счел необходимым выделить для публикации этого текста отдельную страницу. Афористическое начало проявляет себя в этом тексте риторическим противопоставлением – Дж. Янечек, однако, привязывает его к авангардной традиции замечанием о том, что в нем «посредством хлебниковского внутреннего склонения (вариант паронимического сближения)[364] сжато представлен эмоционально заряженный тезис» [Янечек 1997, 254]. В более поздней, относящейся уже к эмигрантскому периоду публикации Очеретянского – цикле стихотворных миниатюр «Все эти мелочи» с общей датировкой «1970–1992» – представлены уже 16 моностихов [Очеретянский 1992, 125–126], среди которых преобладают, по выражению И.И. Плехановой, «лирические максимы» с «афористической заряженностью» [Плеханова 2007, 264–265].
К концу 1970-х гг. относятся и первые после Владимира Маркова образцы моностихов в литературе русской эмиграции. Поэт Иван Буркин (1919–2011), также представитель второй волны эмиграции и также житель Калифорнии, сперва в филадельфийском альманахе «Побережье», а затем и в авторском сборнике «13-й подвиг» (1978) опубликовал цикл стихотворных миниатюр «Мини-стихи», включающий три моностиха:
Я боюсь прямых линий… Язык доведет до женщины. Следите, пожалуйста, за Гоголем. [Буркин 1992, 25]Кроме того, в 1979 г. однострочный текст появился в книге стихов Николая Моршена «Эхо и зеркало» – впрочем, статус этого текста заслуживает отдельного обсуждения (см. стр. 33–34).
И еще об одном тексте нужно, видимо, говорить особо – поскольку он появился на периферии имевшихся в русской литературе советского периода субполей. В 1979 г. первый сборник стихов выпустил в Сухуми писавший на русском языке абхазский поэт Станислав Лакоба (род. 1953)[365] – включив в его состав и моностих:
молния сказала что и ночное небо синее [Лакоба 1979, 11]Культура титульных этносов в национальных автономиях в позднесоветский период в значительной степени существовала на особых основаниях, регулируемая скорее местными, чем общесоветскими «правилами игры», и это особое положение распространялось и на национальных авторов, выбравших русский язык, так что появление в Абхазии сборника формально раскрепощенной лирики, тематически сосредоточенной на почти анимистическом понимании природы, не вызывает большого удивления. Книга Лакобы, однако, была замечена и центральными изданиями: критик М. Борщевская отмечала, с характерными извинительными интонациями, что к ней «можно отнестись, конечно, по-разному: кому-то покажется неуместным, что молодой стихотворец пишет стихи, порой состоящие из двух, а то и вовсе из одной строчки», однако «стихи С. Лакобы ломают стереотипы восприятия – очень кстати» [АС 1981, 99].
Вполне вероятно, что эта хроника не полна, и за ее рамками остаются однострочные произведения, не дошедшие до печати ни в эпоху своего создания, ни позднее, – особенно если речь идет об авторах, не пришедших к полноценной профессиональной социализации ни в одном из субполей русской литературы этого периода. На такую мысль наводит, например, сохранившаяся отповедь Александра Твардовского Алексею Прийме (род. 1947), имевшему нахальство в 1970 году предложить свои экспериментальные тексты журналу «Новый мир»: крайнее неудовольствие официального советского «классика» вызвали попытки молодого ростовского поэта «стихографически выразить нечто, располагая строчки прямоугольником, или под заглавием “Бунтарь” выстукивая несколько строчек точек, или выводя нечто по лаконичности похожее на брюсовское “О, закрой свои бледные ноги”…» [Твардовский 1985, 350] – нет возможности установить, предложил ли Прийма вниманию Твардовского моностих или любая лаконичность вызывала у автора «Василия Тёркина» и «Страны Муравии» ассоциацию со эмблематическим текстом Брюсова, но одно то, что в почте «Нового мира» обнаруживалось нечто подобное[366], само по себе красноречиво свидетельствует о стихийно возникавших поисках в области форм, введенных в русскую поэтическую практику эпохой Первого авангарда, в том числе и в области моностиха.
Характерно, что – за вычетом работавших в субполе официальной советской поэзии Василия Субботина и Романа Солнцева – на протяжении полутора десятилетий нам встречаются в истории русского моностиха исключительно поэты, определенно связанные с авангардной традицией: прямые или косвенные наследники футуристов, конструктивистов, обериутов. (Единственное, пожалуй, исключение – Леонид Аронзон, исходно настроенный на продолжение иных традиций, но обратившийся к моностиху в свой последний, переломный период в рамках общего значительного «полевения» поэтики.) Правда, как мы видели, непосредственно в текстах иной раз авторы-авангардисты демонстрируют вполне традиционный подход к построению лирического субъекта, образному ряду и т. п., – однако однострочность в этих текстах продолжает функционировать как знак установки на авангардную традицию. Об определенных изменениях в этом положении вещей можно говорить начиная с рубежа 1970–80-х – хотя и в 1980-е гг. круг авторов авангардного толка, работающих с моностихом, продолжает прирастать: так, 1985-м годом датирован первый опубликованный моностих Геннадия Айги (1934–2006):
Поле весной
там чудо покрывает ум [Айги 1992, 74]Фигура Айги в этом смысле показательна. Разумеется, Айги впрямую продолжает традицию русского поэтического авангарда 1910–20-х гг. и сам это свое положение декларирует (напр.: «“Авангардным” я считаю мое постоянное стремление к предельной заостренности поэтического языка… Без осознания новой функции Слова невозможно обновление современной поэзии» [Айги 2001, 145]); неизменно его напряженное внимание к всегда находившимся в области первоочередного внимания авангарда ритмике, стиховой графике, мутациям и трансформациям слова: в данном случае, как отмечает В.И. Новиков, «можно счесть, что это одностишие (моностих) четырехстопного ямба, что в окружении верлибров это своего рода ритмическая “цитата” из классики, хотя в сущности здесь (как и везде у Айги) слово является потенциальным стихом[367] и можно представить такую транскрипцию:
там чудо покрывает ум». [Новиков 2007, 133]Любопытно сопоставить это последнее соображение Новикова с более ранним (1980, еще до появления первого моностиха Айги!) наблюдением С.В. Сигея: у Айги, пишет он, «одна разрастающаяся строка далеко отстоит от следующей; каждая строка может ощущаться отдельным стихотворением – одностроком; словно бы набором следующих друг за другом самостоятельных поэм…» [Сигей 1998, 287] – употребление Сигеем слова «поэма» напрямую отсылает к «поэмам» из «Смерти искусству!» Василиска Гнедова, а тезис о стихотворении как последовательности моностихов предвосхищает составленные из однострочных элементов многочастные композиции, к которым Айги обратился уже в 1990-е гг. (подробнее см. в Главе 2).
В то же время поэтика Айги отличается постоянным обращением к архетипическим образам, чья символика инвариантна по отношению к тем или иным конкретным текстам (приведенный моностих вполне характерен в этом отношении, поскольку образ поля принадлежит к важнейшим для Айги архетипам[368]); в стихах Айги «многогранность метафоры возведена в культ» [Милорава 2003, 361], – эти и некоторые другие особенности поэзии Айги сближают ее с иными, не связанными прямо с Первым авангардом тенденциями модернистской литературы. Именно обращение к моностиху представителей неавангардных ветвей неомодернистской поэзии стало в 1980-е гг. важным событием в истории формы.
Одна сторона этой экспансии формы – интерес к моностиху со стороны авторов метареалистического направления в лице прежде всего Ивана Жданова (род. 1948). Метареализм – это, по М.Н. Эпштейну[369], «реализм многих реальностей, связанных непрерывностью внутренних переходов и взаимопревращений», «метареализм исходит из принципа единомирия, предполагает взаимопроникновение реальностей, а не отсылку от одной, “мнимой” или “служебной”, к другой – “подлинной”» [Эпштейн 1988, 160, 163]. В моностихах Жданова эти принципы представлены с исключительной наглядностью:
Лента Мёбиуса
Я нужен тебе для того, чтобы ты была мне нужна. [Жданов 1990, 49]Осень
Падая, тень дерева увлекает за собой листья. [Жданов 1991, 20]– в первом тексте идея перехода, превращения, обратимости ложится в основу конструкции (особенно примечательна при этом двойная функция названия, выступающего как метафора единства пары, не делимой на две стороны, и в то же время иконически представляющего конструкцию собственно текста), тема второго текста – уравнивание вплоть до неразличимости двух реальностей: тени и того, что ее отбрасывает[370].
Наряду со Ждановым в конце 1980-х гг. к моностиху обращается и один из наиболее важных представителей метареалистической тенденции в следующем поэтическом поколении[371] Михаил Лаптев (1960–1994):
Одеяло Германии красное, ветви его… [Лаптев 1994, 36]– наглядное различие между моностихами Жданова и Лаптева во многом обусловлено, по-видимому, их разным пониманием данной формы: Жданов выносит в однострочный текст наиболее выверенную конструкцию, наиболее простроенный образ, подразумевая в моностихе афористический потенциал, – напротив, Лаптев усматривает в моностихе имплицированную незавершенность, разомкнутость, а потому основывает моностих на герметичном, трудно дешифруемом образе, подчеркивая его неполноту постановкой местоимения в наиболее ударную позицию абсолютного конца строки и текста (заметим также, что у Жданова оба текста завершаются точкой, а у Лаптева – многоточием). Не менее показателен другой лаптевский моностих, опубликованный прижизненно [Лаптев 1991, 99]:
3 (три) букета над холмами.– недостаточность наличного контекста для однозначной дешифровки образа связана с тем, что букеты и холмы не сомасштабны (да и на семантическом уровне связаны с противоречием: собственно природа vs. природа, деформированная культурой) и поэтому плохо совместимы в одном топосе: текст вызывает потребность интерпретировать что-то одно как метафору (например, букет = фейерверк или холмы = женские груди) и в то же время не дает достаточных оснований для такой интерпретации. Любопытно, что в позднейшем издании Лаптева оба этих моностиха обнаруживаются в составе многострочного стихотворения [Лаптев 2012, 56]:
На заданье пошел с половиной Блока – за 9000. Подшефный горел, а койка была одна. И чье-то лицо смотрело, в потемки тычась, из желтого заплаканного окна. И было 3 (три) букета над холмами, и в них одевались встречавшие Рождество. Я мчался сквозь ночь оленем древним, воздев на рога пламя. Одеяло Германии красное, ветви его…– отчетливый блоковский след, заданный первым четверостишием, не проливает света на дальнейшую последовательность образов: контекст расширился, но не сделался яснее (несмотря на то, что 9000 в первом стихе вроде бы указывают на галопирующую инфляцию 1992 года – откуда следует, что в этом случае, в противоположность уже встречавшимся нам многочисленным примерам, не отдельные строки были извлечены для публикации 1991 года из ранее написанного многострочного текста, а, наоборот, многострочное стихотворение втянуло в себя ранее независимые моностихи[372]). Тот же позднейший сборник Лаптева включает зато еще один моностих:
Как не стыдно собакам ходить нагишом! [Лаптев 2012, 69]– риторическая, притчевая эксплицитность этого текста сближает его с работами другого поэтического течения, в котором в этот период зафиксирован интерес к моностиху.
В круг «русского верлибра» 1980-х – начала 1990-х гг. входили, разумеется, не все поэты, писавшие верлибром, а, по словам Ю.Б. Орлицкого, «принципиальные верлибристы» – те, кто создал «своего рода направление, исповедуя в своем творчестве и литературной полемике идею неизбежной “победы” верлибра, ‹…› вытеснения им традиционной силлабо-тоники и тоники» [Орлицкий 2002, 388]. Эстетические ориентиры ключевых фигур этой группы – Владимира Бурича, Вячеслава Куприянова, Арво Метса – во многом сложились под воздействием многолетней работы по переводу умеренно модернистской (особенно восточноевропейской) поэзии[373]. Владимир Бурич (1932–1994), кроме того, был наиболее склонен к теоретизированию по поводу стиха, выдвинув в статье «Типология формальных структур русского литературного текста» [Бурич 1989, 143–156], впервые опубликованной в 1982 г., оригинальную стиховедческую концепцию (см. главу 1). В теории Бурича однострочному тексту, который он называет удетероном и подразделяет не на стихотворный и прозаический, а на метрический («конвенциональный») и неметрический («либрический») [Бурич 1989, 144], уделено довольно много места, однако поскольку Бурич нигде не приводит примеров, ограничиваясь перечислительной констатацией того, что к удетеронам относятся «пословицы, поговорки, надгробные надписи, литературные произведения с древних времен (поздняя латинская поэзия и др.) до наших дней (Брюсов и др.)…» [Бурич 1989, 144], – постольку невозможно судить о том, какие именно моностихи находились в его поле зрения.
Стихи Бурича, вошедшие (вместе с названной статьей и еще двумя текстами научно-публицистического характера) в его единственный прижизненный сборник «Тексты», датированы в общем промежутком с 1952 по 1987 гг. [Бурич 1989, 138]; отдельные тексты в книге не датированы. Правда, первая публикация моностиха Бурича относится к 1980 г.:
Тыквенное поле
О поле битвы долихоцефалов с брахицефалами! [УГЛ 1980, 499]– однако в [Бурич 1989, 109] эта строка (без начального «О») начинает одноименный многострочный текст, и нет возможности установить, имеем ли мы дело с разными стадиями работы над текстом, разными текстами, выросшими из одного источника, как это мы видели у Яна Сатуновского (см. прим. 352 на стр. 227), или с неисправностью публикации К.К. Кузьминского (ср. стр. 206–207).
Два других моностиха, опубликованных при жизни Бурича:
А жизнь проста как завтрак космонавта Разве можно сказать цветку что он некрасив? [Бурич 1989, 31, 108]– парадоксальность их статуса подмечена С.И. Кормиловым: несмотря на то, что Бурич принципиально писал только свободным стихом, эти строки вполне метричны (соответственно пятистопный ямб и пятистопный дольник). Кормилов по этому поводу замечает, что «в контексте верлибра они воспринимаются как вполне свободные, неконвенциональные формы» [Кормилов 1995, 77–78], и это хорошо отвечает его идее о контекстуально обусловленной природе моностиха (см. главу 1), – не исключено, что Бурич, полагавший, что в верлибре «окказиональное появление метрических строк ‹…› совершенно допустимо, так как дисметрический стих имеет большую ассимилирующую силу» [Бурич 1989, 166], согласился бы с такой постановкой вопроса, – хотя несложно увидеть, что ямбический характер первого из двух моностихов обуславливается вовсе не декларированным Буричем для свободного стиха «стремлением к максимальной естественности речевой интонации» [Бурич 1989, 158], а ритмическими соображениями: именно попадание словораздела между словами «жизнь» и «проста» на границу стоп ослабляет эффект затрудненности от стечения четырех согласных. Со стороны поэтики оба моностиха, равно как и текст из антологии Кузьминского, лежат в русле характерных для Бурича построений, заключающих эффектный троп в рамку эксплицитного риторического хода.
Второй сборник Бурича, изданный посмертно, включает 7 моностихов, написанных на рубеже 1980–90-х гг., в разделе «Стихи» и значительное количество однострочных текстов с более или менее явными признаками стихотворности в разделах «Парафразы» и «Из записных книжек», содержащих материалы разных лет начиная, судя по всему, с рубежа 1940–50-х гг. Контекст этих разделов организован таким образом, что соседство безусловно стихотворных и безусловно прозаических текстов создает установку на поиск сигнала стихотворности и позволяет прочесть целый ряд однострочных текстов как моностихи:
Когда мне трудно, я бегу. Море, сжатое в пристань. У обезьян под шкурой розовые щёки. Витя, ты состоишь из молекул… [Бурич 1995, 198, 199, 205, 202]Неизвестно, однако, правомерно ли рассматривать эти тексты как законченные автором произведения – или же как наброски. К сожалению, это издание, подготовленное вдовой Бурича М.К. Павловой, не носит научного характера и, по-видимому, не отражает в полной мере авторской воли (знаменательно уже то, что первый его раздел, включающий и моностихи, озаглавлен «Стихи», с чем Бурич, озаглавивший соответственный раздел своей прижизненной книги «Стихи. Удетероны», безусловно, не согласился бы)[374].
Можно предположить, что именно авторитет Бурича как лидера и теоретика обусловил «своеобразнейшее сближение противоположных форм: моностиха с его сугубо горизонтальным ритмом и верлибра с его установкой на чисто вертикальный ритм самих строк» [Кормилов 1995, 77], зафиксированное изданной в 1991 г. «Антологией русского верлибра», в которую редактор-составитель К.Э. Джангиров включил около 30 моностихов разных авторов. Большинство этих текстов тяготеет к одной из двух тенденций. Одна – построение моностиха как сложной тропеической конструкции, особенно характерное для авторов сложившейся к концу 1980-х гг. донецкой школы верлибра:
Хочу тишины еще не рожденной бабочки. Вера Ансерова (род. 1958) Ласточка имеет вес невысказанного слова. Александр Нежурко (род. 1964) Море – приют пересохших глаз. Сергей Тесло (род. 1965) всё измеряется скитанием небес Сергей Шаталов (род. 1958)[АРВ 1991, 47, 380, 570, 677]– поэтика таких текстов приближается к метареалистической. Собственный моностих Карена Джангирова (род. 1956), опубликованный в Антологии, также от нее недалек, однако джангировский образ гораздо определеннее. Обнаруживаемая в нем метрическая тенденция, вообще свойственная Джангирову в миниатюрах, усилена связывающей все четыре слова аллитерацией:
Птица – стремительный жест пространства. [АРВ 1991, 171][375]Другое течение в моностихе, широко представленное Антологией, сближает его с афоризмом и встраивается в традицию, основа которой была заложена Давидом Бурлюком, Сергеем Нельдихеном, Василием Кубанёвым:
Убить можно только подобное. Андрей Кульба (род. 1963) Темное прошлое – родина светлого будущего. Михаил Кузьмин (род. 1949)[АРВ 1991, 301, 297]«Антология русского верлибра» стала одним из рубежных событий в истории русского моностиха – и не только благодаря тому, что такое количество текстов впервые оказалось собрано под одной обложкой, но и потому, что в рамках Антологии эти тексты не позиционировались как нечто исключительное, а возникали в одном ряду с иными формами как правомерный способ разнопланового поэтического высказывания. Другое рубежное событие, выпавшее на то же время – рубеж 1980–90-х, – это работа с моностихом Владимира Вишневского.
Только в период с 1987 по 1992 гг. Владимир Вишневский (род. 1953) опубликовал в пяти авторских книгах [Вишневский 1987, 1988, 1989, 1991, 1992], а также в нескольких периодических изданиях 236 однострочных стихотворений – что само по себе делает его заметной фигурой в истории формы: прежде никто из русских авторов, обращавшихся к моностиху, не проявлял такой последовательности. Впрочем, в этом отношении Вишневский оказался не одинок: также рубежом 1980–90-х или первой половиной 1990-х гг. датированы около 200 текстов Павла Грушко, около 300 текстов Анания Александроченко, около 400 текстов Валентина Загорянского – вообще появление авторов, для которых моностих оказывается одной из приоритетных форм поэтического высказывания, идет в 1990-е гг. параллельно с ростом круга авторов, обращающихся к моностиху спорадически, и это закономерно, поскольку выразительный потенциал любой формы в одних случаях отвечает определенным особенностям индивидуальной авторской стратегии, а в других – всего лишь удовлетворяет той или иной решаемой автором здесь и сейчас художественной задаче.
В моностихах Вишневского прежде всего обращает на себя внимание устойчивое воспроизведение целого ряда элементов. С.И. Кормилов первым отметил два таких элемента: многоточие на конце стиха (всегда)[376] и ямбический метр (в подавляющем большинстве случаев) [Кормилов 1995, 75–77]. Наши подсчеты, проведенные на большем материале (Кормилов работал с 94 текстами), подтверждают это наблюдение.
Из 236 моностихов, обследованных нами, 213 (т. е. 90 %!) написаны пятистопным ямбом. Еще 4 текста приходятся на шестистопный ямб, 15 – на трехсложные размеры (анапест – 10 текстов, амфибрахий – 4, дактиль – 1), оставшиеся 4 текста не поддаются однозначной метрической трактовке[377]. В [Вишневский 1989, 46] еще встречался один хореический текст, но затем Вишневский и его переводит в ямб, добавляя в начало союз «и»:
И даже в том, как в двери мы проходим… [Вишневский 1991, 7]Р.Л. Смулаковской намечено также тяготение Вишневского к некоторым характерным синтаксическим конструкциям, воспроизводящим типовые зачины лирической поэзии XIX века (особенно восклицательные, с начальными «Как» и «О») [Смулаковская 1997, 132–133]. Вполне естественно, что за метрическими, графическими, синтаксическими константами моностихов Вишневского просматривается и вполне унифицированный характер их содержания. Основу тематического диапазона Вишневского составляют мотивы эротических побед (и изредка, для разнообразия, конфузов):
А незнакомок я целую робко… Был отвергаем, но зато – какими!.. [Вишневский 1987, 21, 20]– финансовых затруднений (впрочем, не катастрофических):
Во что же верить, вкладывать наличность?!.– и ироническое соотнесение собственной малости с окружающим миром при недвусмысленно подразумеваемом превосходстве первой над вторым[378]:
Давно я не лежал в Колонном зале… [Вишневский 1987, 20]Действующий во всех этих текстах лирический субъект неизменно тождествен самому себе и сочетает куртуазность, понятую как манерность (характерная черта – часто повторяющееся обращение к несимпатичной женщине «мадам»), с неприкрытым хамством[379]:
Мадам, простите, я не археолог!.. Я в душу вам?! но я же не доплюну!.. [Вишневский 1998, 93, 114]Видно, что все эти устойчивые элементы моностихов Вишневского «являются приемами доминирующими, т. е. подчиняющими себе все остальные приемы, необходимые в создании художественного целого» [Томашевский 1996, 207] – таким образом, моностих Вишневского оказывается не чем иным как жанром – «устойчивым тематически, композиционно и стилистически типом высказывания» [Бахтин 1986, 255], характеризующимся «как внешней формой (метром или структурой), так и ‹…›, грубо говоря, темой и адресатом (subject and audience)» [Wellek, Warren 1949, 241][380]. Собственно, Г.В. Малышева уже отмечала, что моностихи Вишневского выразительно демонстрируют, как в новейшей поэзии «созидание авторской оригинальной жанровой модификации становится одним из важнейших художественных приемов в определении суверенности своего поэтического мира» [Малышева 1996, 45]. Сам Вишневский охотно говорит о жанровом характере своих текстов: «Моностих, однострочник, или просто лирическое одностишие – жанр не новый, но – хорошо забытый старый. ‹…› Традиция, скорее брюсовская, нежели карамзинская, оказала на автора непреодолимое влияние» [Вишневский 1992, 16], – здесь, правда, присутствует неразличение жанра и формы, так что жанром именуется моностих сам по себе; в дальнейшем Вишневский уточнит формулировки: «В поэзии эта форма встречалась и раньше – у Карамзина, у Брюсова. Но я “застолбил” это как жанр…» [Вишневский 1997].
Именно жанровый характер моностихов Вишневского, надо полагать, обеспечил этим текстам возможность перехода в субполе массовой литературы[381], а самому Вишневскому – широкую популярность. В массовом читательском сознании моностих стал ассоциироваться с текстами Вишневского исключительно[382]. Созданный Вишневским жанровый канон в 1990-е гг. стал эксплуатироваться достаточно широким кругом авторов (подробнее см. в разделе 4.3), по большей части – с отчетливым осознанием генезиса поэтики: характерна в этом отношении редакционная врезка к публикации в «Литературной газете» моностихов Никиты Богословского, поясняющая: «В открытом им (Вишневским, – Д.К.) микромире однострочного стихотворения появился еще один его верный последователь» [ЛГ 1992, 16].
Взлет популярности Владимира Вишневского и его моностихов вызывал, по-видимому, у части литераторов ответную реакцию – желание «защитить» профанируемую форму, дать ей возможность реабилитации, или же просто предложить собственные решения, достаточно далеко отстоящие от мгновенно автоматизировавшегося эстрадно-иронического однострочного текста. С другой стороны, и без того к рубежу 1980–90-х гг. монополию авангардно ориентированных групп и авторов разрушила работа с моностихом приверженцев других поэтических традиций, а частично отразившая этот процесс «Антология русского верлибра», несмотря на неоднозначное восприятие самими поэтами, оказала значительное влияние на литературную и читательскую среду, популяризируя заодно с верлибром и моностих. На этот же период пришлось и третье принципиально важное для развития моностиха событие: обращение к однострочному тексту нескольких хорошо известных советских авторов старшего поколения, ощутивших на переломе культурных эпох потребность в обновлении своего формального репертуара.
Первым в этой группе авторов был, по-видимому, Кирилл Ковальджи (род. 1930), опубликовавший 7 моностихов в книге 1989 г. «Звенья и зёрна»:
Осознал. Содрогнулся. Привык… В семи театрах каждый день играю… Какое будущее у прошлого? [Ковальджи 1989, 62–63]К началу 1990-х относятся тексты Льва Озерова (1914–1996):
Из рук твоих мне мягок черствый хлеб. [Кузьмин 1996, 79]Повесть
От заботливых жён убегают мужья.– и Игоря Шкляревского (род. 1938):
Белая ночь
Озёра спят с открытыми глазами.Прощание с рекой
Блесна разбила тонкий лед на плесе. [Шкляревский 1995, 11]– первый текст ранее публиковался в качестве начального стиха в многострочном стихотворении «Белая ночь в Карелии» [Шкляревский 1984, 104].
Сознательную полемичность этих текстов по отношению к моностихам Владимира Вишневского не следует исключать, учитывая среди прочего и то обстоятельство, что половина их написана тем же пятистопным ямбом. Этим же размером, однако, был написан и первый опубликованный в новейшее время моностих Василия Субботина, по отношению к которому можно усмотреть определенную преемственность в риторичных и публицистичных моностихах Ковальджи. Очевидным претекстом для моностихов Озерова выступает моностих Александра Гатова, причем в первом случае Озеров следует за Гатовым в структуре образа (выраженная метафорой психологическая деталь через предъявленный момент репрезентирует достаточно длительный период жизни), а во втором – в названии.
Кроме того, к 1980-м годам относятся две книги Валентина Сидорова (1932–1999), в составе которых обнаруживается ряд однострочных элементов: циклы «Ступени», «Путь» и «Ключ», вошедшие в [Сидоров 1982], содержат 24 одностишия (в том числе два с «лесенкой»), в [Сидоров 1985] они перепечатаны с добавлением четвертого цикла, «Напутствие страннику», включающего еще один однострочный фрагмент. Все четыре цикла представляют собой последовательность кратких (до трех строк) метризованных наставлений и нравоучений, отражающих многолетнее увлечение автора идеями Николая Рериха; о степени самобытности взглядов и стихов Сидорова дает хорошее представление одностишие
Коль ты стучишься, то тебе откроют. [Сидоров 1985, 121]– подозрительно напоминающее слова Нового Завета (Мф. 7:7, Лк 11:9), но с повторенным лишний раз ради попадания в размер личным местоимением. Корректнее было бы интерпретировать эти сочинения Сидорова как многочастные единства – невозможность извлечь отдельные части из их окружения в ряде случаев очевидна:
–
Противоречья – это от ума, А сердце всё объемлет и приемлет.–
Оно не рассуждает, а живет.–
Твори и действуй в излученьях сердца! [Сидоров 1985, 115]–
Сердце мои разрывает одежды.–
Соединяюсь с миром и Вселенной Через его толчки. [Сидоров 1985, 120]Тем не менее сам автор в предуведомлении ко всем четырем текстам последовательно говорит о «стихах, образовавших циклы» [Сидоров 1985, 96], – и находит отклик у критика Г. Кондакова, полагающего, что «его моностихи не часть целого, а законченные стихотворения, потому что в них выражена концепция мира и человека», и далее на этом основании делающего не только сомнительный вывод о том, что «чаще всего однострочные стихотворения строятся по принципу афористической речи», но и вполне справедливое заключение о том, что «сейчас, когда накопилось множество моностихов, утверждение, что самое короткое стихотворение – двустишие, не соответствует реальному положению дел в поэзии» [Кондаков 1987].
Результатом трех названных процессов стало существенное расширение в 1990-е годы как круга авторов, работающих с моностихом, так и вариантов опробуемой в этой форме поэтики, – на фоне установления «гетерогенного, плюралистичного литературного ландшафта, включившего в себя наследие различных традиций, как советского, так и досоветского времени, а также и западного происхождения» [Шталь, Рутц 2013, 3].
4.3. Основные направления развития русского моностиха в 1990–2000-е гг.
Попытки предложить жанрово-стилевую типологию моностиха, обозначить основные направления его развития предпринимались, как уже было отмечено, на рубеже 1950–60-х гг. И.Л. Сельвинским [Сельвинский 1962, 113–114] и В.Ф. Марковым [Марков 1994, 346–347] – и носили, можно сказать, преждевременный характер в силу весьма незначительного количества текстов, которыми располагали оба исследователя. По ходу нашего исторического обзора мы, опираясь на куда больший корпус текстов – как за позднейший по отношению к работам Сельвинского и Маркова период, так и относящихся к предшествовавшему периоду, но Сельвинскому и Маркову по тем или иным причинам недоступных, – уже наметили кое-какие жанрово-стилевые тенденции в развитии моностиха. Однако лишь материал последних двадцати лет, когда счет создаваемых моностихов пошел уже на сотни, позволяет описать спектр основных возможностей, реализуемых разными авторами в этой форме, – не претендуя, естественно, на системную полноту. Методологическим препятствием для такого описания выступает отсутствие разработанной типологии современной лирической поэзии; за неимением альтернативы мы группируем материал ad hoc, опираясь, с одной стороны, на предположения наших предшественников, а с другой – на эмпирически наблюдаемые в популярном дискурсе о поэзии квалификации, представляющие собой, собственно говоря, остатки нормативистской жанровой номенклатуры и тематической классификации описательного литературоведения. При всей проблематичности этого аппарата он оказывается приемлемым для нашей задачи – представления широкой вариативности реализуемых в форме моностиха поэтик.
И Сельвинский, и Марков считают необходимым начать разговор о возможных традициях в моностихе с античной стилизации. Мы уже отмечали (стр. 210 и прим. 330 на стр. 214), что конкретный способ привязки русской традиции к античной в обоих случаях достаточно сомнителен. В то же время аналогию с античной эпиграммой в той или иной ее разновидности – от древнейшей (надписи на архитектурных сооружениях, предметах и т. п.) до поздней (сатирические миниатюры Марциала) – можно провести во многих случаях, особенно когда речь идет об иронической поэзии – начиная с моностиха Александра Гатова, однако сложно поручиться, что эта аналогия не будет случайной и произвольной. Явные же признаки ориентации на античность при всей обширности изучаемого материала встретились нам лишь в одном тексте:
Руку в фонтан протяни: радугу сделаешь сам. Эд. Варда (род. 1937)[Кузьмин 1996, 69]– эпиграмматичность этого текста (выражающаяся в соотнесенности с предметом: так могла бы выглядеть надпись на фонтане) подкреплена его метрикой: имеющим однозначный античный ореол пентаметром. Таким образом, говорить о существовании в русском моностихе антикизирующей традиции не приходится.
Нами зафиксированы еще два моностиха, метрика которых может вызывать античные ассоциации. Один из них представляет собой пятииктный дольник такого типа, какой образуется усечением гексаметра на одну стопу:
Камень ко дну, а сердце стремится к покою. Татьяна Михайловская (род. 1943)[Михайловская 1995, 13]– представление об этом размере как деривате гексаметра и положение об удержании им античной семантики были бегло сформулированы М.Л. Гаспаровым [Гаспаров 1999, 222] и тщательно проанализированы М.И. Шапиром [Шапир 2000b]; сам текст ближе к гноме, чем к эпиграмме. Второй текст – однозначно связанный с античной семантикой пентаметр:
Вишня зимой расцвела: иней на черных ветвях… Юрий Скоробогатов[Кузьмин 1996, 69]– однако здесь античный ореол метра не получает никакой поддержки по жанровой линии (невозможно сблизить этот текст с эпиграммой в любом понимании термина), а метафорика и предметный ряд вступают с ним в противоречие. Моностих Юрия Скоробогатова (род. 1962) представляет собой своеобразный гибрид двух традиций, намеченных Марковым: античной и восточной («пересаживание на европейскую почву ориентальных и иных экзотических форм» [Марков 1994, 346–347]), поскольку цветы вишни – традиционный образ японской лирической поэзии.
Вопреки Маркову, на протяжении всего XX века линия, возводящая моностих к японской поэтической миниатюре, прежде всего – к хайку, в русской традиции отсутствовала, в том числе и потому, что канонические переводы Веры Марковой закрепили трехстрочность как обязательное свойство хайку. Характерно, что единственная (до конца 1990-х: см. стр. 101–102) известная нам в русской литературе по данному вопросу попытка поставить эту обязательность под сомнение принадлежит зарубежному исследователю: «Когда я смотрю на русские переводы Веры Марковой… меня поражает, что они всегда расположены в три строки… Тем самым плохо осведомленному читателю невольно внушается, что хайку является трехстишием, между тем как речь идет о моностихе, разделенном на три группы слогов» [Этьямбль 1976, 546][383]. Появление моностиха, ориентированного на хайку, следует отнести к 1990-м гг., когда вообще значительный интерес русской читательской и авторской аудитории к переводным хайку начал конвертироваться в создание оригинальных текстов в этом жанре, в том числе и опирающиеся на отличные от переводов Марковой образцы. Наиболее определенным знаком происхождения моностиха от хайку выступает образный ряд, как в приведенном выше моностихе Юрия Скоробогатова или в следующем моностихе Александра Арфеева (род. 1968):
Возвращаясь с прогулки
уличный фонарь зажег огоньки на обледенелых ветках сливы [Арфеев 1992, 99]– природный образ, жестко привязывающий рисуемую картину ко времени года, соответствует принадлежащему к «доминирующим приемам» [Томашевский 1996, 207] жанра хайку «сезонному слову» (киго) (см., напр., [Сиране 2002, 87–89]). Близкие друг к другу тексты Скоробогатова и Арфеева явным образом апеллируют к традиционным «сезонным словам» японского хайку (в частности, «цветок вишни» – «hana» – одно из наиболее популярных «сезонных слов»: см., напр., [Higginson 1996, 21, 47, 55, 93]).
Особенно последовательно работает в направлении японской стилизации владивостокский поэт Александр Белых (род. 1964), известный также переводами средневековой японской поэзии: некоторые его тексты включают не только традиционные сезонные слова киго, но и менее характерный для западного хайку элемент традиционной поэтики – названия исторических местностей (meisho):
ветер в Ёсино сквозь ветви белых вишен рваной дымкой[384]Однако другие авторы используют неклассические (хотя и вполне естественные для русской поэзии) приметы времени года, а то и вовсе применяют, в соответствии с практикой поэтов-реформаторов классического хайку [Higginson 1996, 22–23], «что-то вроде “слова окружающей среды” вместо “сезонного слова”» [Андреев 1999, 333]:
Снег идет очередь стоит от хвоста к голове всё белее и белей Михаил Малов (род. 1961)[Малов 1996, 34] Заходит солнце, удлиняя тени, укорачивая нас. Ася Шнейдерман (род. 1968)[Кузьмин 1996, 81] закатный отсвет на помойном ведре Павел Соколов (род. 1946)[Соколов 1994] остановился на мосту – оба берега в тумане Алексей Андреев (род. 1971)В этих текстах на передний план выходит другой жанрообразующий признак хайку – «глубинное сопоставление» (internal comparison [Henderson 1958, 18]), то есть соположение двух образов (из которых один принадлежит к миру природы, другой же, в большинстве случаев, относится к человеку или его предметному окружению), не принимающее формы сравнения или иного тропа, но сохраняющее за каждым собственную идентичность, так что эти образы оказываются «не столько уподоблены, сколько взаимосвязаны» [Ross 2002, 24].
По всей видимости, к хайку восходят и некоторые другие моностихи, гораздо дальше уклоняющиеся от жанрового канона. В первую очередь это относится к значительному массиву текстов Валентина Загорянского (1944–2012):
Полоска снега… Под дверью… Тишина… Певчая!.. [Загорянский 2000, 100–101] Тишина… Из одуванчиков…Определенная двусоставность в этих текстах также присутствует, однако такое ключевое у Загорянского понятие, как тишина, для хайку носит чересчур отвлеченный характер: канон хайку требует не называть его, а показывать[385]. Загорянский редуцирует до минимума предметный материал хайку, стремясь выделить в чистом виде его эстетическую основу, переживание «mono no aware» – заключенную в вещах (явлениях) способность вызывать эмоциональный отклик.
Еще один тип моностиха, ориентированного на определенный жанр-прототип, выделяет Марков, указывающий на возможность развития моностиха из пословицы. Хотя моностихи Ильи Сельвинского и Давида Бурлюка можно причислить к этому типу, но традиция фольклорной имитации в русском моностихе не сложилась – возможно, в связи с тем, что в новейшей русской поэзии ориентация на фольклор стала связываться с эстетическим и идейным консерватизмом, противопоставляясь авангардному поиску формы. Отдельные опыты этого рода встречаются, однако, у Нирмала (Алексей Тимофеенко, род. 1957) – одного из тех авторов, кто наиболее последовательно обращается к форме моностиха:
не каждый охотник у кого ружьё у Прокопа работа попойка да блевота Семён Матрёну матом а она его ухватом попал в кашу а вылез из щей [Нирмал 2003, 83, 84, 117][386]Однако этот тип текста составляет лишь незначительную долю в общем массиве сочинений Нирмала (только в издание [Нирмал 2003], имеющее подзаголовок «Избранные моностихи», вошло 575 однострочных текстов) – и спектр жанрово-стилевых возможностей, к которым прибегает Нирмал в этой форме, весьма разнообразен[387].
Другой автор, чьи моностихи заметно ориентируются на пословичные модели, – Виктор Полещук (род. 1957), в чьем неопубликованном сборнике миниатюр «Угловой нуль» нам встретилось около сорока однострочных стихотворений (точную цифру назвать невозможно, поскольку авторская рукопись книги не доведена до стадии беловика и включает ряд читаемых, но, вероятнее всего, вычеркнутых автором текстов):
Багдад Тель-Авиву не брат. Пятки не лезут в тапки. С ложью не войти в Богово жильё.Как и у Нирмала, в моностихах Полещука используется ряд типично пословичных приемов, в т. ч. внутренняя рифма (иной раз, впрочем, слишком изысканная для фольклора, как в последнем примере) и характерное обобщение через отрицание. Большинство текстов «Углового нуля», впрочем, двустрочно.
Авангардно-абсурдистская линия в развитии моностиха, отмеченная Сельвинским и никак специально не выделенная Марковым, дала, как мы уже замечали (стр. 155), несколько ветвей. Наиболее радикальная из них, идущая от Василиска Гнедова, Василия Каменского, Юрия Марра, к 1980-м гг. фактически пресеклась: в 1990-е мы практически не находим моностихов, написанных заумью или построенных на тех или иных радикальных словесных деформациях. Впрочем, к моностиху продолжали спорадически обращаться не чуждающиеся зауми авторы, уже опробовавшие эту форму прежде: так, 1991 годом датирован моностих Сергея Бирюкова
сильку мёд [Бирюков 1994, 67]– а в цикле Сергея Сигея «Новые одностроки» (1998) обнаруживается и один заумный:
тымбр ымбр [Сигей 2001b, 27]Как продолжение укорененных в футуристической поэтике опытов Ры Никоновой с разложением слов и пересегментацией речевого потока можно рассматривать отдельные моностихи Сергея Муштатова (род. 1969):
вер нерест не в рее стр.– и Наталии Азаровой (род. 1956):
лес сле пой по сле [Азарова 2011, 135]Абсурдистское течение в моностихе, идущее от Гнедова же к Даниилу Хармсу, в чистом виде также почти не встречается – впрочем, опыт поэзии абсурда явно учтен в некоторых текстах Нирмала:
светлого будущего скорлупу яичную и сахарную шел день с Ворошиловский лес одиннадцатая эпилепсия посидим [Нирмал 2003, 59, 26, 79]В этих и некоторых подобных моностихах Нирмала инструментами создания абсурда выступают нарушения семантической сочетаемости («сахарная скорлупа»[388]), референциальная неопределенность (конструкция «существительное + предлог “с” + существительное в винительном падеже» используется для обозначения размера первого референта через приблизительное соответствие размеру второго референта: ср. «мужичок с ноготок», – однако в данном тексте размер второго референта неизвестен), неопределенность синтаксической структуры. Чаще, однако, Нирмал пользуется этими приемами в иных целях – прежде всего, в иронических:
вытяжка из врача [Нирмал 2003, 33]– вытяжка в медицине – лекарственная форма, полученная посредством извлечения действующего компонента из лекарственного сырья (в котором он содержится наряду с различными другими веществами); приравнивание врача к лекарственному сырью, из которого еще нужно выделить целительные свойства, создает иронический эффект.
Именно иронический, игровой моностих становится в 1990-е гг. одним из наиболее распространенных способов художественной интерпретации формы. Внутри этой тенденции можно выделить, далее, несколько основных подходов.
Понимание моностиха как игровой формы, позволяющей максимально насытить малый объем текста паронимическими или аллитерационными ходами, уже встречалось нам в некоторых текстах Леонида Виноградова. В 1990-е гг. оно было подхвачено Германом Лукомниковым (род. 1962), в т. ч. в текстах, написанных под псевдонимом Бонифаций:
Да, снег – радость негра. Выпью я, допустим, яда. Про Кастро строка.В моностихах некоторых других поэтов звуковая игра также приобретает самодостаточный характер:
Где гуляют галантные голые галлы? Рафаэль Левчин (1946–2013)Наиболее последовательно работал в этой области укрывшийся за псевдонимом[389] Ананий Александроченко (род. 1961), автор самиздатского сборника «Ключи и скважины: Спорадическая рапсодия», появившегося в Санкт-Петербурге в 1990 г. Некоторые его тексты асинтаксичны и предъявляются (отчасти благодаря оформлению косой чертой вместо знака препинания) именно как члены паронимического гнезда:
голый бог / голубок для солдата / соглядатай Ладога / догола / недолго / недолгал[390]– этот тип текста сближается с «текстами-примитивами» в терминологии Л.В. Сахарного, характеризующимися невыраженной синтагматикой и специфической коммуникативной структурой (темы опущены, даны только ремы), в которых «на факт взаимосвязи <слов> указывает само их соположение, которое тем самым и становится простейшим средством выражения связности, передающим бытийную, недифференцированную связность, означающим, что связь между ремами имеет место» [Сахарный 1991, 231]. В тех случаях, когда между паронимами возникает семантическое взаимодействие, оно не охватывает весь текст и не превращает его в завершенное высказывание: так, в последнем тексте первые три слова могут «встретиться» в семантическом поле «купанье», однако окказиональный глагол «недолгать» в него никак не вписывается, – семантическая разомкнутость текста составляет основу его художественного эффекта.
Другие тексты Александроченко построены по синтаксическим моделям, характерным для разговорного стиля речи, и позволяют легко достроить коммуникативную ситуацию:
Сметана? Места надо знать! Окстись, таксист! Антониони! но не то, не то…– в этих текстах ирония выражена сильнее, в том числе и благодаря тому, что такая интенсивная и эксплицитная аллитерация в XX веке, начиная с активно пользовавшихся этим приемом Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Вячеслава Иванова, связывается с возвышенным лирическим материалом и здесь создает контраст с разговорным стилем и бытовыми реалиями. Впрочем, иронические тексты, построенные на стилистическом контрасте, находим и среди асинтаксических моностихов Александроченко:
дилемма / деревня Парнас / носопыркаСпорадически и у других авторов различные способы звуковой организации текста, и прежде всего паронимическая аттракция, обеспечивают, выступая на первый план, общую игровую заостренность текста:
ветхозаветного партхозактива Михаил Нилин[Нилин 2002, 79] Казны убудет – казнить будут. Семен Беньяминов (род. 1935)[Беньяминов 2009, 52] Травы, травы в огороде, всё отравлено. Евгений Капитанов (род. 1954)Однако сами по себе приемы этого ряда не привязаны к общему игровому или ироническому характеру текста и могут не выдвигаться на первый план, приобретая иное, подчиненное иным художественным задачам функциональное значение (см. ниже). С другой стороны, игровой моностих может строиться на других приемах.
Легко выделяется группа текстов, построенных на тех или иных способах деформации языковых единиц:
Узри, Господь! Побит Твой дщерь! Владимир Соколов (род. 1956) Звездей нам с неба не хватить! Андрей Попов (род. 1963)– оба автора принадлежат к кругу выходившего на рубеже 1980–90-х гг. в Луганской области самиздатского «Чешского освободительного журнала…», культивировавшего вообще свойственные позднему самиздату игровые формы (см. подробнее [Кузьмин 1998, 211]). В первом тексте демонстрируемая согласованием перемена рода существительного с финалью «‐ь» (т. е. не имеющего в именительном падеже признаков различия по грамматическому роду), встречающаяся иногда в новейшей поэзии и чаще всего протекающая в направлении от мужского рода к женскому в связи с указанием на референт – существо женского пола (подробно [Зубова 2000, 277–280] – с примерами «баловень», «медведь» и др.), вызывает комический эффект благодаря тому, что к референту – лицу мужского пола отнесено слово, в значении которого определенно закреплен женский пол, – при этом, впрочем, вскрывается языковая лакуна: заимствованное из церковнославянского «дщерь» выступает как архаизм и поэтизм, синонимичный нейтральному «дочь», тогда как у нейтрального «сын» такого стилистически маркированного синонима нет. Во втором тексте мотивированность словесных деформаций (форма слова «звезда» образована по третьему склонению вместо первого[391], входящий в состав фразеологизма глагол «хватать» заменен на похожий и родственный «хватить», ни в одном из значений не обладающий такой сочетаемостью: прямое дополнение + родительный места с предлогом «с») менее очевидна: возможно, художественный эффект мыслился автором в том, что деформация фразеологизма обнажает многозначность глагола, позволяя двойную интерпретацию всего текста («звёзд нам с неба не достать» vs. «звёзд нам с неба недостаточно»).
Особый тип словесных деформаций широко представлен в текстах Вилли Мельникова (род. 1962), использующего и в своих стихах (как одно-, так и многострочных), и в прозиметрических текстах, и, наконец, в визуально-поэтических композициях («фотостихоглифы» – авторские фотографии с вмонтированными в них стихотворными подписями) слияние слов с наложением их сегментов – лингвистическое средство, для которого в современном языкознании утвердился[392] термин «контаминация». Наблюдающаяся в 1990-е гг. «особенная активность <контаминации> в современной поэтической речи» отмечена Н.А. Николиной на примерах из разных авторов [Николина 2004, 91], но только у Мельникова, пожалуй, контаминация выступает как значимый элемент авторского идиолекта:
Игумен пропалывал свой Богород, Желудочеряю сиротскую кашу, Голодный сэндвич бутербредит маслом, Как дочитать роман многосимптомный? Паровоз порессорился с вагонами,– только в первом случае, впрочем, чистое наложение, в остальных – в сочетании с различными другими способами неморфологического словообразования[393]. Отличительной чертой текстов Мельникова является также использование иноязычной лексики, в т. ч. в контаминированных образованиях:
Гляжу вагонам вслед с раз'look'оризной,Большинство мельниковских текстов этого рода представляют собой самодостаточную словесную игру, хотя в отдельных случаях в них присутствует и, к примеру, лирико-философское начало:
Вчерашпиль мне царапает глазавтра, [Мельников 1994, 7]Определенное родство с текстами Мельникова демонстрирует и моностих луганского поэта Сергея Панова (род. 1951):
Заманил к себе домой ловушку.Слово «ловушка» в этом контексте осмысляется, при сохранении собственного значения, еще и как окказионализм, образованный наложением русского «девушка» и английского «love»; такое строение конечного слова в стихе ретроспективно отбрасывает свет на его начальное слово, в звуковом облике которого выступает английское «money», осмысляемое как инструмент заманивания. (Этот смысловой слой не отменяет, разумеется, игры с основным значением слова «ловушка»: то, что само заманивает, превращается в то, что заманивают.)
Наконец, в основу словесной игры может ложиться омонимия:
речью невиданных крыл [Нирмал 2003, 89]– комический эффект возникает благодаря тому, что один из омонимов маркирован как принадлежащий к возвышенно-поэтическому стилю речи (форма родительного падежа множественного числа «крыл» при нейтральном «крыльев»), а другой (форма прошедшего времени от глагола «крыть» в значении «бранить») – как относящийся к сниженно-разговорному стилю (словарная помета «грубо просторечное» [ССРЛЯ, 5:1758]). Впрочем, этот прием Нирмал использует в разных текстах, и далеко не всегда комизм перевешивает (ср. стр. 292).
Еще один тип иронического моностиха – это «моностих Вишневского», развивавшийся начиная с 1990-х гг. преимущественно по экстенсивной линии: к жанру Вишневского обратились многие авторы, по большей части никак или почти никак не социализированные в качестве литераторов, – впрочем, среди этих авторов можно найти и достаточно известных, пусть в другом качестве: композитора Никиту Богословского (1913–2004), профессора философии Арсения Чанышева (1926–2005), писавшего стихи под псевдонимом Арсений Прохожий, рок-певца Олега Чилапа (род. 1959) и рок-певицу Ольгу Арефьеву (род. 1966). Постепенное формирование сепаратных механизмов литературной социализации и трансляции символического капитала (вплоть до напутственных предисловий давно выступающих с моностихами авторов к публикациям дебютантов[394]) ведет к складыванию отдельного сообщества, хотя и не столь выраженного, как сообщество авторов хайку. Особенно многочисленны публикации «моностихов Вишневского» в Интернете, вплоть до появления специализированных сайтов: odnostishki.kulichki.net в 1998 году, odnostishia.ru в 2008 году. Тексты такого рода лежат на грани массовой литературы и «субполя наива» (в терминологии Д.М. Давыдова [Давыдов 2003, особенно 46–47]).
Жанрообразующие признаки «моностиха Вишневского», по-видимому, схватываются достаточно легко, поскольку точность их воспроизведения во многих случаях весьма высока:
Куда ни плюнь – везде родные лица. Роман Козлов (род. 1976)[Козлов 1993] Как сладко быть единственным для многих!.. Александр Габриэль (род. 1961)[Габриель 2009, 55] Я весь в себе, в тебе я лишь чуть-чуть… Павел Слатвинский (род. 1963) У Вас не рёбра, а сплошные бесы… Вадим Цокуренко (1938–2012)– удержаны и пятистопный ямб, и (кроме первого текста) многоточие в конце строки, и тип лирического субъекта («куртуазный хам»), и основная тематика. Обязательно, как и у Вишневского, многоточие в моностихах Анатолия Анисенко (85 текстов), Алексея Ковалёва (33 текста), Владимира Кудрявцева (22 текста), Павла Слатвинского (17 текстов). Доля ямба в моностихах Анисенко (92 % – 78 текстов из 85), Ковалёва (100 % – 33 текста), Ольги Арефьевой (95 % – 126 из 133), Никиты Богословского (100 % – 45 текстов), Леонида Буланова (96 % – 23 из 24) сопоставима с их долей у Вишневского (92 %) – особенно выразителен в этом отношении опубликованный в Интернете отзыв Арефьевой о моностихе Игоря Лавинского (род. 1983):
…А у меня нет даже денег!– по поводу которого Арефьева замечает: «Как-то размер не соблюдён. Лучше уж “А у меня с тех пор нет даже денег!”» – требуя, таким образом, преобразования четырехстопного ямба в нормативный для «моностиха Вишневского» пятистопный [Лавинский 2004]. Нередко воспроизводятся и необязательные свойства «моностиха Вишневского» – например, спорадически встречающееся у него (нами отмечено 14 текстов) обращение «мадам»:
Мадам! Опять разделись вы некстати. Игорь Шморин (род. 1960) Мадам, ваш муж мне снова изменяет! Ольга АрефьеваВ то же время непрофессионализм авторов, их низкая речевая культура неизбежно приводят к сбоям, ошибкам, выпадению из жанрового канона. В рамках «моностиха Вишневского» явным сбоем выглядит, например, удлинение ямбического стиха до семи и даже девяти стоп:
Мужчину можно приручить, но одомашнить трудно. Как трудно опираться на плечо сидящего на шее мужа! Наталья Хозяинова (род. 1978)[Хозяинова 2004]В качестве ошибки, непопадания в жанр следует, вероятнее всего, рассматривать и употребление в «моностихе Вишневского» вульгаризмов:
Бывало, доберешься до параши… Андрей Мурай (род. 1954)[Я одностишьем… 1992] Не так страшна я, как ты нализался. Татьяна Воронцова[Вишневский 2001, 595][395]Наконец, нередки в «моностихах Вишневского» и собственно речевые ошибки:
Доставлю удовольствие наложным платежом. Наталья Хозяинова– вряд ли есть основания в этом случае интерпретировать употребление несуществующего слова «наложный» как прием – контаминацию слов «наложенный» и «ложный»[396].
Степень воздействия моностиха Вишневского как прототипического образца на непрофессиональных авторов особенно рельефно выступает на примере Авессалома Подводного (род. 1953), известного преимущественно как автор эзотерической литературы. Один из его стихотворных сборников включает раздел «Одностишия» [Подводный 2001, 100–110], в котором собраны 55 текстов, исключительно ямбических (от 5 до 7 стоп, с различной каталектикой); их усточивым свойством является также центрированность на лирическом субъекте: 38 текстов содержат прямое указание на первое лицо (местоимение либо глагольную форму). По своим тематическим и стилистическим характеристикам моностихи Подводного также лежат в русле традиции, сформированной Владимиром Вишневским, хотя в образе лирического субъекта цинизм в духе Вишневского замещен своеобразной агрессивной сентиментальностью, особенно заметной в текстах, написанных от женского лица:
О, как настойчиво любимой я внимаю! Я никогда не плакала напрасно! Я милого целую беспощадно. [Подводный 2001, 110, 107, 108]Между тем другая книга Подводного, предваренная авторским замечанием: «Пишу прозой, но втайне надеюсь: а вдруг она ритмическая?» [Подводный 1997, 16], целиком состоит из афоризмов, большинство которых выходят за пределы одной полиграфической строки и не обнаруживают никакой ритмической структуры, – однако в нескольких случаях тексты достаточно коротки, чтобы остаться однострочными, и легко опознаются как метрические:
Ложь и лесть суть формы черной магии. Молчание – золото… если, конечно, не подлость. Этот мир не так легко обидеть. [Подводный 1997, 10, 48, 63]В рамках нашего принципиального подхода можно сказать, что метрические тексты встречаются в этой книге настолько редко, что установка на поиск ритмического сигнала не возникает, и метр приведенных текстов не приобретает сигнальной функции, прочитывается как случайный метр прозы. Однако нам в данном случае интересно то, что этого метра не слышит и сам автор: похоже, что авторским сознанием Подводного в контексте «моностиха Вишневского» не только неметрический, но и хореический или амфибрахический однострочный текст не воспринимается как стихотворный; характерно, что ни одного ямба у Подводного среди «случайных метров» нет.
Что касается собственного творчества Владимира Вишневского в области моностиха, то существенных изменений оно с начала 1990-х гг. не претерпело – при том, что от издания к изданию автор менял последовательность и композицию текстов, вносил изменения в сами тексты[397].
В особый тип игрового моностиха можно выделить тексты, целиком построенные на интертекстуальной игре, чаще всего – в форме перифраза: начало этому типу текста было положено, как теперь выясняется (стр. 163–164), не Владимиром Марковым, а Сергеем Нельдихеном (и оба вряд ли ориентировались на мировой претекст – книгу Поля Элюара и Бенжамена Пере «152 пословицы на потребу дня», вышедшую в 1925 году[398]). Типология текстов-перифразов была построена Г.Е. Крейдлиным [Крейдлин 1989] на материале малой прозаической формы; в моностихе некоторые типы не представлены, поскольку значительно удлиняют исходный текст – тогда как моностих-перифраз в большинстве случаев стремится к сохранению метрики оригинала. В силу этого наиболее распространенный тип трансформации в моностихе – подстановка (субституция):
Дай, джинн, на счастье лампу мне! Михаил Безродный (род. 1957)[Безродный 1996, 69][399] Как хороши, как свежи были розги… Георгий Ковальчук (род. 1937)[Ковальчук 1994]– и, в виде альтернативы:
Как хороши, как свежи были рожи!.. Вадим Перельмутер (род. 1943)[Перельмутер 1997, 163, с названием «Утреннее впечатленье»] и не кончается распятье Иван Ахметьев[Ахметьев 2014, 146] Покайся, Карпократ, до радостного утра. Андрей Поляков (род. 1968)[Поляков 2003, 55]– последний случай, кажется, единственный, когда прототекстом выступает моностих же. Впрочем, нередко моностих-трансформ использует в качестве прототекста паремию:
Где тошно, там и рвется. Владимир Герцик (род. 1946)[Герцик 2012] Где родился – там и расплодился. Ефим Гаммер (род. 1945)[Гаммер 2009]В качестве мотивировки чаще всего выступает паронимическая близость замещаемого и подставляемого[400], иногда – подставляемого и других слов исходного текста:
Сезам слезам не верит. Алексей Корецкий (род. 1966) где вы гундосые гунны Нирмал[Нирмал 2003, 76]В некоторых случаях замещению подвергается не одно слово, а целая синтагма, осмысляемая как культурно-речевое клише:
Мы наш мы Третий Рим построим Олег Губанов (род. 1965) Старик Хоттабыч нас приметил[401] Михаил Безродный[Безродный 1996, 69]– в конструкции «препозитивное приложение “старик” + имя собственное» заполнение позиции имени собственного именем героя сказки Лазаря Лагина обладает впечатляющей частотностью (поисковая система Яндекс дает, с учетом вариантов написания имени «Хоттабыч», более 428 000 употреблений), значительно превосходя синтагму «старик Державин» (около 27 000 употреблений). Реже встречается трансформация нестихотворного текста, не связанная требованием эквиметричности:
водомерка из нержавеющей стали Нирмал[Нирмал 2003, 107] над всей россией чистая небыль. Сергей Сигей[Сигей 2001b, 26]– текстом-источником являются соответственно название романа Гарри Гаррисона «Крыса из нержавеющей стали» и фраза «Над всей Испанией чистое небо» (чаще переводится «Над всей Испанией безоблачное небо»), будто бы сигнализировавшая о начале франкистского мятежа 1936 года[402]. Впрочем, и при трансформации нестихотворного текста эквиметричность может играть важную роль, выявляя признаки стихотворности в исходном материале (ср. стр. 62–63):
Петербург, Петербург, я тебя съем! Станислав Львовский (род. 1972)[Моностих 1993, 91] страна подходящего солнца Арсен Мирзаев (род. 1960)[Мирзаев 2009, 17]Отметим также, что в тексте Сигея подстановка двойная: не только «небо => небыль», но и «Испания => Россия», – такая конструкция отчетливее проявляет актуальное членение предложения, акцентируя тему: «над всей Россией» (в отличие от Испании). Аналогичная схема у Игоря Бобырева (род. 1985):
океан – движение бога [Бобырев 2010, 124]– претекстом выступает визуальное стихотворение Андрея Вознесенского с вербальной составляющей «чайка – плавки бога».
Другой тип трансформации – «склейка» по Крейдлину – приводит к образованию центона в строгом смысле слова:
Иных уж нет, а воз и ныне там. Феликс Дробышев (род. 1966) и долго буду я живее всех живых Владимир Монахов (род. 1955)[Монахов 1999, 4] Я вас любил, как сорок тысяч братьев. Вадим Перельмутер[Перельмутер 1997, 172] Будем как солнце как таковое. Петр Казарновский (род. 1969)[Казарновский 2012a, 42] Красота спасёт дыр бул щил Петр Янданэ (род. 1957)– два последних примера правомерно рассматривать и в качестве культурологических этюдов (см. ниже): понятно, что наибольшее художественное напряжение создает центон, претексты которого вступают благодаря столкновению в нем в культурно-эстетический конфликт.
Третий тип трансформации, изредка возникающий в моностихе, – усечение:
ложка в бочке мёда Николай Милешкин (род. 1975) И долго буду тем любезен я, и этим… Владимир Вишневский[Вишневский 1987, 20]– во втором тексте с наращением (добавлено «и этим»): Г.Е. Крейдлин отличает усечение с наращением от подстановки по признаку изменения синтаксической конструкции [Крейдлин 1989, 199–200] (в данном случае изменился характер косвенного дополнения: поскольку заполнение валентности «субъект отношения» именем в дательном падеже у слов типа «любезен» обязательно, постольку после усечения заполнявшего эту валентность слова «народу» местоимение, стоявшее в творительном падеже единственного числа, переосмысляется благодаря омонимии как форма дательного падежа множественного числа).
Эпизодически встречаются и не составляют отдельной тенденции тексты, построенные на интертекстуальном сближении, но не являющиеся перифразами:
Когда же это ружьё наконец выстрелит! Сергей Гарбуз (род. 1974)Следует отметить, что характер отношения приведенных текстов к исходному тексту различен. Несколько перифразов, составляющие явное меньшинство, нацелены на травестийное переосмысление исходного текста, деконструкцию их базовых концептов: таков текст Олега Губанова, в котором взаимозаменяемостью синтагм «новый мир» и «Третий Рим» релятивизируются ценности, фигурирующие в рамках данной идеологии – будь то коммунистической или православной – как абсолютные, или текст Нирмала, освобождающий от возвышающего романтического флера брюсовский образ «грядущих гуннов» – малообразованной массы, господство которой разрушительно для культурной традиции. Остальные тексты, с точки зрения тыняновской дихотомии, скорее пародичны, чем пародийны – особенно показателен в этом отношении текст Станислава Львовского, определенно не направленный на рефлексию по поводу русской народной сказки о Колобке, а использующий соответствующее ритмико-синтаксическое клише для встраивания в литературную традицию «эсхатологии Петербурга», – в точном согласии с мыслью Ю.Н. Тынянова о том, что «если пародией трагедии будет комедия, то пародией комедии может быть трагедия» [Тынянов 1977, 226]. Характерен и текст Андрея Полякова, входящий, как и карамзинский претекст, в состав стихотворного цикла танатографической тематики («Хоэфоры», с чередованием античных и эллинистических мотивов), однако полемически противопоставляющий выраженной Карамзиным цельности и непосредственности христианского мироощущения изощренную философско-теологическую рефлексию (в учении Карпократа, философа-гностика II века, воскресение из мертвых отрицается, а грех требует не покаяния, но избывания через неукоснительное совершение).
Между тем лавинообразный рост аллюзий и перифразов не только в художественном, но и в публицистическом тексте, возникший в 1990-е годы как составная часть «карнавализации современного употребления русского языка» [Костомаров, Бурвикова 1999, 252] и предлагающий по большей части «такой угол смещения культурной проекции, что прототекст как бы изживает сам себя: внимание сосредотачивается не на нем, а на степени его искажения» [Фатеева 2006a, 49], привел к тому, что минимальные тексты-перифразы (часто без различения стихотворных и прозаических) стали проявлять тенденцию к образованию особого жанра[403], тяготеющего скорее к массовой литературе – в соответствии с чем степень авторской индивидуальности текстов закономерно упала. Наиболее выразительной иллюстрацией этого явления может служить случай пересоздания одного и того же текста-перифраза, зафиксированный двумя публикациями в «Литературной газете»:
Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. [Мечик 1993; Ковальчук 1994]– у первого автора, правда, с прозаической графикой[404]; поразительно, вероятно, не столько совпадение хода мыслей у двух авторов, сколько забывчивость редактора. Установление авторского приоритета в изобретении таких текстов-перифразов столь же проблематично, сколь и в случае с монопалиндромами (см. прим. 59 на стр. 43), – в частности, на авторство последнего текста претендует, помимо Доната Мечика и Георгия Ковальчука, по меньшей мере еще Геннадий Малкин [Санников 1999, 508][405]. Другой текст-трансформ из «Литературной газеты» – перифраз известной строки Александра Пушкина:
… И с наслаждением читая жизнь мою… Борис Брайнин (1905–1996)[Брайнин 1991](врезка от редакции за подписью В. В<еселовского> гласила: «Борис Брайнин утверждает, что в своей однострочной пародии он исчерпывающе отразил весь спектр творчества одного знаменитого советского поэта»), – повторяет автоэпиграф к опубликованному в 1857 году сочинению Ильи Радожицкого «Походные записки артиллериста в Азии с 1829 по 1831 гг.» [Гумеров, Евсеева 2007].
Но и за пределами массовой литературы текст-перифраз рискует оказаться легко воспроизводимым: так, моностиху Арсена Мирзаева
Россия. Лета… – Лотерея! [Мирзаев 2009, 21]– предшествовало использование такого же трансформа знаменитой мандельштамовской финальной строки в прозиметрической композиции Юлии Вознесенской «Записки из рукава» (1976–1977, опубл. [Вознесенская 1979, 205]), многострочных стихотворениях Анания Александроченко «где от генсека до халдея…» [Александроченко 1990, 219], Романа Тягунова «Кто суперстар, кто лишь ефрейтор…» (1990, опубл. [Тягунов 1995, 183]) и Германа Гецевича «Голоса города» [Гецевич 1993, 37], прозе Юрия Малецкого [Малецкий 2001, 133], а с заменой Леты на лето – еще и в финале одной из «Чертановских терцин» Евгения Бунимовича [Бунимович 1992, 52] и в поэме Андрея Вознесенского «Возвратитесь в цветы» [Вознесенский 2006, 202]. Возможно, правда, что в изолированном положении и со своеобразной пунктуацией этот перифраз прочитывается иначе, чем у большинства предшественников Мирзаева: слово «лотерея» квалифицирует характер выбора между Россией и Летой, – впрочем, у Юлии Вознесенской тоже восклицательный знак в конце и многоточие после второго слова, а общий смысл стихотворного фрагмента можно понять сходным образом:
Россия, Лета… лотерея! Родина, свобода, счастье, честь. Половина там, половина – здесь.В то же время ситуация исчерпанности перифраза как метода сама по себе может тематизироваться и подвергаться поэтической рефлексии в моностихе: выразительным примером может служить состоящий из двух моностихов миницикл Шиша Брянского (Кирилл Решетников, род. 1975):
1.
нынешним
Для вас и Солнцы, блядь, не дышат!2.
Всё пезданулося, и некому сказать [Шиш 2001, 102]– оба трансформа, по сути дела, ничего в содержательном плане не трансформируют: и в стихе, извлеченном из того же мандельштамовского «Декабриста», и в строке из хрестоматийного стихотворения Федора Тютчева «Не то, что мните вы, природа…» произведена замена одной лексемы на слово из обсценного стилистического регистра при минимальных семантических изменениях, сводящихся к усилению экспрессивности, – впрочем, вероятно, над эмотивной здесь преобладает «метаязыковая функция: утверждение кода как “матерного”» [Левин 1998, 814]. Вопреки мнению рецензента, полагавшего, что Шиш Брянский здесь «щелкает поxодя по лбу Тютчева и Мандельштама» [Вишневецкий 2001, 38], автор диптиха, собственно, ретранслирует с усилением тот же пафос, который содержится в соответствующих стихах прототекстов, то есть солидаризируется с поэтами-предшественниками, – более того, сводя эти два перифраза в единый цикл, Шиш Брянский устанавливает интертекстуальную связь между стихотворениями Тютчева и Мандельштама, следуя в этом за множеством исследователей, указывавших на особые отношения между этими двумя поэтами, – и в известном смысле реабилитирует сам принцип интертекстуального мышления[406].
По рассмотренным примерам складывается впечатление, что интертекст, возникая в моностихе, тяготеет к тому, чтобы играть определяющую роль, так что художественный эффект возникает именно в конфликте между претекстом и его перифразом. В самом деле, интертекстуальная связь, занимающая второстепенное, подчиненное место в структуре целого, встречается заметно реже, несмотря на то, что прецеденты такого решения мы видели уже у Василиска Гнедова и Самуила Вермеля, строивших собственное лирическое и метапоэтическое высказывание на фоне не столь заметной отсылки к претексту Валерия Брюсова. Впрочем, у Наталии Кузьминой (род. 1951):
черную кошку и в темную ночь выдают глаза [Кузьмина 2011, 106]– образ черной кошки в темноте отсылает к широко распространенному в массовой культуре афоризму про поиски черной кошки в темной комнате, где ее нет[407], однако эта отсылка оказывается ложным следом: кошка, с одной стороны, не в комнате, а с другой стороны, есть, так что иронический сигнал оборачивается лирическим разрешением. Совершенно аналогичное решение находим у Виктора Лисина (род. 1992):
с двумя зайцами радостно прыгать– два зайца возникают из паремии, иронически оценивающей способность человека взаимодействовать с ними одновременно, однако, указывает автор, если не преследовать эгоистических целей, то взаимодействие очень даже возможно.
К моностиху-перифразу примыкает другой тип текста, построенный на использовании «чужого слова», – found poetry. Иронический характер такие тексты носят далеко не всегда, хотя в самом широком смысле понятие иронии, вероятно, неотделимо от found poetry, поскольку в ней обязательно создается напряжение между способами функционирования текста в исходном и в новом контексте. Наиболее очевидным (и наиболее иронически заостренным) такое напряжение выступает в текстах Игоря Гиндина (род. 1963):
Прощальное слово Дон Кихоту
Перемелется! Будет мука!Шведский брак
А Истина лежит посередине.Это, собственно, переходный случай между моностихом-перифразом и «найденным» моностихом: сходные способы трансформации исходного текста Г.Е. Крейдлин описывает как «авторизацию» и «вставку в контекст» (различие только в том, что само речевое клише остается у Гиндина неизменным или почти неизменным, а кардинальный семантический и референциальный сдвиг осуществляется за счет озаглавливания).
Собственно found poetry, как мы уже видели на примере книги Алексея Хвостенко (стр. 80–82), строится по принципу своеобразного увеличительного стекла: фокусировка на «готовом» речевом фрагменте того или иного происхождения выявляет в нем второй, более глубокий смысл. И уже у Хвостенко были намечены две основные тенденции, по которым распределяется «найденный» моностих. В одних случаях извлеченный фрагмент функционирует как цитата, отсылая так или иначе к определенному источнику и репрезентируя его:
[Дневник императрицы][408]
Парад. Ветер.[Ипподром]
… под соперником Излишняя Тревога. [Нилин 1997, 93, 42]В первом из этих двух текстов Михаила Нилина (род. 1945) – автора, наиболее последовательно в современной русской поэзии разрабатывающего проблематику found poetry, – непосредственно указывается источник текста (см. стр. 324), во втором содержится только указание на место, с легко достраиваемой речевой конситуацией. Для Нилина существенна способность речевых конструкций и словарных предпочтений выражать – помимо воли говорящего – дух эпохи, атмосферу определенной субкультуры или ситуации: так, велеречивое имя лошади во втором тексте характеризует наэлектризованную и вместе с тем бездельную атмосферу бегов (см. также стр. 324).
Другая, более распространенная тенденция в found poetry связана с представлением в качестве художественного текста таких нехудожественных текстов или фрагментов, которые именно сами по себе, в отвлечении от исходного контекста[409], проявляют определенные новые свойства. Так, Михаил Нилин охотно публикует в качестве стихотворений укладывающиеся в метр случайные разговорные реплики:
Я ждал жену у входа в Дом ученых [Нилин 1997, 14]– или мелкие письменные тексты прикладного характера – например, вывески:
Автомобили и автоэмали [Нилин 1997, 33]Стихотворность таких «найденных» моностихов не исчерпывается их метричностью – напротив, под давлением ритма в них неизменно проступает тот или иной семантический сдвиг. Так, текст вывески вызывает, как обнаруживается, некий речевой дискомфорт из-за разноприродности элемента «авто-» в рядоположных словах (в первом оно принадлежит к нечленимой в русском языке основе, а во втором выступает одним из элементов сложносокращенного слова).
Не всегда у Нилина можно однозначно определить, к какой из двух тенденций тяготеет текст. Так, моностих
[Из Л. Петрушевской]
«Юноша, подавившийся драже» [Нилин 2002, 87]хотя и указывает названием на источник[410], но построен явно на демонстрации собственных свойств заимствованной синтагмы – ее конструктивного подобия названиям классических скульптур («Юноша, играющий в бабки», «Мальчик, вытаскивающий занозу» и т. п.); иронический эффект возникает из-за несоответствия этой мыслимой статуарности положению персонажа. Обратный пример – другая обнаруженная Нилиным вывеска (прописные буквы, видимо, отвечают графике оригинала):
ЗАМЕНА КОЛЁС У ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУМОКСам по себе этот текст демонстрирует стилистический контраст между мелочностью предмета и торжественной пространностью его именования (четырехстопный амфибрахий – не то эпически неспешный, не то элегически раздумчивый[411]). Однако явно присутствует и момент репрезентативности по отношению к позднесоветской эпохе – и об этом говорит использование этого текста в виде автоцитаты в позднейшем стихотворении Нилина:
[107] Замена колёс у хозяйственных сумок
господи, а год [Нилин 2002, 44]– номер в качестве названия, видимо, должен прочитываться как указание на порядковый номер исходного текста в предыдущем издании (во всех книгах Нилина тексты пронумерованы), однако это, в русле общей нилинской творческой стратегии – «путать следы и оставлять приманки» [Кузьмин 2002, 309], – оказывается мистификацией: исходный моностих ни в одной из более ранних книг Нилина не публиковался и известен нам из полученной от автора в 1994 г. рукописи. В целом found poetry в ее понимании Нилиным выступает как предельный случай документальной поэзии, в которой, как указывает И.В. Кукулин, «от читателя требуется воспринимать документ или фактические сведения одновременно в двух различных регистрах – эстетическом и социальном (или историко-антропологическом)», причем столкновение этих двух планов оказывается особенно разительным благодаря давлению ритмической структуры [Кукулин 2010, 586].
Другие авторы обращаются к «найденному» моностиху спорадически, по большей части однократно, и следуют способу работы с этим типом текста, намеченному Алексеем Хвостенко (в силу малоизвестности и труднодоступности книги [Хвостенко 1985] вряд ли это следование носило целенаправленный характер), по меньшей мере в двух отношениях: источником этих текстов оказывается разговорная речь, а те собственные свойства, которые обнажаются в «найденных» моностихах, относятся к сфере грамматики и семантики. При этом, в отличие от Хвостенко, авторы 1990‐х стремятся языковую проблематику перевести в лирическую. Так, в моностихе Елены Яркой (род. 1963):
Такое счастье наблюдать…– взятая вне речевого контекста синтагма проявляет свою грамматическую амбивалентность: она может быть прочитана и как предикативная (сказуемое, выраженное категорией состояния именного происхождения с указательным местоимением в усилительной функции, + подлежащее, выраженное инфинитивом), и как глагол с прямым дополнением[412]. Эта амбивалентность соответствует неопределенности позиции лирического субъекта, который испытывает то ли предельную эмоциональную вовлеченность в процесс наблюдения, то ли, напротив, полную отстраненность от чужого сверхэмоционального переживания.
Еще более выразительный пример – моностих Дмитрия Авалиани (1938–2003):
Человек умирает от скуки. [Авалиани 2011, 75]– текст построен на разложении фразеологизма «умирать от скуки», что само по себе тривиально, поскольку в художественном тексте сплошь да рядом «каждое слово, оставаясь компонентом фразеологического оборота, приобретает двойственную сущность: оно входит в состав структурно и семантически сложного целого как его интегральная часть, сохраняя в то же время потенциальные качества самостоятельной лексической единицы» [Шадрин 1973, 85][413]. В данном случае, однако, средством разложения оказывается не что иное как принцип сукцессивности стиховой речи [Тынянов 1993, 75], действие которого еще усилено минимальным объемом текста: каждое слово дается как выделенное, отдельно стоящее, благодаря чему прямое значение лексем, составляющих фразеологизм, берет верх над интегральным значением оборота «умирать от скуки».
Таким образом, «найденные» моностихи частью примыкают к иронической традиции в русском моностихе, частью же – к лирической. То же можно сказать еще об одной небольшой группе моностихов, прообраз которой мы видели у Владимира Маркова (см. стр. 216): это моностих как культурологический этюд[414]. В наибольшей степени представлена эта разновидность моностиха у Вадима Перельмутера (род. 1943), даже обращающегося в своих текстах к тому же периоду и той же сфере, что и Марков в своем тексте, посвященном Дельвигу:
Эпитафия. Князь Вяземский
Он жил, пока браниться не устал.Карамзин
Блажен, кто пережил историю России… [Перельмутер 1997, 162–163]Эмоционально-оценочная неоднозначность второго текста во многом строится на многозначности глагола «пережить»[415].
К культурологическому этюду обращается в своих моностихах и Иван Ахметьев (род. 1950) – и тоже показательным образом вспоминает о Дельвиге:
Дельвиг – эльф [Ахметьев 2014, 147]– паронимическое сближение и апелляция к хорошо известному ангельскому характеру Дельвига[416] почти тривиальны, однако столкновение двух разнородных культурных полей создает неожиданный эффект. В другом моностихе Ахметьева историко-культурный фон вступает в драматическое противоречие с бытовым наблюдением:
в Елабуге холодная вода [Ахметьев 2014, 146]– нехитрое погодное наблюдение (относящееся, видимо, к температуре воды в Каме) накладывается на коннотацию Елабуги как, прежде всего, места смерти Марины Цветаевой (а смерть Цветаевой, в свою очередь, согласно укрепившемуся биографическому мифу, была связана с невозможностью устроиться на работу посудомойкой, что вводит в сюжет мотив воды[417]).
Миниатюрное художественное исследование может быть посвящено не только литератору, но и литературному явлению, культурному концепту. Так, моностих Михаила Синельникова (род. 1946):
Петербургский роман
А весной снесли его на Охту. [Синельников 1997, 111]– двумя характерными деталями, на уровне топики (на Охте располагалось одно из крупнейших городских кладбищ, Достоевский похоронил там своего малолетнего сына [Приамурский, Валдин 1993]) и стилистики (несколько архаическое употребление глагола «снести»), создает образ русской прозы 2-й половины XIX века: текст пародиен и в то же время элегичен.
Еще один тонкий культурологический этюд также совмещает в себе целую гамму эмоциональных смыслов:
Этот Рим называют Москвой? Юрий СкоробогатовТекст пародийно обыгрывает доктринальную формулу «Москва – Третий Рим», но, в отличие от уже приводившегося текста Олега Губанова, содержание которого исчерпывается установлением иронической аналогии между православным и коммунистическим утопизмом, в нем присутствует и лирическая составляющая: риторический вопрос, усиливая противопоставление, представляет его как спонтанную реакцию лирического субъекта (вероятнее всего, в таком противопоставлении с Москвой связываются положительные коннотации с семантикой патриархальности, душевности, неспешности, а с Римом – негативные коннотации с семантикой избыточного масштаба, холодности, отчужденности). Вообще характерным образом претексты моностихов этого вида едва ли не чаще религиозные, чем литературные, и выстраивается на их основе чаще всего контрастивная конструкция того или иного рода:
У Будды не было Иуды. Виктор Чубаров (1951–2007)[Чубаров 2014, 111] сын человеческий не знает где присесть Иван Ахметьев[Ахметьев 2014, 146]– во втором тексте очень характерная для Ахметьева минимизация пафоса (как отмечал А.Д. Степанов, в поэтическом мире Ахметьева «основным инвариантом можно считать его “малость”, “минимальность”, – литота здесь выступает в качестве порождающего механизма» [Степанов 2008, без паг.]).
Собственно лирическая тенденция в современном русском моностихе представлена едва ли не шире, чем все иные. Не притязая на строгость типологии (которая применительно к новейшей лирической поэзии практически не разработана), наметим основные тематические группы лирических моностихов.
Любовная лирика, пионером которой в русском моностихе был в 1910-х гг. Самуил Вермель, на протяжении многих десятилетий оставалась редкостью (моностих Романа Солнцева, один-два текста Владимира Маркова, «Лента Мёбиуса» Ивана Жданова – вот и всё, если не считать травестирующих любовную тему «моностихов Вишневского»). В 1990-е гг. она возрождается – и в большинстве случаев тяготеет к эротизму. Любопытно, что сразу в нескольких текстах эротический мотив реализуется конструкциями с оттенком синекдохи:
твои пятки эполетами на моих плечах Сергей Сигей[Сигей 2001b, 27] Теплый член в холодную ночь для тебя Максим Анкудинов (1970–2003) Знаете, сколько у девочек ног? Роман Плюта (род. 1976) Близорукая моя, длинноногая… Петр Янданэ– строго формально синекдохи как тропа ни в одном из этих текстов нет, но лирический субъект каждый раз выхватывает взглядом часть или части тела, сосредотачивающие на себе эротическое переживание. Нет оснований видеть здесь влияние моностиха Вермеля, и вполне гадательным остается влияние первого моностиха Брюсова, понятого в эротической плоскости, через интерпретацию Розанова: скорее всего, минимальный объем текста сам подсказывает такое построение образа. С точки зрения семантической структуры особенно интересен последний текст, в котором соседство со словом «длинноногая» актуализирует внутреннюю форму другого прилагательного, так что в возникающей картине наряду с ногами возлюбленной представлены не только ее глаза, но и руки: лирический моностих так же, как и иронический, строится на игровом приеме.
Эротизм в моностихе чаще носит достаточно демонстративный характер:
Идем, милая, я буду мыть тебя. Ян Невструев (род. 1966)[Невструев 1997, 42] Раздень меня до самого скелета. Римма Чернавина (род. 1949)[Чернавина 1992, 99]– реже уходит в подтекст:
Светает, Люська, уходи… Иван Овчинников (1939–2016)[Овчинников 1997] … охапка свежего сена. И меня бы так. Александр Белых– в последнем тексте все еще экзотический для русской литературной традиции гомоэротический мотив.
Любовная лирика, не связанная никоим образом с эротическими мотивами, встречается в единичных случаях:
О свойствах страсти
ты всегда рассуждаешь по-детски Иван Ахметьев[Ахметьев 2001a, 62] Денег… на лепесток розы. Александр Смир (1960–2015)[Кузьмин 1996, 81]Пейзажная лирика, отсчет которой в русском моностихе можно вести от Петра Успенского, сравнительно немногочисленна – не только в современной однострочной поэзии, но и в современной поэзии вообще[418]. Самодостаточная картина природы возникает буквально у двух-трех авторов. Павел Грушко (род. 1931) и в своих моностихах близок к сдержанной в эмоциях и выразительных средствах традиции «тихой лирики»:
Январский сад в крахмал по пояс врос. Глухая предзимняя гласность запруды.– второй текст осложнен выразительной дистантной (через слово: первое – с третьим, второе – с четвертым) аллитерацией, которая, несмотря на то, что предметом изображения становится скорее звуковая, чем визуальная картина, не мотивирована звукоподражанием, а непосредственно формирует образ неустойчивого, переходного, противоречиво звучащего времени года[419]. Вообще широко понимаемый пейзаж в однострочном тексте часто сочетается с эксплицитными аллитерационными и паронимическими конструкциями:
роса уже приросла Анастасия Зеленова (род. 1982)[Зеленова 2015, 136]– заставляя осторожно предположить, что пейзажный материал в целом видится современным авторам не как визуальный, а как синэстетический[420]. Особенно у Алексея Тимохина (род. 1955) глубокая аллитерация становится доминирующим приемом, усиливающим медитативную сконцентрированность на изображаемом объекте (см. чуть подробнее стр. 332):
Утро
Тихо тает туман.Сухое дерево
Ветхие ветви висят.У ряда других поэтов пейзаж или отдельные его элементы так или иначе антропоморфизированы:
солнце лезвие луча точило о ремень реки Нирмал[Нирмал 2003, 87] И на осенней паутине отлетает душа июльских трав… Александр Масленников (род. 1967) Здравствуй, тихое помешательство облаков! Вячеслав КуприяновПеред рассветом
кровавую луну поспешно туча прикрывает Ира Новицкая (род. 1946)Луна
какая нынче! будто жар у ней Ирина Машинская (род. 1958)[Машинская 2004, 61]– в последнем тексте отметим еще оттенок стилизации, связанный с формой «у ней», в современном русском языке просторечной, но вызывающей ассоциации с рядом классических текстов XIX века. Последовательно работает в этом направлении только один автор – Виктор Филин (род. 1939):
Ночной снегопад
Звёзды размножаются отломками лучей.Малиновый закат
Багровые от слёз, тучи хоронят март.Белая бабочка на цветке одуванчика
Да, невеста – на славу, да жених – желторот!Судя по неопубликованному эссе Филина «Так сколько же строчных ипостасей у хайку?», его работе с однострочными текстами положил начало интерес к японской классической поэзии (см. подробнее стр. 321–322). Вообще моностихи, ориентированные на хайку как жанр-прототип (см. выше), закономерно сближаются с пейзажной лирикой и при строго тематической классификации должны были бы включаться в этот же раздел. Иногда сближаются с хайку и натурфилософские моностихи Виктора Лисина:
среди деревьев вода пустила корни– в которых, однако, сильна идущая от Геннадия Айги апелляция к архетипическим смыслам природных явлений:
внутри пчелы жужжащий снег и сад снегирь [Лисин 2014a] мотылек говорит языком пламени [Лисин 2014b, 182]Среди так называемых «записей» самого Айги, опубликованных посмертно Н.М. Азаровой (чуть подробнее см. стр. 77), также встречаются тексты подобного рода:
Берёзы – ветер
а там – берёзы: как слёзы Бога – без Бога [Азарова 2008, 274]К философской лирике, у истоков которой в русском моностихе стояли Давид Бурлюк и Василий Кубанёв, в 1990-е гг. спорадически обращается довольно широкий круг авторов. При этом понимание философской лирики как близкой к афоризму, семантически однозначной, строящейся скорее на риторической фигуре, чем на тропе, встречается редко:
Чтобы видеть, нужно иметь причину. Карен Джангиров[Джангиров 1994, 126]По дороге
По дороге жизни Бог ведет меня к себе. Алексей Коротеев (род. 1949)Чаще философское обобщение вкладывается в метафору – по большей части берущую свой образ из семантического поля природных стихий:
Пламя живет в глазах, глядящих на пламя. Елена Кацюба (род. 1946)[Кацюба 2003, 152] Среди дождя одинокие капли. Ирина Добрушина (1928–2014)[Добрушина 1996, 24] Никогда не смирится с надеждой пловца океан. Александр Вайнштейн[Вайнштейн 1994, 141] вся свобода насквозь вода Анастасия Зеленова[Зеленова 2015, 148]Характерно, что темами однострочной философской лирики оказываются относительность знания, обратимость субъектно-объектных отношений (подчеркнутая у Кацюбы рамочным повтором слова «пламя»), проблематичность личностного самоопределения (в стихотворении Добрушиной уподобление человека в социуме одинокой капле в потоках дождя не предполагает возможности опознать эту каплю извне, сторонним взглядом). Амбивалентность мировосприятия современного человека особенно рельефно выражена в моностихе Нирмала:
усекая полнозвучность бытия [Нирмал 2003, 115]– построенном на омонимии глагола «усекать»: литературное «уменьшать состав, сокращать объем, содержание чего-либо» [ССРЛЯ, 16:866] и сленговое «понимать»[421]. Заманчиво было бы предположить, что такие мировоззренческие предпочтения связаны с выбором моностиха как формы парадоксальной, пограничной, проблематичной. В какой-то мере этот идейно-тематический фокус удерживают и моностихи, представляющие философскую проблематику в ироническом, игровом ключе:
Приговоренный к высшей вере в наказанье, Вилли Мельников Атеист, а ты есть? Петр ЯнданэГражданская лирика, до конца 1980-х гг. представленная в русском моностихе лишь единичными опытами Сергея Нельдихена, Василия Кубанёва и Яна Сатуновского, и в 1990-е осталась редкостью – впрочем, определенное внимание этому типу лирического высказывания уделено Ананием Александроченко:
зона осознания необходимости в гирляндах лагерей конный лаокоон– в первом тексте автор даже отказался от последовательного проведения звуковой игры, в большинстве его моностихов тяготеющей к самодостаточности (см. выше). Другой автор, работающий с моностихом систематически, – Нирмал – также спорадически обращается к гражданской теме:
колбаса нашего счастья пожалуйста нас не покидай зарубцевавшаяся страна сталинградцы и петербуржцы [Нирмал 2003, 82, 60, 86]Еще несколько моностихов разных авторов приближаются по жанровым характеристикам к политической эпиграмме:
Монолог армянина
Не пойму мусульман, хоть убей. Александр Ерёменко[Шохина 1994, 7] и не введи нас во Ингушетию Иван Ахметьев[Ахметьев 2001a, 13]Другой моностих Ахметьева, допускающий расширительное прочтение в качестве политической эпиграммы:
Знамя цвета хаки [Ахметьев 2001a, 57]– в исходном смысле представляет собой, однако, эпиграмму внутрилитературную, объект которой – литературный журнал «Знамя», имеющий болотно-зеленую обложку: об этом свидетельствует прописная буква в начале слова «Знамя» (при общем отсутствии прописных букв в текстах Ахметьева)[422].
Психологическая лирика, сосредоточенная на самоанализе лирического субъекта и его взаимоотношений с другими людьми, распадается в основном на две значительные группы. На одном полюсе – тексты, тяготеющие к четкой, афористичной формулировке, передающей строго определенное представление:
О, быть собой! Но быть собой вчерашней?.. Татьяна Михайловская[Михайловская 1995, 17] Как тесно в толпе одиночеств, Вилли Мельников Мы будем пить, пока не станет страшно. Игорь Юганов (1956–1999)[Юганов 2003, 652] Я слышал крики и не оглянулся Бонифаций (Герман Лукомников) У меня столько сердец! Татьяна Данильянц (род. 1971)[Данильянц 2012, 39]– характерно, что последний текст, по мнению критика М. Ионовой, представляет собой квинтэссенцию всей книги Данильянц, для которой характерна «игра с цельностью и дискретностью, с тяготением к имитации потока живой речи и тяготением к афоризму» [Ионова 2013, 296].
На другом – тексты подчеркнуто фрагментарные (зачастую и в синтаксическом аспекте), схватывающие какой-то осколок мироощущения:
всё, что ты не можешь один Ольга Зондберг (род. 1972)[Зондберг 1997, 21] я умею разбивать окно Максим Анкудинов …отлучает от своей энергии?! Татьяна Данильянц[Данильянц 2012, 36]В некоторых случаях авторы вслед за Леонидом Аронзоном (моностих «Я плачу, думая об этом») обращаются к конструкциям с референциальной неполнотой:
Не хватает жить Чего я не могу сказать Руслан Элинин (1963–2001)[Элинин 1998, 23, 79] разве ж я мог знать?.. Андрей Рубцов (род. 1962)Примыкает к психологической лирике моностих, строящийся на остранении обычных действий и положений, осмысляемых как личностно и экзистенциально нагруженные:
Они молчали около киоска… Павел Грушко что мы делаем? мы пьём воду в дождь Полина Андрукович (род. 1969)Механизм действия этих двух текстов различается. Моностих Грушко просто указывает на то, что некоторая житейская ситуация, не подразумевающая никакого собственного, имманентного драматизма, переживается кем-то (опять-таки не названным) как высокоэмоциональная, высокодраматичная, – художественная логика та же, что и в моностихе Леонида Аронзона, но Грушко делает еще один шаг, поскольку в его тексте, в отличие от аронзоновского (где был употреблен глагол «плакать»), ни одно слово само по себе не называет и не выражает никакого эмоционального состояния: текст Грушко сближается с новейшим течением в русской поэзии рубежа XX–XXI вв. – постконцептуализмом, воспроизводя один из его ключевых приемов – «зону непрозрачного смысла», чья функция – «верификация эмоциональной и психологической подлинности текста одновременно с указанием на невозможность для читателя полностью проникнуть во внутренний мир лирического субъекта» [Кузьмин 2001, 475].
Текст Андрукович подразумевает обнаружение в тривиальном действии некоторого собственного глубинного смысла – вероятнее всего, драматического: это подчеркивается как риторическим вопросом, так и специфической графикой текста. Увеличенные межсловные пробелы возникают в моностихе у разных авторов и в разных функциях (ср. стр. 343–344), но в данном случае назначение их особое[423]: разрывом тривиальной фразы замедлить движение речи, усиливая остраняющий эффект. В итоге эмоциональное напряжение текста объясняется противопоставлением воды, принимаемой вовнутрь, воде, падающей с неба – что само по себе вряд ли может служить источником настолько сильного аффекта, так что и здесь перед нами в какой-то мере «зона непрозрачного смысла».
Наконец, за пределами традиционных тематических разделов лирики остается довольно обширный корпус текстов, конструктивным фактором которых является тропеическая образность, а деформированный ею субъект слабо выражен, причем зачастую не только в синтаксическом или дейктическом аспекте. М.Н. Эпштейн в связи с поэзией метареалистов указывал на «отсутствие явно выраженного лирического героя, который заменяется ‹…› суммой ви́дений, геометрическим местом точек зрения, равноудаленных от “я”» [Эпштейн 2005, 175]. В однострочном тексте для более чем одной точки зрения, сменяющих друг друга, может и не оказаться места, но отсутствие контекста само по себе делает возможным «недуальное построение образа», при котором «на место условного сходства вещей ставновится сопричастность разных миров, равноправных в своей подлинности» [Эпштейн 1988, 168].
В простейшем случае речь идет о двух метафорически сопоставляемых предметных планах, способных претендовать на равноправие, как в тексте Нирмала:
на тёмной астре космоса звездолёт-стрекоза [Нирмал 2003, 81]– невозможно определить однозначно, является ли референтом метафоры звездолет в космосе или стрекоза на цветке, и метасюжет обратимости, выворачиваемости картины мира усилен оксюмороном «темная звезда», возникающим в результате актуализации этимологического «ἄστρον / astrum» в слове «астра»[424]. Сходным образом в тексте Виктора Шило (род. 1962), следующего курсом Ивана Жданова на метафизическую интерпретацию пейзажа:
Август
Небо-рыба плывет в океане застывшего воска. [Шило 1992, 43]– характерна не только парадоксальная дискретность взгляда, опредмечивающего по отдельности летнее синее небо и летний горячий, пропитанный солнечным жаром воздух, но и очевидное отсутствие у слов «небо» и «рыба» общих сем для метафорического переноса, затемняющее однозначность квалификации одного из членов метафоры как агента, а другого – как референта[425], одного из «разных миров» как данного in praesentia, а другого – как примышленного in absentia. А у близкого вообще к метареализму Сергея Соловьёва (род. 1959):
Радуги ребро – Ева невоплощенная [Соловьёв 1993, 49]– вроде бы радуга, оптический эффект, мыслимый как не имеющий материального субстрата, оказывается агентом метафоры, уподобляясь мифической первой женщине (но «невоплощенной», как если бы сотворение человека не состоялось и мир остался безлюдным), но вложенная вторая метафора, уподобляющая радугу ребру, заставляет перенаправить семантический перенос в обратном направлении (Ева подобна ребру, а не ребро подобно Еве).
Противоположным методом добивается сходного эффекта Максим Анкудинов:
Деревянной иголкой в горячем металле– тропы последовательно вложены друг в друга: «деревянная иголка» – «деревянная иголка в горячем металле» – вероятный третий троп с не предъявленным референтом (поскольку форма творительного падежа в отсутствие ясной референции и без хотя бы фразового контекста осмысляется как творительный сравнения), благодаря чему вопрос о «подлинности», референциальности применительно к этому тексту снимается, уступая место утверждению взаимоисключающей, оксюморонной природы конструируемой реальности (показательно, что в композиционном аспекте этому способствует и противопоставленность полустиший, и краевое противоположение слов «деревянный» в начале стихи и «металл» в конце).
Иначе организовано столкновение нескольких смысловых ходов у Марины Кулаковой (род. 1962):
В своей тени ты – яблоко от я…– единственная метафора включена в комплекс семантических взаимодействий, организованных демонстративно разноплановыми приемами: в заключительной синтагме усеченный фразеологизм «яблоко от яблони» накладывается на аграмматическую конструкцию с неизменяемым (субстантивированным) личным местоимением, порождая конкурирующие цепочки идентификаций: лирический субъект = «я» = яблоня? «я» = объективированный субъект внутритекстового адресата (т. е. «ты») = яблоня? – и этот противоречивый характер сигналов отвечает семантическому конфликту субъекта с приосновным детерминантом: невозможно находиться в своей собственной тени. Стихотворение тематизирует запутанный, непроясненный характер отношений между субъектом и его значимым другим (не забудем, что в коннотативное поле слова «яблоко» входит отсылка к библейскому мифу, в котором яблоко выступает как опредмеченное высказывание, адресуемое женщиной мужчине), но также, возможно, между субъектом и им самим, – и это, в целом, одна из важнейших тем современной поэзии.
Модернистская намеренная герметичность, граничащая как с метареалистической многомерностью и разнонаправленностью семантических взаимодействий, так и с абсурдистской произвольностью ассоциаций, мотивированной представлениями о неинтеллигибельности мироздания (см., напр., [Жаккар 1995, 257]), часто реализуется с опорой на словесно-образный материал древнейших мифов и архетипов:
на вертеле жарилось время сладко идти его полем и серп я заготовил Нирмал[Нирмал 2003, 112, 63] в такую рань дна камень никогда в праще не жил Сергей Муштатов– сближение со словом «вертел» этимологизирует слово «время», актуализируя его древнее происхождение от глагола «вертеть», семантические поля «жатва» и «праща» вызывают далекоидущие ассоциации вплоть до ветхозаветных, но при этом второй текст Нирмала строится на референциальной неполноте (местоимению-анафору не сопоставлен никакой антецедент), моностих Сергея Муштатова обставляет эффектную стержневую метафору камня, живущего в праще, уточнениями и детализациями, проблематизирующими ее смысл (отчего важно, что это раннее утро, отчего важно, что камень взят со дна, и что это за дно), да и образ поджариваемого времени не лишен семантической неопределенности.
Не менее представительную группу составляют, в то же время, тексты более простой, а порой и прямолинейной семантики, построенные как изолированный троп – чаще сравнение, чем метафора, вопреки предположению Э.М. Береговской о том, что в однофразовом тексте (при том, что, как мы уже видели, моностих совсем не обязательно является однофразовым текстом) метафора превалирует над сравнением [Береговская 2011, 267]:
седой старик похож на сигарету Сергей Лейбград (род. 1962)[Лейбград 1997, 28] Очередь будто язык уставшей собаки. Юрий Скоробогатов день, как жесткий карандаш Анастасия Зеленова[Зеленова 2015, 42] Ты – как плохо пропеченный хлеб. Татьяна Данильянц[Данильянц 2012, 44] горизонт как линия отреза Виктор Лисин Шаткие глаза общаги Максим Анкудинов Кобылий зад сливы Михаил Нилин[Нилин 2002, 19] ангельские рудименты Юрий Милорава (род. 1952)[Милорава 2003, 132]С другой стороны, многоплановый, многозначный однострочный текст может, обходясь без тропа, строиться вокруг того или иного языкового эффекта – лексического (этимологизация, паронимическая аттракция) или синтаксисического (прежде всего, омонимия конструкций). Например, в моностихе Нирмала
мальчик во сне притаился [Нирмал 2003, 6]структура предложения может быть интерпретирована тремя способами: 1) «во сне» – присубстантивный распространитель, «мальчик во сне» = снящийся (лирическому субъекту?) мальчик – там, внутри чужого сна притаился; 2) «во сне» – приглагольный распространитель, мальчик «притаился во сне» (укрылся, спрятался от реальности); 3) «во сне» – приосновный детерминант, спящий мальчик притаился, затих[426]. Сходным образом у Наталии Азаровой:
здесь небо круглосуточно [Азарова 2011, 135]– один из эффектов текста состоит в том, что его последнее слово можно прочитывать и присубстантивно (как краткое прилагательное), и приосновно (как наречие).
Неоднозначность образа может, впрочем, не иметь в основании лингвистической многозначности и не апеллировать к модернистской семантической неопределенности, базируясь исключительно на отсутствии контекста, достраивающего пусть даже вполне очевидное значение языковой конструкции до коммуникативно полноценного смысла (ср. [Бахтин 1986, 276]). К примеру, в моностихе Александра Смира (1960–2015)
Не сажают в клетки воробьев.значение абсолютно ясно, а обобщенно-личная конструкция приближает текст к афоризму, даже к пословице (ср. «Коней на переправе не меняют»), однако смысловая неполнота текста определяется оценочной амбивалентностью, возможностью противоположно направленных выводов («… следовательно, воробьи свободны» vs. «… следовательно, воробьи никому не нужны»), которая, конечно, входит в авторское задание и играет важную роль в художественном эффекте произведения. Сходным образом в моностихе Елены Георгиевской (род. 1980)
бог для пушистых сволочей похож на лисий хвостможно увидеть как образное и экспрессивное выражение старой максимы о том, что человек создает бога по своему образу и подобию, так и завуалированный лирический жест, обращенный к некоторой «пушистой сволочи» (в составе которого высокий градус личной близости показывается, от противного, использованием пейоратива[427], да еще во множественном числе).
Нацеленность на выражение сложной, с трудом поддающейся дешифровке идеи, комплексного переживания, включающего широкий спектр эмоций, вообще характерна для современной лирики, которая, как указывает Е.В. Петровская, резюмируя Жана-Люка Нанси, руководствуется «логикой замен и сгущений, перестановок и агломераций», утверждающей в итоге: «Это есть также вон то, точно так же, как и та другая вещь, и еще вот это» [Петровская 2007, 240], – и моностих в полной мере отражает эту общепоэтическую тенденцию.
Подводя итог обзору основных тенденций в развитии русского моностиха в 1960–80-е и особенно в 1990–2000-е гг., можно констатировать, что эта форма продемонстрировала в течение последних десятилетий исключительную пластичность и жизнеспособность. Практически все заложенные в первой половине XX века возможности дальнейшего развития однострочного стихотворения получили начиная с 1960-х гг. достаточно широкое распространение. Моностих новейшего времени не привязан жестко ни к какому поэтическому направлению, ни к какому кругу авторов, он может выступать как одна из магистральных форм в формальном репертуаре автора (как это происходит у Нирмала, Татьяны Михайловской, Владимира Вишневского, Валентина Загорянского, Татьяны Данильянц[428]) или как взятая ad hoc форма у автора, тяготеющего к совершенно иным формальным предпочтениям. По сути дела, моностих легитимизирован в современном литературном сознании как крайняя, но находящаяся в рамках конвенции возможность поэтического высказывания – и, таким образом, практика современных российских авторов находится в согласии с выработанными отечественной литературной теорией начиная с Ю.Н. Тынянова представлениями.
Любопытным следствием легитимации моностиха выступает активизировавшаяся в 1990-е гг. готовность видеть моностихи там, где прежде их не усматривали, – разделяемая не только теми исследователями, для которых, как для В.Ф. Маркова, моностих сам по себе представлял особый интерес, но и специалистами, затрагивающими тему по касательной. Наиболее характерной в этом отношении является история с приписыванием моностихов Анне Ахматовой (1889–1966).
Впервые тему моностихов Ахматовой поднял в 1983 г. В.Я. Виленкин, сообщивший, что «в “Нечете”[429] каким-то прорвавшимся из “безмолвия” вздохом легла на бумагу одна-единственная строка (моностих):
Дострадать до огня над могилой». [Виленкин 1983, 174]Несмотря на предшествовавшие этому сообщению размышления Виленкина о затруднительности разграничения набросков и завершенных стихотворений у Ахматовой[430], в этой формулировке прочитывается скорее признание приведенной строки самостоятельным текстом.
В 1990 г. корпус однострочных текстов (или фрагментов) Ахматовой расширил М.М. Кралин, включивший в новое собрание ее сочинений раздел «Из неоконченного и забытого» (особенность наследия Ахматовой состоит в том, что значительное количество текстов было уничтожено автором в 1940-е гг. – и затем эти тексты восстанавливались автором по памяти, зачастую безуспешно). Кралин также делает в комментарии оговорку: «Лаконизм, доведенный до предела, намеренная фрагментарность становятся своего рода творческим принципом поздней Ахматовой, и судить о степени законченности иных стихотворений весьма рискованно» [Ахматова 1990, II:314]. Помимо уже опубликованного Виленкиным однострочного текста, Кралин напечатал еще четыре, датируя их 1960-ми годами:
Как жизнь забывчива, как памятлива смерть. Я не сойду с ума и даже не умру. Чьи нас душили кровавые пальцы?.. Твой месяц май, твой праздник – Вознесенье. [Ахматова 1990, II:96, II:99, II:103]В следующем собрании сочинений Ахматовой, в 1999 г., напечатаны уже семь однострочных фрагментов: к пяти опубликованным ранее[431] добавлены
Ромео не было, Эней, конечно, был. Тополёвой пушинке я б встречу устроила здесь. [Ахматова 1999, II:128, II:200]Составитель и комментатор этого собрания Н.В. Королёва расставляет акценты гораздо решительнее своих предшественников: «Во многих случаях незавершенность набросков очевидна. Однако пристрастие Ахматовой к форме фрагмента проявилось, в частности, в том, что в ее поэтической системе одна строка, две или несколько строк в форме грамматически незавершенного предложения могли оказаться и оказывались произведениями законченными. Пример тому – моностих “Как жизнь забывчива, как памятлива смерть”, произносимый и записанный Ахматовой неоднократно в разные годы при известии или при размышлении о чьей-либо смерти или о смерти вообще» [Ахматова 1999a, I:397]. Здесь впервые завершенность по меньшей мере одного моностиха Ахматовой утверждается с полной внятностью; в потекстовых комментариях как «самостоятельный моностих» представлена также строка «Ромео не было, Эней, конечно, был» [Ахматова 1999, II:407].
Кроме того, еще один однострочный фрагмент Ахматовой был введен в оборот М.М. Кралиным в письме И.Л. Лиснянской, опубликованном последней: «Когда во время их встречи Ахматова получила от Цветаевой “Поэму Воздуха”, то, прочитав ее, сделала вывод: “Она «дальфин-лайк» (букв. «подобно дельфину») удалилась из поэзии и перешла в иное измерение”. Это я цитирую по памяти, не могу найти в ахматовской прозе этого кусочка с английской цитатой из “Антония и Клеопатры”[432]. ‹…› Запись сделана году в 1962. Но в 1965 (год выхода цветаевской “Библиотеки поэта”) в записной тетради Ахматовой появляется моностих: “Я знаю – будет день: заговорят дельфины”. И это ее ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО о Цветаевой» [Лиснянская 1995, 172–173].
Изучение автографов Ахматовой, между тем, дает картину, отчасти напоминающую положение с «моностихами» Брюсова. В частности, те два однострочных фрагмента, на самостоятельности которых настаивает Королёва, встречаются в записях Ахматовой, в самом деле, по несколько раз, но в изолированном виде (причем вместе) – лишь однажды: в так называемой «Записной книжке № 10» (РГАЛИ ф. 13 оп. 1 ед. 104 л. 13[433]; [Ахматова 1996, 181]), относящейся к 1961–62 гг. В этой записи, однако, каждая из строчек помещена Ахматовой в квадратные скобки[434] – систематически использовавшиеся ею при выделении побочных замечаний и помет для памяти: напр., ед. 110 л. 209: «[В начале тетради все это уже есть.]”; ед. 110 л. 29об (под мемуарным фрагментом): «[Кончилась зима – началось лето.]» – и т. п. Строка «Как жизнь забывчива, как памятлива смерть…» встречается в записных книжках Ахматовой еще трижды: два раза (ед. 103 л. 11 и ед. 109 л. 17об; [Ахматова 1996, 134, 320]) – внутри дневниковых записей прозой в качестве автоцитаты (в кавычках), в третий раз (ед. 110 л. 207–207об; [Ахматова 1996, 497]) – в составе многострочного фрагмента:
Как жизнь беспамятна, как памятлива смерть… С тех самых странных пор, как существует что-то, Ее неповторимая дремота В назначенный вчера сегодня входит дом.– Королёва характеризует этот фрагмент как «попытку превратить моностих в четверостишие или в произведение большой формы» [Ахматова 1999, II:392], почему-то не предполагая обратного варианта (весьма нередкого в ахматовских записных книжках) – попытки восстановить утраченное более раннее стихотворение, лишь одна (первая?) строка которого твердо сохранилась в памяти автора. Вторая строка, которую Королёва вроде бы твердо признаёт моностихом, – «Ромео не было, Эней, конечно, был», – также встречается у Ахматовой еще трижды, но лишь один раз отдельно: в «Записной книжке № 9», в окружении записи 1961 года (ед. 103, л. 27об; [Ахматова 1996, 147]); в последующих записях (1962–63) эта строка дважды фигурирует в качестве автоэпиграфа к стихотворению «Не пугайся, – я еще похожей…», дополняющего эпиграф из «Энеиды» Вергилия и, в обоих случаях, карандашом вписанного в автограф позднее (ед. 106 л. 1об, ед. 111 л. 26; [Ахматова 1996, 214, 527]). М.М. Кралин впервые републиковал его с обоими эпиграфами [Ахматова 1990, I:274] – вслед за указанием на вариант с двумя эпиграфами в комментарии к этому стихотворению В.М. Жирмунского [Ахматова 1976, 489]; этому решению следует затем Н.Г. Гончарова [Гончарова 2000, 578]; предпочтительность решения Королёвой, печатающей данную строку отдельно, по меньшей мере неочевидна[435].
Что касается остальных ахматовских одиноких строк, то и их самостоятельность весьма сомнительна. К наиболее ранней из них – «Дострадать до огня над могилой», – как указывает Н.В. Королёва, в автографе есть помета «Забыла», явно идентифицирующая ее как осколок утраченного текста [Ахматова 1999, I:518–519]. За единственным из однострочных фрагментов, самостоятельность которого явным образом ставится Королёвой под сомнение («по-видимому, является не моностихом, а началом неосуществленного стихотворения» [Ахматова 1999, II:477]), – «Тополёвой пушинке я б встречу устроила здесь», – в автографе следует оставленное Ахматовой свободное место высотой в 2–3 строки, а сразу за стихом проведена, от края листа вовнутрь, горизонтальная стрелка длиной около 3 см (ед. 103 л. 56об)[436] – такой стрелкой Ахматова помечала планируемые вставки (или наброски, к которым она возвращалась повторно). Такая же стрелка следует и за одинокой строкой, которую приводит Кралин в письме к Лиснянской – цитируя по памяти, видимо, и с ошибкой: в автографе «…И будет день – заговорят дельфины» (ед. 110 л. 188; [Ахматова 1996, 484])[437]. Строка «Чьи нас душили кровавые пальцы?» в автографе не имеет в конце никакого знака препинания, при этом перед ней на листе оставлено свободное место высотой в 1–2 стиха, после – столько же свободного места и затем осколок строки: «Ни… и ни грации» (ед. 110 л. 35об): очевидно, что это тоже осколки какого-то утраченного стихотворения[438]. За строкой «Твой месяц май, твой праздник – Вознесенье» (записанной без знаков препинания и с последним словом, ушедшим во вторую строку, скорее всего, по причине недостаточной ширины листа) в автографе следует пропуск высотой примерно в три стиха, а затем – хорошо известное четверостишие:
И было сердцу ничего не надо, Когда пила я этот жгучий зной, – «Онегина» воздушная громада, Как облако<,> стояла надо мной.– с датой под ним «14 апреля 1962» (ед. 103 л. 37; [Ахматова 1996, 154]); пушкинская тема четверостишия напрямую связана с одинокой строкой, поскольку Пушкин родился 26 мая по старому стилю в праздник Вознесения Господня (и относился к этому празднику с особым пиететом [Старк 1999]), – в сочетании с тем обстоятельством, что другой автограф четверостишия сопровождается авторской датировкой «50-е годы» (ед. 111 л. 40об; [Ахматова 1996, 537]), это позволяет более или менее уверенно утверждать, что перед нами предпринятая в 1962 году попытка восстановить восьмистишие 1950-х гг., которая завершилась неудачей, приведшей к публикации второго четверостишия в качестве отдельного стихотворения[439]; выделение этого четверостишия в отдельный текст еще не делает, однако, оставшуюся строчку моностихом.
Таким образом, слухи о моностихах Ахматовой можно считать безосновательными – хотя и входящими органично в контекст осмысленного уже в наше время «большого замысла поздней А.А.», который «тяготел к поэзии, сохранившейся во фрагментах и овеянной недостоверными легендами» [Тименчик 2005, 286][440]. Однако само их появление стало глубоко симптоматичным: в это время, в 1980-е и особенно в 1990-е годы, предположение о том, что у того или иного автора – даже такого далекого от традиционно понимаемых авангардных веяний, как Ахматова, – могут появиться моностихи, начинает представляться естественным и даже тривиальным[441].
В русле этой же тенденции лежит и еще один эпизод – осуществленная в 2001 г. тем же М.М. Кралиным публикация, по архивным источникам, ряда стихотворений Николая Недоброво (1882–1919), в том числе и однострочного текста с датой 15.12.1904:
Солнце мне светит и, может быть, миру.Публикатор сопровождает его замечанием: «единственный известный на сегодняшний день моностих поэта» [Недоброво 2001, 84, 307] – как будто в 1904 году сочинение моностихов было делом совершенно естественным. Знакомство с рукописным оригиналом (ИРЛИ ф. 201, № 30, л. 12об.), в отличие от рукописей Брюсова и Ахматовой, как будто подтверждает правоту публикатора: одинокая строка записана отдельно и датирована, как до нее, так и после находятся другие самостоятельные произведения. Однако чуть более внимательный взгляд тотчас обнаруживает, что эта же строка в неизменном виде включена в начинающееся на той же странице многострочное стихотворение «Как хорошо близ тебя…» (датировка 17.XII.04):
Пусть он (взгляд, – Д.К.) все так же блистает другому даже вещам и немому кумиру что мне! я в нем нахожу всю истому – солнце мне светит и, может быть, миру!Недоброво последовательно записывает в своей тетради разные редакции одних и тех же стихотворений – в частности, этот многострочный текст в последующих редакциях, датированных 18.XII.04, встречается далее на лл. 13об и 14, интересующий нас стих в обоих случаях неизменен. Характерно также, что вне контекста стих прочитывается как эгоцентрическая декларация в духе еще не существовавшего эгофутуризма, тогда как внутри стихотворения – как цветистый комплимент вполне романтического свойства, что гораздо в большей степени отвечает общему умонастроению 22-летнего поэта.
Волна «приписок» в истории русского моностиха затронула в последнее время еще одного автора – Елену Гуро (1877–1913). Обоснованием идеи о принадлежности ей ряда однострочных стихотворений занялась В.В. Костюк, по мнению которой «форма некоторых этюдов Гуро минимизирована настолько, что они могут рассматриваться как образцы моностихов» [Костюк 2005, 118]; более того, «некоторые “этюды” и моностихи были включены самой Гуро как полноценные составляющие в более крупные текстовые образования – сборники» [Костюк 2005, 123] (имеются в виду «Шарманка», «Осенний сон» и «Небесные верблюжата» – все три книги Гуро, вышедшие прижизненно или сразу после ее смерти) – при этом, полагает Костюк, «в условиях небольшого объема текстов и относительного характера визуальных ограничителей определить, другой перед ним <sic!> текст или же продолжение предыдущего, затруднительно, особенно учитывая ассоциативную и мотивную связи всех произведений, входящих в сборники Гуро» [Костюк 2005, 124]. Наконец, и по поводу четвертой книги Гуро, «Бедный рыцарь», опубликованной уже в наше время, Костюк утверждает, что «одним из составляющих элементов текстового целого “Бедного рыцаря” являются <однострочные> миниатюры с весьма явственной ориентацией на японскую поэзию. В тексте «Бедного рыцаря», опубликованного <sic!> Е. Биневичем, самостоятельность этих миниатюр подчеркнута – каждая из них выделена в отдельный абзац» [Костюк 2005, 130].
Основания для всех этих утверждений, при ближайшем рассмотрении, минимальны. Строка
Чайки кувыркаются в голубом небе…– выделенная, в самом деле, сверху и снизу отточиями [Гуро 1909, 75] – находится в сборнике «Шарманка» в недрах сложно сконструированного и сильно фрагментированного, но вполне цельного текста «Да будет», включенного в раздел «Проза» и не дающего никаких оснований в своей прозаичности усомниться. Не менее однозначен статус строки из «Осеннего сна»:
Рябины светлыми чашами стоят над косогором…– она представляет собой первый (из двух) абзац прозаической миниатюры [Гуро 1912, 75], открывающей небольшой раздел-постскриптум к давшей название сборнику пьесе; благодаря полиграфическому решению – втяжкам с обеих сторон, сильно сужающим ширину полосы набора, – эти шесть слов, набранные вразрядку, растянулись на три строки, и единственная возможность как-то объяснить, отчего В.В. Костюк полагает, будто из-за шрифтового выделения «строка в этом случае прочитывается как название» [Костюк 2005, 123], – это предположить, что вместо книги 1912 года она знакомилась с текстом по какой-то републикации, не воспроизводящей графику первоиздания. В «Небесных верблюжатах» Костюк предлагает квалифицировать как моностих строку
О, полной чашей богато ты – сердце, во всё поверившее.– это, в самом деле, изолированный фрагмент, предваряемый тремя звездочками, как и другие отдельные составившие эту книгу миниатюры [Гуро 1914, 12], однако графика текста прозаическая: фраза начинается с красной строки, а последнее слово перенесено в следующую строку; стихи (которые также есть в составе книги) оформляются в ней совсем по-другому, поскольку к стихотворной графике Гуро была так же внимательна, как и к прозаической. Наконец, что касается «Бедного рыцаря» (в редакции Е.М. Биневича, на которого ссылается Костюк, названного «Жил на свете рыцарь бедный»), то из вступительной статьи Биневича к этой публикации [Биневич 1999] недвусмысленно явствует, что этот текст следует квалифицировать как единое произведение. При всем том, чем неосновательнее выглядит попытка Костюк рассматривать как моностихи отдельно (или даже не слишком отдельно) стоящие фразы из прозы Гуро – тем очевиднее, что сама возможность такой попытки обусловлена представлением о том, что для поэта (и уж во всяком случае – для поэта-новатора) сочинять моностихи совершенно естественно[442].
В завершение этой главы, как и в завершение предыдущей, следует сказать, что ход развития моностиха в России совпадает в общих чертах с его развитием в других западных поэзиях – с поправкой на отсутствие в других странах идеологического давления на поэзию, несколько замедлившего процесс в СССР. Окончательная легитимация моностиха как нормальной поэтической формы происходила в западных странах в 1970-е гг. Если в США в 1962 г. публикация одним из лидеров Нью-Йоркской поэтической школы Кеннетом Кохом (Kenneth Koch; 1925–2002) цикла однострочных и однословных текстов «Collected poems»[443] [Koch 1962, 39–42] еще носила явно вызывающий характер, то уже в 1972 г. антология однострочных стихотворений под провокативным названием «И что, это поэзия?» («But Is It Poetry?»), составленная Дуэйном Экерсоном, призывает под свои знамена целый ряд крупных фигур американской поэзии, включая как почтенных ветеранов Этель Фортнер и Феликса Поллака, так и восходящих звезд Чарльза Симика, Рэя Ди Палма, Алберта Голдбарта. А в 1973 г. Уильям Коул составляет и издает антологию поэтической миниатюры с красноречивым названием «Poems One Line & Longer» («Стихи в одну строку и длиннее»), замечая, между прочим, в предисловии: «Посмертная публикация избранных мест из записных книжек Теодора Рётке изобилует однострочными стихотворениями. Они не были, разумеется, задуманы как однострочные стихотворения и записывались как фразы и выражения для возможного последующего использования или продолжения. Думаю, те из них, которые я включил в эту книгу, вполне убедительны в качестве целостных стихотворений (stand up as entities – as poems)» [Cole 1973, VIII] – ход мыслей весьма характерный в том отношении, что Коулу не требуется настаивать на действительной принадлежности фрагментов Рётке[444] к моностихам или умалчивать об их «сомнительном происхождении»: ощущение правомерности собственного жеста по превращению авторского фрагмента в читательский моностих возможно только на фоне общего представления о законности однострочной стихотворной формы[445].
В 1974 г. появляется первая в США после длительного перерыва авторская книга моностихов – сборник Уильяма Мэтьюза (William Matthews; 1942–1997) «Весло в старых водах» (An Oar in the Old Water), интерпретирующий однострочную форму преимущественно как хлесткий риторический жест:
«Будь верен сам себе»[446]
Как будто выбор есть.Физика
Искривлена ли смерть, как мирозданье?Преждевременное семяизвержение
Простите, этот текст уже закончен.Сон
граница без страныВ том же году выходит специальный выпуск журнала «Roy Rogers»[447], подготовленный Биллом Заватски и посвященный однострочным текстам. Он открывается переводом нескольких однострочных фрагментов из Сапфо, публикует перевод статьи Л. Брейнига [Breunig 1963] о моностихе Гийома Аполлинера и многочисленные образцы французской однострочной поэзии (и более или менее напоминающей ее прозы), в том числе принадлежащей Полю Элюару (1895–1952), Максу Жакобу (1876–1944), Франсису Пикабиа (1879–1953), Эдмону Жабесу (1912–1991), а затем предоставляет слово англоязычным авторам из разных стран, в том числе таким заметным американским поэтам, как Брюс Эндрюс, Рон Силлиман, Пол Остер, Адриенна Рич, Роберт Блай, Марк Стрэнд, – демонстрируя значительное разнообразие поэтик, используемых в строгих рамках этой сверхкраткой формы:
Почитай отца твоего и матерь твою
Ибо они не ведают, что творят. Дэвид Леман (род. 1948)Зиппер
Когда мы встретились, он был полурасстёгнут. Ричард Фридман (род. 1951) В прекрасном озере никто не тонет. Джон Перро (род. 1937)Смерть
Собирательница бабочкиных плев. Билл Заватски (род. 1943)Эпитафия
мы делали что нам велели Майкл О’Брайен (род. 1939)В 1976 г. будущий поэт-лауреат Роберт Пински в программной книге «Положение поэзии», которую позднее называли одним из главных консервативных поэтических манифестов эпохи [Holden 2008, 27] (а также, кстати сказать, развитием литературно-критических взглядов Айвора Уинтерса [Davie 2000, 126] – как мы помним, основоположника американского моностиха), посвящает без малого четыре страницы доказательству того, что опубликованному четырьмя годами раньше моностиху Брюса Эндрюса (Bruce Andrews; род. 1948)
Бананы служат примером. Bananas are an example.– формальная экстравагантность не мешает оставаться в некотором сущностном аспекте, с точки зрения отношений поэта со словом и реальностью, стихотворением строго «традиционным» [Pinsky 1976, 87–90].
Аналогичную картину в это же время видим в Англии, где 1970 год ознаменовался конкурсом на лучший моностих, объявленным редакцией солидного и уважаемого журнала «New Statesman» (заметим, не литературного, а общественно-политического!), в котором приняли участие достаточно известные английские поэты. Сам по себе конкурс был вполне игровой, так что при подведении итогов его куратору Энтони Рудолфу пришлось даже принести шутливые извинения тем читателям, кто «воспринял состязание с излишней серьезностью и попытался вложить в строку израненную душу» [New Statesman 1970]. Тем не менее среди 32 опубликованных текстов немало лирики, в том числе чрезвычайно изощренной в формальном аспекте – например, три текста Джона Фуллера (John Fuller; род. 1937) с двойной внутренней рифмой (первое слово рифмует с последним, предцезурное с первым послецезурным):
The perch
See the spring: ling lifts and is a bee.[448]– впрочем, попадаются и поддающиеся переводу тексты, как у Герды Майер (Gerda Mayer; род. 1927):
Одуванчики
патлатые распустёхи! а поседев, благородныГод спустя в свет выходит книга стихов известного английского поэта Джеймса Кёркапа (James Kirkup; 1918–2009) «Transmental Vibrations»[449], которая состоит из моностихов лишь отчасти, но зато содержит полностью посвященное этой форме предисловие, сочетающее обзор речевых и литературных источников для моностиха[450] c несколько экстравагантной апологией: «Я люблю очень короткие стихи за скромность. Они непритязательны. Они не выставляют себя перед нами. Если они хороши, то куда вероятней поразят нас, чем ода Горация или сонет Шекспира. Однострочное стихотворение – мгновенная поэзия. Однострочное стихотворение – мгновенное вдохновение. Однострочное стихотворение – мгновенное озарение. Оно может быть ясным или темным. Обычно – и то и другое. Оно может быть остроумным или мечтательным, вызывающим или высоконравственным. Но каким бы оно ни было – оно выражает себя непосредственно, от сердца к сердцу. Так что мы можем принять его – или оттолкнуть. Стихотворению все равно, как мы поступим. Оно просто остается самим собой, как лист или камень, как таблетка, или капля вина, или стеклянный глаз» [Kirkup 1971, 5]. Собственные моностихи Кёркапа вполне соответствуют своим демонстративным разнообразием эклектичному ряду метафор из последней фразы:
Зимняя любовь: холодный нос, горячие губы. Ты ушел, для любовной игры мне остались одни слова. Все языки лишь диалекты молчанья. Живи во сне, спи на ходу, умри в пути. Радуга – оттенками серого. Огонь – это много и разное, лед – это лед. Хочу быть последним человеком на луне. Детские пальцы вареных креветок.К началу 1970-х гг. относятся также работы шотландского поэта и художника Йена Хэмилтона Финлея, выписывавшего свои моностихи неоновыми трубками (в качестве арт-объектов неоновые моностихи Финлея были собраны в выставочный проект «Сонет – швейная машинка для моностиха», впервые экспонированный в 1993 г. в Сент-Эндрюсе и повторенный в 2007 г. в Лондоне) [Finlay 2007].
Во Франции в 1967 году Э. Ришар в предисловии к посмертному изданию избранных сочинений Эмманюэля Лошака, спустя 30 лет после выхода его книги моностихов, еще называл этот жест «вызывающей затеей» (gageure) [Richard 1967, 10], а в соседней Бельгии «единственный бельгиец, успешно культивирующий моностих» [Dresse 1964, 75], Роже Кервен де Марке тен Дрисхе (Roger Kervyn de Marcke ten Driessche; 1896–1965), автор полутора десятков книг в разных жанрах, крохотный сборничек моностихов «Цепни» (Ténias) выпустил незадолго до смерти практически самиздатским способом. Но уже в 1981 г. на предложение Эммануэля Окара и Клода Руайе-Журну сочинить и прислать для публикации по моностиху откликаются не только такие заметные поэты и писатели, как Мишель Бютор, Мишель Деги, Жорж Перек, Доминик Фуркад, Жак Рубо, Анри Делюи, но и виднейшие французские философы Жак Деррида[451] и Филипп Лаку-Лабарт [Monostiches 1986]. Свою роль в привлечении внимания к возможностям одинокой строки сыграла и «Антология одинокой строки» Жоржа Шеаде [Schehadé 1977], составленная из «читательских моностихов» – особо запомнившихся поэту строчек других авторов. Маленькая антология моностиха «Кратчайшее в поэзии» (Brevísimo de poesía), составленная Рафаэлем Леоном (Rafael León; 1929–2011), вышла в 1978 году в Испании [León 1978]. В Румынии, как утверждается, первые однострочные стихотворения после 30-летнего перерыва опубликовал в 1976 году Базил Груя (Bazil Gruia; 1909–1995), за ним последовал в 1982 году Ион Брад (Ion Brad; род. 1929) [Vasiliu, Steiciuc 1989, 241–243].
Кроме того, во второй половине 1970-х в разных странах к общей тенденции подключаются поэты, работающие в жанре хайку, – и это тоже становится одним из заметных факторов того, что моностих перестает быть редкостью и становится вполне естественным явлением в мировой поэтической практике. Так, в США, как указывает У. Хиггинсон [Higginson 2004] (ср. [van den Heuvel 1999, XVI–XVII]), первый однострочный текст, позиционированный как хайку, был опубликован еще в 1964 году Кором ван ден Хувелом (Cor van den Heuvel; род. 1931):
солдатский котелок плывет по Нилу– однако этапными событиями в освоении однострочного хайку стали публиковавшиеся начиная с 1968 г. многочисленные однострочные переводы японских хайку Хироаки Сато (с подробным обоснованием в [Sato 1987]) и творчество Марлин Маунтин (Marlene Mountain; род. 1939), чья первая книга «Старая жестяная крыша» (the old tin roof, 1976), состоящая преимущественно из моностихов (в той или иной мере визуализированных), вызвала широкий резонанс в хайку-сообществе. За пределами хайку-сообщества, между тем, идея однострочного хайку приобретает известность благодаря публикации в 1981 г. цикла моностихов (преимущественно 17-сложных) Джона Эшбери (John Ashbery; род. 1927) «37 хайку» – резко полемичного по отношению к традиции американского хайку в том числе и благодаря однострочной записи [Brink 2010], однако созданного под влиянием переводов Сато [Shoptaw 1994, 260]; форму 17-сложного моностиха взял на вооружение и Аллен Гинзберг (Allen Ginsberg; 1926–1997), с 1987 г. сочинявший «Американские фразы» (American Sentences), еще решительнее порывающие с каноном хайку. К настоящему времени популярность хайку-моностихов настолько велика, что один из ведущих издателей и критиков американского хайку-сообщества Джим Кейшиан даже предложил для этой формы отдельный термин – моноку [Kacian 2012, 38].
Вопрос о существовании моностиха в других национальных литературах России (помимо русской) и в литературах стран и народов постсоветского пространства остается по большей части открытым. Значимым исключением является белорусская поэзия, место моностиха в которой исследовал В.В. Жибуль [Жыбуль 2009]. По его сведениям, первый белорусский моностих был напечатан в 1962 году Алесем Навроцким (род. 1937): в его дебютный сборник «Небо улыбается молнией» (Неба ўсміхаецца маланкаю) вошел цикл из девяти стихотворений «Элегии», одна из элегий была однострочной:
Песнь соловья заглушает кваканье жаб.– с изящным уклонением от грамматической определенности в вопросе о том, кто же все-таки кого заглушает; книга Навроцкого вызвала бурю гнева у партийно-государственного руководства (непосредственно в моностихе усмотрели политический подтекст [Макарэвіч 2010]), и дальнейшая легитимация однострочной стихотворной формы в белорусской поэзии стала происходить, по мнению Жибуля, только в начале 1990-х гг., на волне растущего интереса к миниатюрным формам вообще.
В латышской поэзии моностихи иногда усматривают у национального классика Райниса (Rainis; 1865–1929) в сборниках начала 1920-х гг. [Kursīte 1988, 129, 134; Kursīte 2002, 263], однако такой взгляд наталкивается на значительные сложности, связанные с гибридной природой самих этих книг, объединенных под общим названием «Пять черновых тетрадей Дагды» и трактовавшихся автором как единое целое; как мы видели (стр. 69–72), однострочные элементы этого целого выполняют, прежде всего, композиционную нагрузку, так что вряд ли правомерно рассматривать их отдельно. По-видимому, появление в латышской поэзии моностиха как самостоятельной формы связано с именами Айварса Нейбартса (Aivars Neibarts; 1939–2001), включившего в свою книгу «За семь вечностей» отдельный раздел из ста моностихов [Neibarts 1999, 203–209], и Петерса Брувериса (Pēters Brūveris; 1957–2011), чей цикл «Девять моностихов» (2009) попал даже в один из школьных учебников [Kalve, Stikāne 2011, 16–17].
Кроме того, моностих представлен в лезгинской поэзии, где родоначальником этой формы выступил Азиз Алем (род. 1938), вообще много работавший над интродукцией в лезгинское стихосложение различных твердых форм (от танка до триолета) и их модификаций [Гасанова 2006, 87]; первые публикации моностихов Алема[452] состоялись в 1960-е гг. в дагестанской периодике, ряд текстов вошел в его книгу «Мечты и молнии» (Хиялар ва цIайлапанар; 1974), однако, по устному сообщению автора, первый интерес к однострочным стихотворениям зародился у него десятилетием раньше, в годы обучения в Литературном институте в Москве (логично предположить, что Алем узнал о них из статей Сельвинского), а укрепился благодаря знакомству с хайку Мацуо Басё (хотя об однострочности аутентичного хайку лезгинский поэт не знал). Лишь на рубеже 1990–2000-х гг. вслед за Алемом к моностиху обратился другой лезгинский поэт, Зульфикар Кафланов (Зульфикъар Къафланов; род. 1957), включивший несколько однострочных текстов в сборник «Дождь поцелуев» (Теменрин марф; 2002); эта публикация вызвала характерную полемику, в которой представление о моностихах Кафланова как эталонном развитии традиции Алема в новую эпоху [Эльдаров 2005, 23] столкнулось с резким противопоставлением моностихов Алема, следующих традиционным лезгинским силлабическим размерам (по большей части, цезурованному одиннадцатисложнику), однострочным текстам Кафланова, которые не выдерживают размера и, следовательно, не могут считаться стихотворными [Ибрагимов 2015].
Более детальное исследование иноязычных традиций в моностихе и их сопоставление с отечественной остается делом будущего.
5. На подступах к поэтике моностиха
Уникальность моностиха как объекта исследования состоит, помимо прочего, в том, что благодаря минимальному объему каждого текста и достаточно ограниченному общему количеству текстов как сбор статистических данных, так и анализ конкретного текста возможно провести на том уровне полноты, какой едва ли достижим в большинстве других случаев. В этом смысле моностих выступает как чрезвычайно удобный материал для отработки путей и методов стиховедческого исследования.
В качестве примера мы выбрали две темы[453], не слишком разработанные в современном русском стиховедении: это название стихотворного текста[454] и пунктуация в стихотворном тексте.
5.1. Название в русском моностихе
Отправной точкой для рассмотрения именно этого аспекта поэтики моностиха стало широко (особенно в зарубежных источниках, подходы которых зачастую в известной степени предопределены представлением о моностихе Гийома Аполлинера как претексте всех современных однострочных стихотворений) распространенное мнение о том, что «многие моностихи были бы бессмысленны или крайне туманны без контекста, которые создают для них названия» [Brogan e. a. 2012].
Было обследовано 2500 собранных нами русских моностихов, написанных в XX веке. Из них оказались озаглавлены немногим более 200 (точная цифра не может быть названа из-за нескольких спорных и пограничных случаев) – т. е. около 8 %. Следует, однако, учитывать, что на незначительность процента озаглавленных текстов сильное влияние оказывает творчество ряда авторов, много обращавшихся к форме моностиха и при этом никогда не дававших этим своим работам названия: около 200 текстов Павла Грушко, свыше 400 текстов Валентина Загорянского, 84 текста Александра Анисенко, более 60 – Максима Анкудинова, Риммы Чернавиной, Германа Лукомникова и др. Дополняют эту статистику другие цифры: 94 автора не дали названия ни одному из своих моностихов; 20 – напротив, озаглавили все свои моностихи; 27 – использовали в моностихах название в части случаев. Если исключить из подсчета авторов, которым принадлежит 3 моностиха и менее, цифры примут следующий вид: 45 – 5 – 19; при этом только у 3 авторов из 19 моностихи озаглавлены более чем в половине случаев. В абсолютном исчислении: более 3 озаглавленных моностихов встречается у 19 авторов из 147 учтенных. Таким образом, название в моностихе – скорее исключение, чем правило, и лишь у нескольких авторов использование названия входит устойчивым элементом в поэтику.
Можно предположить, что, в рамках представления о том, что все названия расположены «по оси от необязательности до максимальной информативности» [Hollander 1975, 220], от «служебных» к «значимым» (indexical/significant) [Maiorino 2008, 2], в моностихе распределение будет сдвинуто к полюсу значимости и информативности[455] – не в последнюю очередь потому, что благодаря малому объему текста название обретает уникальные способы взаимодействия с ним. Например, малый объем основного текста делает особенно эффектной и привлекательной такую конструкцию целого, при которой принципиальная неполнота содержащейся в основном тексте информации восполняется названием. Наиболее прозрачный случай встречаем у Николая Глазкова:
О футболистах
Бегут они без друга, без жены. [Глазков 1989, 429]Семантическая неполнота основного текста непосредственно выражена здесь местоимением-анафором «они», антецедент которого находится в названии. Структура целого напоминает структуру высказывания с выделенным, обособленным логическим субъектом – или, в другой терминологии, темо-рематические отношения[456]. В дальнейшем такой тип отношений между текстом и названием оказывается, как правило, сопряжен со сложной метафорикой: в заглавие выносится референт сравнения:
Дождь
Небо я уже не читаю твой серый исписанный лист. А. Александров (род. 1952)[Александров 1992, 92–93]Луна
Прикрывающий голого негра кусок леопардовой шкуры Алексей ТимохинПостоянно к этому приему (название предъявляет предмет, указывает на реалию – текст представляет собой сложный образ) прибегает Виктор Филин – один из авторов, чьи миниатюры (в том числе однострочные) всегда озаглавлены. Его названия чаще развернуты в словосочетание, а порой и в целое предложение, описывающее некоторую картину природы; образ основного текста зачастую отстоит на несколько пропущенных логических звеньев от заданной картины, так что затрудненность перехода от названия к тексту создает особый художественный эффект:
Тают на лету белые облачка
Точильным камнем вымощена дорога в рай.Такое соотношение текста и названия Филин возводит к классическому японскому хайку, в котором, по его мнению, первый или, иногда, последний стих трехстишия (Филин разбирает не японские оригинальные тексты, а неизменно трехстрочные русские переводы) функционально равен заглавию, задавая ключ к пониманию последующего или предшествующего образа. Так, про хайку Басё в переводе Веры Марковой:
Желтый лист плывет. У какого берега, цикада, Вдруг проснешься ты?– Филин в неопубликованной статье-манифесте «Так сколько же строчных ипостасей у хайку?» (2002) пишет, что оно «в действительности – дистих, снабженный заглавием, которое, в угоду трехстрочности, поглощено дистихом и прилеплено к нему в качестве первой строки. Эта первая строка имеет особое право быть нулевой, т. е. заглавной, поскольку она – символична, то есть содержит метафору для расшифровки второй и третьей строк».
Реже связка «название – текст» соотносится со связкой «логический субъект – логический предикат» в обратной последовательности[457]. Тяготеющий в своих моностихах не столько к образности, сколько к риторике Василий Кубанёв дает название «Гордость» незамысловатой фразе:
Я ничего не знаю. [Кубанёв 1981, 209]– ясно, что здесь в качестве темы выступает основной текст, название же – то, что утверждается о нем. Кубанёв, таким образом, обыгрывает двунаправленность связи между текстом и названием, представляющуюся исследователям фундаментальной: «название, являясь по своей природе выражением категории проспекции, в то же время обладает свойствами ретроспекции» [Гальперин 1981, 134], «названия в одно и то же время суть предположение и пересмотр» (hypothetical and revisionary) [Seidel 1998, 36][458].
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что указанный текст Кубанёва очевидно цитатен: подразумевается знаменитое высказывание Сократа. Перед нами, таким образом, разновидность ready-made’а – новое произведение, созданное актом озаглавливания. Этот случай не единичен: так, среди моностихов Игоря Гиндина находим два текста, построенные по одинаковой схеме: распространенным речевым клише (в одном случае с легкой модификацией) предпосланы авторские заглавия:
Прощальное слово Дон Кихоту
Перемелется! Будет мука!Шведский брак
А Истина лежит посередине.В отличие от моностиха Кубанёва, где название подвергало чужой текст интерпретации и, пожалуй, оценке, здесь функция названия состоит в помещении готового текста в неожиданный, парадоксальный контекст, радикально смещающий в нем значения. К текстам Гиндина близок по конструкции и моностих Вадима Перельмутера:
Жуковский
Он Пушкина видал в гробу. [Перельмутер 1997, 162]– также построенный на том, что название перемещает фразу (в которой фразеологизм «видать в гробу» с доминантной семой «безразличие» «заражает» имя собственное, осмысляемое в этом контексте как часть другого устойчивого речения аналогичной семантики: «делать что-либо Пушкин будет?») в новый контекст, реанимирующий исходные смыслы всех слов. Вообще актуализация буквальных значений слов, входящих в состав паремий, фразеологизмов, речевых формул, известных цитат, весьма характерна для поэтики моностиха (см., напр., стр. 283–284).
Наиболее ярким мастером ready-made и found poetry в современной русской литературе является, безусловно, Михаил Нилин, много работающий в форме моностиха (нам знакомы 66 текстов). В отличие от вышеприведенных примеров, Нилин не создает для найденного текста никакого нового контекста, кроме собственно поэтического, строя произведение, в соответствии с каноном found poetry, на перегруппировке функций бытового высказывания с оттеснением прагматической нагрузки поэтической функцией. Не проявляя особого пристрастия к названиям (13 моностихов – около 20 % от общего числа при 29 % в произвольно выбранных 100 текстах того же автора), Нилин прибегает к ним при необходимости прояснения речевой ситуации, из которой извлечен текст:
[Ипподром]
… под соперником Излишняя Тревога.[20-ые]
«… уподобляемся женской ноге старого Китая…»[Дневник императрицы]
Парад. Ветер.В первом случае указывается место, во втором – эпоха, в третьем – непосредственно источник текста (дневник Александры Фёдоровны, супруги Николая I; запись от 12 июля 1836 года, интересная тем, что в следующей фразе упоминается Жорж Дантес [Герштейн 1962, 213]). Восстановленный таким образом контекст достаточен, чтобы обнаружить напряжение между поэтическим потенциалом найденного текста и невостребованностью этого потенциала в исходной речевой ситуации. Такой способ озаглавливания текстов для Нилина типичен; иногда, однако, он от него отступает ради более сложной игры:
[Сон]
Рaзнополые это плюс.– здесь название носит очевидно дезориентирующий характер, поскольку происхождение фразы достаточно явственно: слово «разнополый» за пределами научного стиля употреблялось в советскую эпоху преимущественно в бюрократическом контексте, в связи с жилищным вопросом («разнополые дети» давали определенные преимущества при попытках улучшения жилищных условий). Тем самым, можно предположить, что в данном случае «сон» выступает не как прямое указание на исходный контекст, а как его образная характеристика: мир советского бюрократизма и, шире, советского быта (к которому Нилин вообще проявляет пристальное внимание) уподобляется миру сна (притом дурного).
К указанию на речевую ситуацию близок другой тип названия, указывающий на непринадлежность высказывания авторскому (лирическому) «я», вводящий последующий текст как «чужое слово». Таков известный моностих Ильи Сельвинского:
«Лучше недо, чем пере». [Сельвинский 1931, 42]– приписанный посредством названия: «Афоризм караимского философа Бабакай-Суддука» – созданному в ряде предшествующих текстов персонажу. У современных авторов субъект высказывания вводится ad hoc:
Свекровь
«Оставьте-ка, милочка, этот прибор…» Марина Качалова (род. 1963)Монолог армянина
Не пойму мусульман, хоть убей. Александр Ерёменко[Шохина 1994, 7]Похвальба соловья
Имя выем вием! Василий Ломакин (род. 1958)[Ломакин 2012, 33]– в двух последних случаях (при всем их различии) в сочетании с указанием на речевой жанр или модальность высказывания, акцентирующим не только непринадлежность его автору, но и отказ автора с ним солидаризироваться. В качестве своеобразного указания на «чужое слово» функционирует и обозначение жанровой принадлежности текста (поскольку жанр, по сути, фольклорный) у Сергея Панова:
Несохранившийся анекдот
«пошел раз бабник на субботник…»– непринадлежность текста авторскому «я» подчеркивается кавычками (чуть подробнее о жанровой атрибуции как способе озаглавливания см. ниже); указание на жанр анекдота, в котором, как отмечал Е.Я. Курганов, «обязательно должны соединиться локальность и значительность. Сочетание это и обеспечивает роль анекдота как особого рода исторического документа, открывающего важное через мелкое, тенденцию – через деталь» [Курганов 2015, 81–82], заостряет конфликт между двумя существительными одинакового строения, различающимися не только немотивированным остатком суффиксального значения (почему «бабник» – это человек, а «субботник» – в данном случае, нет?), но и тем, что бабники были всегда, а субботники остались приметой одного конкретного исторического эпизода – советского времени, которое, по остроумному выражению антрополога Алексея Юрчака, «было навсегда, пока не кончилось».
Еще одна разновидность достраивания контекста посредством озаглавливания – фиксирование в названии бытовых и психологических обстоятельств, вызвавших выразившееся в тексте лирическое переживание. К этому приему охотно прибегает Владимир Марков – вот самый характерный пример:
Солнечный день, в траве
Ты здесь? Ты рядом? Ты со мной? [Марков 1994, 342]– заметим, что непосредственно в тексте обстоятельства, данные в названии, никак не задействованы и на само переживание никакого влияния не оказывают. Для русской литературной традиции такой подход несколько непривычен (впрочем, у Василия Розанова – но в прозе, при весьма специфической стилистике и композиции, и не перед текстом, а после, что также существенно) – зато широко распространен в китайской и японской поэзии. В эту восточную парадигму, безусловно, встраивается – в частности, благодаря названию, – стихотворение Александра Арфеева:
Возвращаясь с прогулки
уличный фонарь зажег огоньки на обледенелых ветвях сливы [Арфеев 1992, 99]– на принадлежность текста к жанру хайку недвусмысленно указывает «сезонное слово» (см. стр. 256–257).
К обстоятельствам создания текста отсылает, хотя и куда более привычным способом, название моностиха Александра Макарова-Кроткова (род. 1959):
Всеволоду некрасову – на шестидесятилетие
вот вот и вот и вот ещеОднако здесь такая отсылка непосредственно связана со структурой самого текста (дейктически-паузного, в терминологии Н.Г. Бабенко [Бабенко 2003, 78], то есть построенного на преобладании указательных местоимений): адресация к зачинателю русского стихотворного минимализма мотивирует и акцентированный повтор, и попытку передать на письме эффект разговорной речи с обильным невербальным компонентом, и полное вытеснение знаменательных слов служебными (со словом «вот» связана одна из наиболее ярких и известных минималистских работ Некрасова в визуальной поэзии).
Наиболее распространенной разновидностью достраивания контекста посредством названия является, разумеется, наименее радикальный прием: временнáя либо пространственная локализация (особенно если текст построен на не слишком очевидном тропе). Преобладает здесь указание на время года:
Осень
Падая, тень дерева увлекает за собой листья. Иван Жданов[Жданов 1991, 20]Весенние смерти
Сырой голубой ветер уносит стариков… Алексей Алёхин (род. 1949)[Алёхин 1994, 114]Затишье перед наступающей зимой
Деревья простили друг другу всё. Наталья Клименко[Клименко 1989]Реже встречается время суток. Пространственная локализация чаще всего связана с топонимикой:
Нью-Йоркская поэма
В бетон обутые деревья. Александр Очеретянский (род. 1946)Бостон
А церковь плывет в воде небоскреба Ира НовицкаяЛюбопытно, что в обоих случаях (и нескольких подобных) индивидуальность называемых городов никак не выявляется в тексте; и Очеретянский, и Новицкая рисуют некую общеурбанистическую картину, и от перемены местами Бостона и Нью-Йорка вряд ли что-либо изменилось бы. В силу этого данные примеры сближаются с цитированным выше текстом Маркова: локальная привязка выражает скорее биографический момент.
Наконец, последний тип достраивания контекста путем озаглавливания можно обозначить как конкретизацию: текст представляет собой образ или риторическую фигуру, позволяющие достаточно широкую интерпретацию, которая ограничивается и определяется названием.
Телеграмма
ночной стук в окно: камень, брошенный в реку Александр Арфеев[Арфеев 1992, 69]Семиотика
Особый путь – синоним тупика. Вадим Перельмутер[Перельмутер 1997, 163]Достаточно редкий тип отношений между названием и собственно текстом связан с возникающим в их взаимодействии усложнением образа, стремлением дополнить его новым измерением. Наиболее яркий пример – у Дмитрия Чернышёва (род. 1963):
Bonsai
Выращивал судьбу.Образ «выращивания судьбы» сам по себе достаточно неожидан и парадоксален, а наложение на него еще более рискованного тропа (росток судьбы уподобляется «бонсай» – карликовому деревцу японской традиционной культуры, миниатюрной копии настоящих деревьев) делает текст многомерным и существенно усиливает художественный эффект.
Противоположное решение встретилось нам у единственного автора – Алексея Коротеева, зато во всех 28 моностихах, принадлежащих ему. Коротеев озаглавливает свои тексты по присутствующему в каждом ключевому слову:
Сгусток
Сгусток Божьей мысли – солнце в небе.Раздаю
Всем говорящим бесплодно – молчанье свое раздаю.– название принципиально отказывается что-либо добавлять к тексту, лишь обозначая в нем логический акцент (как видно из примеров, не вполне очевидный)[459]. Такое построение, по-видимому, отражает редкое для сегодняшнего культурного сознания представление об обязательном характере названия в поэтическом тексте[460].
Тавтологические отношения между текстом и названием могут и становиться предметом особой рефлексии. В легком игровом ключе работает с этим приемом Александр Попов (род. 1963):
Стихотворение о том, как приятно его читать
Как приятно читать эти строки…Текст устроен тоньше, чем кажется на первый взгляд: здесь неявным образом ставится вопрос о границе текста, т. е. о том, является ли название текста его частью. Название и собственно текст решают этот вопрос по-разному: согласно названию, название не входит в состав стихотворения, поскольку содержание стихотворения (идея о том, что его «приятно читать») выражается только строкой текста, названием же – лишь называется, описывается; с другой стороны, непосредственно в тексте находим слово «строки» во множественном числе – то есть обе строки, собственно текста и названия, приятно читать… Эта достойная Зенона апория, думается, хорошо отвечает положению вещей – и вполне соответствует современному научному пониманию проблемы: «с одной стороны, они (название и текст, – Д.К.) могут рассматриваться как два самостоятельных текста, расположенных на разных уровнях иерархии “текст – метатекст”, с другой стороны, они могут рассматриваться как два подтекста одного текста» [Лотман 1981, 6].
Не менее радикально, но куда более прямо (и, естественно, существенно раньше) ставит проблему Василий Каменский – один из пионеров русского моностиха (оба его текста опубликованы в 1917 г.). Моностихи Каменского, весьма своеобразные сами по себе (несколько слов склеены в одно псевдослово, слегка напоминающее слово-предложение в инкорпорирующих языках), состоят из абсолютно идентичных названия и собственно текста:
Золоторозсыпьювиночь
ЗолоторозсыпьювиночьРекачкачайка
Рекачкачайка [Каменский 1917, 18]Эти тексты, за полвека предвосхищающие лотмановский тезис о том, что «текстуальное совпадение обнажает позиционное различие» [Лотман 1970, 166], подвергают ревизии сам феномен заглавия. Традиционному представлению о заглавии как содержательной квинтэссенции текста («заглавие – книга in restricto» [Кржижановский 1931, 3], оно «неизбежно ‹…› выделяет, акцентирует нечто главное или глубинное в произведении» [Магазаник 1968, 80]), противопоставляется близкое известной толстовской мысли представление о том, что квинтэссенцией произведения может быть только само произведение, – а отсюда прямая дорога к пониманию отношений заглавия и текста как отношений означивания, самого заглавия – как знака. Любопытно также сопоставить опыт Каменского с традицией обозначения текстов, не имеющих заглавия, по начальным словам, а применительно к стихам – по первой строке (см. подробнее стр. 50–52): понятно ведь, что, коль скоро у моностиха первый стих является единственным, он при отсутствии иного заглавия автоматически принимает на себя функцию обозначения самого себя.
Рассмотренные названия, при всем их различии, принадлежат по большей части к типу названий, который Л. Хук определяет как «субъектный», а Ж. Женетт как «тематический»: они апеллируют к тому, о чем идет речь в тексте [Genette 1987, 75–76]; противоположный тип названий, «объектный» или «рематический», апеллирующий к тому, чем является сам текст, – это прежде всего названия жанровые. Русский литературный моностих начинался с весьма определенных в жанровом отношении текстов – однострочных эпитафий Карамзина, Хвостова и Державина. Поскольку к XX веку жанр эпитафии в русской литературе практически исчез, соответствующее жанровое обозначение в названии моностиха встретилось нам лишь дважды, оба раза будучи интерпретировано в достаточно травестийном ключе:
Эпитафия. Князь Вяземский
Он жил, пока браниться не устал. Вадим Перельмутер[Перельмутер 1997, 163]Эпитафия
жил и умер Стелла Моротская (род. 1962)Также по два раза – что, в сущности, гораздо более любопытно, – встретились названия жанров крупноформатных и к тому же прозаических. Два моностиха в жанре «Повесть» принадлежат соответственно Александру Гатову:
Он в зеркало смотрел, как в уголовный кодекс. [Гатов 1939, 45]– и Льву Озерову:
От заботливых жён убегают мужья.«Петербургский роман» – Михаилу Синельникову:
А весной снесли его на Охту. [Синельников 1997, 111]Наконец, у Владимира Маркова есть цикл «Романы в одну строку» из четырех моностихов, один из которых особо озаглавлен «Роман в народном духе»:
Груша с Гришей согрешили. [Марков 1994, 343]Художественный эффект у Гатова, Озерова и Маркова возникает за счет напряжения между предъявленной стихотворной миниатюрой и концептом большого прозаического жанра: содержание единственной фразы полагается эквивалентным содержанию крупного произведения, объемный текст присутствует в миниатюре в «свернутом» виде. Марков усиливает эффект тем, что передает еще и образ стиля (другие три «романа»: «Обрывки человеческих созданий…»; «И начал он стареть, стареть, стареть, стареть…»; «Учитель учил учеников.»). Не совсем ясно, правомерно ли рассматривать в этом ряду текст Синельникова: в отличие от трех других авторов, он не пытается сконцентрировать в единственной строке всё содержание гипотетического романа, а лишь дает характерный штрих, и в нем – образ типичной стилистики и хронотопа петербургской прозы; тем самым, можно считать, что слово «роман» в названии моностиха называет не жанр, приписываемый самому тексту, а предмет поэтического высказывания. Во всех этих случаях видимая «объектность/рематичность» названия проблематизирована, деформирована его очевидной произвольностью (в особый подтип предлагает выделять подобные названия Н. Лахлу [Lahlou 1989, 7]).
Эксплицитно выражена такая деформация в названиях всех четырех моностихов Евгения Бунимовича (род. 1954), объединяющихся – именно благодаря общей структуре названий, отсылающих к некоторому речевому жанру, – в неназванный цикл:
Поправка такая
сила которую ломит соломаПризнание такое
по-видимому я тебя люблюПрисутствующее во всех четырех названиях определение «такой», да еще выделенное постпозицией, дезавуирует определяемое (что вполне отвечает смыслу самих текстов: если ситуация, описанная пословицей «сила солому ломит», вывернута наоборот, то это уже не «поправка», а полная отмена; если признание в любви делается в предположительной модальности, то это уже не признание, а что-то другое, и т. д.), давая жанровую характеристику и тут же снимая ее.
В заключение уместно будет остановиться на специфическом эффекте ритмической (в широком смысле слова, по М.И. Шапиру) корреляции между названием и собственно текстом, возникающем в моностихе благодаря их сопоставимости по объему[461].
Наиболее совершенный пример фонической корреляции текста и названия дает в своем моностихе Алексей Тимохин:
Утро
Тихо тает туман.Движение от предрассветной мглы к рассвету передается фонетически переходом от глухих согласных к сонорным, и в этом отношении название и текст изоморфны. Разумеется, в отдельно взятом слове «утро» усмотреть такое движение затруднительно, но в рамках данного текста звуковое строение этого слова эксплицируется[462] звуковым строением последующего стиха, в котором контраст между большею частью строки (5 глухих согласных, в том числе 3 «т» + одно «т'») и последним слогом с двумя сонорными – классический «фонологический слом», по Ю.М. Лотману [Лотман 1970, 248–249], а его верификация (в соответствии с требованием М. Червенки об обязательном подтверждении неслучайного характера инструментовки организованностями на других уровнях структуры текста [Червенка 2011, 248–249]) производится акцентологически (из трех двусложных слов первые два имеют хореическую метрику, а третье – ямбическую).
Более очевидной является рифменная корреляция – например, в тексте Юрия Онохова (род. 1964):
Метаморфоза
С бензовоза упала роза.Наконец, встречается корреляция метрическая, представленная двумя разновидностями. Среди экспериментов Владимира Маркова есть и такой: ямбический моностих имеет название, также представляющее собой ямбический стих – правда, на одну стопу короче:
Березы. Ветер. Думая о смерти
Тот блеск пугающий, тот шорох неземной… [Марков 1994, 342]Чередование пяти– и шестистопного ямба для русского стиха достаточно привычно, так что моностих с заглавием в данном случае весьма близок к двустишию, – впрочем, от чрезмерного сближения здесь предохраняет синтаксис: заканчивающий строку названия изолированный (и, в каком-то смысле, субстантивированный) деепричастный оборот не может вступить во взаимодействие с назывными предложениями собственно текста.
Зато в двух моностихах Марины Качаловой тесная метрическая связь между названием и собственно текстом подкрепляется не менее тесной синтаксической, особенно во втором тексте:
Читала Бабеля
И вырвало мозги…В век электричества
…Оплывшая свеча.В обоих случаях на название и собственно текст разложена, в сущности, строка шестистопного ямба (двустишия трехстопного ямба не получаются, потому что третий икт в обоих случаях безударен). Таким образом усиливается, получая формальное, пусть и не языковое выражение, противопоставленность тематического и рематического.
5.2. Пунктуация в русском моностихе
Понятие пунктуации используется нами в узком смысле, включая по преимуществу кодифицированные знаки препинания – «центр» пунктуационной системы – и не включая ее периферию: пространственные и шрифтовые выделительные средства [Шварцкопф 1988, 66]; встречающаяся у А.А. Реформатского еще более широкая трактовка пунктуации, включающая также и элементы графики стиха, представляется нам методологически неточной, хоть Реформатский и подкрепляет ее авторитетом Владимира Маяковского, будто бы сказавшего ему: «Моя пунктуация – это “лесенки”» [Реформатский 1963, 214–215].
Были подвергнуты обследованию 1500 моностихов 87 авторов 1960–90-х гг. От одного автора бралось от 1 до 196 текстов; свыше 20 текстов – от 20 авторов.
Отказ от употребления знаков препинания зафиксирован в 375 текстах (25 %); частные случаи представлены в таблице.
Сопоставление этих данных с какими-то данными по многострочным текстам наталкивается на трудности двоякого рода. С одной стороны, неясно, какую выборку многострочных текстов можно считать репрезентативной для такого сравнения: моностихи для нашего собрания отбирались, как уже было отмечено, у авторов очень разных по своей поэтике, и отбор многострочных текстов для корректного сопоставления должен был бы проводиться с учетом эстетических приоритетов изданий-источников. С другой стороны, у многострочных текстов возникает более сложная градация возможностей, которым трудно найти соответствие в моностихе (например, присутствие знаков препинания в конце строфы при отсутствии в других позициях et vice versa, наличие прописной в начале строф или полустрофий, но не всех строк, и т. д.). Тем не менее некоторые подсчеты были проделаны. За основу был взят раздел «Непохожие стихи» в антологии «Самиздат века» [Самиздат 1997, 341–752], поскольку в нем представлены, главным образом, авторы неподцензурной поэзии 1950–80-х гг. Из рассмотрения были исключены значительно более ранние тексты (1930–40-х гг.) и несколько произведений, чей стихотворный статус сомнителен (визуальная поэзия Вилена Барского, проза Андрея Монастырского и Сергея Круглова и др.). В результате был обследован 1041 текст 240 авторов (от одного до 30 текстов каждого автора – в объеме публикаций антологии). Отказ от употребления знаков препинания зафиксирован в 264 текстах 40 авторов – те же 25 % от общего количества стихотворений. Из них прописная буква в начале стихов (всех или некоторых) присутствует в 163 текстах и отсутствует в 110 (еще один текст целиком дан прописными буквами) – процентное соотношение 59:41 (у моностихов, как видно из таблицы, 62:38). Учитывая изначальную проблематичность предпринятых сопоставлений, близость полученных результатов кажется довольно красноречивой, но для каких-либо выводов этот сравнительный материал недостаточен.
В какой мере отказ от пунктуации оказывается элементом авторского идиолекта? Некоторые авторы стремятся к единообразному и последовательному использованию приема. Так, опущен концевой знак во всех 48 обследованных текстах Иры Новицкой, 33 – Александра Очеретянского, полностью отсутствуют знаки (и прописная буква в начале) у Сергея Сигея (7 текстов) и Нирмала (14 текстов)… Для других наличие или отсутствие знака выступает не как общий принцип оформления текста, а как применяемый ad hoc прием с конкретной художественной нагрузкой для данного случая. Так, из 64 текстов Максима Анкудинова в 56 опущен концевой знак; из остальных 8 концевая точка возникает в единственном:
До этой Реки никогда не доходит дождь.– приобретая значение окончательности суждения (что коррелирует с резкой выделенностью конца строки ритмическими средствами). Достаточно экзотический вариант, при котором присутствуют знаки препинания в конце строки и внутри нее, но отсутствует начальная прописная буква (т. е., при синтаксической нормативности текста, тоже своего рода знак препинания – знак начала предложения), по крайней мере в двух случаях привлекается для решения одной и той же задачи – уменьшения асимметричности начала/конца строки и подчеркивания звукового и синтаксического параллелизма полустиший:
не нрай – не читай. Бонифаций (Герман Лукомников) я жду себя – я поймал себя! Сергей Гарбуз– причем для обоих авторов это единственный случай применения такого приема (из 73 и 10 текстов соответственно). Другой причиной обращения авторов, тяготеющих к отказу от пунктуации, к употреблению знака et vice versa выступает необходимость прояснения синтаксической структуры текста либо интонационной нюансировки.
Я, проникающий в тебя Максим Анкудинов заумь: это когда за умью – ау Александр Очеретянский– во втором случае не только само использование знаков препинания крайне нехарактерно для этого автора (2 текста из 33), но еще и пунктуация носит ярко выраженный авторский характер (при нормативном тире на месте двоеточия и отсутствии знака на месте тире), формируя специфическую интонацию догадки, открытия. Однако и в первом случае запятая, акцентирующая доминирование атрибутивных отношений над предикативными, хотя и соответствует пунктуационной норме, но выступает при этом как нерегламентированный знак, появление которого не вызвано этой нормой.
Какие-либо знаки препинания присутствуют в 1211 текстах (81 % от общего числа обследованных), в том числе концевые – в 1142 (76 %). В связи с концевыми знаками было интересно прежде всего выяснить, в какой мере авторы моностихов склонны подчеркивать фрагментарность текста – концевыми (а также начальными) многоточиями. С.И. Кормилов первым обратил внимание на обязательность концевого многоточия у Владимира Вишневского [Кормилов 1995, 76–77]. Употребление в качестве концевого знака только многоточия и различных его модификаций свойственно и ряду других поэтов: Анатолию Анисенко (85 текстов), Владимиру Кудрявцеву (22 текста), Павлу Слатвинскому (17 текстов), – это поэты, воспринявшие канон моностиха от Вишневского и работающие в сформированном им жанре (см. стр. 248–251):
Выхожу один на недотрогу… Анатолий Анисенко (род. 1950) Как сложно жить в глубинке и в ширинке… Анатолий Баранов (род. 1932) Сдается мне: напрасно ты мне сдался… Злата Павлова (род. 1963) Я весь в себе, в тебе я лишь чуть-чуть… Павел Слатвинский(в последнем случае, однако, нехарактерная для Вишневского «лесенка»).
Слабость к многоточию в качестве концевого знака питают и другие авторы: 94 текста из 196 у Павла Грушко, 81 из обследованных 100 у Валентина Загорянского и т. д.; однако за пределами «моностиха Вишневского» обязательно возникают и другие концевые знаки, a среди функций многоточия доминирует эмоционально-интонационная:
Этот снег был таинственный снег… Павел Грушко[Кузьмин 1996, 79] Так тихо – словно яблоко в руке… Радуга – а горбатая… Валентин Загорянский[Загорянский 2000, 100]В то же время ряд авторов не используют концевое многоточие вообще: так, концевую точку имеют все 19 текстов Алексея Коротеева, все 45 текстов Нинэли Крымовой… И если у первого автора отказ от концевого многоточия мотивирован, по-видимому, тяготением к афористичности, подчеркнутой смысловой завершенности:
По дороге
По дороге жизни Бог ведет меня к себе.– то импрессионистические зарисовки Крымовой (род. 1939), нередко с начальным союзом «и», часто представляющие собой назывные предложения, казалось бы, просто просят многоточие в конце:
И санный след бежит сквозь сердце. Пчелиного гуденья мед тягучий.– и категорический отказ автора от этого знака можно объяснить разве что внутренней полемикой с представлением о моностихе как о чем-то фрагментарном, незавершенном.
Наконец, своеобразное решение проблемы концевого знака в моностихе предлагает в своей стихотворной практике Вилли Мельников: все 96 обследованных текстов этого автора оканчиваются окказиональным пунктуационным знаком «,„» («троезапятие», по выражению автора) либо его модификациями («!„», «?„»)[463]. Возможно, этот знак следует интерпретировать как сигнализирующий о принципиальной открытости текста продолжению и дополнению. В пользу такого предположения свидетельствует и монтажная структура книги Мельникова «in SPE» [Мельников 1994], в которую вошел и ряд его моностихов, правда, не без труда в ней вычленяемых; характерно, что внутри этого сложного целого концевой знак мельниковских моностихов меняется (чаще всего – на точку).
Общее число текстов с концевым многоточием того или иного вида составляет 568, т. е. чуть больше трети от общего числа обследованных текстов и 50 % от текстов с наличием концевого знака. Сюда входит 371 одиночное многоточие (у 36 авторов), 53 знака «!..» (8 авторов, включая 5 знаков «!„» у Мельникова)[464], 19 знаков «?..» (10 авторов, включая 3 знака «?„» у Мельникова), 2 знака «?!.» у 1 автора, а также 35 «рамочных» (в начале и в конце) многоточий (у 7 авторов), включая две комбинации «…+!..» и одну – «…+?..». Именно рамочные многоточия, а также начальные при другом концевом знаке (8 случаев у 5 авторов) выступают наиболее однозначным показателем фрагментарности текста:
…зашили как футбольный мяч… …пока нас не выселили в Биробиджан… Ян Сатуновский[Сатуновский 2012, 350, 389] …нервная и нежизнерадостная… …есть и девки мужское надевают. Михаил Нилин– при отказе, как правило, от начальной прописной буквы.
В целом, однако, можно считать показанным, что установка на фрагментарность не является общеобязательной для авторов моностихов.
Что касается других концевых знаков препинания, то концевая точка встречается в 457 текстах 39 авторов (40 % текстов с концевым знаком), восклицательный знак – в 82 текстах 26 авторов (7 %), вопросительный знак – в 34 текстах 16 авторов (3 %), в 1 тексте встречается комбинация «?!». Всего восклицанием оканчивается 140 текстов (12 %), вопросом – 57 (5 %).
Внутристрочные знаки в моностихе представляют особый интерес в связи с проблемой, в наиболее радикальной постановке сформулированной С.В. Сигеем (в письме автору этой статьи): «И Марков <в [Марков 1994]> и Бирюков <в [Бирюков 1994]> включают множество строк, которые на мой взгляд “одностроками” не являются, поскольку серединами своими явно цезурят, тем самым распадаясь “на слух” двумя строчками… Связано это безусловно с пунктуацией. В нашем веке (может быть во многом благодаря верлибру) стало ясно, что запятая эквивалентна паузе… Пауза делит строку… Вполне возможно вместо того чтоб ставить знак препинания, просто напросто начинать с новой строки» (письмо июля 1994 г., сохраняю особенности пунктуации С.В. Сигея)[465]. Точка зрения Сигея, представляющая собой инверсию старой идеи А.М. Пешковского[466], видится более чем спорной, однако теоретическая полемика с нею выходит за пределы задач данной работы; посмотрим, как согласуется с мнением Сигея практика различных авторов.
Прежде всего критерию Сигея удовлетворяют тексты с полностью опущенными знаками препинания (см. выше). Другой возможный путь – пропуск знаков внутри строки при сохранении концевого знака – представлен 4-мя текстами 2-х авторов – Алексея Мещерякова и Владимира Бурича:
Разве можно сказать цветку что он некрасив? Владимир Бурич[Бурич 1989, 108]Сугубая нераспространенность такого подхода свидетельствует, вероятно, о том, что для большинства авторов пунктуационная расчлененность строки выступает лишь следствием (проявлением) ее синтаксической расчлененности. Поэтому самая большая группа текстов, удовлетворяющих требованиям Сигея, – это 608 текстов, в которых концевой знак наличествует, внутренние же отсутствуют в силу синтаксической структуры; сюда же примыкают 4 текста 4-х авторов из второй строки второй графы таблицы – с отказом от начальной прописной буквы:
разве ж я мог знать?.. Андрей РубцовДля ряда авторов такой подход к пунктуации оказывается предпочтительным: так организованы 51 из 85 обследованных текстов Анатолия Анисенко, 78 из 96 – Вилли Мельникова, 144 из 196 – Павла Грушко, 33 из 45 – Нинэли Крымовой… Примечательно, что все эти авторы уже упоминались в нашем обзоре как работающие в совершенно разных манерах: таким образом, тяготение к совпадению стихового и синтаксического единств, влекущему за собой отсутствие знаков препинания внутри стиха, оказывается совместимо и с традиционалистской лирической интенцией, и с авангардными устремлениями, и с иронико-сатирическим пафосом[467].
В целом тексты с отсутствием внутренних знаков при наличии концевого составляют 51 % от общего числа текстов с наличием знака (616 от 1211), встречаясь у 46 авторов. Есть свои энтузиасты и у противоположного подхода: внутренние знаки встречаются в 81 тексте из 100 обследованных у Валентина Загорянского, в 27 из 36 – у Златы Павловой, причем в 46 и 14 случаях соответственно это знаки конца предложения:
Тишина. Подлинник. Валентин Загорянский[Загорянский 2000, 101] Летела птица. Больше не летит. Злата ПавловаВсего знаки конца предложения в середине строки встречаются в 111 текстах (9 % от общего числа текстов с наличием знака), в т. ч. точка – в 35 (12 авторов), восклицательный знак – в 33 (также 12 авторов), многоточие – в 21 (7 авторов), вопросительный знак – в 14 (9 авторов), комбинация «!..» – в 5 (Загорянский), комбинация «?!» – в 3 (3 автора), комбинация «?..» – в 1. Сюда же, вероятно, нужно присоединить текст, в котором знаки препинания опущены, но внутри строки присутствует прописная буква, начинающая новое предложение (как замечает Д.А. Суховей, «заглавные буквы принимают на себя роль синтаксического членения в текстах без знаков препинания» [Суховей 2008, 127]):
Я улетал Пылал аэропорт Олег Волов (1960–2015)Из этих 111 текстов в 6 (5 авторов) знаки конца предложения встречаются дважды (т. е. моностих состоит из 3 предложений):
Осознал. Содрогнулся. Привык… Кирилл Ковальджи[Ковальджи 1989, 62] Осень. Молчание. Золото… [Загорянский 2000, 101] Часы пробили. Жизнь мою. Насквозь. Валентин Загорянский– в последнем случае с характерной для этого автора (12 текстов из 100 обследованных) парцелляцией. Разумеется, и в других случаях предложения, составляющие моностих, оказываются тесно связанными между собой (чтобы моностих мог их, по выражению С.В. Сигея, «удержать»): структурным подобием (как в вышеприведенных примерах: три назывных предложения, три неполных с отсутствием подлежащих и сказуемыми в одной и той же форме…), словесным повтором:
Смахнула пыль… Потом – слезу смахнула… Валентин Загорянский Я помню… Дальше не помню. Бонифаций (Герман Лукомников)Таким образом, готовность некоторых лингвистов априори квалифицировать моностих как «однофразовый текст» [Береговская 1994, 105; Смулаковская 1997, 131] не имеет, как видим, под собой оснований.
Из других знаков тире встречается 216 раз (у 45 авторов), двоеточие – 31 раз (у 16 авторов); в 6 текстах 3 авторов встретилась комбинация «, –» как самостоятельный знак; точка с запятой не зафиксирована ни разу. В 6 текстах 6 разных авторов употреблено многоточие, не заканчивающее предложения:
Денег… на лепесток розы. Александр Смир[Кузьмин 1996, 81]Всего, с учетом запятых, которые отдельно не подсчитывались, встретилось 430 текстов с одним знаком препинания внутри строки (55 авторов; 36 % от общего числа текстов с наличием знака), 130 – с двумя (43 автора; 11 %), 22 – с тремя (16 авторов; 2 %) и 7 текстов с бóльшим количеством знаков (6 авторов) – это преимущественно тексты, построенные на перечислении:
…воскресенье, понедельник, октябрь, ноябрь, макабр… Ян Сатуновский[Сатуновский 2012, 374] …спутник, колхоз, перегиб, гласность, перестройка… Михаил Нилин Паук, розы, тень, очаг, мухи. Ры Никонова, ранняя редакция В Лебяжке – утки, на Конюшенной – машины, над Марсовым – луна. Ася ШнейдерманСверх того в 1 тексте встретились скобки, в 18 текстах – кавычки, образующие прямую речь, причем в 7 случаях (7 авторов) прямая речь занимает часть строки:
каркнул Бродский: «Nevermore» Иван Ахметьев– в 11 же (5 авторов) весь текст представляет собой прямую речь, мотивировка которой чаще всего вводится заглавием:
[20-е]
«… уподобляемся женской ноге старого Китая…» Михаил Нилин[Кузьмин 1996, 79]Свекровь
«Оставьте-ка, милочка, этот прибор…» Марина КачаловаТаким образом, можно считать, что наличие знаков препинания не ощущается большинством авторов как нарушающее целостность строки вообще и моностиха в частности; автономность стихового и синтаксического членений является данностью для большинства современных поэтов.
Сверх статистических данных хотелось бы остановиться на нескольких частных случаях.
У 3 авторов в моностихах встречаются увеличенные межсловные пробелы. Само существование подобного приема может служить ответом С.В. Сигею: здесь акцентируется различие между паузой конца строки и паузой внутри стиха. Однако эти случаи неоднородны. Моностих Евгения Понтюхова (род. 1941) обладает полноценной синтаксической структурой (что подчеркивается находящимися на своих местах прописной буквой в начале предложения и точкой в конце), увеличенные пробелы накладываются на нее, не вполне совпадая с членением фразы на синтагмы и, тем самым, сдвигая смысловые акценты:
Голая в ивняках
Загорающую девицу раздражают тени облаков.Такой способ использования увеличенных пробелов можно встретить и в многострочных текстах – у таких авторов, как Сергей Завьялов, Станислав Львовский, Полина Андрукович; Д.А. Суховей замечает в связи с этим, что «пробелы делают интонацию стиха преобладающей над ритмической заданностью и синтаксической упорядоченностью» [Суховей 2008, 119][468]. Однако особый интерес текст Понтюхова представляет в связи с жанровым тяготением моностихов Понтюхова к хайку: именно так, увеличенными межсловными пробелами, членили текст избиравшие однострочную форму англоязычные авторы хайку 1970–80-х гг. [Higginson 1992, 132]. Впервые же в моностихе такое графическое решение использовал в 1918 году Джузеппе Унгаретти (в знаменитом стихотворении «Солдаты», см. стр. 188) – отмечая это, Дж. У. Хокенсон тут же пишет и о том, что на военные миниатюры Унгаретти определенно повлияло знакомство с вышедшими во Франции в первое десятилетие XX века сборниками переводов хайку (удивительным образом не связывая эти два обстоятельства друг с другом) [Hokenson 2007, 703]. Невозможно заподозрить Понтюхова, поэта старшего поколения из Орловской области, в намеренном следовании за американскими и канадскими авторами, никогда не публиковавшимися в России, или за непереведенными французскими стихами итальянского модерниста, – перед нами чистый случай независимого аналогичного решения одной и той же художественной задачи.
Иначе построены тексты с увеличенными межсловными пробелами у двух других авторов:
На шестидесятилетие Всеволода Некрасова
вот вот и вот и вот еще Александр Макаров-Кротков торжественно значительно не нужно Александр Очеретянский– причем для Александра Очеретянского этот прием является постоянным (13 текстов из 33). Здесь, в отсутствие ясной синтаксической структуры, увеличенные пробелы в известной мере замещают знаки препинания, выполняя функцию членения текста на синтагмы. В таком квазизнаке нейтрализуется различие между разными знаками, в соответствии с тем, что взаимоотношения между синтагмами никак не предопределены.
Сходный эффект возникает при использовании в моностихе типографских знаков, не являющихся знаками препинания в собственном смысле этого термина, но принимающих некоторые их функции. Это касается прежде всего косой черты, встречающейся у 3 авторов, главным образом – у петербургского литератора, скрывшегося под псевдонимом Ананий Александроченко (279 текстов; в общую статистику не включены):
Христа ли / Сталин нелепица / пепельница / в плену ее лица логогриф / алкоголя графин / филигрань[469]Здесь, как и у Очеретянского, фиксируется наличие некоторой связи между синтагмами, но никак не определяется характер этой связи, таким образом, косая черта выступает в роли своего рода универсального знака препинания. Возможен и другой путь: окказиональный пунктуационный знак наделяется достаточно определенным окказиональным значением:
Великие загадки
Людвиг ван Бетховен / а. гитлер Александр Карвовский[Карвовский 1991, 25]– о том, что косая черта здесь однозначно функционирует как знак противопоставления, свидетельствует не только семантика, но и противоположение полного имени слева – инициалу справа, а особенно – отказ от прописных букв в правом полустишии.
Михаил Нилин, в отличие от Александроченко и Карвовского, использует косую черту в тексте синтаксически полноценном (хотя и не вполне однозначном: двусоставное предложение с нулевой связкой либо назывное с не совсем обычным распространением), имеющем точку в конце и прописную букву в начале:
Купы лип / на том берегу. [Нилин 1997, 68]– выдвигая тем самым функцию этого знака в качестве дополнительного графического элемента, применяемого в научном (филологическом) тексте при записи стихов в строчку, т. е. как если бы исходный текст был:
Купы лип на том берегу.Этим достигается композиционная амбивалентность, сопоставимая с феноменом цезуры в классическом стихе. Кроме того, в нилинской косой черте можно увидеть и визуальную нагрузку: ведь синтагма «на том берегу» оказывается за чертой, причем синтаксическая связь соединяет липы и берег, визуальный же ряд их разъединяет.
Интерес к дополнительным графическим элементам, свойственным научному тексту, характерен для Нилина: еще в трех его моностихах использованы квадратные скобки (частые также в его названиях, но функционирующие в них иначе):
[Жил у нас] ворон Ваня [в детстве]. [Нилин 1997, 61] Заиконоспасского прихода [умер] пономарь.В художественном тексте такой прием создает любопытный эффект двойного прочтения: с игнорированием скобок и с выключением их содержимого:
Заиконоспасского прихода пономарь. + Заиконоспасского прихода умер пономарь.– возникают как бы два текста, взаимодействующих между собой.
Еще один знак, нетипичный для художественного текста, использует в своем моностихе Олег Азимов (род. 1958):
Весь я – весть, переданная из – > в [Азимов 1992, 12]– второе тире между предлогами превратилось в стрелку. Такая модификация удачно подчеркивает различие функций первого и второго тире; кроме того, здесь возникает изоморфизм словесного и иконического начал.
Примыкает к предыдущим случаям использование общеречевого знака препинания – скобок – в функции, не свойственной художественному тексту (этот случай и все последующие в общую статистику не вошли):
3 (три) букета над холмами. Михаил ЛаптевХарактерный для канцелярского стиля письменной речи повтор числительного («числом и прописью») сообщает образу трех букетов выраженную негативную окраску: нечто противное природе, природа, искаженная вмешательством человека, – усиливая, таким образом, противопоставление этого образа образу холмов, как чисто природному, причем макроприродному: с одной стороны, холмы велики, это совершенно другой масштаб, с другой – букеты все-таки над…
Еще несколько способов употребления знаков препинания в той или иной специальной (внеречевой) функции[470] находим в текстах Германа Лукомникова (времен его работы под псевдонимом Бонифаций). В трех его моностихах создается тот же, что и у Нилина, эффект двойного чтения, правда, другими cредствами:
до… за к… от Засну… л– в первых двух случаях срединное положение многоточия между двумя увеличенными пробелами сигнализирует о равноправности частей, читающихся слитно («доза», «кот») и раздельно (парные предлоги); в третьем тексте читаются первая часть и целое, поэтому многоточие смещено к первой части, а величина пробела еще удвоена.
Следующий шаг на пути удаления от речевой функции знака препинания находим в еще одном тексте Лукомникова-Бонифация:
, – и: не: иногда – некоторые, а: всегда – все.– представляющем собой изящную пародию на Геннадия Айги, у которого авторские знаки препинания «не служат распределению, уточнению смысла, членению фразы, но указывают на паузы, подъемы голоса, разрывы» [Робель 2003, 47][471]. Проблематичность интонационного коррелята, особенно у начальных знаков, заставляет сделать вывод об их использовании здесь преимущественно в визуально-графической функции.
Наиболее ярким примером такого подхода может служить текст Андрея Сен-Сенькова (род. 1968), работающего как в форме стихотворной миниатюры, так и в визуальной поэзии:
Однострочечный гранат, надломленный с левой стороны
И полон звезд разломленный гранат. Г. Сеферис (звезда (звезда (звезда (звезда))))– здесь не только не приходится говорить об интонационном эквиваленте, но и само языковое значение скобок уступает место чисто визуальной идее вложенности, многослойности. Сходным образом использует точку Анастасия Зеленова:
природа. одиночества [Зеленова 2015, 59]– иконическая функция точки как иероглифа одиночества подчеркнута пробелом слева. Вопрос о том, по какую сторону границы между стихом и визуальной поэзией располагается тексты Сен-Сенькова и Зеленовой, может служить предметом дискуссии, но нет сомнения, что они маркируют эту границу.
Изучение пунктуации моностиха как в нормативных, так и в функционально переакцентированных ее проявлениях не только напоминает о давно известной истине: в произведении искусства в принципе не может быть ничего неважного или незначимого, – но еще и позволяет увидеть важную особенность минималистской тенденции в искусстве: в тяготеющих к минимализму произведениях снимается привычная иерархия более и менее значимых уровней и явлений в тексте, любой его элемент с равной вероятностью может выступать в качестве конструктивного фактора.
Заключение
Проведенное нами монографическое исследование русского моностиха представляет собой только первый этап обобщающей работы по истории и теории этой формы. Попытаемся подвести итоги и наметить дальнейшие перспективы работы.
В истории стиховедческой науки моностих возникал и как аргумент в решении спорных вопросов («вот почему (курсив наш, – Д. К.) законной формой поэзии может быть ‹…› даже один стих» [Тынянов 1993, 75]), и, напротив, в виде камня преткновения, предмета теоретического спора, в центре которого так или иначе оказывался вопрос о правомерности квалификации однострочного текста как стихотворного либо прозаического. Вполне очевидно, что ответ на этот фундаментальный вопрос прямо зависит от того, какое определение стиха будет положено в его основу. Менее очевидно, но – в свете тыняновского тезиса, с которого мы начинали эту работу («конструктивный принцип познается не в максимуме условий, дающих его, а в минимуме» [Тынянов 1993, 31]), – безусловно, что само определение стиха следует строить с учетом такого крайнего, проблематичного явления, как однострочный текст[472].
Проведенное в главе 1 сопоставление всех известных нам теоретических позиций по вопросу о статусе моностиха со стоящими за ними позициями по вопросу о стихе как таковом приводит к выводу: отказывать однострочному тексту в стихотворности, квалифицировать его как прозу или «удетерон» (т. е. не стих и не прозу) становится возможным при чисто формальном определении стиха; напротив, признание стихотворности моностиха связано с представлением о стихе как явлении формально-содержательном, не поддающемся определению в отрыве от семантики текста и слова в нем. Этот второй подход, связанный прежде всего с именами Ю.Н. Тынянова и плодотворно развивавшего его идеи М.И. Шапира, представляется нам более справедливым – не только по причинам общеметодологического плана (поскольку «содержание есть не что иное, как переход формы в содержание, и форма есть не что иное, как переход содержания в форму» [Гегель 1938, 224]), но и в силу того, что он обладает большей объяснительной силой при анализе сложных, пограничных («еще более» пограничных, чем моностих) явлений – в частности, циклов, составленных из различных по своей структуре (в нашем понимании – стихотворных и прозаических) минимальных текстов и обыгрывающих, рефлексирующих это структурное различие. Симптоматичным и позитивным представляется то обстоятельство, что разработка этого подхода потребовала от нас использования семиотического инструментария: смена научной парадигмы (в этом конкретном случае напоминающая смену моды) в последние десятилетия сдвинула фокус внимания исследователей в область внеположных по отношению к тексту факторов[473], и необходимость возврата к изучению текста как текста – не более, но и не менее – кажется сегодня весьма настоятельной. Именно тщательное рассмотрение многочисленных однострочных текстов позволяет нам повторить вслед за Д. Девото: «Мы настаиваем на действительном существовании отдельного стиха, без необходимости в другом подобном, дополняющем или противопоставленном, для того, чтобы их причислили к стиху всей толпой (gregariamente), и без необходимости обращаться для присвоения этого звания к первообразным (primordiales) метрическим моделям» [Devoto 1982, 47][474].
Пристальное сопоставление моностиха с различными смежными явлениями, разделяющими либо не разделяющими с ним свойство стихотворности, свойство самостоятельности, свойство литературности, приводит к выводам, которые могут быть использованы при более широком изучении разнообразных маргинальных – то бишь маркирующих границу явления (в данном случае, явления стиха, явления текста, явления литературы) – феноменов, и в то же время требует такого более широкого изучения для делимитации и детализации сопоставительной базы. Например, палиндром, который мы отказались квалифицировать как прозу или стих в связи с его принадлежностью к «системам тройного кодирования» [Лотман, Шахвердов 1973, 174], «может сочетаться как со стихами, так и с прозой; или принимать их личину» [Бубнов 2000, 16] – этот тезис ведущего исследователя палиндрома А.В. Бубнова мы уже цитировали; характерно, однако, что в 160-страничной «Типологии палиндрома» Бубнов не нашел места для раскрытия этого тезиса, а между тем хотелось бы знать, как происходит это «принятие личины», какие типологические различия возникают между палиндромами, принявшими ту либо другую личину, как взаимодействуют (если взаимодействуют) в тексте палиндромичность и стихотворность.
Другой пример – однословные тексты, которым мы предложили переатрибутировать термин «удетерон»: граница между ними и стихом и/или прозой требует дальнейшей демаркации в связи с упомянутыми в нашей работе текстами, в которых количество слов проблематично, а это не только подробно разобранные нами эксперименты Александра Галкина и Василия Каменского (см. стр. 150–154) и бегло упомянутые «кругозвучия» (стр. 49), но и «Сти-шки» Михаила Соковнина [Соковнин 2012, 195–199] (каждый текст состоит из одного слова, расчлененного пополам стихоразделом), и тексты типа «Гали мать я.»[475], основанные на внутреннем переразложении слова[476], и тексты, образованные голофрастическим сращением (по [Изотов 1994]) – мы рассматривали (стр. 208) один такой текст, принадлежащий Леониду Виноградову, полагая, что явная иконическая функция отказа от межсловных пробелов освобождает нас от обязанности интерпретировать получившуюся слитную последовательность графем как окказиональное слово, – однако этот подход вряд ли будет работать в отношении сращений, мотивированных иными художественными задачами и философскими предпосылками: например, у Наталии Азаровой
здесьденьдереводейство [Азарова 2011, 144]– в ситуации принципиальной неоднозначности предикативного статуса этой конструкции. Азаровой же предложен еще один способ проблематизации словесного состава текста:
славабогу. ru [Азарова 2011, 143]– вопрос о том, правомерно ли трактовать адрес сайта как слово, сам по себе открыт, однако эффект этого текста еще и в том, что рецитация его приводит к появлению определенно неоднословной конструкции «славабогу точка ру» (образующей строку четырехстопного хорея). В англоязычной традиции на сходные вопросы наталкивают некоторые из «псолэомв» Джефа Хата (см. стр. 48):
thou’ghts li’ve– в обоих случаях вставленный в середину слова апостроф позволяет интерпретировать его как словосочетание местоимения со вспомогательным глаголом, подвергшимся стяжению и присоединенным в качестве энклитик (по образцу thou’st, I’ve), а квалификация таких стяженных форм как однословных или двусловных остается предметом полемики лингвистов [Wescoat 2005].
Впрочем, и те «псолэомвы», в которых внутренняя расчлененность никак не выражена графически, могут принадлежать к «сплавленной поэзии» (fusional poetry) по Б. Граммену [Grumman 1997], представляя собой гибрид двух слов по звучанию и написанию – и результат семантического напряжения между их значениями:
watearth readear Джеф Хат beautyfault Карри Кокко breathrough Кристофер РиццоЕще более выразительны в этом отношении тексты венгерского поэта Шандора Вёреша (Weöres Sándor; 1913–1989), не отделявшиеся им от моностихов [Weöres 1975, II:15–20, III:177–182] и по семантической структуре отчетливо двухчастные:
Álomajtó. Дверь снов. Veszéjjeles. Отличник опасности. Árnyének. Его теневой стороне. Перевод Елены РожковойНо даже и определенно однословные тексты того типа, на котором сосредотачивает внимание М.Н. Эпштейн [Эпштейн 2004a; 2004b], т. е. «неологизмы ‹…› как наикратчайшее поэтическое произведение» [Эпштейн 2004b, 100], в ряде случаев, по тонкому наблюдению Эпштейна, тяготеют к семантической структуре, аналогичной темо-рематическим отношениям [Эпштейн 2004a, 273], и, тем самым, находятся на грани двусловности. Ср. также замечание Ш. Федлера (релевантное, прежде всего, для немецкого языка) о том, что минимальным объемом афоризма может быть одно сложное слово [Fedler 1992, 113]. По-видимому, сопоставить такого рода тексты в языках с разными преобладающими способами словообразования было бы особенно интересно, но, в любом случае, мысль одного из зачинателей однословной литературы Арама Сарояна о том, что «даже у стихотворения из пяти слов есть начало, середина и конец, но у однословного стихотворения – нет» (цит. по [Daly 2007]), уже не кажется сегодня такой бесспорной в своей второй части.
Аналогичное скопление различных переходных явлений, квалификация которых как одно либо другое затруднительна, наблюдается в современной литературе и на границе между циклом и многочастным целым, – в частности, если для нескольких текстов Геннадия Айги нам удалось предложить критерии, позволяющие определить их статус многочастного целого (а не цикла), то ряд других текстов этого же автора (напр., «Поэзия-как-Молчание» [Айги 2001, 238–245]) остался для нас в этом отношении под вопросом, и это требует либо дальнейшего поиска таких критериев, либо признания того, что в некоторых случаях оппозиция «цикл vs. многочастное целое» нейтрализуется, как нейтрализуется, по-видимому, оппозиция стих/проза в проанализированном нами (см. стр. 34–35) минимальном тексте Доналда Джастиса.
История русского моностиха, впервые прослеженная нами, в общих чертах представляется теперь достаточно ясно. Это, разумеется, не означает, что она не требует уточнений и дополнений. Некоторые важные эпизоды, прежде дававшие почву для научных мифов и публицистических спекуляций, – прежде всего, сюжет с моностихами Валерия Брюсова, – были нами до известной степени прояснены (хотя поиск гипотетических французских оригиналов для однострочных набросков 1894 года остается насущной задачей). Другие – прежде всего, сюжет с моностихами Даниила Хармса, но также и история создания моностиха Александра Гатова (на которую, возможно, пролило бы свет изучение неопубликованных дневников Ильи Сельвинского), и вопрос о минимальных текстах (фрагментах?) Владимира Бурича, и ряд более частных тем – ждут дальнейших архивных разысканий. Однако в целом логика событий в эволюции как самой формы, так и ее рецепции видна и относительно прозрачна[477]. Небогатая свершениями добрюсовская предыстория русского моностиха переходит в бурную авангардную историю в результате осознания Брюсовым провокативного, эпатажного характера однострочности – но, как это и вообще свойственно революционным открытиям исторического авангарда, тем самым выявляется некоторый универсальный потенциал этой формы[478]. И почти сразу же (у Самуила Вермеля, у Петра Успенского) начинается обратное движение к эстетической нормализации моностиха, к стилевой и направленческой немаркированности формы. Советская литературная ситуация 1930–50-х гг. вообще и травля Александра Гатова в связи с публикацией его моностиха в частности затормозили эту тенденцию и на несколько десятилетий оставили моностих в преимущественное пользование авторам, ориентировавшимся на авангардные образцы. Однако интерпретация этими авторами однострочной формы в конкретных текстах зачастую оказывалась слабо связана с определенными авангардными стратегиями и приемами – быть может, именно потому, что однострочность сама по себе воспринималась ими как достаточный признак авангардности текста. Таким несколько парадоксальным образом неподцензурные поэты 1960–80-х гг. подготовили почву для эмансипации моностиха от авангардных коннотаций. Решающий переворот происходит на рубеже 1980–90-х гг. благодаря трем обстоятельствам:
– популяризирующей (хотя в то же время и профанирующей, автоматизирующей) деятельности Владимира Вишневского, создавшего на основе моностиха своеобразный жанр массовой литературы,
– обращению к однострочной форме нескольких признанных авторов старших поколений – Льва Озерова, Кирилла Ковальджи, Игоря Шкляревского, – чьи фигуры никак не ассоциировались с авангардной струей в русской поэзии, и
– единовременной публикации значительного корпуса моностихов в «Антологии русского верлибра» (1991), message которой в качестве культурного жеста прочитывался вполне однозначно: «Теперь такие стихи (верлибр – но, благодаря известной расширительности трактовки этого понятия составителем антологии Кареном Джангировым, и моностих) нормальны, уместны и современны».
Результатом этого переворота становится в 1990-е гг. небывалый рост и количества создаваемых моностихов, и их разнообразия. Едва ли не любой «живой», актуальный для этого периода в русской поэзии тип текста оказывается представлен в однострочной форме. Обращение к моностиху фиксируется у авторов всех поколений и направлений. Появляются и авторы, для которых моностих оказывается принципиально важной формой, одним из личных формальных приоритетов[479], – причем в остальном и сами эти авторы – Валентин Загорянский, Павел Грушко, Михаил Нилин, Татьяна Михайловская, Татьяна Данильянц, Герман Лукомников (Бонифаций), Нирмал, Ананий Александроченко и др., – и их однострочные тексты весьма различны.
Такой массив разнообразных текстов одинаковой формы и весьма небольшого объема впервые предоставляет возможность, с одной стороны, для попытки типологизации, а с другой – для тотального обследования всех имеющихся текстов по различным параметрам. Типология, предложенная нами в параграфе 4.3., не выдерживает единства основания и носит сугубо рабочий характер, преследуя единственную цель: показать широту распределения текстов по всему пространству современной поэзии. Вопрос о более строгой и обладающей бóльшим познавательным потенциалом типологии моностиха остается открытым и непосредственно связан с перспективами фронтального исследования тех или иных аспектов его поэтики. Представленные в главе 5 образцы такого фронтального исследования специально проведены нами по параметрам относительно второстепенным, традиционно привлекающим к себе не слишком много внимания[480]: этот путь показался нам более целесообразным в том смысле, что именно на материале моностиха с его минимальным объемом многие свойства такого будто бы малозначительного элемента текста, как знаки препинания, многие аспекты такого будто бы самоочевидного отношения, как отношение «текст/название», выступают гораздо рельефнее и обнаруживают свою принципиальную важность. Однако в дальнейшем определенно необходимы аналогичные всеохватные подсчеты с анализом специфики различных случаев и возможными последующими типологизирующими обобщениями по таким параметрам однострочного стихотворения, как синтаксическая структура, ритмометрическая структура, характер звуковой организации и звуковых повторов и т. п. Такая работа поставит перед исследователями ряд непростых задач, решение которых может быть небесполезно не только для изучения моностиха: например, это касается вопросов о том, проявляется ли в какой-либо мере в моностихе семантический ореол метра (ср. прим. 411 на стр. 282), релевантно ли для моностиха понятие ритмико-синтаксического клише, как прочитываются метрически амбивалентные строки при отсутствии детерминирующего контекста.
Таким образом, наше исследование самой краткой русской стихотворной формы оказывается прологом к интереснейшей дальнейшей работе.
Библиография
[481]
1. Научные и литературно-критические работы
А.З. 1895 А.З. [Зарин А.] Литературные беседы // Звезда. – 1895. – № 39. – С. 923–924.
Аверинцев 1975 Аверинцев С.С. Поэзия Вячеслава Иванова // Вопросы литературы. – 1975. – № 8. – С. 145–192.
Агеносов, Павловец 2000 Агеносов В., Павловец М. Волшебный голос Ираиды Лёгкой и ее стихи // Грани. – 2000. – № 193. – С. 244–253.
Азарова 2008 Азарова Н.М. На границе философского и поэтического текста (из опыта работы с архивом Г. Айги) // Новое литературное обозрение. – 2008. – № 5 (93). – С. 261–280.
Азарова 2010 Азарова Н.М. Язык философии и язык поэзии – движение навстречу. – М., 2010. – 498 с.
Акмальдинова и др. 2015 Акмальдинова А.А., Лекманов О.А., Свердлов М.И. «Эй, вратарь, готовься к бою…»: Футбол в советской поэзии 1930-х годов // Волга. – 2015. – № 9–10. – С. 102–131.
Александров 1991 [Александров А.] Краткая хроника жизни и творчества Даниила Хармса // Хармс Д.И. Полет в небеса / Сост. и подг. текста А. Александрова. – Л., 1991. – С. 538–555.
Александрова 2005 Александрова И.Б. Поэзия постмодернизма: штрихи к портрету // Русская словесность. – 2005. – № 7. – С. 36–43.
Андреев 1999 Андреев А.В. От цветка к саду // Новое литературное обозрение. – № 39 (1999). – С. 329–351.
Андреев 2004 Андреев Л.Г. Сюрреализм: История. Теория. Практика. – М., 2004. – 352 с.
Андреенко 1981 Андреенко М. Журнал Шаршуна. О «Перевозе ДаDa» и «летучих листовках» Шаршуна // Русский альманах. – Париж, 1981. – С. 387–391.
Анненский 1979 Анненский И.Ф. О современном лиризме // Анненский И.Ф. Книги отражений. – М., 1979. – С. 328–382.
Арватов 1923 Арватов Б. Речетворчество: По поводу заумной поэзии // ЛЕФ. – 1923. – № 2. – С. 79–91.
Аристов 1997 Аристов В. Заметки о «мета» // Арион: Журнал поэзии. – 1997. – № 4. – С. 48–60.
Арнхейм 1994 Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / Пер. Г.Е. Крейдлина. – М., 1994. – 352 c.
Архангельский 1913 Ян Варский [Архангельский Н.М.]. Капельки // Саратовский вестник. – 1913. – 25 декабря. – С. 4.
Архангельский 1914 Старый журналист [Архангельский Н.М.] Мир, как он представляется футуристам (Из беседы с Василием Каменским) // Саратовский вестник. – 1914. – 7 марта. – С. 2.
АС 1981 Авторитет суждения: Две анкеты «ЛУ» для молодых критиков // Литературная учеба. – 1981. – № 6. – С. 93–108.
Ашукин 1929 Ашукин Н. Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах… – М., 1929. – 400 с.
Бабенко 2003 Бабенко Н.Г. Семантический комплекс «молчание/немота/тишина» в языке русской поэзии второй половины XX века // Балтийский филологический курьер. – 2003. – № 2. – С. 66–85.
Бадаев, Казарин 2007 Бадаев А.Ф., Казарин Ю.В. Поэтическая графика (функционально-эстетический и лингвистический аспекты). – Екатеринбург, 2007. – 188 с.
Баевский 1972 Баевский В.С. Стих русской советской поэзии. – Смоленск, 1972. – 145 с.
Баймухаметов 2013 Баймухаметов С. Василий Субботин: Если надо отдать жизнь, отдам, потому что так надо // Московская правда. – 2013. – 6 февраля. – С. 1–2.
Байтов 2004 Байтов Н.В. Ready-made как литературная стратегия // Поэтика исканий, или Поиск поэтики: Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии». – М., 2004. – С. 209–215.
Балкаров 1979 Балкаров Б.Х. Введение в абхазо-адыгское языкознание. – Нальчик, 1979. – 145 с.
Бараш 2003 Бараш А.М. На взлет тел зван: Савелий Гринберг // Новое литературное обозрение. – № 62 (2003). – С. 455–458.
Барт 1989 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Составление, общая редакция и вступительная статья Г.К. Косикова. – М., 1989. – 616 с.
Басин 2008 Басин Е.Я. Художник и творчество. – М., 2008. – 296 с.
Бахтин 1986 Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 250–296.
Безродный 1996 Безродный М.Ю. Конец цитаты. – СПб., 1996. – 158 с.
Безыменский 1982 Безыменский А. Триумф советской поэзии // О Сельвинском: Воспоминания / Сост. Ц.А. Воскресенская, И.П. Сиротинская. – М., 1982. – С. 61–66.
Белый 1966 Белый А. Вместо предисловия <к неизданному тому стихов «Зовы времени»> [1931] // Белый А. Стихотворения и поэмы. – М.; Л., 1966. – С. 560–568.
Белый 2010 Белый А. Символизм: Книга статей / Общ. ред. В.М. Пискунова. – М., 2010. – 527 с.
Береговская 1994 Береговская Э.М. «Чем больше голова, тем сильнее мигрень»: Функционально-стилистическая характеристика однофразового текста // Русская филология. Ученые записки Смоленского гуманитарного университета – Т. 1 / Сост. В.С. Баевский. – Смоленск, 1994. – С. 98–107.
Береговская 2002 Береговская Э.М. К характеристике синтаксиса однофразовой поэзии // Современные методы анализа художественного произведения: Материалы научного семинара. – Смоленск, 2002. – С. 129–141.
Береговская 2011 Береговская Э.М. Тропы в монофрастическом тексте // Поэтика и риторика диалога: Сборник научных статей. – Гродно, 2011. – С. 262–267.
Березовчук 1995 Березовчук Л.Н. Суггестия артикулируемого смысла: Заметки о фоносемантической поэтике А. Горнона // Новое литературное обозрение. – 1995. – № 14. – С. 265–272.
Берков 1962 Берков П.Н. Литературные интересы Ломоносова // Литературное творчество М.В. Ломоносова: Исследования и материалы / Под ред. П.Н. Беркова, И.З. Сермана. – М.; Л., 1962. – С. 14–68.
Библер 2010 Библер В.С. Поэтика Всеволода Некрасова (или еще раз о «загадках слова») // Полилог. – 2010. – № 3. – С. 46–54.
Биневич 1999 Биневич Е.М. Елена Гуро и ее «Бедный рыцарь» // Гуро Е. Жил на свете рыцарь бедный / Сост. и ред. Е. Биневича. – СПб., 1999. – С. 3–12.
Бирюков 1994 Бирюков С.Е. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. – М., 1994. – 288 с.
Бирюков 2000 Бирюков С.Е. Любовь к трем авангардам // Арион. – 2000. – № 3. – С. 60–72.
Бирюков 2003 Бирюков С.Е. Року – укор: Поэтические начала. – М., 2003. – 510 с.
Бирюков и др. 1998 Бирюков С.Е., Бубнов А.В., Федин С.Н. Verbлюд – Человек Слова // Визуальная поэзия: Науч. – худ. ж-л (Курск). – 1998. – № 2. – С. 4–5.
Блиц-интервью 2009 Беликов Ю., Бирюков С., Виноградова Т. и др. Блиц-интервью // Дети Ра. – 2009. – № 9. – С. 165–175.
Богданович 1895 Б<огданович> А. Критические заметки // Мир Божий. – 1895. – № 10. – С. 193–209.
Богомолов 1999 Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. – Томск, 1999. – 279 с.
Богомолов 2004 Богомолов Н.А. Трактат об эзотерическом неприличии // Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. – М., 2004. – С. 138–155.
Бойко 2012 Бойко Ю. Українські прислів’я і приказки у віршознавчому аспекті // Літературознавчі студії: 3б. наук. праць. – Київ, 2012. – Вип. 35. – С. 53–57.
Бонч-Осмоловская 2009 Бонч-Осмоловская Т.Б. Введение в литературу формальных ограничений: Литература формы и игры от античности до наших дней. – М., 2009. – 560 с.
Бубнов 2000 Бубнов А.В. Типология палиндрома. – М., 2000. – 160 с.
Буренина-Петрова 2005 Буренина-Петрова О.Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины XX века: Дисс…. д-ра филол. наук. – СПб., 2005. – 344 с.
Бурич 1989 Бурич В.П. Тексты. – М., 1989. – 176 с.
Бурыкин 2005 Бурыкин А.А. Система терминов родства чаплинских эскимосов // VI конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы докладов. – СПб., 2005. – С. 130.
Бухштаб 1973 Бухштаб Б.Я. Об основах и типах русского стиха // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. – The Hague, 1973. – Vol. XVI. – P. 96–118.
Быстрова 2001 Быстрова О.В. Однострок // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. А.Н. Николюкин. – М., 2001. – С. 686.
Бюргер 2014 Бюргер П. Теория авангарда / Пер. с немецкого С. Ташкенова. – М., 2014. – 200 с.
Ваганова 2008 Ваганова Е.Ю. Афоризм как тип текста в аспекте интертекстуальности. – Калининград, 2008. – 168 с.
Вальтер, Мокиенко 2010 Вальтер Х., Мокиенко В.М. Антипословицы в современной живой русской речи // Вальтер Х., Мокиенко В.М. Антипословицы русского народа. – М., 2010. – С. 3–17.
Ваншенкин 1965 Ваншенкин К.Я. Рассказ об одной строке // Юность. – 1965. – № 1. – С. 77–78.
Васильев 1995 Васильев И.Е. Русский литературный авангард начала XX века (группа «41°»). – Екатеринбург, 1995. – 88 с.
Вацуро 2004 Вацуро В.Э. Антон Дельвиг – литератор // Вацуро В.Э. Избранные труды. – М., 2004. – С. 655–671.
Вейдле 2002 Вейдле В.В. Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории искусства. – М., 2002. – 456 с.
Верницкий 2007 Верницкий А.С. Пойманный выдох: еще раз о «танкетках» // Арион. – 2007. – № 1. – С. 97–102.
Верницкий, Циплаков 2005 Верницкий А.С., Циплаков Г.М. Шесть слогов о главном // Новый мир. – 2005. – № 2. – С. 153–158.
Веселова 1999 Веселова Н.А. Заглавие – антропоним и понимание художественного текста // Литературный текст: проблемы и методы исследования. – Вып. 5. «Свое» и «чужое» слово в литературном тексте / Отв. ред. И.В. Фоменко. – Тверь, 1999. – С. 153–157.
Виленкин 1983 Виленкин В.Я. Стимул точности в творчестве Анны Ахматовой: Текстологические этюды // Вопросы литературы. – 1983. – № 6. – С. 144–176.
Вильдрак, Дюамель 1997 Вильдрак Ш., Дюамель Ж. Теория свободного стиха / Пер. В. Шершеневича // Шершеневич В.Г. Листы имажиниста. – Ярославль, 1997. – С. 466–507.
Виноградов 1934 Виноградов В.В. О стиле Пушкина // Литературное наследство. – Л., 1934. – Т. 16–18: Пушкинский выпуск. – С. 135–214.
Винокурова 2006 Винокурова И. «Всего лишь гений…»: Судьба Николая Глазкова. – М., 2006. – 464 с.
Вишневецкий 2001 Вишневецкий И.Ю. [Рец. на: ] Шиш Брянский. В нежном мареве // Новая русская книга. – 2001. – № 3–4. – С. 38–40.
Гавриленко 1995 Гавриленко Т.А. С.Н. Сергеев-Ценский о проблемах художественного творчества // «Я с Россией до конца…» С.Н. Сергеев-Ценский и современность: Научные доклады, статьи, тезисы. – Тамбов, 1995. – С. 65–81.
Гальперин 1981 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. – 169 с.
Ганиева 2008 Ганиева А. Сатана с декадентской бородкой: 135 лет со дня рождения Валерия Брюсова // Независимая газета. – 2008. – 18 декабря. – С. 7.
Гасанова 2006 Гасанова Д.Г. Художественное своеобразие творчества Азиза Алема: Дисс…. канд. филол. наук. – Махачкала, 2006. – 159 с.
Гаспаров 1989 Гаспаров М.Л. Русский стих: Учебный материал по литературоведению. Ч. 1. – Даугавпилс, 1989. – 79 с.
Гаспаров 1997a Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. I: О поэтах. – М., 1997. – 664 с.
Гаспаров 1997b Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. II: О стихах. – М., 1997. – 501 с.
Гаспаров 1999 Гаспаров М.Л. Метр и смысл: Об одном механизме культурной памяти. – М., 1999. – 289 с.
Гаспаров 2000 Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика: 2-е изд., доп. – М., 2000. – 351 с.
Гаспаров 2001 Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX в. в комментариях: Изд. 2-е, доп. – М., 2001. – 286 с.
Гаспаров 2003a Гаспаров М.Л. Как писать историю литературы // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 59. – С. 142–146.
Гаспаров 2003b Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха: 2-е изд., доп. – М., 2003. – 272 с.
Гаспаров, Скулачёва 2004 Гаспаров М.Л., Скулачёва Т.В. Статьи о лингвистике стиха. – М., 2004. – 288 с.
Гатов 1966 Гатов А.Б. В думах об Эжене Потье // Потье Э. Песни. Стихи. Поэмы. – М., 1966. – С. 5–62.
Гатова 1974 Гатова Л.А. Дни памяти // Новое русское слово. – 1974. – 13 октября. – С. 2, 5.
Герштейн 1962 Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина // Новый мир. – 1962. – № 2. – С. 211–226.
Гиндин 1996 Гиндин С.И. Константин Треплев, Владимир Финдесьеклев и Генрих Шульц: Об исторической почве и литературном окружении чеховского образа писателя-декадента // Чеховиана. Чехов и «серебряный век» / Ред. М.О. Горячева. – М., 1996. – С. 116–127.
Гнедаш 2005 Гнедаш С.И. Провербиальные трансформанты в функциональном стиле прессы и публицистики (на материале немецкоязычной печати ФРГ): Автореферат дисс…. канд. филол. наук. – М., 2005. – 20 с.
Голубкова 2004 Голубкова А.А. В.В. Розанов и В.Я. Брюсов // Брюсовские чтения 2002 года: Сб. статей. – Ереван, 2004. – С. 289–296.
Горбаневская 2004 Горбаневская Н.Е. Поэзия «есть миг – не ремесло» // Новая Камера хранения: Временник стихотворного отдела «Камеры хранения» за 2002–2004 годы / Сост. О.А. Юрьев. – СПб., 2004. – С. 71–76.
Грек 2004 Грек А.Г. Поэтический язык Вячеслава Иванова: Автореферат дисс…. канд. филол. наук. – М., 2004. – 55 с.
Гринько 2011 Гринько Л.Н. Русский моностих XX века: теория и практика. – Южно-Сахалинск, 2011. – 152 с.
Грищенко 2008 Грищенко А.И. Идиостиль Николая Моршена: Дисс…. канд. филол. наук. – М., 2008. – 348 с.
Гроб, Жаккар 1992 Гроб Т., Жаккар Ж. – Ф. Хармс – переводчик или поэт барокко? // Шестые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. – Рига; М., 1992. – С. 31–41.
Гронас 2000 Гронас М.Б. «Чистый взгляд» и взгляд практика: Пьер Бурдьё о культуре // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 45. – С. 6–21.
Гумеров, Евсеева 2007 Иов (Гумеров), иеромонах, Евсеева М.К. Радожицкий Илья Тимофеевич // Русские писатели, 1800–1917 / Под ред. П. Николаева. – Т. 5. П-С. – М., 2007. – С. 243.
Дабески 2007 Дабески П. Од недефиниран едноред до авторски моностих // Современост (Скопје). – 2007. – № 4. – С. 63–69.
Давыдов 2002 Давыдов Д.М. Поэтика последовательного ухода // Новое литературное обозрение. – 2002. – № 57. – С. 195–204.
Давыдов 2003 Давыдов Д.М. Русская наивная и примитивистская поэзия: генезис, эволюция, поэтика: Дисс. канд. филол. наук. – Самара, 2003.
Давыдов 2004 Давыдов Д.М. Стихи и проза как разнонаправленные и взаимообогащающие стратегии русской литературы [Рец. на: Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. – М., 2002] // Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия «Гуманитарные науки» (филология). – 2004. – Вып. 3 (40). – С. 121–122.
Давыдов 2006a Давыдов Д.М. Инфантильные мотивы в творчестве Геннадия Айги // Айги: Материалы, исследования, эссе: В 2 т. – М., 2006. – Т. 1. – С. 17–23.
Давыдов 2006b Давыдов Д.М. Глубокое дыхание // Горбаневская Н.Е. Чайная роза. – М., 2006. – С. 5–9.
Даль 1994 Даль В.И. Пословицы русского народа. – М., 1994. – 616 с.
Данин 1939 Данин Д. О философской лирике и стихах С. Щипачёва // Знамя. – 1939. – № 10–11.
Дарвин, Тюпа 2001 Дарвин М.Н., Тюпа В.И. Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики конвергентного сознания. – Новосибирск, 2001. – 293 с.
Дейч 1914 Дейч А. В стане разноголосых // Еженедельные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». – 1914. – Т. 1. – № 1, стлб. 107–130; № 3, стлб. 327–352.
Джангиров 1991 Джангиров К.Э. От составителя // Антология русского верлибра / Сост. К.Э. Джангиров. – М., 1991. – С. 7–10.
Дмитренко, Кобринский 2009 Дмитренко А.Л., Кобринский А.А. Воспоминания Наталии Зегжды, соученицы Хармса // Авангард и идеология: русские примеры / Сост. К. Ичин. – Белград, 2009. – С. 452–459.
Добренко 1999 Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. – СПб., 1999. – 558 с.
Добрицын 2008 Добрицын А.А. Вечный жанр: Западноевропейские истоки русской эпиграммы XVIII – начала XIX века. – Bern, 2008. – 569 с.
Долинин 2014 Долинин А.А. Карл Проффер и Владимир Набоков: к истории диалога // Новое литературное обозрение. – № 125 (2014). – С. 145–152.
Долинин, Северюхин 2003 Долинин В.Э., Северюхин Д.Я. Преодоленье немоты // Самиздат Ленинграда. 1950-е – 1980-е: Литературная энциклопедия / Под общей редакцией Д.Я. Северюхина. – М., 2003. – С. 7–51.
Дубин 2002 Дубин Б.В. Бесконечность как невозможность: фрагментарность и повторение в письме Эмиля Чорана // Новое литературное обозрение. – № 54 (2002). – С. 251–261.
Дубровкин 1998 Дубровкин Р.В. Стефан Малларме и Россия. – Bern; Berlin e.a., 1998. – 565 С. (Slavica Helvetica, Bd. 59)
Евзлин 2008 Евзлин М.С. Поэты авангарда. – Madrid, 2008. – 125 c.
Евзлин 2013 Евзлин М.С. О принципах публикации текстов // Бахтерев И.В. Обэриутские сочинения / Сост. и прим. М. Евзлина – М., 2013. – Т. 1. Стихотворения и поэмы. – С. 11–12.
Евтушенко 1971 Евтушенко Е.А. Скоморох и богатырь // Литературная Грузия. – 1971. – № 7. – С. 4–9.
Евтушенко 1989a Евтушенко Е.А. Скоморох и богатырь // Глазков Н.И. Избранное / Сост. Е. Евтушенко и Н. Старшинов. – М., 1989. – С. 3–10.
Евтушенко 1989b Евтушенко Е.А. Скоморох и богатырь // Воспоминания о Николае Глазкове / Сост. Р. Глазкова. – М., 1989. – С. 405–409.
Ерохин 2010 Ерохин А.В. Юмористическая лирика Кристиана Моргенштерна // Новые российские гуманитарные исследования. – 2010. – № 5. –
Есенин 1962 Есенин С.А. Валерий Брюсов // Есенин С.А. Собрание сочинений: В 5 т. – М., 1962. – Т. 5. – С. 213–214.
Есин 1995 Есин А.Б. Стихотворная миниатюра в системе жанров русской лирики // Филологические науки. – 1995. – № 4. – С. 22–30.
Ефремин 1932 Ефремин А.В. С. Сергеев-Ценский: К 30-летию литературной деятельности // Новый мир. – 1932. – № 3. – С. 203–216.
Жаккар 1995 Жаккар Ж. – Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Пер. с франц. Ф.А. Перовской. – СПб., 1995. – 470 с.
Жаккар 2011 Жаккар Ж. – Ф. Литература как таковая. От Набокова к Пушкину / Пер. с франц. А. Поповой. – М., 2011. – 405 с.
Женетт 1998 Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. – М., 1998. – 472+472 с.
Жирмунский 1921 Жирмунский В.М. Композиция лирических стихотворений. – Пг., 1921. – 107 с.
Жирмунский 1975 Жирмунский В.М. Введение в метрику [1924] // Жирмунский В.М. Теория стиха. – Л., 1975. – 664 с.
Житенёв 2012 Житенёв А.А. Поэзия неомодернизма. – СПб., 2012. – 480 с.
Жовтис 1968 Жовтис А.Л. Стихи нужны…: Статьи. – Алма-Ата, 1968. – 270 с.
Жолковский 1994 Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. – М., 1994. – 426 с.
Жолковский 2011 Жолковский А.К. Очные ставки с властителем: Статьи о русской литературе. – М., 2011. – 637 с.
Жыбуль 2009 Жыбуль В.В. Манаверш ува ўсясьветнай і беларускай літаратуры // Беларускі Калегіюм, 25.04.2009.
Зайцев 2002 Зайцев Б.К. Странное путешествие / Сост. С. Федякин. – М., 2002. – 414 с.
Зейферт 2014 Зейферт Е.И. Неизвестные жанры «золотого века» русской поэзии: Романтический отрывок. – М., 2014. – 380 с.
Зубков 1996 Зубков Н.Н. Смысл и книга // Новое литературное обозрение. – № 19 (1996). – С. 48–61.
Зубова 2000 Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. – М., 2000. – 432 с.
Зубова 2006 Зубова Л.В. Семиотика сравнений в современной русской поэзии // Семиотика и авангард: Антология / Под общ. ред. Ю.С. Степанова. – М., 2006. – С. 879–913.
Зубова 2012 Зубова Л.В. Парадоксы повторов в современной поэзии // Из поэтологических исследований: Повтор в художественном тексте. Z badań poetologicznych: Powtórzenie w tekscie artystycznym / Pod redakcją Anny Majmieskułow i Beaty Trojanowskiej. – Bydgoszcz, 2012. – С. 103–118.
Ибрагимов 2015 Ибрагимов М.И. Царан и его особенности (О моностихе в поэзии Азиза Алема) // Дагестанская литература: история и современность. – Махачкала, 2015. – Вып. IX. – С. 113–116.
Иванов 1914 Иванов Вяч. И. Алкей и Сафо: Вступительный очерк // Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе размерами подлинников Вячеслава Иванова. – М., 1914. – 222 с.
Иванов 2011 Иванов А.Н. Последние дни М.И. Цветаевой: от Г. Эфрона к С. Романовскому // Вечер Елабуги. – 2011. – № 679 (38). – 21 сентября.
Иванова 2002 Иванова Е.В. Путеводитель по судьбе поэта // Брюсов В.Я. Дневники. Автобиографическая проза. Письма / Сост. Е. Иванова – М., 2002. – С. 3–18.
Иванова 2009 Иванова Е.В. «Бледные ноги» в судьбе Валерия Брюсова // На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия А.В. Лаврова / Сост. Вс. Багно, Дж. Малмстад, М. Маликова. – М., 2009. – С. 288–294.
Иванченко и др. 2015 Иванченко Г.В., Орлицкий Ю.Б., Сухова Т.Б. О психологических функциях заглавия // Поэзия: опыт междисциплинарного анализа / Под ред. Г.В. Иванченко, Д.А. Леонтьева, Ю.Б. Орлицкого. – М., 2015. – С. 238–325.
Иванюк 1998 Иванюк Б.П. Метафора и литературное произведение: Структурно-типологический, историко-типологический и прагматический аспекты исследования. – Черновцы, 1998. – 252 с.
Иванюк 2008 Иванюк Б.П. Моностих // Иванюк Б.П. Поэтическая речь: Словарь терминов. – М., 2008. – 312 с.
Иваск 1964 Иваск Ю.П. Одностроки Маркова // Новое русское слово. – 1964. – 24 мая.
Измайлов 1911 Измайлов А.А. Литературный Олимп: Характеристики, встречи, портреты, автографы. – М., 1911. – 472+VIII с.
Изотов 1994 Изотов В.П. Словообразование на базе предложений // Актуальные вопросы синтаксиса. – Орел, 1994.
Изотов 1998 Изотов В.П. Параметры описания системы способов русского словообразования. – Орел, 1998. – 149 с.
Илюшин 1988 Илюшин А.А. Русское стихосложение. – М., 1988. – 165 с.
Ионова 2013 Ионова М. Всюду жизнь // Новое литературное обозрение. – 2013. – № 120. – С. 293–296.
Ичин 2006 Ичин К. Поэтика изгнания: Овидий и Мандельштам (на материале сборников «Камень» и «Tristia») // Зборник Матице српске за славистику. – № 69. – 2006. – С. 7–17.
Казарина 2008 Казарина Т. Даниил Хармс: перипетии борьбы с языком // Интерпретация и авангард: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. И.Е. Лощилова. – Новосибирск, 2008. – С. 87–93.
Казарновский 2009 Казарновский П.А. Продуманное случайное // Новое литературное обозрение. – 2009. – № 98. – С. 303–306.
Казарновский 2012b Казарновский П.А. «А еще лучше думать о наступающем прошлом…»: Подступы к творчеству А. Ника // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 114. – С. 204–210.
Канавалава 2010 Канавалава І.С. Да праблемы вызначэння паняцця «Антыпрыказка» // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2010. – № 2 (27). – С. 92–97.
Кандинский 2001 Кандинский В.В. Критика критиков // Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001. – С. 377–390.
Кацис 1998 Кацис Л.Ф. «Кугыкиада» Юрия Марра // Терентьевский сборник / Под общ. ред. С.В. Кудрявцева. – М., 1998. – Вып. 2. – С. 95–104.
Кацис 2000 Кацис Л.Ф. «Трактат о сплошном неприличии» Игоря Терентьева: К семантике футуристического текста // Кацис Л.Ф. Русская эсхатология и русская литература. – М., 2000. – С. 140–176.
Качуровський 1967 Качуровський I.В. Строфика. – Мюнхен, 1967. – 357 с.
Квятковский 1966 Квятковский А.П. Поэтический словарь. – М., 1966. – 376 с.
Кёнигсберг 1994 Кёнигсберг М.М. Из стихологических этюдов. 1. Анализ понятия «стих» / Публ. С.Ю. Мазура и М.И. Шапира // Philologica. – 1994. – № 1/2. – С. 149–185.
Клинг 1992 Клинг О.А. Брюсов: Через эксперимент к «неоклассике» // Связь времен: Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – нач. ХХ в. – М., 1992. – С. 264–280.
Клинг 2010 Клинг О.А. Влияние символизма на постсимволистскую поэзию в России 1910-х годов: Проблемы поэтики. – М., 2010. – 356 с.
Клюев 2000 Клюев Е.В. Теория литературы абсурда. – М., 2000. – 102 с.
Клюн 1999 Клюн И.В. Мой путь в искусстве. – М., 1999. – 555 с.
Кобринский 1992 Кобринский А.А. Проза Даниила Хармса: Дисс…. канд. филол. наук. – СПб., 1992.
Кобринский 2000 Кобринский А.А. Поэтика «ОБЭРИУ» в контексте русского литературного авангарда: В 2 т. – М., 2000. – 192+144 с.
Кобринский 2010 Кобринский А.А. Авторский портрет в книге стихов русского модернизма: А.Н. Емельянов-Коханский // Лесная школа: Труды VI Международной летней школы на Карельском перешейке по русской литературе. – Поселок Поляны (Уусикирко) Ленинградской области, 2010. – С. 84–93.
Ковтунова 1986 Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. – М., 1986. – 205 с.
Кожевникова 1988 Кожевникова Н.А. О способах звуковой организации текста // Проблемы структурной лингвистики. 1984 / Отв. ред. В.П. Григорьев. – М., 1988. – С. 183–212.
Кожина 1988 Кожина Н.А. Заглавие художественного произведения: онтология, функции, параметры типологии // Проблемы структурной лингвистики. 1984 / Отв. ред. В.П. Григорьев. – М., 1988. – С. 167–183.
Колачковска 2006 Колачковска А.А. «Чурлю-журль…» – поэтика солнечного языка Василия Каменского и лучистские композиции Михаила Ларионова (к вопросу о мотиве солнцеборчества в мифологии русского авангарда) // В.В. Каменский в культурном пространстве XX века: Материалы научно-практической конференции. – Пермь, 2006. – С. 14–30.
Кондаков 1987 Кондаков Г.В. В простых словах – космический глагол: Мир однострочного стихотворения // Звезда Алтая (Горно-Алтайск). – 1987. – 15 декабря. – С. 4.
Кондаков 1995 Кондаков Г.В. Поэтическая вселенная: Заметки об алтайской лирической миниатюре // Актуальные проблемы современной алтайской литературы / Отв. ред. А.И. Алиева. – Горно-Алтайск, 1995. – С. 134–151.
Конюхова 2009 Конюхова Л.Н. Формально-содержательные модификации моностиха в русской литературе XX века: Дисс…. канд. филол. наук. – М., 2009.
Кормилов 1991a Кормилов С.И. Маргинальные системы русского стихосложения: Дисс…. д-ра филол. наук. – М., 1991.
Кормилов 1991b Кормилов С.И. Российский лапидарный слог. Маргинальные метроритмические формы // Вопросы литературы. – 1991. – № 11–12. – С. 191–192.
Кормилов 1992a Кормилов С.И. Однострочные произведения и проблема их художественного (поэтического) статуса // Целостность художественного произведения и проблемы его анализа и интерпретации: Тезисы конференции / Отв. ред. М.М. Гиршман. – Донецк, 1992. – С. 123–125.
Кормилов 1992b Кормилов С.И. Поэтические однострочия в составе сложного целого // Вестник МГУ. – Сер. 9. Филология. – № 6 (1992). – С. 3–12.
Кормилов 1993 Кормилов С.И. Кратчайшие стихотворения многословного века // Творчество Державина. Специфика. Традиции: Научные статьи, доклады, очерки, заметки / Под общей ред. Л.В. Поляковой. – Тамбов, 1993. – С. 16–23.
Кормилов 1995 Кормилов С.И. Маргинальные системы русского стихосложения. – М., 1995. – 158 с.
Кормилов 1996 Кормилов С.И. Разновидности моностихов и проблема их версификационного статуса // Русский стих: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика: В честь 60-летия М.Л. Гаспарова. – М., 1996. – С. 145–162.
Кормилов 2009 Кормилов С.И. Метрика и рифмовка волошинских надписей к акварелям // Творчество Максимилиана Волошина: Семантика. Поэтика. Контекст / Сост. С.Н. Пинаев. – М., 2009. – С. 20–41.
Кормилов 2012a Кормилов С.И. Бытование в литературе характерных метро-ритмических форм «лапидарного слога» надписей на памятниках и их дериватов // Известия Смоленского государственного университета. – 2012. – № 1. – С. 7–25.
Кормилов 2012b Кормилов С.И. Рец. на: Л.Н. Гринько. Русский моностих XX века: теория и практика // Вопросы литературы. – 2012. – № 5. – С. 478–479.
Корчагин 2011 Корчагин К.М. Современные зарубежные исследования метрики // Вопросы языкознания. – 2011. – № 4. – С. 90–115.
Корчагин 2014 Корчагин К.М. В.П. Москвин, «Теоретические основы стиховедения»: [Рецензия] // Res Philologica: Сборник статей памяти М.И. Шапира. – Amsterdam, 2014. – P. 543–560.
Костецкий 1974 Костецкий А.Г. Содержательные функции поэтической графики: Дисс…. канд. филол. наук. – Киев, 1974. – 191 с.
Костомаров, Бурвикова 1999 Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Единицы семиотической системы языка как предмет описания и усвоения // Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ, Братислава, 1999. Доклады и сообщения российских ученых. – М., 1999. – С. 252–260.
Костюк 2005 Костюк В.В. Поэзия и проза Елены Гуро: К проблеме творческой индивидуальности. Дисс…. канд. филол. наук. – СПб., 2005. – 191 с.
Крейдлин 1989 Крейдлин Г.Е. Структура афоризма // Проблемы структурной лингвистики. 1985–1987 / Отв. ред. В.П. Григорьев. – М., 1989. – С. 196–206.
Кржижановский 1931 Кржижановский С. Поэтика заглавий. – М., 1931. – 32 с.
Кривулин 1997 Кривулин В.Б. Золотой век самиздата // Самиздат века / Сост. А.И. Стреляный, Г.В. Сапгир, В.С. Бахтин. – Мн.; М., 1997. – С. 342–354.
Крогиус 1926 Крогиус А.А. Послесловие // Галкин А. Песни беспризорных детей. – [Саратов], 1926. – С. 20–23.
Крусанов 2010 Крусанов А.В. Русский авангард: 1907–1932. – М., 2010. – Т. 1. Боевое десятилетие: В 2 кн. – 784+1104 с.
Кручёных 1924 Кручёных А.Е. 500 новых острот и каламбуров Пушкина. – М., 1924. – 70 с.
Крюков 1995 Крюков Д. Центон, или Употребление скрытых цитат // Новая Юность. – 1995. – № 3 (12). – С. 162–165.
Кудря 1999 Кудря Д. Переводчик как культурный герой // Арион: Журнал поэзии. – 1999. – № 2. – С. 74–78.
Кузьмин 1996 Кузьмин Д.В. «Отдельно взятый стих прекрасен!» [Приложения: Из «Антологии русского моностиха»; Из зарубежной поэзии] // Арион: Журнал поэзии. – 1996. – № 2. – С. 68–83.
Кузьмин 1998 Кузьмин Д.В. Литературный периодический самиздат рубежа 80–90-х гг. // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература: Исследования и материалы. – Иваново, 1998. – С. 208–214.
Кузьмин 1999 Кузьмин Д.В. Вместе с грешниками, среди зверей: [Чарльз Резникофф] // Арион. – 1999. – № 2. – С. 122–124.
Кузьмин 2000 Кузьмин Д.В. О первом российском образце «пунктуационной поэзии» (1908 г.) // Литературный дневник. – 24.11.2000. –
Кузьмин 2001 Кузьмин Д.В. Постконцептуализм: Наброски к монографии // Новое литературное обозрение. – № 50 (2001). – С. 459–476.
Кузьмин 2002 Кузьмин Д.В. Угловатая роза и трудности ее прочтения: [Рец. на кн.: Нилин М. Приложение к 1993–1997. М., 2002] // Новое литературное обозрение. – № 55 (2002). – С. 305–309.
Кузьмин 2003a Кузьмин Д.В. Фестиваль верлибра // Новое литературное обозрение. – № 62 (2003). – С. 446–452.
Кузьмин 2003b Кузьмин Д.В. Мерцающая реальность моностиха // Нирмал. Сотой песчинкой чудес: Избранные моностихи. – М., 2003. – С. 142–149.
Кузьмин 2004 Кузьмин Д.В. К современному состоянию русского моностиха // Поэтика исканий, или Поиск поэтики: Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии». – М., 2004. – С. 229–238.
Кузьмин 2006 Кузьмин Д.В. «После чего дышится легче»: Сергей Шаршун. – TextOnly. – 2006. – № 15 (1’2006). –
Кузьмин 2014 Кузьмин Д.В. Моностих: между дописыванием дополнительного и отсечением лишнего // Philologica. – Vol. 10 (2013/2014). – С. 41–64.
Кузьмина 1997 Кузьмина Н.А. Эпиграф в коммуникативном пространстве художественного текста // Вестник Омского университета. – 1997. – Вып. 2. – С. 60–63.
Кукулин 2003 Кукулин И.В. «Сумрачный лес» как предмет ажиотажного спроса // Новое литературное обозрение. – № 59 (2003). – С. 359–391.
Кукулин 2010 Kukulin I. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry // The Russian Review. – No. 69 (October 2010). – P. 585–614.
Кукулин 2012 Кукулин И.В. Два рождения неподцензурной поэзии в СССР // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. статей. – М., 2012. – Вып. 11. – Т. 1. – С. 115–124.
Кукушкина, Лазарчук 2010 Кукушкина Е.Д., Лазарчук Р.М. Соколов Платон Аполлонович // Словарь русских писателей XVIII века / Под ред. А. Панченко. – Выпуск 3. Р-Я. – СПб.: Наука, 2010. – С. 151–152.
Кулаков 1999 Кулаков В.Г. Поэзия как факт: Статьи о стихах. – М., 1999. – 400 с.
Кулишкина 2004 Кулишкина О.Н. Физика и метафизика русского афоризма. В. Розанов: афоризм как форма преодоления формы // Русская литература. – 2004. – № 4. – С. 3–22.
Курганов 2015 Курганов Е.Я. Анекдот как жанр русской словесности. – М., 2015. – 260 с.
Куюнжич 2006 Куюнжич Д. Пародия как повторная переработка (литературной) истории / Пер. с англ. Е. Канищевой // Новое литературное обозрение. – № 80 (2006). – С. 84–90.
Лавров 2005 Лавров Д.В. Шаршун Сергей Иванович. – Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Биобиблиографический словарь / Под ред. Н.Н. Скатова. – М., 2005. – Т. 3. – С. 686–688.
ЛГ 1992 Литературная газета. – 1992. – 9 декабря. – 16 с.
Левин 1998 Левин Ю.И. Об обсценных выражениях русского языка // Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. – М., 1998. – С. 809–819.
Лежнев 1937 Лежнев А.З. Проза Пушкина: Опыт стилевого исследования. – М., 1937. – 416 с.
Лейдерман, Липовецкий 2003 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. – Т. 2: 1968–1990. – М., 2003. – 688 с.
Лейфер 2008 Лейфер А.Э. Друзья мои от Омска до Читы… // Голоса Сибири: Литературный альманах. – Вып. 7. – Кемерово, 2008. – С. 329–370.
Лекомцева 2007 Лекомцева М.И. Особенности текста с неопределенно выраженной семантикой // Лекомцева М.И. Устроение языка: Сборник трудов. – М., 2007. – С. 289–300.
Лже-футуристы 1914 [Без подписи] Лже-футуристы // Саратовский листок. – 1914. – 2 февраля. – С. 6.
ЛЖМ 2001 Литературная жизнь Москвы. – Вып. 51 (2001). – 8 с.
Лилли 1997 Лилли И. Динамика русского стиха / Пер. с англ. В.В. Гуревича. – М., 1997. – 126 с.
Липовецкий 2000 Липовецкий М.Н. Концептуализм и необарокко // ExLibris НГ. – 2000. – 9 сентября. – С. 3.
Литовская 1999 Литовская М.А. Феникс поет перед солнцем: Феномен Валентина Катаева. – Екатеринбург, 1999. – 604 с.
Лифшиц 1936 Лифшиц М.А. Пушкинский Временник: Обзор статей // Литературный критик. – 1936. – № 12. – С. 239–261.
Лосев 1995 Лосев Л.В. Тулупы мы // Новое литературное обозрение. – № 14 (1995). – С. 209–215.
Лотман 1964 Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике // Труды по знаковым системам, вып. 1. – Тарту, 1964. – 195 с.
Лотман 1966 Лотман Ю.М. Поэзия Карамзина // Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений. – М.; Л., 1966. – С. 5–52.
Лотман 1970 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970. – 383 с.
Лотман 1972 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – Л., 1972. – 271 с.
Лотман 1974 Лотман М.Ю. О взаимоотношении естественного языка и метрики в механизме стиха // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1974. – 1 (5). – С. 182–186.
Лотман 1981 Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 515. – Теория знаковых систем. XII. – Тарту, 1981. – С. 3–7.
Лотман 1999 Лотман М.Ю. Печальный хвост: соотношение метрического и графического членения и проблема разграничения явлений стиха и прозы // Studia metrica et poetica: Сборник статей памяти П.А. Руднева. – СПб., 1999. – С. 20–50. – Перепечатано репринтным способом в [Лотман 2000].
Лотман 2000 Лотман М.Ю. Структура и типология русского стиха. – Тарту, 2000. – 266 с.
Лотман, Шахвердов 1973 Лотман М.Ю., Шахвердов С.А. Некоторые аспекты теории стиха // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1973. – С. 168–175.
Лощилов 2008 Лощилов И.Е. О символистских источниках двух стихотворений Алексея Кручёных // Интерпретация и авангард: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. И.Е. Лощилова. – Новосибирск, 2008. – С. 72–77.
Лубенникова 2010 Лубенникова Е.И. Об одной черновой тетради Цветаевой // Цветаевские чтения – 2010 / Мемориальный музей им. М.И. Цветаевой. – Королёв, 2010. – URL: -cvetaeva-chtenia-2010lubyannikova.pdf
Луконин 1973 Луконин М.К. Продолжение // Луконин М.К. Избранные произведения: В 2 т. – М., 1973. – С. 419–458.
Ляндо 1997 Ляндо М. Мгновечность // Новое литературное обозрение. – № 23 (1997). – С. 336–341.
Ляпин, Пильщиков 2013 Ляпин С.Е., Пильщиков И.А. О трудах Мирослава Червенки по теории и истории стиха // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 2013. – Т. 72. – № 3. – С. 53–65.
Ляпина 1978 Ляпина Л.Е. Сверхдлинные размеры в поэзии Бальмонта // Исследования по теории стиха / Отв. ред. В.Е. Холшевников. – Л., 1978. – С. 118–125.
Ляпина 1999 Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. – СПб., 1999. – 281 с.
Магазаник 1968 Магазаник Э.Б. Название // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М., 1968. – Т. 5.
Макарэвіч 2010 Макарэвіч С. Ахвяра псіхіятрычных Курапат // Наша Нива. – № 41 (687). – 3.11.2010.
Малышева 1996 Малышева Г.В. Очерки русской поэзии 1980-х годов: специфика жанров и стилей. – М., 1996. – 173 с.
Мамонов 1971 Мамонов А.И. Свободный стих в японской поэзии. – М., 1971. – 192 с.
Марков 1955 Марков В.Ф. Et ego in Arcadia… // Новый журнал. – 1955. – № 42. – С. 164–187.
Марков 1963 Марков В.Ф. Одностроки. Трактат об одностроке. Антология одностроков // Воздушные пути. – Вып. 3. – NY., 1963. – С. 242–258.
Марков 1994 Марков В.Ф. О свободе в поэзии. – СПб., 1994. – 367 с.
Маркосянц 1964 Маркосянц А. Поэтические словосочетания в стихотворных произведениях В.Я. Брюсова // Брюсовские чтения 1963 года. – Ереван, 1964. – С. 154–174.
Мартысевiч 2006 Мартысевiч М. Фармальныя мадыфікацыі ў сучаснай беларускай сістэме вершавання // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4. Філалогія. – 2006. – № 3. – С. 15–19.
Маршак 1973 Маршак С.Я. Право на взаимность. – М., 1973. – 166 с.
Масанов 1956 Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. – М., 1956.
Матяш 1991 Матяш С.А. Вопросы поэтики русской эпиграммы. – Караганда, 1991. – 113 с.
Махонинова 2009 Махонинова А. «Обернуть речь ситуацией»: пространственность поэтической речи Всеволода Некрасова // Новое литературное обозрение. – № 99 (2009). – С. 231–242.
Мейлах 1993 Мейлах М.Б. Примечания // Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. 2. Произведения 1938–1941. Приложения. – М., 1993. – С. 193–235.
Мейлах 1999 Мейлах М.Б. «Лишь мы одни – поэты, знаем дней катыбр»: Поэзия Даниила Хармса // Хармс Д.И. Дней катыбр: Избранные стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. – М.; Кайенна, 1999. – С. 15–52.
Мейлах 2004 Мейлах М.Б. Трансцендентный беф-буп для имманентных брундесс [Рец. на: Хармс Д. Полное собрание сочинений. СПб., 1997–2001] // Критическая масса. – 2004. – № 1. – С. 135–141.
Мейлах, Топоров 1972 Мейлах М.Б., Топоров В.Н. Ахматова и Данте // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. – Hague, 1972. – Vol. XV. – P. 25–75.
Миловидов 2000 Миловидов В.А. От семиотики текста к семиотике дискурса. – Тверь, 2000. – 98 с.
Милорава 2003 Милорава Ю. Эпос Айги // Крещатик: Журнал современной литературы. – № 22 (2003). – С. 359–366.
Минц 1973 Минц З.Г. Функция реминисценций в поэтике А. Блока // Уч. зап. Тартуского госуд. ун-та. Вып. 308. – Труды по знаковым системам. VI. – Тарту, 1973. – С. 387–417.
Михайловский 1895 Михайловский Н.Г. Литература и жизнь // Русское богатство. – 1895. – № 10. – С. 30–52 (2-й паг.).
Михайловский 1939 Михайловский Б.В. Русская литература ХХ века. – М., 1939. – 420 с.
Михеев 2007 Михеев М.Ю. Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). – М., 2007. – 217 с.
Модзалевский 1910 Модзалевский Б.Л. Библиотека Пушкина. – СПб., 1910. – 442 с.
Модзалевский 1936 Модзалевский Л.Б. Мнимые экспромты Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. – <Вып.> 1. – М.; Л., 1936. – С. 219–220.
Монахова 2008 Монахова Г.Р. Метрика и строфика Д.Е. Максимова // Петербургская стихотворная культура: Материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов. – СПб., 2008. – С. 467–516.
Морозова 2010 Морозова Н.П. Державинский «некрополь» (неопубликованные тексты) // Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века / Под ред. П.Е. Бухаркина, У. Екуч, Н.Д. Кочетковой. – СПб., 2010. – С. 298–308.
Москвин 2009 Москвин В.П. Теоретические основы стиховедения. – М., 2009. – 318 с.
Мукаржовский 1996 Мукаржовский Я. О поэтическом языке (1940) // Мукаржовский Я. Структуральная поэтика / Пер. В. Каменской. Сост. Ю.М. Лотмана, О.М. Малевича. – М., 1996. – С. 76–131.
Налегач 2010 Налегач Н.В. Поэтический диалог А. Штейгера с И. Анненским в итоговой книге «2×2 = 4. Стихи 1926 – 1939» // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 2010. – Вып. 56. – С. 48–52.
Науменко 2012 Науменко Н.В. Письменницькі нотатники – мозаїка душі митця // Мова і культура. – 2012. – Вип. 14. Т. VII (153). – С. 335–343.
Невзглядова 2003 Невзглядова Е.В. Проза есть [Рец. на: Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. – М., 2002] // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 5 (63). – С. 313–320.
Никитаев 1992 Никитаев А.Т. Ничевоки: материалы к истории и библиографии // De visu. – 1992. – № 0. – С. 59–64.
Никитин 2013 Воронков М.И. Интеллигент и эпоха: Дневники, воспоминания и статьи (1911–1941 гг.) / Сост., вступ. ст. и коммент. А.О. Никитина. – Рязань, 2013. – 684 с.
Николина 2004 Николина Н.А. Современное поэтическое словотворчество // Поэтика исканий, или Поиск поэтики: Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии». – М., 2004. – С. 90–99.
Никольская 1989 Никольская Т.Л. «Я птица сам»…: О жизни и стихах Юрия Марра // Памир. – 1989. – № 12. – С. 183–185.
Никольская 1994 Никольская Т.Л. Кокорин Павел Михайлович // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. – М., 1994. – Т. 3. – С. 16–17.
Никольская 2002 Никольская Т.Л. Юрий Николаевич Марр – заумный поэт // Никольская Т.Л. Авангард и окрестности. – СПб., 2002. – С. 72–85.
Никонов 1962 Никонов В.А. Выступление (подсекция «Славянское стиховедение») // АН СССР, IV Международный съезд славистов: Материалы дискуссии. – М., 1962. – Т. 1. – С. 622.
Никонова 1993 Никонова Ры (Таршис А.А.). Вектор вакуума: Ры Никонова отвечает на вопросы Сергея Бирюкова // Новое литературное обозрение. – № 3 (1993). – С. 242–256.
Никонова 1995 Никонова-Таршис Анна Ры. Уктусская школа // Новое литературное обозрение. – № 16 (1995). – С. 221–238.
Новиков 1989 Новиков В.И. Книга о пародии. – М., 1989. – 544 с.
Новиков 2001 Новиков В.И. Больше чем поэт: Мир Геннадия Айги // Айги Г.Н. Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. – СПб., 2001. – С. 5–14.
Новиков 2007 Новиков В.И. Роман с литературой. – М., 2007. – 276 с.
Озеров 1982 Озеров Л.А. «Стакан океана» // О Сельвинском: Воспоминания / Сост. Ц.А. Воскресенская, И.П. Сиротинская. – М., 1982. – С. 366–396.
Озмитель 1972 Озмитель Е.К. Лирическое стихотворение как знак и знаковая система // Труды Киргизского государственного университета. Филологические науки. – Вып. XVII. Серия «Вопросы поэтики». – Фрунзе, 1972. – С. 5–11.
Орлицкий 2000 Орлицкий Ю.Б. «Родные горы вы забыли, пока вы на чужбине были»: Краткий очерк истории русских переводов и подражаний японской классической поэзии // Тритон: Альманах поэзии хайку. – Вып. 1 (2000). – С. 58–70.
Орлицкий 2002 Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. – М., 2002. – 685 с.
Орлицкий 2015 Орлицкий Ю.Б. Современная русская поэзия в свете концепции необходимого разнообразия // Поэзия: опыт междисциплинарного анализа / Под ред. Г.В. Иванченко, Д.А. Леонтьева, Ю.Б. Орлицкого. – М., 2015. – С. 49–209.
Останин, Кобак 2003 Останин Б.В., Кобак А.В. Молния и радуга: Литературно-критические статьи 1980-х годов. – СПб., 2003. – 176 с.
Павловец 2009 Павловец М.Г. «Pars pro toto»: Место «Поэмы Конца (15)» в структуре книги Василиска Гнедова «Смерть искусству» (1913) // Toronto Slavic Quarterly. – No. 27 (Winter 2009).
Павловец 2012 Павловец М.Г. Канонизация русского футуризма в неподцензурной поэзии 1950–1960-х годов // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: Сб. статей. – М., 2012. – Вып. 11. – Т. 1. – С. 154–161.
Падучева 1990 Падучева Е.В. Пресуппозиция // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 396.
Панов 1966 Панов М.В. О восприятии звуков // Развитие фонетики современного русского языка. – М., 1966. – C. 155–162.
Панов 1989 Панов М.В. Ритм и метр в русской поэзии // Проблемы структурной лингвистики. 1985–1987 / Отв. ред. В.П. Григорьев. – М., 1989. – С. 340–371.
Парандовский 1982 Парандовский Я. Алхимия слова / Пер. с польского А. Сипович. – М., 1982. – 528 с.
Пахмусс 1983 Пахмусс Т. Из архивных материалов: Сергей Шаршун – русский художник и писатель. – Cahiers du monde russe et soviétique. – 1983. – Vol. 24. – No. 3. – P. 347–355.
Переломов 1998 Переломов Л.С. Конфуций. Лунь Юй. – М., 1998. – 588 с.
Пермяков 1988 Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М., 1988. – 236 с.
Перцов 1901 Друг Истины [Перцов П.П.] Справедливость прежде всего // Новое время. – 1901. – 12 февраля. – С. 3.
Перцов 1997 Перцов Н.В. Об одном афоризме // Московский пушкинист. – 1997. – Вып. IV. – С. 15–22.
Петровская 2007 Петровская Е.В. «Эквивалент» Тынянова и проблема изучения образа сегодня // Русская антропологическая школа: Труды. – Вып. 4. – Ч. 1. – М., 2007. – С. 237–246.
Петровская 2013 Петровская Е.В. Фундамент – пыль: Заметки о поэзии Аркадия Драгомощенко // Новое литературное обозрение. – 2013. – № 121. – С. 267–273.
Пешковский 1925 Пешковский А.М. Стихи и проза с лингвистической точки зрения // Пешковский А.М. Сборник статей. – Л.; М., 1925. – С. 151–166.
Пильский 1999 Пильский П. «Свинанини… Свинана» // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. – Том V / Сост. Ю. Абызов – Рига, 1999. – С. 271–277.
Плеханова 2007 Плеханова И.И. Русская поэзия рубежа XX–XXI веков. – Иркутск, 2007. – 439 с.
Плотникова, Халявина 2011 Плотникова Л.И., Халявина Д.В. Языковая игра в творчестве Василия Каменского // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. – № 6 (101). – Вып. 9. – С. 50–55.
Плукш 1968 Плукш П.И. С.Н. Сергеев-Ценский. Жизнь и творчество. – М., 1968. – 278 с.
Плукш 1975 Плукш П.И. С.Н. Сергеев-Ценский – писатель, человек. – М., 1975. – 237 с.
Поливанов 1963 Поливанов Е.Д. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники. [1930] // Вопросы языкознания. – 1963. – № 1. – С. 99–111.
Полонский 2008 Полонский В.В. Мифопоэтические аспекты жанровой эволюции в русской литературе конца XIX – начала XX вв.: Дисс…. д-ра филол. наук. – М., 2008. – 383 с.
Полякова 1983 Полякова С.В. Закатные оны дни: Цветаева и Парнок. – Ann Arbor, 1983. – 128 с.
Приамурский, Валдин 1993 Приамурский Г.Г., Валдин В.В. Большеохтенское кладбище // Исторические кладбища Петербурга / Сост. А.В. Кобак, Ю.М. Пирютко. – СПб., 1993. – С. 402–416.
Прокошин 2006 Прокошин В. Чайка / Плавки бога, или Курица / Не птица // Дети Ра. – 2006. – № 6.
Рейснер 1989 Рейснер Л. Краткий обзор нашей современной поэзии (Акмеизм) / Публ. В. Кондрияненко // День поэзии. Ленинград. – Л., 1989. – С. 241–247.
Реформатский 1963 Реформатский А.А. О перекодировании и трансформации коммуникативных систем // Исследования по структурной типологии. – М., 1963. – С. 208–215.
Робель 2003 Робель Л. Айги / Пер. с франц. О. Северской. – М., 2003. – 220 с.
Ровнер 2002 Ровнер А.Б. Гурджиев и Успенский. – М., 2002. – 509 с.
Розанов 1990 Розанов В.В. Сочинения: Т. 1. Религия и культура / Сост. и подг. текста Е.В. Барабанова. – М., 1990. – 635 с.
Розанов 1999 Розанов В.В. Во дворе язычников: Собрание сочинений / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М., 1999. – 463 с.
Рубцова 1971 Рубцова Е.С. Эскимосско-русский словарь. – Л., 1971. – 644 с.
Руднев 1989 Руднев П.А. Введение в науку о русском стихе. – Тарту, 1989. – Вып. 1. – 120 с.
Руднев 1999 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. – М., 1999. – 381 с.
Савицкий 2002 Савицкий С.А. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной литературы). – М., 2002. – 223 с.
Сажин 1997 Сажин В.Н. Примечания // Хармс Д.И. Полное собрание сочинений: В 4 т. – Т. 1. – СПб., 1997. – С. 333–426.
Санников 1999 Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М., 1999. – 544 с.
Сануйе 1999 Сануйе М. Дада в Париже / Пер. с франц. – М., 1999. – 638 с.
Саука 1975 Саука Л. Оппозиции песня – повествование, стих – проза в фольклоре // Проблемы фольклора / Отв. ред. Н.И. Кравцов. – М., 1975. – С. 178–183.
Сахарный 1991 Сахарный Л.В. Тексты-примитивы и закономерности их порождения // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. – М., 1991. – С. 221–237.
Сахно 1999 Сахно И.М. Русский авангард. Живописная теория и поэтическая практика. – М., 1999. – 351 с.
Сахно 2014 Сахно И.М. О палимпсесте заумного слова // 1913. «Слово как таковое»: к юбилейному году русского футуризма: Материалы международной научной конференции (Женева, 10–12 апреля 2013 г.) / Сост. и науч. ред. Ж. – Ф. Жаккар и А. Морар. – СПб., 2014. – С. 103–112.
Сдобнов 2016 Сдобнов С.С. «Там, где не охотятся»: Вычитание Полины Андрукович // Полина Андрукович. Статьи и материалы / Под ред. К.М. Корчагина и Л.В. Оборина. – М., 2016. – С. 50–57.
Северская 2007 Северская О.И. Язык поэтической школы: Идиолект, идиостиль, социолект. – М., 2007. – 124 с.
Сельвинский 1958a Сельвинский И.Л. Стихия русского стиха. – М., 1958. – 180 л. – На правах рукописи.
Сельвинский 1958b Сельвинский И.Л. Реплика И. Шевцову // Литература и жизнь. – 1958. – 27 августа. – С. 2.
Сельвинский 1962 Сельвинский И.Л. Студия стиха. – М., 1962. – 346 с.
Сельвинский 1967 Сельвинский И.Л. Спасибо вам, ромашки и березы // Литературная Россия. – 1967. – 21 апреля. – С. 16.
Семьян 2006 Семьян Т.Ф. Визуальный облик прозаического текста. – Челябинск, 2006. – 215 с.
Сигей 1991 Сигей С.В. Краткая история визуальной поэзии в России // Ученые записки отдела живописи и графики Ейского историко-краеведческого музея. – Ейск, 1991. – Вып. 1. [Перепечатано: Визуальная поэзия: Науч. – худ. ж-л (Курск). – 1997. – № 1.]
Сигей 1992 Сигей С.В. Комментарии // Гнедов В. Собрание стихотворений / Под ред. Н. Харджиева и М. Марцадури. – Тренто, 1992. – С. 139–205.
Сигей 1998 Сигей С.В. Фрагменты полной формы // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 5 (33). – С. 281–292.
Сигей 2001a Сигей С.В. Тайное знание русских футуристов // Slavica Tergestina. – 9. «Studia slavica II» (2001). – P. 195–233.
Сиране 2002 Сиране Х. За пределы «мгновения хайку»: Басё, Бусон и мифы современного хайку / Пер. с англ. Д. Кузьмин // Тритон: Российский альманах поэзии хайку. – Вып. 3 (2002). – С. 70–94.
Скафтымов 1972 Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. – М., 1972. – 543 с.
Скидан 2008 Скидан А.В. Монтаж аттракционов Игоря Жукова // Новое литературное обозрение. – 2008. – № 91. – С. 333–338.
СЛ 2003 Самиздат Ленинграда. 1950-е – 1980-е: Литературная энциклопедия / Под общей редакцией Д.Я. Северюхина. – М., 2003. – 624 с.
Смулаковская 1997 Смулаковская Р.Л. Жанр одностиший и его семантическая организация (на материале одностиший В. Вишневского) // Актуальные проблемы функциональной лексикологии: Сборник статей, посвященных 75-летию В.В. Степановой. – СПб., 1997. – С. 131–136.
Соколов 1924 Соколов С.Д. Опыт словаря псевдонимов и инициалов саратов<ских> писателей // Труды Нижне-Волжского Научного Общества Краеведения «ИстАрхЭт». – Саратов, 1924. – Вып. 34. – Ч. 2. – С. 54–64.
Соколова 2010 Соколова В.А. Модернізація строфічних форм у поезії В. Свідзінського // Віршознавчі студії: Зб. наукових праць конференції «Українське віршознавство ХХ – початку ХХІ століть. Здобутки і перспективи розвитку». – Київ, 2010. – С. 183–192.
Соловьёв 1990 Соловьёв В. Еще о символистах // Соловьёв В.С. Литературная критика. – М., 1990. – С. 150–154.
Спасский 1940 Спасский С. Маяковский и его спутники. – Л., 1940. – 158 с.
ССРЛЯ Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М., 1954–1965.
Старк 1999 Старк В. Дни рождения в жизни Пушкина // Звезда. – 1999. – № 6. – С. 126–134.
Степанов 1928 Степанов Н.Л. Творчество Велимира Хлебникова // Хлебников В.В. Собрание произведений. – Л., 1928. – Т. 1. – С. 33–64.
Степанов 2008 Степанов А.Д. Минимализм как коммуникативный парадокс // Новый филологический вестник. – 2008. – № 2 (7). -kak-kommunikativnyy-paradoks
Степанов 2010 Степанов А.И. Главы о поэтике Леонида Аронзона (1983–1985) // Степанов А.И. Старые/новые шестидесятые – СПб., 2010. – С. 11–109.
Стригалёв 1995 Стригалёв А.А. Картины, «стихокартины» и «железобетонные поэмы» Василия Каменского // Вопросы искусствознания. – 1995. – № 1–2. – С. 505–539.
Строганов 1999 Строганов М.В. Две старицких осени Пушкина: Литературоведческие очерки. – Тверь, 1999. – 206 с.
Суслова 2013 Суслова Е.В. Геннадий Айги: тавтологические поля с вариациями // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2013. – № 1. – С. 286–289.
Суховей 2008 Суховей Д.А. Графика современной русской поэзии: Дисс…. канд. филол. наук. – СПб., 2008. – 271 с.
Суховей 2013 Суховей Д.А. «Железобетонные поэмы» Василия Каменского // Сто лет русского авангарда: Сборник статей / Ред. М.И. Катунян. – М., 2013. – С. 315–325.
Тарановский 1972 Тарановский К.Ф. Два «молчания» Осипа Мандельштама // Russian Literature. – 1972. – № 2. – С. 126–131.
Тарановский 2010 Тарановский К.Ф. Русские двусложные размеры. Статьи о стихе / Под ред. В. Тарановской-Джонсон, Дж. Бейли, А.В. Прохорова; пер. с серб. В.В. Сонькина. – М., 2010. – 552 с.
Твардовский 1985 Твардовский А.Т. Письма о литературе. 1930–1970. – М., 1985. – 512 с.
Тверьянович, Хворостьянова 2008 Тверьянович К.Ю., Хворостьянова Е.В. Инструкция к составлению метрико-строфических справочников по произведениям русских поэтов XVIII–XX вв. // Петербургская стихотворная культура: Материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов. – СПб., 2008. – С. 11–63.
Тернова 2012 Тернова Т.А. Феномен маргинальности в литературе авангарда первой трети ХХ в.: Автореферат дисс…. д-ра. филол. наук. – Воронеж, 2012.
Тименчик 2005 Тименчик Р.Д. Анна Ахматова в 1960-е годы. – М.; Toronto, 2005.
Тименчик 2008 Тименчик Р.Д. Что вдруг?: Cтатьи о русской литературе прошлого века. – М., 2008. – 684 с.
ТЛ 2001 Теория литературы: В 4 т. / ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. Ред. Ю.Б. Борев. – М.: Наследие, 2001. – Т. 4: Лит. процесс. – 616 с.
Тоддес 1974 Тоддес Е.А. Мандельштам и Тютчев // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. – 1974. – Vol. XVII. – P. 59–85.
Тоддес 2005 Тоддес Е.А. Несколько слов в связи с комментариями Н.Я. Мандельштам (in medias res) // Шиповник: Историко-филологический сборник к 60-летию Р.Д. Тименчика. – М., 2005. – С. 439–445.
Токарев 1983 Токарев Г.Н. Слово в контексте стихотворной речи: Дисс…. канд. филол. наук. – Алма-Ата, 1983.
Томашевский 1929 Томашевский Б.В. О стихе. – Л., 1929. – 326 с.
Томашевский 1959 Томашевский Б.В. Стих и язык. – Л., 1959. – 371 с.
Томашевский 1996 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. <1931> – М., 1996. – 334 с.
Тонконогов 2004 Тонконогов Д.Л. С миру по танкетке // Арион. – 2004. – № 4. – С. 101–102.
Топоров 2012 Топоров В.Л. На Акунина и Брусникина рассчитайсь! // Город (812). – 2012. – № 1. – С. 39.
Тороп 1995 Тороп П. Тотальный перевод. – Тарту, 1995. – 220 с.
Троцкий 1926 Троцкий Л.Д. О Бальмонте // Троцкий Л.Д. Сочинения. – М.; Л., 1926. – Т. XX. Культура старого мира. – С. 167–170.
Тумольский 2000 Тумольский А. Русские европейцы из Украины // Новое литературное обозрение. – № 46 (2000). – С. 294–315.
Турчин 1998 Турчин В.С. «Русский Эрос» и творчество Кандинского // Многогранный мир Кандинского. – М., 1998. – С. 13–29.
Тынянов 1965 Тынянов Ю.Н. Валерий Брюсов // Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. – М., 1965. – С. 259–282.
Тынянов 1977 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – 574 с.
Тынянов 1993 Тынянов Ю.Н. Литературный факт / Сост. О.И. Новиковой. – М., 1993. – 319 с.
Тюпа 1998 Тюпа В.И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии ХХ века. – Самара, 1998. – 115 с.
Тюпа 2003 Тюпа В.И. Градация текстовых ансамблей // Европейский лирический цикл: Историческое и сравнительное изучение / Сост. М.Н. Дарвин. – М., 2003. – С. 50–63.
Тяпков 1984 Тяпков С.Н. Русские футуристы и акмеисты в литературных пародиях современников. – Иваново, 1984. – 83 с.
Тяпков 1986 Тяпков С.Н. Брюсов в пародиях современников // Творчество писателя и литературный процесс. Русская литература начала XX в. Советская литература 20-х годов: Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново, 1986. – С. 78–99.
Тяпков 1990 Тяпков С.Н. Брюсов // Русские писатели. Биобиблиографический словарь. – Т. 1. – М., 1990. – С. 119–123.
Фарино 2004 Фарино Е. Введение в литературоведение: Учебное пособие. – СПб., 2004. – 639 с.
Фатеева 2006a Фатеева Н.А. Идентичность личности автора и вариативность форм выражения в текстах авангарда // Семиотика и авангард: Антология / Под общ. ред. Ю.С. Степанова. – М., 2006. – С. 43–53.
Фатеева 2006b Фатеева Н.А. Что происходит в языке и за языком: активные процессы в поэзии конца XX – начала XXI века // Семиотика и авангард: Антология / Под общ. ред. Ю.С. Степанова. – М., 2006. – С. 860–878.
Федин 2002 Федин С.Б. Комбинаторная поэзия // Новое литературное обозрение. – № 57 (2002). – С. 278–294.
Федоренко 1975 Федоренко Н.Т. Меткость слова: Афористика как жанр словесного искусства. – М., 1975. – 255 с.
Федотов 1997 Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Метрика и ритмика. – М., 1997. – 336 с.
Федотов 2002 Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха. Кн. 2. Строфика. – М., 2002. – 488 с.
Фигут 2003 Фигут Р. Лирический цикл как предмет исторического и сравнительного изучения. Проблемы теории // Европейский лирический цикл: Историческое и сравнительное изучение / Сост. М.Н. Дарвин. – М., 2003. – С. 11–37.
Флейшман 1981 Флейшман Л.С. Несколько замечаний к проблеме литературы русской эмиграции // Одна или две русских литературы? / Une ou deux littératures Russes? – Международный симпозиум, созванный факультетом словесности Женевского университета и Швейцарской академией славистики. Женева, 13–15 апреля 1978 / Colloque international organisé par la Faculté des Lettres de l’Université de Genève et la Société académique des slaviste suisses. Genève, les 13–14–15 avril 1978 / Отв. ред. Ж. Нива. – Lausanne, 1981. – С. 63–90.
Фоменко 1992 Фоменко И.В. Лирический цикл: Становление жанра, поэтика. – Тверь, 1992. – 123 с.
Фоменко 2003 Фоменко И.В. Книга стихов: миф или реальность? // Европейский лирический цикл: Историческое и сравнительное изучение / Сост. М.Н. Дарвин. – М., 2003. – С. 64–73.
Фрейденберг 1997 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / Подг. текста Н.В. Брагинской. – М., 1997. – 445 с.
Хаев 1980 Хаев Е.С. Проблема композиции лирического цикла // Природа художественного целого и литературный процесс / Отв. ред. Н.Д. Тамарченко. – Кемерово, 1980. – С. 56–68.
Хамаганов 1959 Хамаганов М.П. Очерки бурятской афористической поэзии. – Улан-Удэ, 1959. – 265 с.
Ханзен-Лёве 2001 Ханзен-Лёве О. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. – М., 2001. – 672 с.
Харыкина 1987 Библиотека поэта: Аннотированный библиографический указатель. 1933–1986 / Сост. Т.С. Харыкиной. – Л., 1987. – 360 с.
Хвостов 1804b [Хвостов Д.И.] О краткости надписей // Друг просвещения. – 1804. – Ч. 2. – № 5. – С. 152–154.
Хлебников 1986 Хлебников В.В. Наша основа [1920] // Хлебников В.В. Творения / Под ред. М.А. Полякова, В.П. Григорьева и А.Е. Парниса. – М., 1986. – С. 624–631.
Хмара 1980 Хмара А.Г. и др. Практический курс русского языка. – Л., 1980. – Ч. 1. – 506 с.
Ходасевич 1991 Ходасевич В.Ф. Мелочи [1933] // Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. – М., 1991. – С. 515–516.
Хозяинова 2015 Хозяинова Н. Вместо предисловия // Либкинд Л. Какое завтра будет у сегодня: Одностишия. – Торонто, 2015. – С. 3–4.
Холшевников 2004 Холшевников В.Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение. – 5-е изд. – СПб.; М., 2004. – 208 с.
Хренков 1989 Хренков Д.Т. Анна Ахматова в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. – Л., 1989. – 220 с.
Хузангай 2009 Хузангай А.П. «… было – Язык добровольный: сердца… и Света…» // Айги Г. Собрание сочинений. – Чебоксары, 2009. – С. 5–18.
Цибуля 2016 Цибуля А.С. «Быть бестелесным – грубо» // Полина Андрукович. Статьи и материалы / Под ред. К.М. Корчагина и Л.В. Оборина. – М., 2016. – С. 32–43.
Цивьян 2010 Цивьян Ю.Г. На подступах к карпалистике: Движение и жест в литературе, искусстве и кино. – М., 2010. – 336 с.
Цявловская 1958 Цявловская Т.Г. Дневник А.А. Олениной // Пушкин: Исследования и материалы. – М.; Л., 1958. – Т. 2. – С. 247–292.
Червенка 2011 Червенка М. Смысл и стих: Труды по поэтике / Сост. и общ. ред. Т. Гланца, К. Постоутенко. Пер. с чешского А. Бобракова-Тимошкина. – М., 2011. – 464 с.
Чибисова 2001 Чибисова В.И. Спецсеминар «Русская пунктуация, ее функционирование» в системе профессиональной подготовки учителя // Русский язык: вопросы теории и инновационные методы преподавания. Материалы Международной научно-методической конференции, 25–28 мая 2001 г., г. Иркутск. – Иркутск, 2001. – Ч. 3. – С. 75–84.
Чудасов 2009 Чудасов И.В. Эволюция форм русской комбинаторной поэзии XX века: Дисс…. канд. филол. наук. – Астрахань, 2009. – 199 с.
Чудасов 2010 Чудасов И.В. Несколько слов о заикалочках // Введенская сторона: Журнал об искусстве для школьников, учителей и родителей. – 2010. – № 4. – С. 38–39.
Чуковский 1969a Чуковский К.И. Образцы футурлитературы // Чуковский К.И. Собрание сочинений – М., 1969. – Т. 6. – С. 240–259.
Чуковский 1969b Чуковский К.И. Футуристы // Чуковский К.И. Собрание сочинений – М., 1969. – Т. 6. – С. 202–239.
Шабалина 2012 Шабалина Н.Н. Творчество модернистов в оценке В.П. Буренина // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 17 (271). – С. 141–145.
Шадрин 1973 Шадрин Н.Л. Средства окказионального преобразования фразеологических единиц как система элементарных приемов // Лингвистические исследования. 1972. Ч. II. – М., 1973. – С. 78–97.
Шапир 1990 Шапир М.И. Metrum et rhythmus sub specie semioticae // Даугава. – 1990. – № 10. – С. 63–87. [Перепечатано со значительными изменениями: Шапир М.И. Universum Versus: Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. – Кн. 1. – М., 2000. – С. 91–128.]
Шапир 1996 Шапир М.И. Гаспаров-стиховед и Гаспаров-стихотворец // Русский стих: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика: В честь 60-летия М.Л. Гаспарова. – М., 1996. – С. 271–310.
Шапир 2000a Шапир М.И. Ритм и синтаксис ломоносовской оды // Шапир М.И. Universum Versus: Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. – Кн. 1. – М., 2000. – С. 161–186.
Шапир 2000b Шапир М.И. Гексаметр и пентаметр в поэзии Катенина // Шапир М.И. Universum Versus: Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. – Кн. 1. – М., 2000. – С. 277–334.
Шапир 2000c Шапир М.И. «Versus» vs. «prosa»: пространство-время поэтического текста // Шапир М.И. Universum Versus: Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. – Кн. 1. – М., 2000. – С. 36–75.
Шапир 2000d Шапир М.И. На подступах к общей теории стиха (методы и понятия) // Шапир М.И. Universum Versus: Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. – Кн. 1. – М., 2000. – С. 76–90.
Шапир 2015 Шапир М.И. Между грамматикой и поэтикой (О новом подходе к изданию Даниила Хармса) // Шапир М.И. Universum Versus: Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII–XX веков. – Кн. 2. – М., 2015. – С. 145–151.
Шварцкопф 1988 Шварцкопф Б.С. Современная русская пунктуация. – М., 1988. – 192 с.
Шевцов 1958 Шевцов И.М. Стихия субъективизма // Литература и жизнь. – 1958. – 23 июля. – С. 2.
Шевцов 1961 Шевцов И.М. С.Н. Сергеев-Ценский // Сергеев-Ценский С.Н. Московская повесть / Сост. И. Шевцов. – М., 1961. – С. 613–623.
Шемшурин 1913 Шемшурин А.А. Футуризм в стихах Брюсова. – М., 1913. – 240 с.
Шервинский 1962 Шервинский С.В. Выступление (подсекция «Славянское стиховедение») // АН СССР, IV Международный съезд славистов: Материалы дискуссии. – М., 1962. – Т. 1. – С. 621–622.
Шершеневич 1990 Шершеневич В. Великолепный очевидец // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова / Сост. С.В. Шумихин, К.С. Юрьев. – М., 1990. – С. 417–646.
Шмидт 1998 Шмидт Э. Василиск Гнедов: на краю молчания // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 5 (33). – С. 265–280.
Шохина 1994 Шохина В. Машина времени в осенних сумерках: [О поэзии Александра Еременко и Ивана Жданова] // Независимая газета. – 1994. – 2 февраля. – С. 7.
Шраер-Петров, Шраер 2004 Шраер-Петров Д.П., Шраер М.Д. Псалмопевец Сапгир // Сапгир Г.В. Стихотворения и поэмы / Сост. Д. Шраера-Петрова и М. Шраера. – СПб., 2004. – С. 5–80.
Шталь, Рутц 2013 Шталь Х., Рутц М. Имидж, диалог, эксперимент – поля современной русской поэзии // Имидж, диалог, эксперимент – поля современной русской поэзии / Под ред. Х. Шталь и М. Рутц. – Berlin; Muenchen, 2013. – С. 3–36.
Шубинский 2010 Шубинский В.И. В лучащихся адах: Введение в поэтику Александра Миронова // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 106. – С. 193–201.
Шувалов 1941 Шувалов С.В. Мастерство Лермонтова // Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова: Исследования и материалы: Сборник первый. – М., 1941. – С. 251–309.
Эллис 1996 Эллис. Русские символисты. – Томск, 1996. – 287 с.
Эльдаров 2005 Эльдаров Х.Д. Лезгинская поэзия 80–90-х годов XX столетия (Система лирических жанров): Дисс…. канд. филол. наук. – Махачкала, 2005. – 193 с.
Эпштейн 1988 Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии ХIХ – ХХ веков. – М., 1988. – 414 с.
Эпштейн 2004a Эпштейн М.Н. Слово как произведение. О жанре однословия // Эпштейн М.Н. Знак_пробела: О будущем гуманитарных наук. – М., 2004. – С. 254–320.
Эпштейн 2004b Эпштейн М.Н. Анализ и синтез в словотворчестве: опыты логопоэйи // Поэтика исканий, или Поиск поэтики: Материалы международной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX–XXI веков и современные литературные стратегии». – М., 2004. – С. 100–123.
Эпштейн 2005 Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. – М.: Высшая школа, 2005. – 495 c.
Эрберг 1979 Эрберг К. Воспоминания / Публ. С.С. Гречишкина, А.В. Лаврова // Ежегодник РО Пушкинского Дома на 1977 г. – Л., 1979.
Эрль 1991 Эрль В.И. Несколько слов о Леониде Аронзоне // Вестник новой литературы. – № 3 (1991). – С. 214–226.
ЭСБЕ 1905 Энциклопедический словарь. – СПб., 1905. – Доп. том 1а.
Эткинд 1984 Эткинд Е.Г. Вьючное животное культуры: Об архаическом стиле Вячеслава Иванова // Cahiers du monde russe et soviétique. – 1984. – Vol. 25. – No. 1. – P. 5–17.
Этьямбль 1976 Этьямбль Р. К вопросу о распространении стихотворной формы «хайку» в славянском мире / Пер. с франц. А.Л. Андрес // Сравнительное изучение литератур: Сб. статей к 80-летию академика М.П. Алексеева. – Л., 1976. – С. 541–549.
Эфрос 1923 Эфрос А. Дада и дадаизм // Cовременный Запад: Журнал литературы, науки и искусства. Кн. третья. – Пб.; М., 1923. – С. 118–125.
Якерин 1926 Якерин В. [Рец. на издания авторов] // Красная новь. – 1926. – Кн. девятая. – С. 227–228.
Якобсон 1985 Якобсон Р.О. О лингвистических аспектах перевода // Якобсон Р.О. Избранные работы. – М., 1985. – С. 361–368.
Ямпольский 1998 Ямпольский М.Б. Беспамятство как исток (Читая Хармса). – М., 1998. – 379 с.
Янечек 1997 Янечек Дж. Минимализм в современной русской поэзии: Всеволод Некрасов и другие / Пер. с англ. И. Ахметьева // Новое литературное обозрение. – № 23 (1997). – С. 246–257.
Янечек 2002 Янечек Дж. «Стихи на смерть Т.С. Элиота» (1965) / Пер. с англ. Л. Лосева, В. Фрумкина // Как работает стихотворение Бродского. Из исследований славистов на Западе / Сост. Л.В. Лосев, В.П. Полухина. – М., 2002. – С. 33–41.
Янечек 2006 Янечек Дж. Поэзия молчания у Геннадия Айги // Айги: материалы, исследования, эссе / Сост. Ю.Б. Орлицкий, Н.М. Азарова. – М., 2006. – С. 140–153.
Янечек 2009 Янечек Дж. Всеволод Некрасов и русский литературный концептуализм // Новое литературное обозрение. – № 99 (2009). – С. 201–209.
Янко-Триницкая 1975 Янко-Триницкая Н.А. Междусловное наложение // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова / Отв. ред. Е.А. Земская. – М., 1975. – С. 253–260.
Яснов 2006 Яснов М.Д. Мрак полной темноты: [Рец. на: Аполлинер Г. Алкоголи. – М., 2005] // Книжное обозрение. – 2006. – № 1/2 (16–22 января). – С. 6.
Agostini 2001 Agostini, Bertrand. The development of French Haiku in the First Half of the 20th century: Historical Perspectives and Literary Approach // Modern Haiku: An Independent Journal of Haiku and Haiku Studies. – Vol. XXXII, No. 2. Summer, 2001.
Aldama 2014 Aldama, Frederick Luis. A Scientific Approach to the Teaching of a Flash Fiction // Interdisciplinary Literary Studies. – 2014. – Vol. 16, No. 1, ILS Special Issue, «Cognition in the Classroom». – P. 127–144.
Alizadeh 2006 Ali Alizadeh Reviews Ian McBryde and Tim Sinclair // Cordite Poetry Review. – 2006, 12 July. – -mcbryde-sinclair/
Allan 2002 Allan, Ken. The A-poetic Poetry of Bernar Venet // Public. – 2002. – No. 26. – P. 179–185.
Andel 2002 Andel, Jaroslav. Avant-garde page design, 1900–1950. – NY, 2002. – 388 p.
Andelson 1922 Andelson, Pearl. One Poet Speaks for Himself: The Magpie’s Shadow by Yvor Winters // Poetry. – Vol. 20. – No. 6 (Sep. 1922). – P. 342–344.
Aron 1984 Aron, Thomas. Littérature et littérarité: Un essai de mise au point. – Besançon, 1984. – 103 p.
Aroui 1994 Aroui, Jean-Louis. Le monostiche verlainien // Revue Verlaine. – No. 2. 1994. – P. 108–128.
Barthes 2003 Barthes, Roland. La préparation du roman I et II: Notes de cours et de séminaires au Collège de France, 1978–1979 et 1979–1980 / Texte établi, annoté et présenté par Nathalie Léger. – P., 2003. – 478 p.
Bellevüe 1911 Bellevüe, Xavier Fournier. Le Comte de La Touraille, maréchal de camp de cavalerie, brigadier des armées du roi, chevalier de Saint Louis, philosophe et poète, 1720 à 1794: Sa vie, ses ouvrages, sa correspondance avec Voltaire. – P., 1911. – 89 p.
Bersaucourt 1921 Bersaucourt, Albert de. Au temps des Parnassiens: Nina de Villard et ses amis. – P., 1921. – 190 p.
Bidou 1921 Bidou, Henry. Parmi les livres // La Revue de Paris. – 1921. – Année 28, T. 3 (Mai – juin). – P. 368–379.
Birky 2003 Birky, Wilbur. Yorifumi Yaguchi: International Mennonite poet and prophet of peace // The Mennonite quarterly review. – Vol. 77 (2003). – No. 4. – P. 559–577.
Boisson 1989 Boisson, Madeleine. Apollinaire et les mythologies antiques. – Fasano (Italia) – P., 1989. – 790 p.
Bourdieu 1992 Bourdieu, Pierre. Les Règles de l’art. – P., 1992. – 480 p.
Breunig 1963 Breunig, LeRoy C. Apollinaire et le monostique // Bulletin de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises. – 1963. – No. 4. – P. 313–323.
Brink 2010 Brink, Dean. John Ashbery’s ‘37 Haiku’ and the American Haiku Orthodoxy // Globalization and Cultural Identity/Translation / Ed. by Pengxiang Chen and Terence Russell. – Jiaoxi (Taiwan), 2010. – No. 8. – P. 157–165.
Brogan 1993 Brogan, Terry V.F. Monostich // The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics / Ed. by A. Preminger and T.V.F. Brogan. – Princeton, 1993. – P. 800.
Brogan e. a. 2012 Brogan, Terry V.F.; Shaw, Robert Burns; Bohn, Willard. Monostich // The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics / Fourth edition. Ed. by R. Greene. – Princeton, 2012. – P. 899.
Brooks 2000 Brooks, Crispin. The Futurism of Vasilisk Gnedov. – Birmingham, 2000. – 204 p.
Brooks 2006 Brooks, Crispin. On One Ancestor: Vasilisk Gnedov in the Work of Sergej Sigej and Ry Nikonova // Russian Literature. – Volume 59, Issues 2–4 (2006). – P. 177–223.
Broyde 1975 Broyde, Steven. Osip Mandel’štam and His Age. – Cambridge (Massachussets), 1975. – 245 p.
Călinescu 1936 Călinescu, George. Ion Pillat şi Emm. Lochac // Adevărul literar şi artistic. – Anul XV (1936). – Nr. 807 (24 mai). – P. 10.
Cambon 1976 Cambon, Glauco. La poesia di Ungaretti. – Milano, 1976. – 213 p.
Cary 1993 Cary, Joseph. Three Modern Italian Poets: Saba, Ungaretti, Montale. – Chicago, 1993. – 380 p.
Chamoux 2004 Chamoux, François. Une épigramme homérique à Xanthos // Revue des Études Grecques. – Vol. 117 (2004). – No. 2. – P. 757–758.
Chelariu 1989 Chelariu, Traian. În căutarea Atlantidei: Eseuri filozofice / Ed. îngrijită de Doina Florea şi Corneliu Popescu. – Cluj-Napoca, 1989. – 216 p.
Chelaru 2011 Chelaru, Marius. Ion Pillat şi poemul într-un vers: Receptări de ieri şi de azi şi din perspectiva creatorilor de lirică niponă. – Iaşi, 2011. – 97 p.
Chevrier 2005 Chevrier, Alain. Du monostiche chez Jacques Jouet // Formes poétiques contemporaines. – 2005. – No. 3. – P. 275–296.
Cistelecan 2002 Cistelecan, Alexandru. Pillatienii atei şi convertiţi // Studia Universitatis «Petru Maior» din Târgu-Mureş. – Philologia. – 2002. – No. 1. – P. 17–31.
Colburn 1927 Colburn, Dorothy. Paintrock Road by Edwin Ford Piper // Prairie Schooner. – Vol. 1, No. 3, July, 1927. – P. 223–224.
Cole 1973 Cole, William. Introduction // Poems One Line & Longer / Compiled by W. Cole. – NY, 1973. – P. I–IX.
Comito 1986 Comito, Terry. In Defense of Winters. – Madison, 1986. – 329 p.
Crispin 1983 Crispin, John. Quest for wholeness: the personality and works of Manuel Altolaguirre. – Valencia; Chapel Hill, 1983. – 123 p.
Croft 1995 Croft, Lee B. O Svobode v Poezii: Stat’i, Esse, Raznoe by Vladimir Markov // Slavic Review. – Vol. 54, No. 4, Winter, 1995. – P. 1064–1065.
Culler 1975 Culler, Jonathan. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. – L., 1975. – 301 p.
Culpeper 1996 Culpeper, Jonathan. Towards an anatomy of impoliteness // Journal of Pragmatics. – Vol. 25, 1996. – P. 349–367.
Daly 2007 Daly, Ian. You Call That Poetry?! // Poetry Foundation, August 25, 2007.
Dauster 1963 Dauster, Frank. Ensayos sobre poesía mexicana: asedio a los «Contemporáneos». – México, 1963. – 143 p.
Davie 2000 Davie, Donald. Two ways out of Whitman: American Essays. – Manchester, 2000. – 202 p.
Davis 1983 Davis, Dick. Wisdom and Wilderness: The Achievement of Yvor Winters. – Athens, 1983. – 244 p.
De Ornellas 2008 De Ornellas, Kevin. Edith M. Thomas // Early American Nature Writers: A Biographical Encyclopedia / Edited by Daniel Patterson. – Westport (Connecticut), 2008. – P. 335–340.
De Ros 2015 De Ros, Xon. The Poetry of Antonio Machado: Changing the Landscape. – Oxford, 2015. – 304 p.
Decaudin 1993 Decaudin, Michel. «Alcools». – P., 1993. – 220 p.
Desthuillers 1994 Desthuillers, Jean-Pierre. Le choc Lochac // Emmanuel Lochac, ses visages et leurs énigmes / Sous la direction de Jacques Arnold. – P., 1994. – P. 34–39.
Devoto 1980 Devoto, Daniel. Leves o aleves consideraciones sobre lo que es el verso. [Part 1] // Cahiers de linguistique hispanique médiévale. – Vol. 5 (1980). – No. 1. – P. 67–100.
Devoto 1982 Devoto, Daniel. Leves o aleves consideraciones sobre lo que es el verso. [Part 2] // Cahiers de linguistique hispanique médiévale. – Vol. 7 (1982). – No. 1. – P. 5–60.
Dininman 1984 Dininman, Françoise. «Chantre» et les Sirènes // Que vlo-ve?: Bulletin de l’Association internationale des amis de Guillaume Apollinaire. – 1984. – Série 2 No. 10 (avril – juin 1984). – P. 17–19.
Dirda 2004 Dirda, Michael. [Рецензия на: Justice, Donald. Selected Poems. NY.: A. Knopf, 2004] // The Washington Post. – 2004. – August 15. – P. BW15.
Dresse 1964 Dresse, Paul. Sur le monostique // Bulletin de l’Académie royale de langue et de littérature françaises (Belgique). – T. XLII (1964). – No. 1. – P. 74–75.
Dujardin 1894 Dujardin, Edouard. Avis // Laforgue J. Poésies complètes. – P., 1894. – P. V–IX.
Durry 1964 Durry, Marie Jeanne. Guillaume Apollinaire: Alcools. – P., 1964. – Vol. II. – 462 p.
Eppard, Monteiro 1983 Eppard, Philip B.; Monteiro, George. A Guide to the Atlantic Monthly Contributors’ club. – Boston, 1983. – 308 p.
Erhardt 2001 Erhardt, John. Sonnets Are Too Long: The Disembodied Fif– teenth Line / The Slope. – 2001. – No. 13. / 13_erhardt.html
Fedler 1992 Fedler, Stefan. Der Aphorismus: Ein Begriffspiel zwischen Philosophie und Poesie. – Stuttgart, 1992. – 229 S.
Fenton 1959 Fenton, Colin. Bibliographical Note / Hodgson, Ralph. The Skylark and Other Poems. – L., 1959. – P. 81–84.
Ferry 1999 Ferry, Anne. The Title to the Poem. – Stanford (CA), 1999. – 324 p.
Fongaro 1988 Fongaro, Antoine. Apollinaire poète: Exégèses et discussions, 1957–1987. – Toulouse, 1988. – 256 p.
Fricke 1984 Fricke, Harald. Aphorismus. – Stuttgart, 1984. – 168 S.
Fulton 1999 Fulton, Alice. Feeling as a foreign language: The good strangeness of poetry. – Minneapolis, 1999. – 309 p.
Gáldi 1964 Gáldi, László. Esquisse d’une histoire de la versification roumaine. – Budapest, 1964. – 163 p.
Gardner 2012 Gardner, William O. Japanese Modernism and «Cine-Text»: Fragments and Flows at Empire’s Edge in Kitagawa Fuyuhiko and Yokomitsu Riichi // The Oxford Handbook of Global Modernisms / Ed. by Mark Wollaeger with Matt Eatough. – Oxford, 2012. – P. 571–600.
Gasparov 2011 Gasparov, Boris. Poetry of the Silver Age // The Cambridge Companion to Twentieth-Century Russian Literature / Ed. by Evgeny Dobrenko & Marina Balina. – Cambridge, 2011. – P. 1–20.
Genette 1969 Genette, Gerard. Figures II. – P., 1969. – 293 p.
Genette 1987 Genette, Gerard. Seuils. – P., 1987. – 389 p.
George 2014 George, Jo. On Spirituality and Transcendence // Don Paterson: Contemporary Critical Essays / Ed. by Natalie Pollard. – Edinburgh, 2014. – P. 98–113.
Gilbert 2001 Gilbert, Roger. Awash with Angels: The Religious Turn in Nineties Poetry // Contemporary Literature. – Vol. 42, No. 2, Summer, 2001. – P. 238–269.
Goldmann 2007 Goldmann, Lucien. Structure: Human Reality and Methodological Concept // The Structuralist Controversy: The Languages of Criticism and the Sciences of Man / Ed. by Richard Macksey & Eugenio Donato. – Baltimore, 2007. – P. 98–109.
Golemba 1981 Golemba, Henry L. Frank R. Stockton. – Boston, 1981. – 182 p.
Grojnowski 1988 Grojnowski, Daniel. Jules Laforgue et l’«originalité». – Neuchatel, 1988. – 272 p.
Grumman 1997 Grumman, Bob. MNMLST POETRY: Unacclaimed but Flourishing // Light & Dust Anthology of Poetry / Ed. by Karl Young. /~grist/l&d/grumman/egrumn.htm
Gurga 1999 Gurga, Lee. Form and Experience of Haiku // Modern Haiku: An Independent Journal of Haiku and Haiku Studies. – Vol. XXX, No. 1. Winter – Spring, 1999. – P. 63–66.
Guyau 1884 Guyau, Jean-Marie. L’esthétique du vers moderne // Revue philosophique de la France et de l’étranger. – Vol. XVII, No. 3. Mars 1884. – P. 258–275.
Haire 1897 Haire, Elizabeth Cherry. The Monostich // The Editor: The Journal of Information for Literary Workers. – Vol. 5, No. 2. January 1897. – P. 40–41.
Hartman 1996 Hartman, Charles O. Free Verse: An Essay on Prosody. – Evanston (Illinois), 1996. – 199 p.
Hawkesworth 1976 Hawkesworth, E.C. [Celia]. The Potent Word: The Poetry of Branko Miljković. – The Slavonic and East European Review. – Vol. 54, No. 4 (Oct., 1976). – P. 527–537.
Henderson 1958 Henderson, Harold G. The Introduction To Haiku. – Garden City, 1958. – 192 p.
Henke 2005 Henke, Florian. Paysage urbain – espace mnémonique: La construction d’une mémoire de la littérature dans La forme d’une ville de Jacques Roubaud // Eidôlon: Cahiers du Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l’Imaginaire appliquées à la Littérature. – No. 68 (mars 2005). Paysages urbains de 1830 à nos jours / Réunis et présentées par G. Peylet & P. Kuon. – Bordeaux, 2005. – P. 425–436.
Higginson 1992 Higginson, William J. The Haiku Handbook: How to Write, Share and Teach Haiku. – Tokyo, 1992. – 331 p.
Higginson 1996 Higginson, William J. The Haiku Seasons: Poetry of the Natural World. – Tokyo, 1996. – 171 p.
Higginson 2004 Higginson, William J. From One-line Poems to One-line Haiku // Simply Haiku: An E-Journal of Haiku and Related Forms. – 2004. – Vol. 2, No. 5 (September – October).
Hirsch 2014 Hirsch, Edward. A Poet’s Glossary. – Boston, NY, 2014. – 736 p.
Hocquard 1995 Hocquard, Emmanuel. «Tout le monde se ressemble»: [Préface] // Tout le monde se ressemble: Une anthologie de poésie contemporaine. – P., 1995. – 139 p.
Hokenson 2007 Hokenson, Jan Walsh. Haiku as a Western Genre: Fellow Traveller of Modernism // Modernism / Ed. by Astradur Eysteinsson and Vivian Liska. – Amsterdam, 2007. – P. 693–714.
Holden 2008 Holden, Jonathan. The Fate of American Poetry. – Athens (Georgia), 2008. – 160 p.
Hollander 1975 Hollander, John. Vision and resonance: Two senses of poetic form. – NY, 1975. – 314 p.
Hollander 2014 Hollander, John. Rhyme’s Reason: A Guide to English Verse / 4th edition. – New Haven – L., 2014. – 168 p.
Huerta 2013 Huerta, David. Un solo verso // Revista de la Universidad de México. – Núm. 108 (Febr. 2013). – P. 95–96.
Huth 1993 Huth, Geof. [Questionnaire] // Core: A Symposium on Contemporary Visual Poetry / Ed. by John Byrum & Crag Hill. – Mentor (Ohio), 1993. – P. 75–77.
Ingold 1999 Ingold, Felix Philipp. «Nächtliche Zeile, bist all-ei-nee…»: Vorbemerkung des Herausgebers // Geballtes Schweigen: Zeitgenössische russische Einzeiler / Zusammengetragen, übersetzt und herausgegeben von F. Ph. Ingold. – StGallen, 1999. – S. 5–8.
Jackson 1963 Jackson, Richard Lawson. The Gregueria of Ramon Gomez de la Serna: A Study of the Genesis, Composition and Significance of a New Literary Genre. Dissertation… for the Degree Doctor of Philosophy in… The Ohio State University. – Columbus (Ohio), 1963. – 154 p.
Janecek 1986 Janecek, Gerald. A Zaum’ Classification // Canadian-American Slavic Studies. – 1986. – Vol. 20, No. 1–2. – P. 37–54.
Janecek 1992 Janecek, Gerald. Minimalism in Contemporary Russian Poetry… // The Slavonic and East European Review. – Vol. 70, No. 3. July 1992. – P. 401–419.
Janecek 1996a Janecek, Gerald. Zaum’: The Transrational Poetry of Russian Futurism. – San Diego, 1996. – 426 p.
Janecek 1996b Janecek, Gerald. The Poetics of Punctuation in Gennadij Ajgi’s Free Verse // The Slavic and East European Journal. – Vol. 40, No. 2. 1996. – P. 297–308.
Jensen 1983 Jensen, Kjeld Bjørnager. La poetica del lettore (La poetica «zaum’» dei futuristi russi) // Il verri. – 1983. – No. 29/30. – P. 7–14.
Joubert 2010 Joubert, Jean-Louis. La poésie / 4e édition. – P., 2010. – 223 p.
Jouet 1996 Jouet, Jacques. Le monostique d’Alcools // Magazine littéraire. – No. 348, novembre 1996. – P. 42–45.
Jouet 2004 Jouet, Jacques. Du monostique. – P., 2004. – 19 p. (La Bibliothèque Oulipienne)
Juvan 2009 Juvan, Marko. History and Poetics of Intertexuality / Tr. from Slovenian. – West Lafayette (Indiana), 2009. – 216 p.
Kacian 2012 Kacian, Jim. The Shape of Things to Come // Modern Haiku. – Vol. 43, No. 3 (2012). – P. 23–47.
Kalve, Stikāne 2011 Kalve, Aija; Stikāne, Ilze. Literatūra 8. klasei. Spēle: Mācību līdzeklis skolēnam. – Rīga, 2011. – 96 lpp.
Kaun 1914 Kaun, Alexander. Futurism and Pseudo-Futurism // The Little Review. – Vol. 1, No. 4, 1914. – P. 12–19.
Kaun 1941 Kaun, Alexander. Russian Poetic Trends on the Eve of and the Morning after 1917 // The Slavonic Year-Book. American Series. – Vol. 1, 1941. – P. 55–84.
Killingsworth 2007 Killingsworth, M. Jimmie. The Visionary and the Visual in Whitman’s Poetics // Leaves of grass: The sesquicentennial essays / Ed. by S. Belasco, Ed Folsom, K.M. Price. – Lincoln (Nebraska), 2007. – P. 269–281.
Kirkup 1971 Kirkup, James. The Monostich: A Tentative Study of One-Line Poems // Kirkup J. Transmental Vibrations. – L., 1971. – P. 5–9.
Kleinin 2008 Kleinin, Emily. M.L. Gasparov and the definition of verse // The Slavic and East European Journal. – Vol. 52, No. 2 (2008). – P. 208–222.
Klimovicz 1989 Klimovicz T. Wokół wiersza Briusowa «O, zakroj swoi blednyje nogi» // Slavica Wratislaviensia. – 1989. – Vol. 50 (Acta Universitatis Wratislaviensis, Vol. 1039). – S. 55–66.
Koch 1966 Koch, Walter A. Recurrence and a three-modal approach to poetry. – The Hague. – P., 1966. – 57 p.
Kolchinsky 2001 Kolchinsky, Irene. «It Was Truly Modern Poetry That Was Needed Like Oxygen…»: The Moscow Conceptualists and Nikolaj Glazkov // Russian Literature. – Volume 50, Issue 1 (2001). – P. 89–102.
Kostelanetz 2001 Kostelanetz, Richard. A Dictionary of the Avant-Gardes. 2nd edition. – L.; NY., 2001. – 736 p.
Krier 1996 Krier, Yves. Cinq créations musicales sur «Chantre» – Processus et réflexions // Que vlo-ve?: Bulletin de l’Association internationale des amis de Guillaume Apollinaire. – 1984. – Série 3. No. 24 (octobre – décembre 1996). – P. 106–118.
Krupat 1989 Krupat, Arnold. The Voice in the Margin: Native American Literature and the Canon. – Berkeley; LA; Oxford, 1989. – 259 p.
Kukulin 2010 Kukulin, Ilya. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry // The Russian Review. – No. 69 (October 2010). – P. 585–614.
Kursīte 1985 Kursīte, Janīna. Daži Raiņa dzejas poētikas aspekti // Raiņa gadagrāmata. – Rīga, 1985. – Lpp. 66–93.
Kursīte 1988 Kursīte, Janīna. Latviešu dzejas versifikācija 20. gs. sākumā, 1900–1919. – Rīga, 1988. – 252 lpp.
Kursīte 1996 Kursīte, Janīna. Raiņa dzejas poētika. – Rīga, 1996. – 252 lpp.
Kursīte 2002 Kursīte, Janīna. Dzejas vārdnīca. – Rīga, 2002. – 486 lpp.
LaFleur 1983 LaFleur, William R. Marginalia: The Expanse and the Limits of a New Anthology // Monumenta Nipponica. – Vol. 38, No. 2 (Summer 1983). – P. 191–205.
Laget 2012 Laget, Laurie-Anne. La fabrique de l’écrivain: Les premières greguerías de Ramón Gómez de la Serna (1910–1923). – Madrid, 2012. – 460 p.
Lahlou 1989 Lahlou, Naguib. The poetics of titles: further discriminations // PALA Occasional Papers. – No. 2 (1989).
Lăsconi 2013 Lăsconi, Elisabeta. Florile poeziei: parfum şi esenţe // Viaţa românească. – An. 108. – Nr. 11/12 (nov. – dec. 2013). – P. 64–72.
Lewes 1845 Lewes, George Henry. Lessing // The Edinburgh Review. – No. 82 (October 1845). – P. 451–470.
Litovkina, Mieder 2006 Litovkina, Anna T.; Mieder, Wolfgang. Old Proverbs Never Die, They Just Diversify: A Collection of Anti-proverbs. – Burlington (Vermont), 2006. – 396 p.
Livi 2003 Livi, François. Ungaretti et le français: la langue de l’avant-garde? // De Marco Polo à Savinio: écrivains italiens en langue française / Etudes Réunis par F. Livi. – P., 2003. – P. 137–154.
Lovinescu 1927 Lovinescu, Eugeniu. Istoria literaturii române contemporane. – București, 1927. – Vol. III: Evoluţia poeziei lirice. – 464 p.
MacLeod 1983 MacLeod, Glen G. Wallace Stevens and company: the Harmonium years, 1913–1923. – Ann Arbor, 1983. – 119 p.
Maiorino 2008 Maiorino, Giancarlo. First Pages: A Poetics of Titles. – University Park, 2008. – 362 p.
Mario 1991 Mario, Luis. Ciencia y arte del verso castellano. – Miami, 1991. – 512 p.
Masing-Delic 1987 Masing-Delic, Irene. «The Chickens Also Want to Live»: A Motif in Zabolockij’s Columns. – The Slavic and East European Journal. – Vol. 31, No. 3, Autumn, 1987. – P. 356–369.
Matsuo-Allard 1977 Matsuo-Allard, Clarence. Haiku: The original one-line poem // Cicada (Toronto). – 1977. – Vol. 1, No. 4. – P. 31–32.
McFee 2008 McFee, Michael. One-Line Poems: The Smallest Talk // The Writer’s Chronicle. – Vol. 40. – No. 4 (February 2008). – P. 66–68.
Meschonnic 1982 Meschonnic, Henri. Critique du Rythme: Anthropologie historique du langage. – Lagrasse, 1982. – 732 p.
Meyer 1996 Meyer, Bernard. Sur les derniers vers: Douze lectures de Rimbaud. – P., 1996. – 299 p.
Mezzacappa 1970 Mezzacappa, Carmine Anthony. Noia e inquietudine nella Vita d’un uomo di Giuseppe Ungaretti. – Padova, 1970. – 352 p.
Mingelgrün 1981 Mingelgrün, Albert. Jalons pour une analyse des «152 proverbes» d’Éluard et de Péret // Revue belge de philologie et d’histoire. – 1981. – No. 59–3. – P. 574–584.
Miranda 2004 Miranda, Ricardo. Fiesta – lírica – en casa de Rolón // Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. – Vol. 26. – No. 84 (mar. 2004). – P. 93–117.
Moga 2007 Moga, Еduardo. Poemas «uni-versales» // El Ciervo: Revista mensual di pensamiento y cultura. – No. 673 (Abril 2007). – P. 48–50.
Möller 1988 Möller, Peter Ulf. Postlude to The Kreutzer Sonata: Tolstoj and the Debate on Sexual Morality in Russian Literature in the 1890s. – Leiden, 1988. – 346 p.
Moore 2009 Moore, Fabienne. Prose Poems of the French Enlightenment: Delimiting Genre. – Farnham (UK), 2009. – 313 p.
Morse 1970 Morse, Samuel French. Wallace Stevens: Poetry as Life. – NY., 1970. – 232 p.
Naas 2008 Naas, Michael. Lifelines // Naas M. Derrida From Now On – NY., 2008. – P. 213–226.
Nänny 1985 Nänny, Max. Iconic dimensions in poetry // SPELL: Swiss papers in English language and literature / Ed. by R. Waswo. – Bd. 2. – Tübingen, 1985. – P. 111–135.
Nilsson 1970 Nilsson, Nils Åke. Vasilisk Gnedov’s One-Letter Poems // [Gorski Vijenats]: A Garland of Essays Offered to Professor Elizabeth Mary Hill / Ed. R. Auty et al. – Leeds, 1970. – P. 220–223.
Nisbet 2008 Nisbet, Hugh Barr. Lessing: Eine Biographie. – München, 2008. – 1024 S.
Pardo 2004 Pardo, Arcadio. Verso aislado, verso solo, verso-poema // Rhythmica: revista española de métrica comparada. – 2004. – No. 2. – P. 201–233.
Pattee 1915 Pattee, Fred Lewis. A history of American literature since 1870. – NY., 1915. – 438 p.
Pavličić 1993 Pavličić, Pavao. Stih i značenje. – Zagreb, 1993. – 187 s.
Pen & Plow 1874 Pen & Plow (pseud.). On «Doctor Watts» // The American Bibliopolist. – Vol. 6, No. 69–70 (September – October 1874). – P. 127–128.
Perelman 1996 Perelman, Bob. The Marginalization of Poetry: Language, Writing and Literary History. – Princeton, 1996. – 187 p.
Perkins 1979 Perkins, David. A History of Modern Poetry. Vol. I: From the 1890s to the High Modernist Mode. – Cambridge (Massachussets), 1979. – 640 p.
Pillat 1936 [De la Ion Pillat] // Adevărul literar şi artistic. – Anul XV (1936). – Nr. 808 (31 mai). – P. 7.
Pinsky 1976 Pinsky, Robert. The Situation of Poetry: Contemporary Poetry and Its Traditions. – Princeton, 1976. – 200 p.
Pommier 1975 Pommier, René. Un vers solitaire très sollicité // Raison Présente. – 1975. – No. 33 (janv. – févr. – mars). – P. 79–95.
Poupon 1976 Poupon, Marc. Un parangon de poésie apollinarienne, «Chantre» // Cahiers Guillaume Apollinaire. – 1976. – No. 13. – P. 119–124.
Pozner 1929 Pozner, Vladimir. Panorama de la littérature russe contemporaine. – P., 1929. – 368 p.
Prater 2004 David Prater interviews Ian McBryde // Cordite Poetry Review, 2004, issue 19. – -mcbryde/
Proffer 1968 Proffer, Carl R. Keys to Lolita. – Bloomington, 1968. – 160 p.
Pyman 1994 Pyman, Avril. A History of Russian Symbolism. – Cambridge, 1994. – 481 p.
Raitt 1954 Raitt, Alan W. The last days of Villiers de l’Isle-Adam. – French Studies. – Vol. VIII. – No. 3 (1954). – P. 233–249.
Read 1995 Read, Peter. Apollinaire et Valery Brussov // Amis européens d’Apollinaire: 16e Colloque de Stavelot, 1–3 sept. 1993 / Sous la direction de M. Décaudin. – P., 1995. – P. 186–197.
Richard 1967 Richard, Élie. Introduction à la poésie humaine; Notes // Lochac E. Au pas feutré du songe: Choix de vers et de prose. – P., 1967. – P. 9–12, 235–238.
Romains, Chennevière 1923 Romains, Jules; Chennevière, Georges. Petit traité de versification. – P., 1923. – 143 p.
Romojaro 2008 Romojaro, Rosa. La poesía de Manuel Altolaguirre: Contexto. Claves de su poética. Recepción. – Madrid, 2008. – 288 p.
Ross 2002 Ross, Bruce. How To Haiku: A Writer’s Guide To Haiku And Related Forms. – Boston, 2002. – 167 p.
Rouveyre 1955 Rouveyre, André. Amour et poésie d’Apollinaire. – P., 1955. – 250 p.
Ruiz Abreu 2000 Ruiz Abreu, Alvaro. Gorostiza y Pellicer: poetas de la soledad // Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid 6–11 de julio de 1998. – Madrid, 2000. – P. 403–410.
Saito 1962 Saito, Takeshi. Ralph Hodgson in Japan // Japan Quarterly. – 1962. – Vol. 9. – No. 2. – P. 152–159.
Sato 1987 Sato, Hiroaki. Lineation of Tanka in English Translation // Monumenta Nipponica. – Vol. 42, No. 3 (Autumn 1987). – P. 347–356.
Sauder 1982 Sauder, Gerhard. Kulka, Georg // Neue Deutsche Biographie. – Bd. 13 (1982). – S. 276.
Seidel 1998 Seidel, Michael. Running Titles // Second Thoughts: A Focus on Rereading / Ed. by D. Galef. – Detroit, 1998. – P. 34–50.
Sereni 1971 Sereni, Vittorio. Sur «Feuillets d’Hypnos» // René Char / Dirigé par D. Fourcade. – P., 1971. – P. 45–49.
Sherbo 1994 Sherbo, Arthur. Last Gleanings from The Critic: Clemens, Whitman, Hardy Thackeray, and Others // Studies in Bibliography. – Vol. 47. – Charlottesville (Virginia), 1994. – P. 212–221.
Shoptaw 1994 Shoptaw, John. On the Outside Looking Out: John Ashbery’s Poetry. – Cambridge (Massachussets), 1994. – 386 p.
Simion 2002 Simion, Eugen. Scriitori români de azi. – București; Chișinău, 2002. – Vol. 2. – 311 p.
Simonomis 1994 Simonomis (Simon, Jacques). Emmanuel Lochac, ou La tranquillité du paradoxe // Emmanuel Lochac, ses visages et leurs énigmes / Sous la direction de Jacques Arnold. – P., 1994. – P. 88–95.
Sobejano 1976 Sobejano, Gonzalo. La verdad en la poesía de Antonio Machado: de la rima al proverbio // Journal of Spanish Studies: Twentieth Century. – Vol. 4. – No. 1, Antonio Machado (Spring 1976). – P. 47–73.
Spicker 1997 Spicker, Friedemann. Der Aphorismus: Begriff und Gattung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1912. – B., 1997. – 484 S.
Stockton 1893 Real Conversations – III. A Dialogue between Frank R. Stockton and Edith M. Thomas. – McClures’s Magazine. – 1893. – Vol. I, No. 6 (November). – P. 467–477.
Stremooukhoff 1955 Stremooukhoff, Dimitri. Échos du symbolisme français dans le symbolisme russe // Autour du symbolisme: Villiers, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud / Études réunis par P. – G. Castex. – Lille; P., 1955. – P. 297–319.
Tabios 2010 Tabios, Eileen. ntst: the collected pwoermds of Geof Huth // Galatea Resurrects (A Poetry Engagement): On-line magazine. – No. 14 (30.10.2010). – -collected-pwoermds-of-geof-huth.html
Tisseur 1893 Tisseur, Clair. Modestes observations sur l’art de versifier. – Lyon, 1893. – 355 p.
Tortel 1986 Tortel, Jean. Le monostiche // Action Poétique. – No. 105. – P., 1986. – P. 2–3.
Trubeckoj 1985 Trubeckoj, Nikolaj S. N.S. Trubetzkoy’s Letters and Notes / Prepared for publication by Roman Jacobson. – 2 Aufl. – B.; NY.; Amsterdam, 1985. – 509 S.
van den Heuvel 1999 van den Heuvel, Cor. Preface to the Second Edition // The Haiku Anthology / Ed. by C. van den Heuvel. – 3rd ed. – NY.; L., 1999. – P. I–XVIII.
Vasiliu, Steiciuc 1989 Vasiliu, Florin; Steiciuc, Brîndușa. Interferențe lirice: Constelația haiku. – Cluj-Napoca, 1989. – 290 p.
Vela 1949 Vela, Arqueles. Teoría literaria del modernismo: su filosofía, su estética, su técnica. – Mexico, 1949. – 367 p.
Vendler 2001 Vendler, Helen. Matter on Various Length: Poetry // Proceedings of the American Philosophical Society. – Vol. 145, No. 4. December 2001. – P. 389–401.
Violante Picon 1998 Violante Picon, Isabel. Une œuvre originale de poésie: Giuseppe Ungaretti traducteur. – P., 1998. – 348 p.
Vroon 2002 Vroon, Ronald. Max Nordau and the Origins of Russian Decadence: Some Preliminary Observations // Sine arte, nihil. Сборник научных трудов в дар профессору Миливое Йовановичу / Сост. К. Ичин. – М.; Белград, 2002. – С. 85–100.
Wanner 2003 Wanner, Adrian. Russian minimalism. From the Prose Poem to the Anti-Story. – Evanston (Illinois), 2003. – 216 p.
Watkin 2000 Watkin, William. Poetry Machines: Repetition in the Early Poetry of Kenneth Koch // EnterText: An interactive interdisciplinary e-journal for cultural and historical studies and creative work. – Vol. 1, No. 1 (Winter 2000). – P. 83–117. -Watkin, – Poetry-Machines-Repetition-in-the-Early-Poetry-of-Kenneth-Koch.pdf
Watson 2000 Watson, Roderick. Haiku and Epigrams // Atoms of Delight: An anthology of Scottish haiku and short poems / Ed. by Alec Finlay. – Edinburgh, 2000. – P. 192–193.
Watten 1984 Watten, Barrett. Robert Grenier, Sentences // The L=A=N=G=U=A=G=E Book / Ed. by Bruce Andrews & Charles Bernstein. – Carbondale (Illinois), 1984. – P. 245–247.
Weinberger 1992 Weinberger, Eliot. Paz in Asia // Weinberger E. Outside Stories, 1987–1991. – NY., 1992. – 177 p.
Wellek, Warren 1949 Wellek, René; Warren, Austin. Theory of literature. – NY, 1949. – 374 p.
Weller 2009 Weller, Shane. The Anethics of Desire: Beckett, Racine, Sade // Beckett and Ethics / Ed. by Russell Smith. – NY; L., 2009. – P. 102–117.
Wescoat 2005 Wescoat, Michael. English nonsyllabic auxiliary contractions: an analysis in LFG with lexical sharing // Proceedings of the LFG05 Conference / Ed. by Miriam Butt and Tracy Holloway King. – Stanford, 2005. – P. 468–486.
Wilson 1993 Wilson, Colin. The strange life of P.D. Ouspensky. – L., 1993. – 143 p.
Wilson 2008 Wilson, Jason. A Companion to Pablo Neruda: Evaluating Neruda’s Poetry. – Woodbridge (UK), 2008. – 255 p.
Wise 2002 Wise, Pyra. Une source négligée de la boutade de Gautier sur Racine // Bulletin d’informations proustiennes. – No. 32, 2001/2002. – P. 9–21.
Wroe 2006 Wroe, Nicholas. Leading light // The Guardian. – 2006. – November 25.
Wysłouch 1994 Wysłouch, Seweryna. Literatura a sztuki wizualne. – Warszawa, 1994. – 217 s.
Zabel 1931 Zabel, Morton Dauwen. A Poetry of Ideas: The Proof, by Yvor Winters. – Poetry. – Vol. 37. – No. 4 (January, 1931). – P. 225–230.
Zaid 1987 Zaid, Gabriel. Leer poesía. – México, 1987. – 214 p.
Zenith 1999 Zenith, Richard. Introdução // Pessoa F. Livro do Desassossego / Organização Richard Zenith. – São Paulo, 1999. – P. 13–36.
Ziéglé 1971 Ziéglé, Henri. A propos de Chantre d’Apollinaire. – Revue des Sciences Humaines. – 1971. – Octobre-décembre. – P. 627–629.
2. Литературные источники
Авалиани 1995 Авалиани Д.Е. Пламя в пурге. – М., 1995. – 20 с.
Авалиани 2011 Авалиани Д.Е. Дивносинее сновидение. – М., 2011. – 96 с.
Азарова 2011 Азарова Н.М. Соло равенства. – М., 2011. – 275 с.
Азимов 1992 Азимов О.Э. Предбудущее. – Смоленск, 1992. 64 с.
Айги 1991 Айги Г.Н. Здесь: Избранные стихотворения. 1954–1988. – М., 1991. – 287 с.
Айги 1992 Айги Г.Н. Теперь всегда снега: Стихи разных лет. – М., 1992. – 320 с.
Айги 1993 Айги Г.Н. Im Garten Schnee – Снег в саду / Aus dem Russ. von F. Ph. Ingold. – B., 1993. – 87 S.
Айги 1997 Айги Г.Н. Тетрадь Вероники: Первое полугодие дочери. – М., 1997. – 112 с.
Айги 1998 Айги Г.Н. Друг этих лет. – [Чебоксары], 1998. – 32 с.
Айги 2001 Айги Г.Н. Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. – СПб., 2001. – 304 с.
Айги 2008 Айги Г.Н. Стихотворения / Сост. Г.М. Натапова. – М., 2008. – 424 с.
Айдарова 1999 Айдарова М. Лёвушка: Открытое письмо Л. Новожёнову // Дуэль: Газета борьбы общественных идей. – 1999. – 14 сентября.
Алдарова 1988 Алдарова М.А. Отсрочьте суд! Стихи. – М., 1988. – 208 с.
Алдарова 1991 Алдарова М.А. Светотень: Стихи / Предисл. З.А. Шаховской // Молодая гвардия. – 1991. – № 1. – С. 210–212.
Александров 1992 Александров А.А. Дикая мята. – Челябинск, 1992.
Алёхин 1994 Алёхин А.Д. Вопреки предвещаниям птиц. – М., 1994. – 157 с.
Альчук 2005 Альчук А.М. не БУ: Стихи 2000–2004 гг. – М., 2005. – 50 с.
Андрукович 2014 Андрукович П.П. Вместо этого мира. – М., 2014. – 200 с.
Аполлинер 2005 Аполлинер Г. Алкоголи. – М., 2005. – 352 с.
Арабов 2006 Арабов Ю.Н. Флагелланты: Роман. – М., 2006. – 320 с.
АРВ 1991 Антология русского верлибра / Сост. К.Э. Джангиров. – М., 1991. – 752 с.
Аронзон 2006 Аронзон Л.Л. Собрание произведений: В 2 т. / Сост. и подг. текста П.А. Казарновского, И.С. Кукуя, В.И. Эрля. – СПб., 2006. – Т. I. 560 с.; Т. II. 326 с.
АРП 2000 Антология русского палиндрома XX века / Сост. В.Н. Рыбинский. – М., 2000. – 192 с.
Арфеев 1992 Арфеев А.К. Небесный рыбак: Стихотворения. Кн. первая. – Тамбов, 1992. – 155 с.
Ахматова 1976 Ахматова А.А. Стихотворения и поэмы / Сост., подготовка текста и примечания В.М. Жирмунского. – Л., 1976. – 560 с.
Ахматова 1990 Ахматова А.А. Сочинения: В 2 т. / Сост., подготовка текста и примечания М.М. Кралина. – М., 1990. – Т. 2. – 432 с.
Ахматова 1996 Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / Сост. и подготовка текста К.Н. Суворовой. – М.; Torino, 1996. – 849 с.
Ахматова 1999 Ахматова А.А. Собрание сочинений: В 6 т. / Сост., подготовка текста и примечания Н.В. Королёвой. – М., 1999. – Т. 2. – Ч. I. 640 с.; Ч. II. 528 с.
Ахметьев 1993 Ахметьев И.А. Стихи и только стихи: Избранные стихотворения 1968–1992. – М., 1993. – 96 с.
Ахметьев 2001a Ахметьев И.А. Девять лет: 1992–2001. – М., 2001. – 80 с.
Ахметьев 2001b Ахметьев И.А. Вот до чего дожил. – Новый мир. – 2001. – № 5. С. 115–117.
Ахметьев 2014 Ахметьев И.А. Моностихи. – Воздух. – 2014. – № 1. – С. 146–147.
Бальмонт 1920 Бальмонт К.Д. Перстень. – М., 1920. 64 с.
Бахчанян 2005 Бахчанян В. Вишнёвый ад и другие пьесы. – М., 2005. – 424 с.
Безродный 1996 Безродный М.Ю. Конец цитаты. – СПб., 1996. – 158 с.
Белый квадрат 1992 [Джангиров К., Тюрин А.] Белый квадрат. II. – М., 1992. – 160 с.
Беньяминов 2009 Беньяминов С. На первой ступени // Дети Ра. – 2009. – № 9. – С. 51–53.
Берберова 1999 Берберова Н.Н. Александр Блок и его время. – М., 1999. – 254 с.
Береговская 1998 Береговская Э.М. Одной фразой: Французские стихи, афоризмы, карикатуры / Пер. М. Яснов. – Тула, 1998. – 87, 105 с. встреч. паг.
Блок 1930 Записные книжки Александра Блока / Ред. П.Н. Медведев. – Л., 1930. – 250 с.
Блок 1978 Блок А.А. Письма к жене / Комм. Вл. Орлова. – М., 1978. – 416 с.
Бобырев 2010 Бобырев И.И. Из сборника «Зачем писать больше» // Антиподы: Второй австралийский фестиваль русской традиционной и экспериментальной литературы / Ред. Т. Бонч-Осмоловская. – Сидней, 2010. – С. 122–124.
Бобышев 2003 Бобышев Д.В. Я здесь: Человекотекст. – М., 2003. – 399 с.
Бонифаций 1997 Бонифаций. Стихи. – СПб., 1997. – 44 с.
Брайнин 1991 Брайнин Б. Новое в жанре пародии // Литературная газета. – 1991. – 3 июля. – С. 16.
Брюсов 1913 Брюсов В.Я. Полное собрание сочинений и переводов. – Т. 1. Юношеские стихотворения. Chefs d’oeuvre. Me eum esse. Стихи 1892–1899 гг. – СПб., 1913. – 270 с.
Брюсов 1927 ГАХН. Тексты и материалы. Вып. 3: Письма В.Я. Брюсова П.П. Перцову (1894–1896 гг.). – М., 1927. – 81 с.
Брюсов 1935 Брюсов В.Я. Неизданные стихотворения / Сост. А. Тер-Мартиросян. – М., 1935. – 541 с.
Брюсов 1973 Брюсов В.Я. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. – М., 1973. – 670 с.
Брюсов 1974 Брюсов В.Я. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. – М., 1974. – 694 с.
Брюсов 1991 Брюсов В.Я. Письма из рабочих тетрадей / Публ. С.И. Гиндина // Валерий Брюсов и его корреспонденты: Кн. первая / Отв. ред. Н.А. Трифонов. – М., 1991. – С. 555–828. – (Лит. наследство, т. 98)
Брюсов 1994 Зарубежная поэзия в переводах Валерия Брюсова / Cост. и комм. С.И. Гиндина. – М., 1994. – 896 с.
Булгакова 2009 Булгакова Н.С. Автобиография // Сайт «Школьный клуб», -club.ru/literature/index.asp?sp=6&info=8132
Бунимович 1992 Бунимович Е.А. Потому что живу. – М., 1992. – 80 с.
Бунин 1967 Бунин И.А. Автобиографическая заметка // Бунин И.А. Собрание сочинений: В 9 т. – Т. 9. – М., 1967. – С. 253–266.
Буренин 1901 Граф Алексис-Жасминов [Буренин В.П.] Новый талант, а может быть<,> даже и гений // Новое время. – 1901. – 4 мая. – С. 2.
Бурич 1989 Бурич В.П. Тексты. – М., 1989. – 176 с.
Бурич 1995 Бурич В.П. Тексты: Книга вторая. – М., 1995. – 352 с.
Буркин 1992 Буркин И.А. Луна над Сан-Франциско. – СПб., 1992. – 64 с.
Бурлюк 1930 Бурлюк Д.Д. Энтелехизм: Теория, критика, стихи, картины. – NY, 1930. – 24 с.
Бурлюк 1932 Бурлюк Д.Д. 1/2 века. – NY, 1932. – 18 с.
Вайнштейн 1994 Вайнштейн А.Л. Комментарий. – М., 1994. – 171 с.
Введенский 1993 Введенский А.И. Полное собрание произведений: В 2 т. Т. 2. Произведения 1938–1941. Приложения. – М., 1993. – 268 с.
Верле 2014 Верле А. Неполные собрания строчек // Воздух. – 2014. – № 2–3. – С. 203–211.
Верлен 2000 Верлен П. Стихотворения в переводе Александра Ревича // Антология мировой поэзии. – 2000. – № 8. – С. 77–102.
Вермель 1916 Вермель С. Из цикла «Tristia» // Московские мастера: Журнал искусств. Весна 1916. – М., [1916].
Вертинский 1990 Вертинский А.Н. Дорогой длинною…: Стихи, песни, рассказы, зарисовки, размышления, письма. – М., 1990. – 572 c.
Виноградов 1999a Виноградов Л.А. Чистые стихи. – М., 1999. – 32 с.
Виноградов 1999b Виноградов Л.А. Стихи с пятнышком. – М., 1999. – 32 с.
Виноградов 1999c Виноградов Л.А. Холодные стихи. – М., 1999. – 32 с.
Виноградов 2001 Виноградов Л.А. Горизонтальные стихи. – М.; Тверь, 2001. – 40 с.
Виноградов 2003 Виноградов Л.А. Потешные стихи. – М., 2003. – 72 с.
Вишневский 1987 Вишневский В.П. Поцелуй из первых уст. – М., 1987. – 46 с.
Вишневский 1988 Вишневский В.П. Подписка о взаимности. – М., 1988. – 119 с.
Вишневский 1989 Вишневский В.П. Московская прописка. – М., 1989. – 127 с.
Вишневский 1991 Вишневский В.П. В отличие от себя, или ДвоЯкорь. – М., 1991. – 47 с.
Вишневский 1992 Вишневский В.П. Спасибо мне, что есть я у тебя. – М., 1992. – 318 с.
Вишневский 1997 Вишневский В.П. Пусть улыбнется едущий за мной! [Интервью] // Автолайн: Массовая бесплатная газета. – № 10 (1997). – С. 12.
Вишневский 1998 Вишневский В.П. Вишневский в супере. – М., 1998. – 304 с.
Вишневский 2001 Вишневский В.П. [Без названия]. – М., 2001. – 640 с. – (Антология сатиры и юмора России XX в., том 13.)
Вознесенская 1979 Вознесенская Ю. Записки из рукава // Поиски: Свободный московский журнал. – Нью-Йорк, 1979. – № 1. – С. 149–206.
Вознесенский 1984 Вознесенский А.А. Собрание сочинений: В 3 т. – Т. 3. – М., 1984. – 494 с.
Вознесенский 1991 Вознесенский А.А. Аксиома самоиска. – [М.], 1991. – 561 с.
Вознесенский 2006 Вознесенский А.А. СтиXXI. – М., 2006. – 248 с.
Волохонский 1984 Волохонский А.Г. Тетрадь Игрейны. – Иерусалим, 1984. – 49 с.
Волохонский 1986 Волохонский А.Г. Шкура бубна. – Иерусалим, 1986. – 53 с.
Волохонский 2012 Волохонский А.Г. Собрание произведений: В 3 т. / Сост. и подг. текста И. Кукуя. – М., 2012. – Т. 1. – 616 с.
Волошин 1984 Волошин М. Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Общ. ред. Б.А. Филиппова, Г.П. Струве и Н.А. Струве при участии А.Н. Тюрина. – Т. 2. – Париж, 1984. – 589 с.
Волошин 1989 Волошин М. Лики творчества. – Л., 1989. – 848 с.
Волошин 2004 Волошин М. Собрание сочинений / Под ред. В.П. Купченко и А.В. Лаврова. – М., 2004. – Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1891–1931. – 766 с.
Вчера, сегодня, завтра 1997 VII Московский фестиваль свободного стиха. Вчера, сегодня, завтра русского верлибра: Стихи участников фестиваля. – М., 1997. – 20 с.
Вяземский 1994 Вяземский П.А. Письма к К.Н. Батюшкову / Публ. В.А. Кошелева // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли / Отв. ред. К.Н. Григорян. – СПб., 1994. – С. 118–142.
Габриель 2009 Габриель А. Дай Бог // Дети Ра. – 2009. – № 9. – С. 55–56.
Гаммер 2009 Гаммер Е. Одностишки на подвижке // Дети Ра. – 2009. – № 9. – С. 45.
Гатов 1939 Гатов А.Б. Из цикла «Париж» // Октябрь. – 1939. – № 5–6. – С. 44–45.
Герцик 2012 Герцик В.М. Свободу небосводу! // Футурум АРТ. – 2012. – № 4 (33).
Гецевич 1993 Гецевич Г. [Стихи] // Юность. – 1993. – № 1. – С. 37–38.
Глазков 1989 Глазков Н.И. Избранное / Сост. и подг. текста Е. Евтушенко и Н. Старшинова. – М., 1989. – 540 с.
Глазков 2007 Глазков Н.И. Хихимора. – М., 2007. – 536 с.
Гнедич 1832 Гнедич Н.И. Стихотворения. – СПб., 1832. – 365+VIII с.
Гнедов 1913a Гнедов В. Смерть искусству!: Пятнадцать (15) поэм. – СПб., 1913. – 16 с.
Гнедов 1913b Гнедов В. [Стихотворения] // Небокопы. Эго-Футуристы VIII. – СПб., 1913. – С. 1–5.
Гнедов 1989 Гнедов В. Стихотворения / Публикация и предисловие Г.Н. Айги // В мире книг. – 1989. – № 2. – С. 31.
Гнедов 1990 Гнедов В. Поэма конца / Подготовка текста и публикация М.И. Шапира и Л.Ф. Кациса // Даугава. – 1990. – № 10. – С. 105.
Гнедов 1992 Гнедов В. Собрание стихотворений / Под ред. Н. Харджиева и М. Марцадури; Вст. статья, подготовка текста и комм. С.В. Сигея. – Тренто, 1992. – 210 с.
Гнедов 1994 Гнедов В. Смерть искусству!: Пятнадцать (15) поэм // Ковчег (Киев). – 1994. – № 10. – <С. 6>.
Гнедов 1996 Гнедов В. Смерть искусству!: Пятнадцать (15) поэм / Подготовка текста и комм. Д.В. Кузьмина. – М., 1996. – 24 c.
Гнедов 2003 Гнедов В. Крючком до неба / В иллюстрах <sic!> и комментариях С. Сигея. – Madrid, 2003. – 130 c.
Гомес де ла Серна 1983 Гомес де ла Серна Р. Избранное / Сост. Н.Л. Малиновской. – М., 1983. – 383 с.
Гончарова 2000 Гончарова Н.Г. «Фаты либелей» Анны Ахматовой. – М., 2000. – 677 с.
Гребенщиков 2007 Гребенщиков Б. Книга песен. – М., 2007. – 639 с.
Гринберг 1979 Гринберг С. Московские дневниковинки. – Иерусалим, 1979. – 128 с.
Гринберг 1997 Гринберг С. Осения. – М., 1997. – 157 с.
Гуль 1991 Гуль Р. Азеф: Исторический роман. – М., 1991. – 318 с.
Гуро 1909 Гуро Е.Г. Шарманка: Пьеса. Стихи. Проза. – СПб., 1909. – 231 с.
Гуро 1912 Гуро Е.Г. Осенний сон. – СПб., 1912. – 60 с.
Гуро 1914 Гуро Е.Г. Небесные верблюжата. – СПб., 1914. – 126 с.
Гуро 1995 Guro, Elena. Selected Writings from the Archives / Ed. by A. Ljunggren and N. Gourianova. – Stockholm, 1995 (Acta Universitatis Stockholmiensis). – 132 p.
Гусейнов 2009 Гусейнов Ч. Memor-портреты. – Знамя. – 2009. – № 2. – С. 143–152.
Данильянц 2012 Данильянц Т. Красный шум: Стихи разных лет. 2004–2011. – М., 2012. – 96 с.
Державин 1866 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. – СПб., 1866. – Т. III. – 784+XXIII с.
Джангиров 1994 Джангиров К.Э. Осенний Волк: Книга Тихотворений. – М., 1994. – 159 с.
Добрушина 1996 Добрушина И. Колючий куст: Стихи, рассказы 1968–1994. – М., 1996. – 88 с.
Дэбiш 1999 Дэбіш А.І. Усё гэтак проста: Імгненныя ўражанні // Крыніца. – 1999. – № 9. – С. 184–189.
Ерошин 2012 Ерошин В. Лето. Парк танкеток. – М., 2012. – 142 с.
Жданов 1990 Жданов И.Ф. Неразменное небо. – М., 1990. – 71 с.
Жданов 1991 Жданов И.Ф. Место Земли. – М., 1991. – 112 с.
Жуков 2007 Жуков И. Язык Пантагрюэля. – М., 2007. – 72 с.
ЗА 1993 Забытый авангард. Россия, первая треть XX столетия / Сост. А. Очеретянский, Дж. Янечек, В. Крейд. – Кн. 2. Новый сборник справочных и теоретических материалов. – Н. – Й.; СПб., 1993. – 278 с.
Загорянский 2000 Загорянский В. Моностихи // Тритон: Альманах поэзии хайку. – Вып. 1 (2000). – С. 100–102.
Зданевич 2008 Зданевич И. Философия футуриста: Романы и заумные драмы / Сост. и общая ред. С.В. Кудрявцева. – М., 2008. – 840 с.
Зеленова 2015 Зеленова А. На птичьих правах. – NY, 2015. – 155 с.
Зморович 2006 Зморович Ю. Minimalissimus: Сборники разных лет. – К., 2006. – 350 с.
Зондберг 1997 Зондберг О.Н. Книга признаний: Стихи. – М., 1997. – 36 с.
Зондберг 2007 Зондберг О.Н. Семь часов одна минута. – М., 2007. – 68 с.
ЗП 1977 Западноевропейская поэзия ХХ века / Сост. И. Бочкарева и др. – М., 1977. – 846 с.
ИСФП 1973 Из современной французской поэзии: Раймон Кено, Анри Мишо, Жан Тардье, Рене Шар / Сост. и пер. В. Козового. – М., 1973. – 398 с.
Казарновский 2012a Казарновский П. Нужное зачеркнуть. – Madrid, 2012. – 44 с.
Каменкович 1996 Каменкович М. Река Смородина: Стихотворения. – СПб., 1996. – 127 с.
Каменский 1917 Каменский В.В. Девушки босиком. – Тифлис, 1917. – 144 с.
Карамзин 1792 Карамзин Н.М. Эпитафии // Московский журнал. – 1792. – Ч. 7. – С. 7.
Карвовский 1991 Карвовский А.А. Пробы, путешествия и другое: Стихи. – М., 1991. – 167 с.
Кацюба 2003 Кацюба Е. Игр рай: Стихи, поэмы… – М.: ЛИА Р. Элинина, 2003. – 276 с.
Кирсанов 1993 Кирсанов А. Отблески высокого стиля. – М., 1993.
Клименко 1989 Клименко Н. Стихи // Горизонт (Кишинёв). – 1989. – № 9. – С. 31.
Коваль 1991 Коваль В.С. Моя народная мудрость: [Отрывок] // Личное дело: Лит. – худ. альманах / Сост. Л. Рубинштейн. – М., 1991. – С. 70–72.
Ковальджи 1989 Ковальджи К.В. Звенья и зерна: Сб. стихотворений. – М., 1989. – 204 с.
Ковальчук 1994 Ковальчук Г. Переделки // Литературная газета. – 1994. – 13 апреля. – С. 16.
Кожевников 2001 Кожевников А.Ю. Большой словарь: Крылатые фразы отечественного кино. – М., 2001. – 825 c.
Козлов 1993 Козлов Р.И. [Стихи] // Уральский университет. – 1993. – № 7. – С. 7.
Кокорин 1913 Кокорин П.М. Музыка рифм: Поэзопьесы. – СПб., 1913. – 16 с.
Коростелёв 2008 «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Cост., предисл. и примеч. О.А. Коростелёва. – М., 2008. – 816 с.
Костенко 1993 Костенко Л. Коротко – як діагноз: [Вірші] // Літературна Україна. – 1993. – 14 жовтня. – С. 1–2.
Кубанёв 1981 Кубанёв В.М. Стихотворения. Эскизы поэм. Миниатюры… – Воронеж, 1981. – 366 с.
Кузьмина 2011 Кузьмина Н.П. Последовательности. – М., 2011. – 112 с.
Кучерская 2003 Кучерская М. Владимир Вишневский: Я вас целую: [Интервью] // Российская газета. – 2003. – 20 августа. – С. 8.
Лавинский 2004 Лавинский И. Одностишия // -buddy.narod.ru/textl1.html
Лаврина 2011 Лаврина В.Л. Шестисловия: Попытка жанра // После 12: Интернет-журнал. – 2011. – Январь. /
Лакоба 1979 Лакоба С.З. Колесо и снег. – Сухуми, 1979. – 33 с.
Лаптев 1991 Лаптев М.Ю. Стихи // Альманах ЛИА Р. Элинина. – М., 1991. – С. 98–103.
Лаптев 1994 Лаптев М.Ю. Корни огня: Стихи 1987–1994 гг. – М., 1994. – 95 с.
Лаптев 2012 Лаптев М.Ю. Тяжелая слепая птица. – М., 2012. – 90 с.
Левчин 2011 Левчин Р.З. Моностихи // Интернет-проект «Полутона». – 7.10.2011. –
Лейбград 1997 Лейбград С.М. Лирический синдром: Стихи. – Самара, 1997. – 46 с.
Ливак, Устинов 2014 Ливак Л., Устинов А. Литературный авангард русского Парижа: История. Хронология. Антология. Документы. – М., 2014. – 992 с.
Лисин 2014a Лисин В. «коснулся одуванчика…» и др // Волга. – 2014. – № 1–2. – С. 148.
Лисин 2014b Лисин В. Заснеженный муравейник // Воздух. – 2014. – № 2–3. – С. 180–182.
Лиснянская 1995 Лиснянская И.Л. Шкатулка с тройным дном. – М., 1995. – 184 с.
Ломакин 2012 Ломакин В. Последующие тексты: Книга стихов. – М., 2012. – 64 с.
Ломоносов 1952 Ломоносов М.В. [127 заметок к теории света и электричества] / Пер. Я.М. Боровского // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 3: Труды по физике и химии, 1753–1765. – М.; Л., 1952. – С. 237–263.
Максимов 1994 Максимов Д.Е. Стихи. – СПб., 1994. – 176 с.
Малларме 1995a Малларме С. Письмо Вилье де Лиль Адану, 31 декабря 1865 г // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе / Сост. Р. Дубровкин. – М., 1995. – С. 385–386.
Малларме 1995b Малларме С. Демон аналогии // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе / Сост. Р. Дубровкин. – М., 1995. – С. 172–177.
Мандельштам 1993 Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: В 4 т. / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. – М., 1993. – Т. 1. – 358 с.
Мариенгоф 1998 Мариенгоф А. Бессмертная трилогия. – М., 1998. – 508 с.
Марков 1963 Марков В.Ф. Одностроки. Трактат об одностроке. Антология одностроков // Воздушные пути, вып. 3. – NY., 1963. – С. 242–258.
Марков 1998 Марков В.Ф. Письма «последних из могикан» русского футуризма / Публ. Ж. Шерона // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1994 год. – СПб., 1998. – С. 302–315.
Марр 1995 Марр Ю.Н. Избранное / Сост., прим., подг. текста Т.Л. Никольской. – М., 1995. – Кн. 1. – 60 с.
Мачадо 1977 Мачадо А. Стихотворения // Испанские поэты XX века. – М.: Художественная литература, 1977. – С. 155–314.
Машинская 2004 Машинская И. Путнику снится. – М., 2004. – 80 с.
Мей 1863 Мей Л.А. Сочинения. – Т. 3. Лирические стихотворения. – СПб., 1863. – 642+VIII с.
Мельников 1994 Мельников В.Р. In SPE: Интеллектранство стихоглифно психоделикующих эмоциаций (1989–1992). Вплащение 1-е. – М., 1994. – 30 с.
Мечик 1993 Мечик Д. Пословицы // Литературная газета. – 1993. – 10 февраля. – С. 16.
Мирзаев 2009 Мирзаев А. Внутри меня // Дети Ра. – 2009. – № 9. – С. 17–21.
Михайловская 1995 Михайловская Т.Г. Солнечное сплетение: Книга одностиший. – СПб., 1995. – 82 с.
Монахов 1999 Монахов В.В. [Стихи] // Инженер Севера (Братск). – 1999. – 18 ноября. – С. 4.
Моностих 1993 Моностих: [Тексты пяти авторов] // Вавилон: Вестник молодой литературы. – Вып. 2 (1993). – С. 91.
Моршен 1979 Моршен Н. Эхо и зеркало: Идееподражание и дееподражание. – Berkeley, 1979. – 72 с.
Наппельбаум 2004 Наппельбаум И.М. Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни. – 3-е изд. – СПб., 2004. – 240 с.
Невструев 1997 Невструев Я.П. Под мутным небом за серым дождем. – М., 1997. – 72 с.
Недоброво 2001 Недоброво Н. Милый голос: Избранные произведения / Сост. и прим. М. Кралина. – Томск, 2001. – 352 с.
Некрасов 1991 Некрасов В.Н. Справка. – М., 1991. – 82 с.
Некрасов 2012 Некрасов В.Н. Стихи. 1956–1983 / Сост. М.А. Сухотина, Г.В. Зыковой, Е.Н. Пенской. – Вологда, 2012. – 591 с.
Нельдихен 1930a Нельдихен С.Е. Он пришел и сказал. – М., 1930. – 32 с.
Нельдихен 1930b Нельдихен С.Е. Он пошел дальше. – М., 1930. – 32 с.
Нельдихен 2013 Нельдихен С.Е. Органное многоголосье / Ред., сост. и комм. М.А. Амелина. – М., 2013. – 512 с.
Нешумова 2012 Нешумова Т.Ф. Стишки после книжек // Полутона: [Электронный ресурс]. – 22.01.2012.
Ник 1994 Ник А. (Аксельрод Н.И.) Из первой, неизданной книги стихов // Черновик: Альманах. – № 10 (1994). – С. 136–137.
Нилин 1997 Нилин М.П. 1993–1997. – М., 1997. – 104 с.
Нилин 2002 Нилин М.П. Приложение к 1993–1997. – М., 2002. – 120 с.
Нирмал 2003 Нирмал. Сотой песчинкой чудес: Избранные моностихи. – М., 2003. – 152 с.
Овчинников 1997 Овчинников И.А. [Две миниатюры] // Новое литературное обозрение. – № 23 (1997). – С. 296.
Окушко 1925 Окушко С.В. Орбита сердца: Двенадцать сказок на кружевном циферблате судьбы. – М., 1925. – 44 с.
ОСДО 2001 От символистов до обэриутов: Поэзия русского модернизма. Антология / Под ред. Н.А. Богомолова. Сост. А.А. Кобринский, О.А. Лекманов. Кн. первая. – М., 2001. – 702 с.
Парнис, Тименчик 1985 Парнис А.Е., Тименчик Р.Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1983. – М., 1985. – С. 165–257.
Перельмутер 1997 Перельмутер В.Г. Пятилистник: Книга стихов. – М., 1997. – 256 с.
Петрунис 1982 Петрунис С.В. Иероглифы: Первая книга. – Нью-Йорк, 1982. – 232 с.
Плетнёв 1988 Плетнёв П.А. Статьи, стихотворения, письма / Сост. А.А. Шелаевой. – М., 1988. – 380 с.
Подводный 2001 Подводный А.В. Муравейник: Стихи. – М., 2001. – 224 с.
Поляков 2003 Поляков А.Г. Для тех, кто спит: Стихи. – М., 2003. – 136 с.
Прийма 2010 Алексей Прийма. Филолог, поэт, уфолог // Общественный архив «Ростов неофициальный». Том 1. Литература.
ПРФ 1999 Поэзия русского футуризма / Сост. и подг. текста В.Н. Альфонсова и С.Р. Красицкого. – СПб., 1999. – 749 с.
Пушкарь 2001 Пушкарь Д. «Обломали лучи Пентагону» // Московские новости. – 2001. – 14 сентября.
Пушкин 1919 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений со сводом вариантов и объяснительными примечаниями / Ред., вст. статья и комментарии В.Я. Брюсова. Т. 1. – М., 1919. – 428 с.
Пушкин 1960 Пушкин А.С. Роман в стихах // Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. – Т. 6. – М., 1960. – С. 475–490.
Пушкин 1969 Пушкин А.С. Письмо Н.Н. Пушкиной, 17 апреля 1834 г // Пушкин А.С. Письма последних лет, 1834–1837 / Под ред. Н.В. Измайлова. – Л., 1969. – С. 34–35.
Пяст 1997 Пяст В. Встречи / Под ред. Р. Тименчика. – М., 1997. – 412 с.
Райнис 1981 Райнис Я. Избранные произведения / Вст. статья и сост. С.Р. Виесе, ред. стихотворных переводов А.А. Щербакова. – М.; Л., 1981. – 541 с.
Ренар 2003 Ренар Ж. Естественные истории / Пер. с франц. А.И. Коган. – М., 2003. – 160 с.
РСЭ 1998 Русская стихотворная эпитафия / Вступ. ст., сост., подг. текста и примеч. С.И. Николаева, Т.С. Царьковой. – СПб., 1998. – 720 с.
Рубинштейн 1996 Рубинштейн Л.С. Регулярное письмо. – СПб., 1996. – 152 с.
РФ 1999 Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков. – М., 1999. – 479 с.
Савельев 1999 Савельев А. Ученик Эйзенштейна // Новый мир. – 1999. – № 5. С. 3–58.
Самиздат 1997 Самиздат века / Сост. А.И. Стреляный, Г.В. Сапгир, В.С. Бахтин. – Мн.; М., 1997. – 1056 с.
Сандрар 1974 Сандрар Б. По всему миру и вглубь мира / Пер. с французского М. Кудинова. – М., 1974. – 230 с.
Сантана 2015 Сантана С. Взгляды читателя и влюбленного / Пер. с испанского Н. Азаровой // Воздух. – 2015. – № 1–2. – С. 220–222.
Сапгир 1997 Сапгир Г.В. Командировка. [1964] –
Сапгир 2004 Сапгир Г.В. Стихотворения и поэмы / Сост. Д. Шраера-Петрова и М. Шраера. – СПб., 2004. – 604 с.
Сапего 1994 Сапего М. Просто так: Пространная считалка. – СПб., 1994. – 32 с.
Сатуновский 1994 Сатуновский Я.А. Стихи и проза к стихам / Сост. и подг. текста В. Казака. – Muenchen, 1994. – 324 с.
Сатуновский 2012 Сатуновский Я.А. Рубленая проза: Собрание стихотворений / Сост. и подг. текста И.А. Ахметьева. – М., 2012. – 816 с.
Свобода 2014 Свобода ограничения: Антология современных текстов, основанных на жестких формальных ограничениях / Сост. Т. Бонч-Осмоловская, В. Кислов. – М., 2014. – 214 с.
Северянин 2005 Игорь Северянин. Царственный паяц: Автобиогр. материалы, письма, критика / Сост., вступ. ст., коммент. В.Н. Терехиной, Н.И. Шубниковой-Гусевой. – СПб., 2005. – 640 с.
Сельвинский 1931 Сельвинский И.Л. Рекорды: Стихи и новеллы. – М.; Л., 1931. – 102 с.
Сельвинский 1934 Сельвинский И.Л. Избранные стихи. – М., 1934. – 173 с.
Сельвинский 1971 Сельвинский И.Л. Собрание сочинений: В 6 т. – Т. 1 / Подготовка текста и комментарии О. Резника. – М., 1971. – 702 с.
Сельвинский 1972 Сельвинский И.Л. Избранные произведения / Сост. И.Л. Михайлов, подготовка текста и примечания И.Л. Михайлова и Н.Г. Захаренко. – Л., 1972. – 958 с.
Семененко 1985 Семененко С. Свет в декабре: Стихи и переводы. – Таллин, 1985. – 302 с.
СЕП 1976 Страницы европейской поэзии. ХХ век / Сост. и пер. М.Н. Ваксмахера. – М., 1976. – 237 с.
Сергеев-Ценский 1927 Сергеев-Ценский С.Н. Обреченные на гибель: Роман. Продолжение // Красная новь. – 1927. – № 10. – С. 67–121.
Сергеев-Ценский 1929 Сергеев-Ценский С.Н. Обреченные на гибель: Роман. – М., 1929. – 378 с.
Сигей 2001b Сигей С.В. Армейско-арамейские стихи. – Madrid, 2001. – 43 с.
Сидоров 1982 Сидоров В.М. Ключ: Стихи. – М., 1982. – 32 с.
Сидоров 1985 Сидоров В.М. Индийские сюжеты. – М., 1985. – 160 с.
Синельников 1997 Синельников М. Обломок: Стихотворения. – М., 1997. – 158 с.
Соковнин 2012 Соковнин М.Е. Проза и стихи. – Вологда, 2012. – 335 с.
Соколов 1994 Соколов П. [Стихи] // ГФ – Новая литературная газета. – 1994. – № 9. – С. 7.
Солнцев 1968 Солнцев Р.Х. Необщая тетрадь. – Красноярск, 1968. – 269 с.
Солнцев 1984 Солнцев Р.Х. Возвращение: Стихи разных лет. – М., 1984. – 126 с.
Соловьёв 1987 Соловьёв С.В. В зеркале отца. – Киев, 1987. – 37 с.
Соловьёв 1993 Соловьёв С.В. Пир: Тексты. Стихи. Беседы. – Симферополь; Николаев, 1993. – 320 с.
Стральцоў 1987 Стральцоў М.Л. Выбранае: проза, паэзія, эсэ. – Мн., 1987. – 607 с.
Субботин 1964 Субботин В.Е. Книга моих стихов. – М., 1964. – 135 с.
Субботин 1996 Субботин В.Е. Подорожники: Из записных книжек // Литературная газета. – 1996. – 14 февраля. – С. 5.
Сумерки человечества 1990 Сумерки человечества: Лирика немецкого экспрессионизма / Сост. В. Топоров, А. Славинская. – М., 1990. – 270 с.
Телешов 1966 Телешов Н.Д. Записки писателя: Воспоминания и рассказы о прошлом. – М., 1966. – 384 с.
Толстой 1951 Толстой Л.Н. Что такое искусство? (Черновые варианты) // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. – Т. 30. Произведения 1882–1898 / Ред. В.С. Мишин и Н.В. Горбачев. – М., 1951. – С. 303–426.
Тотев 1999 Тотев М. 56 тетрадей: Стихи и поэмы / Сост. Т.Н. Калининой, М.А. Тотевой. – М., 1999. – 272 с.
Тэффи 1997 Тэффи Н.А. Собрание сочинений / Сост. и подг. текстов Д.Д. Николаева и Е.М. Трубиловой. – М., 1997. – Т. 1. И стало так. – 382 с.
Тягунов 1995 Тягунов Р. Стихи // Несовременные записки. – 1995. – № 1. – С. 175–185.
УГЛ 1980 У Голубой лагуны: Антология новейшей русской поэзии / Сост. К.К. Кузьминский, Г.Л. Ковалев. – Т. 1. – Ньютонвилл (Массачусетс), 1980. – 604 с.
УГЛ 1986 У Голубой лагуны: Антология новейшей русской поэзии / Сост. К.К. Кузьминский, Г.Л. Ковалев. – Т. 3Б. – Ньютонвилл (Массачусетс), 1986. – 832 с.
Уитман 1911 Уитман У. Побеги травы / Пер. К.Д. Бальмонта. – СПб., 1911. – 217 с.
Уитмен 1982 Уитмен У. Листья травы. – М., 1982. – 465 с.
Успенский 1917 Успенский П.Д. «Кинемодрама» (не для кинематографа): Оккультная повесть. – Пг., 1917. – 157 с.
Фукс 1827 Анекдоты князя Италийского, графа Суворова Рымникского, изданные Е. Фуксом. – СПб., 1827. – 193 с.
Футур-альманах 1914 Я: Футур-альманах вселенской эго-самости. Эдиция 2-я. – Саратов, 1914. – 8 с.
Хармс 1977 Хармс Д.И. Собрание произведений: Книга первая / Сост. и комм. М.Б. Мейлаха и В.И. Эрля. – Бремен, 1977.
Хармс 1991 Хармс Д.И. Горло бредит бритвою: Случаи, рассказы, дневниковые записи / Сост. и комм. А.А. Кобринского и А.Б. Устинова. – М., 1991. – 239 с.
Хармс 2001 Хармс Д.И. Полное собрание сочинений: [В 4 т. – Т. 4.] Неизданный Хармс / Сост., прим. В.Н. Сажина. – СПб., 2001.
Хвостенко 1985 Хвостенко А. Подозритель: 2-й сборник ВЕРПЫ. – Париж, 1985. – Без паг.
Хвостов 1804a Хвостов Д.И. Надгробие Королю Польскому // Друг просвещения. – 1804. – Ч. 2. № 5. – С. 130.
Хвостов 1830 Полное собрание стихотворений графа Хвостова. – СПб., 1830. – Т. 5. – 406 с.
Хемницер 1963 Хемницер И.И. Полное собрание стихотворений / Сост. Л.Е. Бобровой. – М.; Л., 1963. – 381 с.
Хозяинова 2004 Хозяинова Н. Мины Фемины: Одностишки. – Новый Крокодил. – 2004. – № 9. – С. 8.
Чемоданов 2004 Чемоданов А. Совсем как человек. – М., 2004. – 88 с.
Чернавина 1992 Чернавина Р.А. В пустынном времени. – М., 1992. – 144 с.
Чехов 1996 Переписка А.П. Чехова: В 3 т. / Изд. 2, испр. и дополн. – М., 1996. – Т. 3 / Ред. В.Б. Катаев. – 607 с.
Чубаров 2014 Чубаров В. Положительный вред. – М., 2014. – 117 с.
Чухонцев 1997 Чухонцев О.И. Пробегающий пейзаж: Стихотворения и поэмы. – СПб., 1997. – 271 с.
Чухонцев 2013 Чухонцев О.И. Беспомощность лирики: Интервью А. Алёхину // Арион. – 2013. – № 1. – С. 35–52.
Шагинян 1971 Шагинян М.С. Собрание сочинений: В 9 т. – М., 1971. – Т. 6. – 718 с.
Шиллинг 1916 Шиллинг Е.М. Humoresque // Пѣта: Первый сборник. – М., 1916. – С. 5–8.
Шило 1992 Шило В.А. Практика: 1962–1991. – Тирасполь, 1992. – 46 с.
Шиш 2001 Шиш Брянский. В нежном мареве: Стихотворения. – Тверь, 2001. – 175 с.
Шкловский 2004 Шкловский Е. Фата-моргана. – М., 2004. – 509 с.
Шкляревский 1984 Шкляревский И.И. Избранное: Стихотворения и поэмы. – М., 1984. – 366 с.
Шкляревский 1995 Шкляревский И.И. Из тетради «Одинокие птицы» // Арион: Журнал поэзии. – 1995. – № 2. – С. 11–12.
Штыпель 2007 Штыпель А.М. Стихи для голоса: Вторая книга стихов. – М., 2007. – 104 с.
Шульгин 1994 Шульгин В.В. 1917–1919 / Публикация Р.Г. Красюкова // Лица: Биографический альманах. – Вып. 5 / Ред. А.В. Лавров. – М.; СПб., 1994. – С. 121–328.
Элинин 1998 Элинин Р.М. Эпиграфы; Михайловская Т.Г. То есть. – М., 1998. – 80 с.
ЭП 1999 Эллинские поэты / Сост. В. Ярхо. – М., 1999. – 515 с.
Эрль 1993 Эрль В.И. Книга Хеленуктизм: Стихи, драмагедии, полемика. – СПб., 1993. – Без паг.
Эрль 1995 Эрль В.И. Трава, Трава: Стихотворения. – СПб., 1995. – 93 с.
Юганов 2003 И.Ю. [Юганов И.Ф.] Бога почти нет. – М., 2003. – 775 с.
Я одностишьем… 1992 Я одностишьем брал и города // Литературная газета. – 1992. – 13 мая. – С. 16.
Abbott 1907 Abbott, Katharine M. Old Paths and Legends of the New England Border – Connecticut, Deerfield, Berkshire. – NY.; L., 1907. – 408 p.
Alberti 2006 Alberti, Rafael. Obras Completas. Poesía, III / Edición de Jaime Siles. – Barcelona, 2006. – 920 p.
Album 1961 Album Zutique / Présentation, transcription typographique et commentaires de Pascal Pia. – P., 1961. – 255 p.
Alexandre 1901 Alexandre R. Les mots qui restent: Supplément à la troisème édition du «Musée de la conversation»; répertoire de citations françaises, expressions et formules proverbiales, avec une indication précise des sources. – P., 1901. – 244 p.
Atlantic 1893 [Thomas, Edith and/or Elliott, Samuel R.] The Artist of the Monostich // The Atlantic Monthly. – Vol. 72. – Issue 433 (November 1893). – P. 719.
Atlantic 1894 [Thomas, Edith and/or Elliott, Samuel R.] The Artist of the Monostich Again // The Atlantic Monthly. – Vol. 74. – Issue 442 (August 1894). – P. 288.
Atoms 2000 Atoms of Delight: An anthology of Scottish haiku and short poems / Ed. by Alec Finlay. – Edinburgh, 2000. – 208 p.
Baude de Maurceley 1890 Baude de Maurceley, Charles. Un salon disparu: Souvenirs personnels // Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche. – Année 16 (1890). – No. 5 (12 avril). – P. 57–58.
Baudelaire 1975 Baudelaire, Charles. Oeuvres complètes / Texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. – P., 1975. – Vol. 1.
Bénabou 2007 Bénabou, Marcel. Miniature persane. – P., 2007. – 32 p.
Bergk 1843 Poetae lyrici Graeci / Edidit Th. Bergk. – Lipsiae, 1843. – 887 p.
Boileau 1770 Lettres Familières de Messieurs Boileau Despréaux et Brossette, pour servir de suite aux Oeuvres du premier / Publiées par F.L. Cizeron-Rival. – Lyon, 1770. – T. 1. – 317 p.
Calmettes 1902 Calmettes, Fernand. Leconte de Lisle et ses amis. – P., 1902. – 364 p.
Campbell 1988 Greek Lyric / Edited and translated by David A. Campbell. – Cambridge (MA), 1988. – Vol. II: Anacreon, Anacreontea, Choral Lyric from Olympus to Alcman. – 547 p.
Campos 2003 Campos, Marco Antonio. Antología del verso único. – México, 2003. – 86 p.
Clark 1998 Clark, Thomas A. Selected Grasses. – Pittenweem (UK), 1998. – s. p.
Coqueley de Chaussepierre 1770 [Coqueley de Chaussepierre, Charles-Georges.] Le Roué vertueux. Poëme en prose, En quatre Chants, Propre à faire, en cas de besoin, un Drame à jouer deux fois par semaine… – Lauzanne (P.), 1770. – 52 p.
Crashaw 1873 Crashaw, Richard. The Complete Works / Ed. by Alexander B. Grosart. – Blackburn, 1873. – Vol. II. – 387 p.
Dedalus 2007 The Dedalus book of Russian decadence: Perversity, despair and collapse / Ed. by K. Lodge. – Sawtry (UK), 2007. – 346 p.
Du Camp 1883 Du Camp, Maxime. Souvenirs littéraires. – P., 1883. – T. 2. – 585 p.
Elliott 1897 Elliott, Samuel R. Solitary Lines // The Critic. – Vol. XXVIII. – No. 826 (18 December 1897). – P. 373.
Elliott 1898 Elliott, Samuel R. Miss Edith M. Thomas on Staten Island // The Critic. – Vol. XXIX. – No. 852 (18 June 1898). – P. 395–398.
Eluard 1925 Eluard, Paul; Péret, Benjamin. 152 proverbes mis au goût du jour. – P., 1925. – 28 p.
Finlay 2007 Finlay, Ian Hamilton. The Sonnet is a Sewing-Machine for the Monostich: Press Release – Victoria Miro Gallery, London, 30 March – 12 May 2007. -miro.com/exhibitions/_376/
Fowler 1970 Fowler, Charles B. The Arts And Congress: A Battle Won // Music Educators Journal. – Vol. 57. – Issue 2 (1970). – P. 63–64.
Geballtes Schweigen 1999 Geballtes Schweigen: Zeitgenössische russische Einzeiler / Zusammengetragen, übersetzt und herausgegeben von F.Ph. Ingold. – StGallen, 1999. – 110 p.
Glatstein 1957 Glatstein, Jacob. Ven Yash iz geforn. – BA., 1957. – 278 s.
Glatstein 1969 Glatstein, Jacob. Homeward bound / Translated from the Yiddish by Abraham Goldstein. – NY., 1969. – 142 p.
Glatstein 2010 Glatstein, Jacob. The Glatstein Chronicles / Translated from the Yiddish by Maier Deshell & Norbert Guterman. – New Haven; L., 2010. – 396 p.
Gouriet 1806 Gouriet, Jean-Baptiste. L’antigastronomie, ou L’homme de ville sortant de table: Poème en IV chants. – P., 1806. – 215 p.
Grenier 1978 Grenier, Robert. Sentences. – Cambridge (Mass.), 1978. – 500 cards.
Hahn 2011 Hahn, Kimiko. A personal response to the line // A Broken Thing: Poets on the Line / Ed. by Emily Rosko, Anton Vander Zee. – Iowa City, 2011. – P. 114–117.
Hermes 1817 Hermes romanus; ou, Mercure latin / Par Joseph Nicolas Barbier-Vémars – P., 1817. – T. III. – P. 606–895.
Hodgson 1961 Hodgson, Ralph. Collected Poems. – L.; NY., 1961. – 185 p.
Joerdens 1812 Joerdens, Karl Heinrich. Denkwürdigkeiten, Charakterzüge und Anekdoten aus dem Leben der vorzüglichsten deutschen Dichter und Prosaisten. – Leipzig, 1812. – Bd. 2. – 380 S.
Johnson 1906 Johnson, Ben. Discoveries: A critical edition / Ed. by Maurice Castelain. – P., 1906. – 162 p.
Jouet 1995 Jouet, Jacques. Monostication de La Fontaine. – P., 1995. – 30 p. (La Bibliothèque Oulipienne)
Journal de Paris 1783 Journal de Paris. – Année 1783. – No. 44 (13 février).
Journal politique 1783 Journal politique, ou Gazette des gazettes / Ed. Jacques Renéaume de La Tache. – Année 1783. – Mars, premiere quinzane.
Justice 1995 Justice, Donald. New and Selected Poems. – New York, 1995. – 176 p.
Koch 1962 Koch, Kenneth. Thank You And Other Poems. – NY, 1962. – 95 p.
Laforgue 1888 Lettres inédites de Jules Laforgue // L’Art Moderne (Bruxelles). – Année 8 (1888). – № 33 (Août 12). – P. 259–260.
Laforgue 1921 Laforgue, Jules. Exil, Poésie, Spleen / Édition établie par René-Louis Doyon. – P., 1921. – 172 p.
Laforgue 1925 Laforgue, Jules. Oeuvres complètes – Vol. 4. Lettres – I (1881–1882) / Introduction et notes par G. Jean-Aubry. – P., 1925. – 223 p.
León 1978 Brevísimo de poesía / Rafael León. – Málaga, 1978. – s. p.
Lochac 1936a Lochac, Emmanuel. Monostiches. – Mûre-Vigne, 1936. – 53 p.
Lochac 1936b Lochac, Emmanuel. Monostiches // La nouvelle revue française. – No. 272 (Mai 1936). – P. 717–719.
Lochac 1949 Lochac, Emmanuel. Obélisque: Micrones. – Mûrevigne, 1949. – 32 p.
Lochac 1994 Lochac épistolier // Emmanuel Lochac, ses visages et leurs énigmes / Sous la direction de Jacques Arnold. – P., 1994. – P. 192–226.
López Martínez 2006 López Martínez, Pedro. Libro Ciudad. – Sevilla, 2006. – 80 p.
Los compositores 1998 Los compositores del próximo siglo. – El Tiempo (Bogotá). – 1998. – 18 de noviembre.
Lusus 1889 Lusus Musae. Monostich vs. Quatrain // The Critic: A Weekly Review of Literature and the Arts. – Vol. XII (New Series). – July 13, 1889. – P. 19–20.
Mailer 1962 Mailer, Norman. Deaths for the ladies, and other disasters. – NY., 1962. – 252 p.
Mailer 1971 Mailer, Norman. Maidstone: A mystery. – NY., 1971. – 191 p.
McBryde 2004a McBryde, Ian. Slivers // Cordite Poetry Review. – 2004, issue 19. Anti-Heroes. – /
McBryde 2004b McBryde, Ian. Slivers // Stylus Poetry Journal. – 2004, issue 13. –
McBryde 2004c McBryde, Ian. Slivers // Tattoo Highway: A Journal of Prose, Poetry and Art. – 2004, issue 9. Open Spaces. –
McBryde 2005 McBryde, Ian. Slivers. – Greensborough (Australia), 2005. – 88 p.
Martial 1787 Marcus Valerius Martialis in einem Aszuge, lateinisch und deutsch / Gesammelt von K.W. Ramler, [übersetzt von Ephraim Moses Kuh, Gotthold Ephraim Lessing e.a.] – Leipzig, 1787. – 296 S.
Martial 1825 Des Marcus Valerius Martialis Werke / Verdeutscht von Dr. [Benedikt] Willmann. – Köln, 1825. – 300 S.
Maurice 1856 Maurice, Charles. Histoire anecdotique du théâtre, de la littérature et de diverses impressions contemporaines. – P., 1856. – Vol. 1. – 432 p.
Mémoires 1783 Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France depuis MDCCLXII jusqu’à nos jours… – L., 1783. – Tome 19me. – 324 p.
Mémoires 1813 Mémoires historique, littéraires & anecdotiques tirés de la Correspondance philosophique et critique… depuis 1770 jusq’en 1790… – L., 1813. – Tome 3me. – 478 p.
Modern 1921 Modern Russian poetry: An Anthology / Chosen and translated by Babette Deutsch and Avrahm Yarmolinsky. – NY., 1921. – 181 p.
Monostiches 1986 Monostiches / One-line poems // Orange Export Ltd. 1969–1986 / Sous le direction de Em. Hocquard, Raquel. – P., 1986. – P. 313–328.
Montesquiou 1897 Montesquiou, Robert de. Roseaux pensants. – P., 1897. – 359 p.
Moore 1888 Moore, George. Confessions of a young man. – L., 1888. – 254 p.
Neibarts 1999 Neibarts, Aivars. Aiz septiņām mūžībām. – Rīga, 1999. – 270 lpp.
Neruda 1942 Neruda, Pablo. Crepusculario. – Santiago, 1942. – 170 p.
Neruda 1973 Neruda, Pablo. Obras completas. – BA, 1973. – T. 1. – 1047 p.
New Statesman 1970 The New Statesman. – 1970. – Vol. 80 (July – December). – August 21. – P. 221.
Nihus 1642 Epigrammata Disticha Poetarum Latinorum, Veterum Et Recentum, Nobiliora; Quae unico constant hexametro & pentametro, seligente ac un libros undecim digerente Bartoldo Nihusio. – Colonia Agrippina, 1642. – 186 p.
Nougaret 1787 Nougaret P.J. B. Tableau mouvant de Paris, ou Variétés amusantes, ouvrage enrichi de notes historique & critiques, & mis au jour, par M. Nougaret. – L., 1787. – Tome 1er. – 360 p.
Ondaatje 2000 Ondaatje, Michael. Handwriting: Poems. – Toronto, 2000. – 78 p.
Ou. li. po. 1973 Ou. li. po. La littérature potentielle; creations, re-creations, recreations. – [Paris, 1973]. – 298 p.
Owen 1766 Joannis Oweni… Epigrammata. – Basiliae, MDCCLXVI. – 288 p.
P.M. 1803 P.M. [Guéneau de Mussy P. (?)] Au rédacteurs de Mercure // Mercure de France. – No. LV (28 Messidor, An X). – P. 158–178.
Palmézeaux 1803 [Cubières-]Palmézeaux, Michel. Vie d’Antoine Rivarol // Palmézeaux C. Fontenelle, Colardeau et Dorat, ou, Éloges de ces trois écrivains célèbres, suivi d’une Vie d’Antoine Rivarol. – P., 1803. – P. 225–305.
Pompidou 1961 Pompidou, Georges. Anthologie de la poésie française. – P., 1961. – 533 p.
Rainis 1978 Rainis. Kopoti raksti / 30 sējumos. – 3. sējums / Sag. un kom. M. Ābola. – Rīga, 1978. – 726 lpp.
Rainis 1979 Rainis. Kopoti raksti / 30 sējumos. – 2[a]. variantu sējums / Sag. M. Ābola un B. Kalnača. – Rīga, 1979. – 556 lpp.
Rivarol 1827 Dictionnaire classique de la langue française, avec des exemples tirés des meilleurs auteurs français et des notes puisées dans les manuscrits de Rivarol. – Paris, 1827. – 1008 p.
Roubaud 1967 Roubaud, Jacques. ∈: Poemes. – Paris, 1967. – 165 p.
Schehadé 1977 Schehadé, Georges. Anthologie du vers unique. – Paris, 1977. – 219 p.
Shelley 1870 Shelley, Percy Bysshe. The Poetical Works / Ed. by W.M. Rossetti. – L., 1870. – Vol. II. – 602 p.
Shelley 1914 Shelley, Percy Bysshe. The Complete Poetical Works / Ed. by Th. Hutchinson. – Oxford, [1914]. – 912 p.
Shelley 2011 Shelley, Percy Bysshe. The Poems / Ed. by J. Donovan, C. Duffy, K. Everest & M. Rossington. – Vol. 3. 1819–1820. – L.; NY., 2011. – 743 p.
Silliman 1974 Silliman, Ron. Nox. – Providence (Rhode Island), 1974. – s. p.
Swede 1981 Swede, George. Language-Centered Haiku // Cicada (Toronto). – 1981. – Vol. 5, No. 3. – P. 36–37.
Swedenborg 1771 Swedenborg, Emanuele. Vera Christiana Religio… – Amstelodami, MDCCLXXI. – 542 p.
Swedenborg 1889 Swedenborg, Emanuel. The True Christian Religion / Translated by John C. Ager. – Philadelphia, 1889. – 1244 p.
Valéry 1957 Valéry, Paul. Au Sujet d’Adonis // Valéry, Paul. Œuvres. – P., 1957. – Vol. 1, P. 474–491.
Verlaine 1962 Verlaine, Paul. Œuvres poétiques complètes. – P., 1962. – 1495 p.
Viallate 2003 Correspondance Alexandre Vialatte – Henri Pourrat (1916–1959). Tome 2. Lettres de Rhénanie I (1922–1924) / Ed. par D. Hadjadj, C. Milkovitch-Rioux et A. Schaffner. – Clermont-Ferrand, 2003. – 421 p.
Villiers de L’Isle-Adam 1986 Villiers de L’Isle-Adam, Auguste. Œuvres complètes. – P., 1986. – Vol. II. – 1780 p.
Weöres 1975 Weöres, Sandor. Egybegyűjtött írások. I–III. – Bp., 1975.
Whitman 1860 Whitman W. Leaves of the Grass. – Boston, 1860. – 456 p.
Whitman 1867 Whitman W. Leaves of the Grass. – NY., 1867. – 338 p.
Whitman 1872 Whitman W. Leaves of the Grass. – Washington D.C., 1872. – 382 p.
Whitman 1881 Whitman W. Leaves of the Grass. – Boston, 1881. – 382 p.
Wright 2008 Charles Wright In Conversation: Interviews, 1979–2006 / Ed. by R. Denham. – Jefferson (North Carolina), 2008. – 175 p.
Сноски
1
В данной работе принята обычная для стиховедения система обозначений, при которой поэзия противопоставляется прозе и объединяется с нею в понятии «художественная литература»; противоположная терминологическая традиция, в которой «поэзия» объединяет стих и прозу и противопоставляется «не-поэзии», т. е. научным, деловым и т. п. текстам, отклонена в особенности по соображениям речевого удобства: там, где то и дело обсуждается отдельный стих, неудобно в то же время использовать слово «стих» как родовое понятие.
(обратно)2
Кроме того, в промежутке между защитой первой редакции данного исследования в качестве диссертационного (2005) и завершением работы над настоящим изданием появилась еще одна диссертация на сходную тему – работа южно-сахалинского ученого Л.Н. Конюховой (Гринько) «Формально-содержательные модификации моностиха в русской литературе XX века», защита которой благополучно состоялась в Московском государственном университете. Из этого оригинального исследования можно узнать, что «как известно, строка имеет больший шанс быть признанной стихотворной при повторении ритмического ряда» [Конюхова 2009, 22], что «на данный момент в литературоведении отсутствует точная отнесенность моностиха к эпосу, лирике или лиро-эпосу» [Конюхова 2009, 64], что «объем слов в хокку не умещается в одну строку» [Конюхова 2009, 96], что «в рекламных слоганах лирический герой присутствует всегда. В большинстве случаев он совпадает с образом адресата» [Конюхова 2009, 113], что «Василий Розанов импонировал малым жанрам» [Конюхова 2009, 17], «Алексей Толстой и братья Жемчужниковы не были лишены поэтического дарования» [Конюхова 2009, 26], а Анна Ахматова «как мастер преимущественно поэтического дарования, обращалась к разнообразным силлабо-тоническим размерам» [Конюхова 2009, 23], и еще многое в том же духе, практически без изменений перекочевавшее в печатный вариант [Гринько 2011]. К сожалению, использовать эти и другие не менее оригинальные соображения Л.Н. Конюховой (Гринько), не смутившие ни научного руководителя Е.А. Иконникову, ни научных оппонентов О.И. Федотова и Д.М. Давыдова, а у рецензента С.И. Кормилова вызвавшие лишь мягкую укоризну («К сожалению, филологической аккуратностью Л. Гринько не отличается, допускает разного рода ошибки и опечатки» [Кормилов 2012b, 479]), нам в нашей работе не удалось.
(обратно)3
Гомеса де ла Серну, конечно, называли «испанским Аполлинером» [Jackson 1963, 4], и интерес его к отцу западного моностиха Аполлинеру был велик [Laget 2012, 172 и сл.], но грегерии всё же возникли как прозаические миниатюры, хотя и влияли далее на испанскую поэзию, дав А. Веле основание заметить, что «технически <испаноязычная> авангардная поэзия – соединение грегерий со строфикой, с аллитерацией, с повтором и возвращением» [Vela 1949, 313]; сам Гомес де ла Серна мимоходом назвал свои грегерии «хайку в прозе» [Laget 2012, 262]. Представление о грегерии как о стихотворной миниатюре и, у́же, моностихе не встречается в специальной литературе о грегериях и Гомесе де ла Серне и возникает лишь мельком в нескольких маргинальных работах ([Мартысевiч 2006, 17; Дабески 2007, 69] – во втором случае в рамках своеобразной идеи о том, что «потенциальным моностихом» является любой литературный текст объемом до 30 слогов [Дабески 2007, 64]).
(обратно)4
Справедливости ради отметим, что генерализации подобного рода выглядят неубедительно не только на русском материале: ср., например, рассуждения австралийского литературоведа А. Ализаде (в связи с книгой моностихов его соотечественника Йена МакБрайда) о том, что «в наше время “смерти поэзии”, “конца стихотворного текста” и т. п. поэты – даже высокоодаренные и вполне признанные – вынуждены маскировать свои стихи под цитаты и удобные для потребителя (user-friendly) звуковые обрывки ‹…› и в итоге утверждать нигилизм эсхатологического дискурса» [Alizadeh 2006].
(обратно)5
Англ. monostich, франц. monostiche и monostique, ит. monostico, исп. и порт. monóstico, нем. Monostich – впрочем, употребительны также англ. one-liner и нем. Einzeiler, на которые, возможно, В.Ф. Марков и ориентировался.
(обратно)6
Или вообще в ином значении: так, А.Б. Гатов называет одностроками полностью законченные синтаксически и семантически строки многострочного стихотворения [Гатов 1966, 50], а М.А. Литовская – относительно изолированные и достаточно краткие для того, чтобы в любом издании предположительно не выходить за пределы одной строки, фрагменты прозаического текста, обладающие определенной содержательно-композиционной автономией [Литовская 1999, 492, 501].
(обратно)7
А придуманный, как утверждается, по его просьбе Г.Ч. Гусейновым [Гусейнов 2009, 145].
(обратно)8
А о том, как далеко может заходить терминологическая неразбериха, можно судить по появлению в некоторых работах (например, [Александрова 2005, 40–41]) никак не комментируемого термина «монострок».
(обратно)9
Ср. замечание поэта Бориса Гринберга: «“Удетерон” или, скажем, “однострок” выбрасывают этот жанр из чисто поэтического пространства в общелитературное, смешивая со множеством, мягко выражаясь, “прозаических” произведений» [Блиц-интервью 2009, 169].
(обратно)10
Эпизодическое употребление С.О. Карцевским термина «моностих» в другом значении (астрофический метрически однородный стих) [Trubeckoj 1985, 259] не создало конкурирующей традиции. Термин «одностишие» мы традиционно используем для однострочных стихотворных фрагментов, не являющихся самостоятельными произведениями (в этом значении термин «моностих» в русской научной литературе практически не употребляется – «строфа-моностих» встретилась нам лишь однажды [Налегач 2010, 49]; в зарубежной науке, однако, «моностих» в значении «изолированный стих» иногда возникает: см., напр., [Aroui 1994; Meyer 1996, 272; Янечек 2002, 36; Ичин 2006, 11; Соколова 2010, 184–185, Hirsch 2014, 390]).
(обратно)11
Да и вообще «введение произведений авторов второго ряда в литературоведческий обиход необходимо для воссоздания единой картины развития литературы ‹…›, в которой фоновые литературные явления значимы для выявления тенденций эстетического развития» [Тернова 2012, 5].
(обратно)12
Опасная вещь – статистика! Таким же образом, надо полагать, «практически нет» множества разных литературных форм – от палиндрома до венка сонетов.
(обратно)13
Ср. в другой работе Бурича: «Умение писать свободным стихом – это умение членить текст на фразы и синтагмы, обозначая их графически» [Бурич 1989, 159].
(обратно)14
«Упорядочение синтаксического строения составляет… основу композиционного членения свободного стиха» [Жирмунский 1921, 90].
(обратно)15
Полемика со стиховедческой концепцией Бурича в целом не входит в наши задачи, но нельзя не отметить, что и в других своих частях она методологически некорректна: так, например, невозможно согласиться с утверждением Бурича о том, что «корреспондированность» строк в рифмованных стихах «абсолютна» (однозначно задается рифмой), а в нерифмованных «относительна» («любая строка может быть сопоставлена с любой последующей») [Бурич 1989, 151], – прежде всего потому, что абсолютный характер имеет в стихе корреспондированность каждой строки с предыдущей как частный случай общего принципа «сукцессивности» [Тынянов 1993, 49], последовательности разворачивания стихотворного текста.
(обратно)16
В других трудах Гаспарова определение стиха совпадает с этим практически дословно (напр., [Гаспаров 2003b, 7–8]).
(обратно)17
На эту односторонность бегло указывает Э. Клейнин [Kleinin 2008, 209], в дальнейшем интересном анализе гаспаровских подходов к определению стиха фокусирующая внимание на других аспектах.
(обратно)18
«Графика <поэтического текста> выступает не как техническое средство закрепления текста, а как сигнал структурной природы…» [Лотман 1970, 132].
(обратно)19
Это понимание непосредственно восходит к идеям учителя Токарева А.Л. Жовтиса, определявшего стих через то, что «в нем обнаруживается корреспондирование рядов, графически выделенных авторской установкой на стих» [Жовтис 1968, 35]. Однако в целом представление о строке как статическом кванте смысла и о динамике стихотворения исключительно как о движении от стиха к стиху имеет своих сторонников (скорее среди эстетиков, чем среди стиховедов) – ср., напр.: «В своей прототипической форме стихотворение короткое потому, что оно является обзорным, синоптическим, подобно картине, а его содержание должно восприниматься как отражающее одно состояние дел. ‹…› Что верно для стихотворения в целом, верно и для его частей. Визуальная автономия каждой строчки в какой-то степени выделяет ее из целостности общей последовательности и представляет ее как ситуацию внутри ситуации» [Арнхейм 1994, 109–110].
(обратно)20
Именно Москвин доводит противопоставление горизонтального и вертикального ритма до абсолюта, объявляя стихообразующим фактором «членение речи на сегменты одинакового слогового объема» (вертикальный «силлабический ритм») [Москвин 2009, 15] и отказывая в определительном статусе «симметричному чередованию ударных и безударных слогов» (горизонтальный «изотонический ритм») [Москвин 2009, 13, 135]. Об эклектизме концепции Москвина и его невнимании к новейшей теоретической базе отечественного стиховедения см. [Корчагин 2014].
(обратно)21
Позиция же Томашевского, в свою очередь, опиралась на ряд аналогичных идей зарубежных специалистов – например: «Одиночный стих представляет собой не что иное, как предполагаемый ритм (rythme proposé). Только повтор создает ритм действительный (effectif)» [Romains, Chennevière 1923, 133]. Подробный перечень такого рода заявлений раннего стиховедения приводится в [Devoto 1980].
(обратно)22
И, независимо от него, К.Ю. Тверьянович и Е.В. Хворостьянова, предлагающие «условно относить к удетеронам (в отличие от моностихов, – Д.К.) все однострочные произведения, структура которых не может быть идентифицирована ни с одним из силлабо-тонических размеров» [Тверьянович, Хворостьянова 2008, 38].
(обратно)23
Похоже, что к этой же позиции склоняются и некоторые зарубежные исследователи – так, во Франции о невозможности отличить от прозы любой моностих, кроме написанного александрийским стихом, писал, в частности, Л. Брейниг [Breunig 1963, 322], а вслед за ним и Жак Жуэ [Jouet 1996] – впрочем, годом позже выпустивший книгу собственных моностихов, отстоящих в ритмическом отношении от александрийского стиха настолько далеко, насколько это возможно.
(обратно)24
Заметим, между прочим, что интерпретация текста Сельвинского – «Лучше недо, чем пере». – как трехиктного нисходящего дольника по меньшей мере проблематична: ничуть не менее, если не более правомерной выглядит представление этого стиха как двухстопного анапеста со сверхсхемным ударением на первой стопе, поскольку при такой интерпретации фразовое ударение определенно будет падать на «недо», а не на «лучше».
(обратно)25
Не вдаваясь в новейшие тенденции соотнесения метрической стопы с фонологической, отметим, что с семиотических позиций фактически реабилитирует понятие стопы М.Ю. Лотман [Лотман 1974, 183], позиция которого вообще весьма близка к позиции Панова. В связи с этим вызывает удивление идущее от П.А. Руднева [Руднев 1989, 48–49] сближение стиховедческой концепции М.Ю. Лотмана со взглядами Б.Я. Бухштаба, напротив, это понятие решительно отвергавшего [Бухштаб 1973, особенно 106–107], – при том, что (и это нередко упускалось ссылавшимися на Бухштаба последующими теоретиками) конституирующая поэзию по Бухштабу «двойная сегментация» включает в себя «членение на стихотворные строки и на более крупные и мелкие, чем строка, стиховые единства» [Бухштаб 1973, 110], т. е. к графической расчлененности не сводится. Подробное изложение теоретических взглядов М.Ю. Лотмана в [Лотман 2000] не содержит никаких упоминаний о моностихе, однако понимание им свободного стиха как стиха с фразовой стопой не оставляет, по-видимому, места для неметрического моностиха; впрочем, само понятие метра М.Ю. Лотман трактует весьма широко и даже допускает возможность «непросодического стихосложения» [Лотман 2000, 242–249], в котором в роли метрических единиц выступают определенные синтаксические и даже семантические единства (ср. [Koch 1966, 20]), – так что даже очевидно неметрические в традиционном понимании тексты могут быть так или иначе вписаны в предложенную им классификацию: например, моностих Александра Карвовского «Великие загадки»:
Людвиг ван Бетховен / а. гитлер– с точки зрения «семантической просодии» очевидным образом двустопен.
(обратно)26
Ср., например, у Ю.М. Лотмана: «Повторение разных элементов в одинаковых позициях с тем, чтобы приравнять неравное и раскрыть сходство в различном, или повторение одинакового с тем, чтобы раскрыть мнимый характер этой одинаковости, установить отличие в сходном» [Лотман 1972, 45]. Отказ от понимания повтора как позиционного явления, приводящий к попытке «различать повтор и мерность речи, основанную на ее расчлененности» [Москвин 2009, 13], представляется нам умножением сущностей без необходимости.
(обратно)27
Можно сказать иначе: не бывает строк, «не подходящих ни под один из известных размеров или типов», поскольку строка любого устройства может быть структурно воспроизведена, и этот повтор, в зависимости от своего характера, в тот или иной размер или тип (не обязательно в верлибр – возможно, в тонический, силлабический или логаэдический стих) ее поместит.
(обратно)28
Возможно, впрочем, что сам Марков и не додумывал эту свою мысль до логического конца: характерно, что позднейший сборник его стихов (Мюнхен, 1984) называется «Поэзия и одностроки» – и это мало чем отличается от использованного Буричем заголовка «Стихи и удетероны».
(обратно)29
Несколько курьезную вариацию этого подхода можно увидеть еще и в беглом замечании С.В. Шервинского: «Принципиально стих может быть квалифицирован как таковой даже в изолированном положении… Напомню последнее стихотворение из цикла Верлена “Sagesse”. Оно состоит из одного стиха, но едва ли кто-нибудь станет сомневаться, что создатель этой строки понимал ее как стих (выделено мною, – Д.К.)» [Шервинский 1962, 622]; авторское намерение, в конечном счете, также является внешней по отношению к самому тексту силой, «наделяющей стиховым качеством». Однако методологическое «предостережение от смешения двух задач: задачи осмысления внутренней целесообразности художественного объекта (произведение как таковое, осознанное как единство, – “феноменология творчества”) с задачею раскрытия психологического процесса его создания (авторская работа и все причины, обусловливавшие рождение произведения, – “психология творчества”)» [Скафтымов 1972, 23–32], кажется, сегодня уже не нуждается в дополнительной аргументации. По поводу строки Верлена см. стр. 64–65.
(обратно)30
Позднее М.И. Шапир отказался от ряда положений этой статьи, переопределив стих как речь, характеризующуюся наличием «сквозных принудительных парадигматических членений» [Шапир 2000c, 61] (при существенном различии терминологии близость этой концепции и концепции М.Ю. Лотмана из [Лотман 2000] заметна: сопоставительный анализ этих двух теоретических систем представляется многообещающим). Новая концепция Шапира в целом, будучи, безусловно, этапной для современного стиховедения, вызывает и некоторые вопросы и сомнения, для которых в рамках данной работы нет места. Заметим лишь, что Шапир не ставит вопроса о том, как распознать стихотворность однострочного текста, так что вопрос о том, в какой мере высказанные в настоящем разделе соображения коррелируют с идеями Шапира и дополняют их, а в какой – противоречат им, требует отдельного выяснения.
(обратно)31
К этому пониманию отношений между ритмом и метром склоняется и ряд зарубежных специалистов – ср., например, у Ч. Хартмана о метре как «счетном (numerical) ритме» и просодиях, основанных на несчетных разновидностях ритма [Hartman 1996, 17–25].
(обратно)32
Следует, впрочем, оговориться, что речь идет только об элементах звучания, так или иначе закрепленных в языке (ср. возражения Ю.Н. Тынянова против включения в состав поэтического ритма агогики, т. е. речевых колебаний длительности языковой единицы [Тынянов 1993, 40]). С другой стороны, неоднократно подчеркивалось, что безусловно являющиеся важным ритмическим фактором словоразделы могут быть акустически не выражены; возможно, это обстоятельство требует реабилитации, в несколько переосмысленном виде, использовавшегося Е.Д. Поливановым термина «фонетические представления» [Поливанов 1963, 106]. Ср. также у Ж. Женетта: «“Звуковые” эффекты могут восприниматься и беззвучно… Вся теория просодии должна быть пересмотрена с этой точки зрения» [Женетт 1998, I:340].
(обратно)33
Принадлежащая метру прерогатива предсказующей функции обнажает то обстоятельство, что цитированная выше позиция М.Л. Гаспарова исходит, по сути, из редукции Ритма к метру (об этой тенденции в разных работах Гаспарова подробно пишет М.И. Шапир в [Шапир 1996]).
(обратно)34
Это широкое определение оставляет открытым вопрос о семантическом ритме, не связанном непосредственно со звуковой стороной текста (краткий обзор вопроса в [Москвин 2009, 10–11]), – ср. «непросодическое стихосложение» (прим. 25 на стр. 23). Вообще такое понимание Ритма противостоит не только редукционистским узко-стиховедческим концепциям, но и радикальной «критике ритма» А. Мешонника, понимающей давление ритма на семантику как универсалию языковой деятельности («ритм, собственно, и есть организация смысла в речи» [Meschonnic 1982, 217]), – при том, что борьба Мешонника с абсолютизацией метрики, за признание структурообразующими неметрических звуковых построений (см., напр., разбор аллитерационных и паронимических конструкций в одном стихе Расина [Meschonnic 1982, 252 и сл.]) близка к пафосу настоящей работы.
(обратно)35
См. подробнее стр. 130. Ср. также замечание Р. Барта о том, что в состав «феноменологии стиха» входит окружающее его свободное пространство, которое привлекает и отвлекает [Barthes 2003, 57], и мысль Ж. Женетта, непосредственно подводящую к понятию о сигнальной функции свободного поля вокруг текста как универсальном свойстве поэзии: «даже далее всего ушедшая от традиционных форм поэзия не отказывается ‹…› от такого мощного средства помещения текста в стихотворный ряд (la puissance de mise en condition poètique), как его размещение среди свободного пространства страницы (la disposition du poème dans le blanc de la page)» [Genette 1969, 150] (в русском издании переведено неверно: «… не отказывается ‹…› от использования пробелов при расположении стихотворения на странице в целях достижения поэтического эффекта» [Женетт 1998, I:360]), – фактически это не совсем так (иной раз и отказывается), но в принципиальном плане нам важно, что, как и в других случаях, графическая выделенность однострочного стихотворения не столько противопоставляет его многострочным, сколько в наиболее концентрированном виде предъявляет нечто характерное и существенное для любых стихов.
(обратно)36
Имея в виду предпочтительность расширительного толкования понятия «текст», лучше, возможно, использовать другой вариант введенного Тыняновым термина – «эквиваленты слова» [Тынянов 1993, 298].
(обратно)37
Но поскольку, как заметил Ю.М. Лотман, «если автором и читателем осознаётся некий минимум признаков, без которого текст перестает восприниматься как стиховой, то поэт будет стремиться ‹…› переходить эту черту» [Лотман 1972, 41] (см. также [Житенёв 2012, 19] о сформированном в XX веке «неклассическом художественном сознании», представляющем собой «принципиальный отказ от “финализма”, от всех “ставших” и “готовых” форм ‹…› художественной практики»), – постольку на протяжении всего ХХ века создавались «поэтические тексты», составленные исключительно из эквивалентов слов, – начиная со знаменитой «Ночной песни рыб» Кристиана Моргенштерна (1905; об идеологической фундированности его экспериментов философией «критики языка» Фрица Маутнера см. [Ерохин 2010]). Тынянов упоминает «немецкого футуриста Kulk`а, выпустившего в 1920 г. книгу стихов, ограничившихся графическим стиховым расположением знаков препинания» [Тынянов 1993, 111] – это, судя по всему, ошибка: австрийский поэт Георг Кулька (1897–1929), примыкавший к экспрессионизму, в самом деле выпустил в 1920 г. книгу стихов «Сводный брат» (Der Stiefbruder), но пределом формальной смелости в ней было стихотворение с точкой после каждого слова [Sauder 1982], – так что в полной мере эксперименты с текстами из одних знаков препинания развернулись уже во второй половине столетия, вплоть до многочисленных опытов Ры Никоновой («В 1965–1969 гг. я страшно увлекалась минимализмом – писала стихи из двух слов и даже из одного, и даже из одной буквы, и даже из каллиграфических элементов отдельных букв, не говоря уж о таких бижутерийных элементах, как точка, запятая и прочие полиграфические прелести» [Никонова 1993, 253]). См. также [Кузьмин 2000]. Статус всех этих текстов дискуссионен, но стихотворными они не являются по причине невербальности.
(обратно)38
Иного мнения придерживается, по-видимому, Дж. Янечек, говорящий об «однословных стихотворениях» Всеволода Некрасова; впрочем, Янечек видит здесь проблему, аргументируя свое решение таким образом: «Учитывая заметную сосредоточенность на средствах выражения, я бы отнес эти вещи Некрасова к стихотворениям, а не к другим литературным категориям (category of literature), но, возможно, это спорно» [Янечек 1997, 250; ср. Janecek 1992, 408]. Под «средствами выражения», однако, понимается здесь не пресловутое «слово как таковое», а, в сущности, расположение слова (или слов) на листе бумаги и дополнительные графические элементы; в связи с этим спорным является не столько отнесение «минимализмов» Некрасова к стиху, а не к прозе, сколько сама их «литературность». Представляется, что гораздо правомернее рассматривать эти тексты как произведения визуальной поэзии – отдавая себе отчет в том, что слово «поэзия» в названии этого синтетического словесно-визуального искусства указывает не на стихотворность, а на присутствие вербального начала (ср. стр. 45).
(обратно)39
Сам Бурич говорит, среди прочего, об удетеронах «моносиллабических» и «моностопных» [Бурич 1989, 147–148], из которых первые с неизбежностью, а вторые с большой вероятностью оказываются однословными, однако этот аспект проблемы Бурич не рассматривает, интересуясь исключительно акцентологической стороной дела.
(обратно)40
Для самого Ле Лионне, впрочем, этот вопрос был риторическим – заданным в комментарии к собственному тексту под названием «Стихотворение из одного слова»:
УКРОП FENOUIL [Ou. li. po 1973, 174]– утверждается, что именно на это одно слово выбор Ле Лионне пал в связи с тем, что его начальная и конечная буква представляют собой инициалы автора [Bénabou 2007, 17]. Подробнее об однословных текстах см. стр. 46–49.
(обратно)41
«Пуля, попавшая в птицу, прекращает свой полет» – ср. известное стихотворение Ивана Жданова: «Когда умирает птица, / в ней плачет усталая пуля, / которая так хотела / всего лишь летать, как птица» [Жданов 1991, 18].
(обратно)42
Впрочем, кроме последнего текста, где финальное слово ушло во вторую строку. Учитывая, что абзацный отступ при этом отсутствует, а длина этого текста несколько превосходит длину трех предыдущих, мы склонны интерпретировать эту двустрочность как ошибку верстки, точно так же не мешающую реализоваться установке на стих, как этому не помешал такой же дефект верстки при первой публикации моностиха Карамзина (см. стр. 27–28).
(обратно)43
С.И. Кормилов также анализирует этот цикл, однако его выводы кажутся неудовлетворительными: не принимая во внимание общий контекст «Антологии русского верлибра» (т. е. стихотворный), он полагает, что в контексте цикла малой прозы даже метричность одного из текстов не оказывается достаточной, чтобы в тексте проявилась контекстно обусловленная стихотворность. Присутствие в тексте явно выраженного двустрочного стихотворения Кормилов не комментирует, резюмируя анализ странной фразой: «Видимо, в современном поэтическом сознании “свобода стиха” уже переросла рамки собственно стихового ритмического ощущения» [Кормилов 1995, 79].
(обратно)44
Строение этого цикла осложняется тем, что наряду с миниатюрами прозаическими (афоризмы) и поэтическими (от моностиха до четверостишия) в него включены парафразы и имитации фольклорных малых жанров (пословицы, скороговорки), атрибуция которых как стиха или прозы представляет особого рода трудности.
(обратно)45
Здесь и далее перевод стихотворений и прозаических цитат наш везде, где не указано иное; иноязычный оригинал приводится только в тех случаях, когда для изложения важны те или иные его особенности, невоспроизводимые в переводе.
(обратно)46
Текст построен на игре слов: «Может быть, вы знали Блисса под другим именем» – в самом деле, типичная фраза из шпионского романа, но фамилия персонажа может быть переведена как Счастье, Блаженство.
(обратно)47
Ср. также анализ формального метода в литературоведении (в том числе тыняновской теории стиха) в последующей теоретической (в том числе семиотической) перспективе у О. Ханзена-Лёве [Ханзен-Лёве 2001, 294–326].
(обратно)48
Для Червенки ритмическими являются только факторы, обладающие предсказующим действием, то есть Ритм сводится к метру, тогда как «инструментовка в стихе в большей степени действует как фактор ритмической дифференциации, нежели как один из носителей ритма» [Червенка 2011, 248], и в этом отношении Червенка делает шаг назад сравнительно со своим учителем Я. Мукаржовским, отмечавшим, что «хотя эвфония кажется наиболее внешним элементом поэтического текста, как и всякий иной элемент, она может играть роль структурной доминанты, то есть элемента, который приводит в движение все остальные элементы и определяет меру их актуализации» [Мукаржовский 1996, 94]; по-видимому, это отступление связано с представлением об особой стиховой интонации как основном языковом выражении стихового ритма [Червенка 2011, 152–157], – представлением, акцентирующим выбор в пользу эйхенбаумовской, а не тыняновской парадигмы.
(обратно)49
В частности, представляют особый интерес различные способы рассогласования установки и сигналов, историческая изменчивость установки (ср., по Ю.М. Лотману, изменение произведения при неизменности текста [Лотман 1964, 157]), и др.
(обратно)50
Согласимся, однако, с важным дополнением В.Ф. Маркова: «Ямбическая строка ощущается как ямбическая не только на фоне других напечатанных, но и воображаемых» [Марков 1994, 349].
(обратно)51
На возможность «ритма вне метра» указывал еще А. Белый (см. [Шапир 1990, 81–82]).
(обратно)52
Следует отметить, впрочем, что анализ Вендлер перекликается с получившим в это же время распространение в американской литературно-критической мысли представлением о собственной выразительности отдельного стиха вообще, а не только самостоятельного моностиха, – ср., например, замечание Э. Фултон, автора концепции «фрактальной поэзии», о том, что «каждая строка, как обнаруживается при ближайшем рассмотрении, столь же богато отделана (detailed), сколь и целое стихотворение, из которого она взята» [Fulton 1999, 58].
(обратно)53
Своеобразным подтверждением соображений Озмителя «от противного», близким если не по предпосылкам, то по методу и к Вендлер, выступает более раннее замечание А.И. Мамонова, обсуждающего однострочные тексты в японской модернистской поэзии 1920-х гг. и приходящего к выводу, что их отличие от прозы полностью лежит в сфере образности: «выпуклость и многогранность образа мира достигается еще и особой связью слов в стихотворениях, подчиненной идее: стих – это скульптура»; сопоставляя моностих Субботина с японскими аналогами, Мамонов указывает: «Впечатляющая образность этого стихотворения бесспорна. И если снять инверсию (“окоп копаю”), тем самым разрушив строгий метр (пятистопный ямб), которым написано стихотворение, сходство строки-стиха с японскими прозаическими танси окажется стопроцентным» [Мамонов 1971, 119].
(обратно)54
Впрочем, возможность или необходимость опираться при анализе звукового строя стиха не только на фонемный, но и на графемный состав текста находилась в поле зрения специалистов: см. [Червенка 2011, 238–239] и [Ляпин, Пильщиков 2013, 57–58] с указанной литературой.
(обратно)55
А Р. Барт, напротив, специально указывает, что взаимосвязь между ними не стоит преувеличивать – апеллируя, однако, не к формальному, а к содержательному различию [Barthes 2003, 100, 131].
(обратно)56
Девятисложник в ней крайне редок, а если и встречается, то требует цезуры после мужского окончания в третьем, четвертом или пятом слоге; ритмико-синтаксический профиль, представленный в этой строке Ренара, современное ему стиховедение квалифицировало как характерный для итальянских и испанских девятисложников и невозможный для французских [Tisseur 1893, 119–121].
(обратно)57
В русском переводе Агнессы Коган эти эффекты сглажены:
СВЕТЛЯЧОК
Это капля луны в траве. [Ренар 2003, 82] (обратно)58
Здесь будет уместно заметить, что конкретная трактовка М.Ю. Лотманом поэзии как вторичного кода достаточно небезусловна, однако для нас принципиальное значение имеет сама интерпретация разнохарактерных литературных текстов в этих категориях.
(обратно)59
Авторство этого монопалиндрома оспаривается: составителем авторитетной «Антологии русского палиндрома XX века» В.Н. Рыбинским принят приоритет Ильи Фонякова [АРП 2000, 159], тогда как А.В. Бубнов указывает на приоритет Владимира Гершуни [Бубнов 2000, 41]. Для нескольких наиболее известных русских монопалиндромов эта ситуация типична.
(обратно)60
Оба термина не слишком удачны, поскольку и формальные ограничения, и, тем более, комбинаторный принцип являются, прежде всего, непременными свойствами стиха.
(обратно)61
В более ранней авторской книге, впрочем, в две строки [Авалиани 1995, 4], что и логичнее для этого типа текстов.
(обратно)62
И.В. Чудасов справедливо отмечает сходство этой игровой формы с известным моностихом Даниила Хармса [Чудасов 2010, 38] (см. стр. 175).
(обратно)63
Аутентичное написание данного текста – в авторском сборнике Кирсанова [Кирсанов 1993, 63]; здесь же еще несколько «фигурных моностихов».
(обратно)64
Грань между визуальностью как самостоятельным кодом и визуальными эффектами стихового кода – тонкая, но вполне поддающаяся определению, и нельзя не согласиться с С.В. Сигеем, что «необходимо строгое различение именно визуальной поэзии и визуализации стиха» [Сигей 1991, 10]. Осторожно предположим, что воспользоваться при этом следует тем же принципом, который обсуждался выше для палиндрома: в произведениях визуальной поэзии визуальный код нейтрализует различие между стихом и прозой.
(обратно)65
И уж никак не подтверждается предположение Э.М. Береговской о том, что «случаи, когда текст сводится к одному слову, возможны только в рамках визуальной поэзии» [Береговская 2002, 129].
(обратно)66
Текст вошел в состав изданной в 1969 году антологии современной американской литературы, составленной известным литературтрегером Джорджем Плимптоном, и его автор, как и все другие участники антологии, получил от Национального фонда поддержки искусств гонорар в 500 долларов. Группа политиков инициировала в связи с этим слушания в Конгрессе США о разбазаривании Фондом государственных денег, Плимптон, в свою очередь, отправился в избирательный округ лидера этой группы агитировать против его избрания на новый срок, и т. д. [Daly 2007]. Буря возмущения в провинциальных американских газетах не может не вызвать ассоциаций со шквальной реакцией российской прессы на моностих Валерия Брюсова (см. стр. 125–128), вплоть до негодующих читателей, заявляющих о том, что придуманное ими ответное однословное стихотворение «darark» ничуть не хуже оплаченного из кармана налогоплательщиков шедевра [Fowler 1970, 63].
(обратно)67
Далее Граммен подразделяет ее еще на несколько разрядов (ср. прим. 359 на стр. 232 и стр. 352), из которых текст Сарояна относится к самой сложной разновидности – «азбуконцептуальной» (alphaconceptual).
(обратно)68
См. также обсуждение маргинальных в этом отношении текстов Александра Галкина и Василия Каменского на стр. 150–154 – особенно прим. 246.
(обратно)69
Couvre-feu, «Затемнение» в русском переводе Мориса Ваксмахера.
(обратно)70
Некоторые из них выглядят небесспорными: так, при квалификации как написанного однострочной строфой стихотворения Володимира Свидзинского «Дочка Билитиды» В.А. Соколова апеллирует только к графике текста (в собрании сочинений, составитель которого заявил о сохранении графических особенностей оригинала) [Соколова 2010, 184], но совершенно не учитывает его метрику (между тем стихотворение написано элегическим дистихом).
(обратно)71
Стремление придать еще больший вес изолированному стиху приводит некоторых авторов к специальным приемам: так, Мария Каменкович часто отделяет его звездочками от остального текста [Каменкович 1996] (в большинстве случаев этот стих оказывается композиционно маркированным – первым в стихотворении либо последним; ср. чуть ниже соображения В.С. Баевского).
(обратно)72
В новейшее время справедливо и обратное: так, Р. Гилберт, констатируя растущее количество публикаций с удвоенным интерлиньяжем в американской поэзии 1990-х гг., отмечает, что образцом (underlying paradigm) для такого графического решения выступают моностих и (существующая в тексте на фоне строф другого объема) однострочная строфа [Gilbert 2001, 245]; об однострочной строфе в своих стихах как следствии пристального внимания к моностиху пишет американская поэтесса Кимико Хан [Hahn 2011, 116].
(обратно)73
Ср. также замечание И.Р. Гальперина о том, что – без учета стихотворной специфики – в неозаглавленных текстах «первое предложение ‹…› осуществляет функцию заголовка» [Гальперин 1981, 5].
(обратно)74
Устное сообщение И.В. Кукулина.
(обратно)75
Разумеется, попытки апеллировать к элементам книжной презентации текста при анализе его структуры несколько рискованны (см. методологическое осмысление проблемы в [Зубков 1996]). Поскольку совершенно игнорировать эти элементы в нашем случае невозможно, мы исходим из двух здравосмысленных посылок. Первая – презумпция значимости любого отклонения от полиграфического канона: применительно к данному случаю, графическое выделение первого знака – буквицы – относительно обычно, первого слова – в русской традиции менее обычно и несет на себе налет архаики либо ориентации на западные образцы (впрочем, часто использовалось Ниной Искренко; см. также о характерном примере этого приема в стихах Анны Горенко: [Давыдов 2002, 203]), первой строки или стиха – выглядит достаточно нетрадиционым. Вторая – презумпция присутствия авторской воли в презентации текстов в прижизненном авторском сборнике (в отличие от альманахов, журналов и т. п., для которых это не столь очевидно). Эти допущения оставляют определенный простор для дальнейшего анализа проблематичных случаев: например, в книге Михаила Сапего «Просто так» [Сапего 1994] каждый стих напечатан на отдельной странице, оказываясь выделенным, обособленным; однако характер оформления книги художником В. Голубевым, а также то обстоятельство, что в конце книги весь текст приведен целиком на одной странице, заставляют предположить, что в данном случае указанное решение принадлежит художественной концепции издания, а не авторской концепции текста. Показателен также пример четырех стихотворных сборников (Дины Гатиной, Михаила Котова, Ксении Маренниковой и Татьяны Мосеевой), вышедших в 2005 году и объединенных единым графическим решением: экзотическим для современного поэтического книгоиздания полужирным выделением последнего стиха в каждом тексте; из того, что этими четырьмя книгами издательство «АРГО-РИСК» открыло новую книжную серию «Поколение», можно сделать вывод, что нестандартная графика была не частью авторской поэтики, а элементом издательского дизайна.
(обратно)76
Некоторые другие примеры, привлекаемые Пардо для размышлений о большей самостоятельности отдельных стихов в стихотворном тексте, вызывают недоумение – например, интерпретация восьми подряд заканчивающихся точкой стихов в одном из стихотворений Пабло Неруды как переноса в поэзию драматургического приема стихомифии (суть которого, однако, не столько в краткости следующих друг за другом реплик – на раннеантичной стадии, в самом деле, равных одному метрическому стиху [Фрейденберг 1997, 164], – сколько в том, что их бросают разные персонажи, чего у Неруды нет); еще удивительнее попытка сблизить со стихомифией цепочки последовательных стихов, связанные анафорой или структурным подобием, то есть как раз не изолированные, а сильнее сопряженные друг с другом [Pardo 2004, 226–229].
(обратно)77
Ср. замечание А.К. Жолковского о том, что между этой строкой и следующей происходит контрастное переключение нескольких регистров письма [Жолковский 1994, 56].
(обратно)78
Любопытно, что С.Е. Бирюков, излагая эту мысль Маркова, оговаривается, характеризуя все «стыдливые одностроки» как «начальные строки стихотворений, которые ‹…› не требуют продолжений» [Бирюков 1994, 57], хотя некоторые примеры Маркова взяты и из середины стихотворений; вероятно, эту оговорку можно счесть бессознательным подтверждением мысли В.С. Баевского об особом статусе первой строки. Ср. также проведение той же мысли в художественном тексте (рассказе Евгения Шкловского), от лица переживающего творческий кризис поэта: «Он даже начал подумывать, не перейти ли ему вообще на жанр моностиха: в конце концов, любое начало известных шедевров ничуть не хуже целого стихотворения и вполне может существовать как самостоятельное произведение. Ну, например: “Я встретил вас – и всё…”, “Средь шумного бала, случайно…”, “Я полюбил науку расставаний…”, “Снег идет, снег идет…”…» [Шкловский 2004, 185]. Сюда же – мысль поэта Юрия Беликова про начальную строку стихотворения Сергея Есенина «Отговорила роща золотая» как «образовавшийся моностих, уходящий в поговорку» [Блиц-интервью 2009, 165].
(обратно)79
Ср. также: «Часто оказывается, что поэзия действительно концентрируется в отдельных частях стихотворного текста, иногда – лишь в нескольких строчках или даже словах; в то время как все остальное работает как “описание контекста”, “объяснение”, дань формальным нормам или связности изложения. Все эти дополнительные элементы на самом деле являются не-поэзией. В этом смысле и моностихи и хайку можно отнести к наиболее поэтичным формам текста, поскольку наличие в них не-поэзии может быть сведено к минимуму» [Андреев 1999, 342]. Этот ход мыслей в XX веке становится настолько очевиден, что его воспроизводят даже те литераторы, кто не только не пишет моностихов, но, похоже, и не знает про них: «Иногда поэты задумывались, а не следовало бы остановиться, написав первую строку, словно бы посланную с неба. Зачем добавлять вторую, которая обычно дается с трудом, ценой всех капризов и случайностей, навязываемых рифмой? ‹…› Если такие однострочные стихи восхищают нас в записках и черновиках поэтов, издаваемых после смерти авторов, то почему не закрепить за моностихами право на самостоятельное существование? Однако никто из поэтов на это не отваживался…» [Парандовский 1982, 230] Образ «первой строки, словно бы посланной с неба», отсылает, вероятнее всего, к словам Поля Валери о том, что «боги, по щедрости своей, даруют нам первый стих просто так; но наше дело выделать второй, чтобы он был созвучен первому и не оказался недостоин своего чудотворного старшего брата» [Valéry 1957, 482].
(обратно)80
О дейктических указателях как препятствии для автосемантичности (самостоятельности) фрагмента см. [Гальперин 1981, 100–101].
(обратно)81
Судя по проговорке «почти спелось», Иваск и придуманный им Иванов помнят строчку Тургенева (хоть и в искаженном виде) отнюдь не из стихотворения Блока «Седое утро», к которому она взята эпиграфом, а по знаменитому романсу Эраста Абазы.
(обратно)82
Любопытно, что приводимые Ваншенкиным строчки заметно различны – и если, например, строка Николая Ушакова
Стеклянный пепел зим…в принципе способна к автономному существованию, то пушкинский стих
Продолговатый и прозрачный…приобретает смысл именно в контексте стихотворения «Виноград» – но, по не вполне проговоренному подразумеванию Ваншенкина, заметно удачнее своих соседей.
(обратно)83
Первые известные нам украинские моностихи были опубликованы Линой Костенко почти на 30 лет позже [Костенко 1993]. Изредка встречающаяся интерпретация имеющего фрагментарно-монтажную структуру стихотворения «Из зеленых мыслей одного лиса» (1936) Богдана-Игоря Антонича как свободного собрания независимых друг от друга стихотворных заметок (и, в том числе, моностихов) – см., например, [Науменко 2012, 336], – кажется, не имеет под собой серьезных оснований.
(обратно)84
Любопытно, что Шеаде приводит все строки по памяти (указано в редакционном послесловии), располагает по одной на странице и не указывает авторов (принадлежность отдельных строк дана в конце книги) – формируя тем самым своеобразный новый текст центонного характера. Таким образом, замечание Ж.Л. Жубера о том, что для Шеаде одинокие строки и вне изначального стихотворного контекста «сохраняют полномочия стиха» (conservaient ‹…› pouvoir de vers) [Joubert 2010, 185–186], оказывается неточным: Шеаде занимают как раз возможности нового контекста.
(обратно)85
Хотя А. Шеврие, перечисляя предшественников Жуэ на ниве сокращенных и конспективных классических текстов, ни того ни другого не упоминает [Chevrier 2005, 278].
(обратно)86
Представляя сообщество, Сумароков писал, что оно строится как «эксперимент соавторства поэта-автора с поэтом-читателем, где вклад первого – текст, а второго – вкус», предполагая «полемизировать от имени современного вкуса против вкуса риторического романтизма или риторического модернизма» (-lab.livejournal.com/profile), – на практике, однако, тексты-источники варьировались гораздо шире, от Библии и классической прозы до современных поэтов Ольги Зондберг и Ники Скандиаки, которые и сами обращаются к моностиху.
(обратно)87
Речь идет о следующем стихотворении:
ВСЁ ПРОШЛО
Дождь перестал, уснул, склонясь на своих хрустальных ножках. (обратно)88
«Кошка переходит по мосту луны», из стихотворения «Введение в самую суть» (Entrada en materia); в популярность этой строки в Мексике внес особый вклад Г. Саид, предложивший студентам и преподавателям интерпретировать ее независимо от контекста, а затем опубликовавший довольно комичные плоды этой интерпретации в отдельной статье [Zaid 1987, 11–14].
(обратно)89
Этот подход намечен З.Г. Минц в исследованиях цитаты, разлагающих ее функцию в спектре от указания на цитируемое произведение до «знака общей установки на цитацию» [Минц 1973, 396–397].
(обратно)90
Кормилов вскользь отмечает, что наибольшую степень «моностиховости» примет эпиграф «из малоизвестного произведения» [Кормилов 1995, 84]. Этот подход (хотя и встречаемый не у одного Кормилова: ср. «Абсолютно лишено смысла воспроизведение не– или малоизвестной цитаты без указания адреса» [Крюков 1995, 163]) чреват субъективизмом: то, что представляется «малоизвестным» исследователю, может быть более чем хорошо известным в той референтной группе читателей, на которую ориентировался автор (ср., опять-таки, [Минц 1973, 391, прим. 8]) – что и отмечают новейшие исследователи интертекстуальности, указывая на «элитистский тип цитатности», связанный с «претекстами, доступными только посвященным или творческим единомышленникам» [Juvan 2009, 147]. Чтобы не подменять вопрос о функции эпиграфа в тексте вопросом о его функционировании в читательском восприятии, необходимо анализировать способ его взаимодействия с предваряемым текстом.
(обратно)91
Термин Ж. Женетта, обнимающий все структурно выделенные элементы текста, находящиеся на его периферии [Genette 1987, 10–11], видится нам предпочтительнее введенного в русский литературоведческий оборот Ю.Б. Орлицким термина «заголовочно-финальный комплекс» с практически идентичным содержанием [Орлицкий 2002, 564–566]: отечественный вариант термина не только громоздок, но и вызывает вопросы явной нерядоположностью заглавия (названия) и финала (под которым понимается не заключительная строка или строки, а следующая за ними дата и т. п.).
(обратно)92
Разумеется, встречаются пространные названия, с большой вероятностью не умещающиеся в одну строку, однако названия авторски многострочные оказываются в литературе Нового времени большой редкостью – впрочем, представляют интерес прозаические миниатюры со стихотворными многострочными названиями у Сандры Сантана [Сантана 2015]. Особый случай – известное стихотворение Геннадия Айги:
СТИХОТВОРЕНИЕ-НАЗВАНИЕ: БЕЛАЯ БАБОЧКА, ПЕРЕЛЕТАЮЩАЯ ЧЕРЕЗ СЖАТОЕ ПОЛЕ [Айги 2001, 75]– текст тут элиминирован до нуля, зато название отчетливо двухчастно, в самом себе совмещая тематическую и рематическую часть: ср. замечание И.И. Ковтуновой о том, что в лирическом стихотворении заглавие и текст «нередко выступают как поэтические аналоги темы и ремы» [Ковтунова 1986, 147], и размышления Ж. Женетта о тематических и рематических названиях [Genette 1987, 75–76]; это не значит, конечно, что из состава стихотворения можно выделить включенный в название «однострок», как это вроде бы предлагает Дж. Янечек [Янечек 2006, 148]. О пространных и многострочных названиях стихотворного текста см. также [Орлицкий 2002, 575].
(обратно)93
О ритмических характеристиках названий стихотворных книг см. [Орлицкий 2002, 582–584] – на материале, однако, главным образом советского поэтического книгоиздания 1960–80-х гг.
(обратно)94
Сходное с нашим соображение высказывает С.И. Кормилов по поводу «лапидарных» моностихов в противоположность литературным [Кормилов 1996, 146].
(обратно)95
К полному провалу приводят, например, попытки нащупать границу в содержательной, а не формальной плоскости: «Книга <стихов> претендует ‹…› исчерпать миросозерцание художника, воссоздать отношение ко всему окружающему миру во всех его сложностях и противоречиях, каким он представляется поэту на определенном этапе его развития», – пишет И.В. Фоменко, полагая в этом отличие книги от цикла, призванного «воплотить отношение лишь к одной из сфер бытия, преимущественно лишь к одной проблеме. Это может быть любовь, творчество, родина, добро и зло и т. д.» [Фоменко 1992, 21–22]. Понятно, что такое противопоставление совершенно произвольно: ничто не мешает автору полностью посвятить свою книгу любой из поименованных Фоменко «проблем», после чего можно спокойно констатировать, что на данном этапе развития поэта «весь окружающий мир во всех его сложностях и противоречиях» представляется ему именно сквозь призму данной проблемы. Не менее некорректными представляются попытки, например, В.Ф. Маркова вынести вопрос о разграничении цикла и книги (либо ее раздела) в плоскость истории их создания: «Разделы <книги> отличны от циклов ‹…› с самого начала: в разделе связь устанавливается авторской волей post factum, как бы силком» [Марков 1994, 57], – история литературы знает множество примеров «собирания» в циклы уже законченных произведений (здесь уместно будет привести пример крайнего рода – собирание Савелием Гринбергом цикла «Осколковщина» из стихотворных миниатюр с элементом незавершенности: в книге 1979 г. «Московские дневниковинки» [Гринберг 1979] ряд таких текстов опубликован под общим заголовком «Из цикла “Осколковщина”», а в позднейшем сборнике 1997 г. «Осения» эти фрагменты, дополненные и частично трансформированные, превращены в поэму под тем же названием [Гринберг 1997, 31–40]. Впрочем, позиция Маркова не была поддержана цикловедением (см. беглый обзор вопроса в [Ляпина 1999, 30]).
(обратно)96
Хотя и тут, вероятно, есть определенные градации: скажем, и в поэме, и в «романе в стихах» возможны обладающие большей самостоятельностью «вставные номера».
(обратно)97
Ср. у М.Ю. Лотмана: «Относительность границ между текстом и циклом порождает различные промежуточные формы между ними и обусловливает возможность взаимных переходов» [Лотман 2000, 310]. Вскользь упоминает о существовании этой проблемы и Фоменко: «Степень близости стихотворений ‹…› может быть так велика, что ‹…› невозможно провести границу между многочастным стихотворением и циклом…» [Фоменко 1992, 56–57], – полагающий, однако, ввиду ограничения поля исследования XIX веком, что такие формы неясного статуса «оказались достаточно ограниченными в своих возможностях» [Фоменко 1992, 58].
(обратно)98
В переводе Эллиса эта формальная структура потеряна: часть VIII представляет собой законченный сонет, а часть IX – целое одностишие: «Ты прав, мой бедный сын, да будет мир с тобой!..» В новом переводе Александра Ревича [Верлен 2000, 92]:
Как тяжко и легко! Я верю и не верю, Что слышал голос Твой, и я молюсь в ответ. Я столько получил, что не снести потерю, Стремлюсь и трепещу…IX
– Иного, сын Мой, нет! (обратно)99
При том, что первоначально, по сообщению И.С. Кукуя, «Ева» и «Адам» составляли вместе отдельный текст под собственным названием «Суждение о человеке» [Волохонский 2012, 562].
(обратно)100
Любопытно, что Марков, желая непременно причислить одностишие Шиллинга к моностихам, характеризует его в примечании как «последний из 15-ти Humoresques» [Марков 1994, 355], слегка искажая, тем самым, название текста, в котором французское «Юмореска» стоит в единственном, а не во множественном числе.
(обратно)101
Если в дело не вмешивается жанровый аспект: ср. [Марков 1994, 57].
(обратно)102
Возможно, стоит задуматься над подходом, предложенным Е.С. Хаевым: «Определяя цикл, нередко говорят об обогащении стихотворения контекстом. На наш взгляд, это недоразумение. Законченное произведение обогатить нельзя: в нем поставлены все точки над i, достигнуто равновесие всех элементов. (Это утверждение, естественно, следует понимать аксиоматически: называя произведение законченным, мы тем самым утверждаем нечто о соотношении его элементов, – Д.К.) Зато его можно переосмыслить, можно ввести в него новые точки зрения…» [Хаев 1980, 57]. Иными словами, стихотворение в цикле приобретает новый, трансформированный воздействием своих соседей и целого, смысл при сохранении старого, отдельного; в многочастном целом, напротив, смысл целого тотален, он полностью подчиняет себе смысл отдельных частей. Ср. также: «Цикловое целое должно и беречь, и оспаривать автономию отдельных стихотворений. ‹…› Прочитанный в порядке следующих друг за другом текстов цикл должен дать новую, в принципе не содержащуюся в отдельном стихотворении, смысловую структуру, ‹…› сопряженную с более или менее четкой композиционной идеей» [Фигут 2003, 18]. Попытка нащупать иной подход связана с идеей о том, что «в циклической художественной форме важна не столько подчиненность части целому, как в самостоятельном литературном произведении, сколько сама эта связь частей» [Дарвин, Тюпа 2001, 30].
(обратно)103
Испанские специалисты этого вывода, впрочем, не делают, указывая вместо этого на выработавшийся вообще у Мачадо в этот период, под влиянием философии Анри Бергсона, подход ко всему корпусу своих сочинений как к единому потоку [De Ros 2015, 221–225].
(обратно)104
От stornello (итал.) – малая форма песенного фольклора в центральной Италии.
(обратно)105
Русский перевод рассматриваемого произведения Райниса, под названием «Пять эскизных тетрадей Дагды» [Райнис 1981], характеризуется библиографами серии «Библиотека поэта» как выполненный «полностью с сохранением их структуры» [Харыкина 1987, 169–170], однако в действительности заметно сокращен за счет, прежде всего, фрагментированных и построенных на повторе частей, то есть как раз того, что интересует нас в первую очередь. Эта страница, например, в нем полностью отсутствует.
(обратно)106
Имеющийся русский перевод Анны Ахматовой этим параллелизмом пренебрегает: первая из соседних частей озаглавлена «Это было так давно» и начинается стихом «Всё это скрылось в глубь воспоминаний», вторая начинается стихом «Как память сон далекий сохранила?» [Райнис 1981, 271–272]. Трехстишие, составленное из трех анафорических однострочных фрагментов, также переведено Ольгой Ивинской [Райнис 1981, 280] без всякого интереса к структуре оригинала, то есть не только с утратой анафоры, но и с невозможностью автономного функционирования каждой строки:
Одной змеи укус на гибель обрекает, Другой змеи укус бессмертие дает, Но есть еще змея – ужалив, обновляет.– надо полагать, все это издержки советского метода перевода стихотворных книг кусками по подстрочникам, без картины целого перед глазами переводчика.
(обратно)107
От франц. bagatelle – «безделка»: название практически не употреблялось в поэзии, очень редко – в прозе (когда-то Бенджамин Франклин так называл свои иронические миниатюры), но зато распространено в академической музыке для обозначения легкой и краткой инструментальной пьесы: фортепианные багатели сочиняли, в частности, Бетховен, Лист, Барток, а также лично близкий к Айги Эдисон Денисов. Впрочем, соответствующее русское слово «безделки» на исходе XVIII века использовали в названиях своих поэтических сборников Николай Карамзин и Иван Дмитриев, но филиацию к этому отдаленному прецеденту у Айги увидеть трудно.
(обратно)108
Примечательно, что даже Дж. Янечек, рассматривая не «Лето с ангелами» как таковое, а книгу «Снег в саду» [Айги 1993] (подготовленную и переведенную на немецкий язык Ф.Ф. Ингольдом и вышедшую двуязычным изданием), в которой в состав «Лета с ангелами» инкорпорирован ряд других текстов большего объема, замечает, что в этой книге «одностроки фигурируют как элементы большой структуры, и поэтому, наверное, чувство их отдельности и минимальности до некоторой степени стирается» [Янечек 2006, 146].
(обратно)109
Принцип парадигмы изредка встречается и у других авторов, – так, книга шотландского поэта Томаса Кларка (род. 1944) «Избранные травы» [Clark 1998] полностью составлена из однострочных элементов одинаковой структуры:
* * *
кивающие пики дикого овса* * *
серебряные листья голубой овсяницы* * *
благоуханные чешуйки душистого колоска– каждый отдельный элемент не выглядит незаменимым или неверно интерпретируемым в отрыве от других, однако их изолированное функционирование очевидным образом разрушило бы кумулятивный эффект.
(обратно)110
Сомнения на этот счет уже выражал Д.М. Давыдов [Давыдов 2006a, 21].
(обратно)111
В составе более пространного произведения – со значительно более экспрессивной пунктуацией:
Болезнь – младенца. Беспокойство – деревьев. (обратно)112
Ср. также общий тезис А.П. Хузангая: «Айги – тот род поэта, который не нацелен на создание отдельного текста (текстов)» [Хузангай 2009, 10].
(обратно)113
Это, между тем, широко распространенная практика: см., напр., [Робель 2003, 114] и [Янечек 2006, 145]. Особенно показательно замечание С.Е. Бирюкова о том, что «в одностроках, как это ни странно, Айги звучит вроде бы громче. Однострок ‹…› выделен, слишком обособлен» [Бирюков 2000, 64] – проиллюстрированное двумя однострочными фрагментами из «Лета с Прантлем», которые, конечно, обособлены, но не слишком. Бирюков ввел в заблуждение Н.Г. Бабенко, опиравшуюся на его публикацию в своем обращении к теме моностиха: «В одностроках семантика молчания обретает особое время существования, так как смысловая концентрация в поэтических произведениях этого жанра очень высока и время читательской рефлексии неминуемо длится во много раз дольше времени чтения. В этом смысле однострок Г. Айги “И – Скомканность Молчания”, с одной стороны, является поэтической констатацией “теснения” и вытеснения молчания словом и шумом, с другой – позволяет молчанию длиться и длиться, чем и преодолевается его “скомканность”» [Бабенко 2003, 82–83]: эти размышления вполне справедливы сами по себе, но непосредственно в «Лете с Прантлем» молчание длится не так уж долго: в следующей главке топос поля уступает место топосу деревни, а через главку возникает пение соловья.
(обратно)114
Мы не обнаружили его источник, но специалисты по Беккету широко обсуждают именно это диалектическое противоречие в его творчестве, указывая, в частности, что искусство Беккета не является «кофмортно бесстрастным (apathetic)», но «принимает обличие страсти, постоянно враждующей против самой себя, то есть – бес-страстия (dis-passion)» [Weller 2009, 116].
(обратно)115
О том, что отрывки из советских газет целым рядом неподцезурных авторов 1960-х гг. осмыслялись как «абсурдные, почти инопланетные тексты», см. [Kukulin 2010, 592]. Впрочем, интертекст поэмы Хвостенко этим, безусловно, не исчерпывается: например, фрагмент
Индия Япония Китай Индонезия Р-р-р-р– апеллирует, возможно, к пьесе Сергея Третьякова «Рычи, Китай!».
(обратно)116
Ср., впрочем, название старинного цыганского романса «Только ночью цветы оживают…». Разумеется, происхождение этой изолированной синтагмы из данного контекста, а не из любого другого совершенно недоказуемо.
(обратно)117
Вообще found poetry в интерпретации Хвостенко выглядит иллюстрацией к мысли М.М. Бахтина, противопоставлявшего значение предложения как грамматическую категорию и смысл высказывания как коммуникативную категорию [Бахтин 1986, 276]: речевые обломки Хвостенко обладают известной полнотой значения, только подчеркивающей неполноту смысла.
(обратно)118
В этом смысле замечание А.А. Житенёва относительно того, что «лирический субъект Хвостенко – “подозритель”, скептический наблюдатель, стремящийся к самоопределению в выморочном пространстве искаженных человеческих отношений. Мир “подозрителя” безнадежно фрагментирован и элементарен, проникнут духом тотального бунта, осложнен невозможностью расподобить друга и врага» [Житенёв 2012, 87], – отчасти бьет мимо цели, поскольку и лирический субъект у Хвостенко также является предметом деконструкции и демонтажа.
(обратно)119
По-видимому, сам Рубинштейн близко подходит к такой интерпретации: «Каждая карточка понимается мною как универсальная единица ритма, выравнивающая любой речевой жест…» [Рубинштейн 1996, 6]; ср., однако, понимание стиха Рубинштейна как верлибра у М.Ю. Лотмана [Лотман 1999, 40]. Остается открытым вопрос о том, справедливо ли это для других стихотворных книг, отпечатанных на карточках, – прежде всего, для проекта Роберта Гренье «Фразы» [Grenier 1978], в котором содержание карточек (к тому же непронумерованных) гораздо более однородно (от одиночных слов до верлибров в 4–5 строк, включая множество однострочных фрагментов), но, тем не менее, возможность извлечения отдельных карточек из контекста целого неочевидна (о подходах к чтению Гренье см. [Watten 1984] и [Perelman 1996, 46–52] – Б. Уоттен, кажется, склоняется к пониманию «Фраз» как единого текста, тогда как Б. Перельман обсуждает отдельные карточки как относительно независимые).
(обратно)120
Соображение это кажется самоочевидным – однако все же существует мимолетная квалификация текстов Рубинштейна как «циклов одностроков» [Янечек 2006, 145].
(обратно)121
Ср., однако, размышления В.И. Тюпы об «интегративном цикле», части которого «самостоятельны по форме ‹…› и самодостаточны по смыслу. В то же время, пронизанные множеством общих мотивов, они спаяны в разноголосое единство конвергенции, где один текст поясняется, восполняется, поддерживается другим» [Тюпа 2003, 58], – примеры Тюпы (из «Армении» Осипа Мандельштама) близки к нашим, а выводы более сдержанны, поскольку прочная традиция интерпретации отдельных стихотворений «Армении» как вполне самостоятельных уже сложилась.
(обратно)122
Любопытно, что приводимые Скиданом примеры одночастных фрагментов Жукова:
на волне вегетативной нервной системы Песня Сольвейг моя дочь ест только под телерекламу как собака Павловаи др. – определенно характеризуются не только эвфонической, но также и аллитерационной выстроенностью, однако об их соответствии каким-либо метрическим схемам речь, конечно, идти не может: здесь то самое явление Ритма помимо метра, о котором шла речь выше.
(обратно)123
К обоснованию термина см. [Орлицкий 2002, 411–412].
(обратно)124
Представляет интерес, например, размышление Р. Зенита об обособленных микрофрагментах в составе прозаической «Книги беспокойств» Фернандо Пессоа (которая и вообще представляет собой собрание фрагментов): эти «неполные предложения, которыми открываются некоторые отрывки, затем повторяются уже интегрированными в их состав» и представляют собой, по мнению исследователя, своего рода изолированный стих, ставший источником для создания вокруг него более целостного прозаического фрагмента – а в некоторых случаях этот прозаический фрагмент так и не появился, и первоначальный «стих» остался без развития [Zenith 1999, 36]. Один из таких не подхваченных дальнейшим течением прозы фрагментов (главка 318) иногда републикуется как моностих (напр., [Moga 2007, 50]):
…ночью минуют друг друга суда, не приветствуя, не узнавая.– однако и в этом случае (ср. выше анализ полностью стихотворных циклов Арпа и Жукова) содержание образа в полной мере выявляется только в контексте целого – как минимум в сопоставлении с предыдущим фрагментом (перевод Александра Богдановского, не опубликован):
Только для меня застывает, раскинув тяжелые крылья, закат, окрашенный туманно и резко. Для меня под ним подрагивает большая река, и глазу незаметно ее струение. Для меня сотворено обширное пространство над рекой в разливе. Сегодня в общей могиле похоронили приказчика табачной лавки. И сегодняшний закат – не для него. Но, подумав здраво, хоть и невольно, понимаешь, что – и не для меня тоже.
* * *
…корабли, что проходят в ночи, и не перекликаются приветственно гудками, и знать друг друга не знают.
– любопытно, что переводчик прозы находит ритмическую компактность оригинала изолированной строки, тяготеющей к трехдольности (…barcos que passam na noite e se nem saúdam nem conhecem.), нерелевантной – что, конечно, справедливо ввиду силлабического характера португальской метрики, но (как мы уже обсуждали на примере Жюля Ренара, см. стр. 42) в иных обстоятельствах эти ритмические характеристики могли бы указывать на стихотворность текста помимо метра (недаром поэт Педро Лопес Мартинес инкрустирует эту строчку Пессоа непосредственно в текст своей поэмы [López Martínez 2006, 55]).
(обратно)125
Что на практике сплошь и рядом случается: ср. судьбу моностихов Брюсова (стр. 121–123), вопрос о гипотетических моностихах Ивана Хемницера (стр. 112–113), Даниила Хармса (стр. 176–178), Шарля Бодлера (стр. 185).
(обратно)126
Любопытно, что «пустых» строк Чухонцев оставил не 19, а всего 9, так что получилось десятистишие – довольно редкая и совершенно нехарактерная для этого автора строфическая форма. Может быть, это косвенно говорит о том, что, как отмечал Д.М. Давыдов, пороговой величиной для современного русского поэтического сознания остаются 8 строк: то, что меньше, воспринимается как миниатюра, то, что больше, – как развернутый лирический нарратив [Давыдов 2006b, 8–9].
(обратно)127
Английский оригинал эффектнее, поскольку начинается с составляющего отдельный стих артикля:
A one line poem vertically drawn. (обратно)128
Справедливости ради отметим, что именно на время работы С.И. Кормилова пришелся одномоментный всплеск публичного интереса к стихам Алдаровой, в которых, по мнению З.А. Шаховской, «ни тени вульгарности, а современность ‹…› связана нитью со славным прошлым русской поэзии» благодаря тому, что упоминаются «и Цирцея, и Прометей, и Адам, и Пико делла Мирандола» [Алдарова 1991, 210].
(обратно)129
«Если в контексте строки <слово> тесно связано с другими словами, имеет единственное, обусловленное ими, значение, то при выделении его в самостоятельный стих эти связи нарушаются, слово высвобождается и может иногда приобретать уже ряд значений» [Костецкий 1974, 101].
(обратно)130
Среди авторов, воспользовавшихся альтернативой многострочного и однострочного решений, нужно назвать еще Нормана Мейлера (Norman Mailer; 1923–2007), который в сценарии для собственного фильма «Мэйдстоун» (1970) вложил в уста главного героя (которого сам сыграл) реплику: «Я однажды написал о нас с тобой стихотворение. Однострочное. Называется “Дьяволы”» – и далее приводится само стихотворение: «Один из нас будет выглядеть лучше после всего» [Mailer 1971, 95]; это стихотворение было, однако, ранее опубликовано в составе небольшого цикла «Дьяволы» в книге стихов Мейлера, но там занимало семь строк – по 1-2 слова в строке (как, впрочем, и другие тексты в этой книге) [Mailer 1962, без паг.].
(обратно)131
Ср., однако, на стр. 103–104 о «шестисловиях» Веры Лавриной, в которых конвенциональная «лесенка» выступает лишь как один из многочисленных вариантов графического решения текста, всегда отличного от традиционной нормы.
(обратно)132
И, стало быть, допускает произвол противоположного рода, пример которого указывает Кормилов [Кормилов 1993, 17]: Ипполит Богданович на исходе XVIII века методически приводил записываемые паремии к форме двустишия – типа:
Бог дал, Бог взял. Тише едешь, Дальше будешь.Неудивительно, что и некоторые авторские имитации малых фольклорных жанров графически оформлены как многострочные тексты, «по Богдановичу»:
Любишь вонять – Люби и обонять. Герман ЛукомниковСр. также замечание А.К. Жолковского о предпочтительности интерпретации анализируемой им пословицы как трехстишия в [Жолковский 2011, 110].
(обратно)133
Ср., впрочем, возражения против этого принципа, в том числе и с апелляцией к моностиху пословиц, поговорок и загадок, в [Саука 1975].
(обратно)134
Термин не видится вполне удачным, поскольку, как признаёт и сам его автор, у «анти-пословиц», представляющих собой результат умышленной трансформации исходной паремиологической единицы, гораздо больше общего, чем различий, с оригинальными фольклорными претекстами [Litovkina, Mieder 2006, 4–5]. Из многочисленных альтернативных терминологий (см., напр., перечень в [Канавалава 2010, 93]) предпочтительным видится предложение С.И. Гнедаш, различающей провербиальные трансформы (с измененным относительно претекста планом выражения, но сохраненным планом содержания) и провербиальные трансформанты (с измененным планом содержания) [Гнедаш 2005, 9–10]; впрочем, для трансформации претекстов непаремийного происхождения это различение может не быть релевантным – ср. используемую нами типологию текстов-перифразов Г.Е. Крейдлина (стр. 270–278).
(обратно)135
Сходные рассуждения поэтов Татьяны Виноградовой и Бориса Гринберга относительно русских рекламных слоганов («Просто добавь воды», «Ведь я этого достойна!») и политических лозунгов («Родина-мать зовет!») [Блиц-интервью 2009, 168–169] менее убедительны, поскольку опираются на ощущение эмоциональной нагрузки («Какой посыл! Какая мощь!» – Виноградова), укорененное скорее во внетекстовой ситуации, чем в ее структурных коррелятах (повторы согласных в обоих слоганах – д и в в первом, д и т во втором, – не подкреплены ни синтаксически, ни ритмом словоразделов и потому обладают довольно слабым потенциалом семантической трансформации).
(обратно)136
Известно, в частности, что Федор Достоевский распорядился выбить карамзинскую строку на могиле своей матери (об этой цитате у Достоевского см., например, [Куюнжич 2006, 84]).
(обратно)137
В связи с этим вряд ли правомерна параллель между этими текстами Волошина – и лапидарным слогом и его «дериватами» (?), которую проводит Кормилов [Кормилов 1996, 146]: различие соотношений между вербальным и визуальным элементами в волошинских работах и в плакатах типа «Спички детям не игрушка» (пример Кормилова) кажется достаточно очевидным.
(обратно)138
Мы не рассматриваем здесь коллаборативные произведения, в которых вербальный элемент принадлежит одному автору, а визуальный другому. Стоит, однако, упомянуть о проекте американской писательницы Кэтрин Борн (Kathryn Born) «Однострочный коллектив» (The One Line Collective), в рамках которого более 20 художников представили около 60 работ, каждая из которых получила название по одному из моностихов Борн; итоговая выставка проекта прошла в апреле 2004 года в Чикаго.
(обратно)139
Это с моностихами тоже иногда случается: см., например, [Krier 1996] о композиторском конкурсе на лучшую музыкальную интерпретацию аполлинеровского моностиха «Поющий», [Miranda 2004, 109] о том, как однострочное стихотворение Хосе Горостисы положено на музыку (1934) Хосе Ролоном, [Los compositores 1998] о вокальном нонете «v3v3v3v» колумбийского композитора Рафаэля Акосты (в источнике ошибочно Косты) на текст однострочного стихотворения Пабло Неруды «Моя душа».
(обратно)140
Ср. аналогичное признание одного из пионеров моностиха в современной англоязычной поэзии Джеймса Кёркапа: «Я впервые заинтересовался однострочными стихотворениями, когда приехал в Японию двенадцать лет назад» etc. [Kirkup 1971, 6]; позднее указывалось и на то, что – в отличие от эпиграммы, афоризма или пословицы – для современных англоязычных моностихов, как и для хайку, характерны «чувство пространства и “разомкнутость” (“unclosure”), дающие совершенно иной эффект и проявляющие совершенно иную онтологическую установку» [Watson 2000]. Моностихи Эмманюэля Лошака, одного из первых французских авторов, последовательно работавшего с этой формой, также вызывали у коллег автора ассоциации с хайку [Richard 1967, 236] – и, как утверждается, знакомство Лошака с этим японским жанром действительно имело место и было весьма ранним (1905) [Simonomis 1994, 88–89]; о целесообразности соотнесения моностихов Лошака с французским переводным и оригинальным хайку пишет также М. Келару [Chelaru 2011, 47–52] в книге, обсуждающей степень взаимосвязи с хайку первых румынских моностихов Иона Пиллата (и дистанцирующейся от твердого убеждения В. Молдована и Ф. Василиу в том, что моностих Пиллата представлял собой европейский ответ хайку [там же, 66–68], но обходящей молчанием то обстоятельство, что сам Пиллат утверждал: моностих «не следует смешивать с греческой эпиграммой, персидским рубаи и японским хайку», – впрочем, и для Э. Лэшкони, цитирующей именно это заявление, оно выступает лишь указанием на то, от каких прообразов Пиллат отталкивался [Lăsconi 2013, 66]).
(обратно)141
А в ХХ веке ряд ведущих японских авторов отказывается от использования киредзи, тем самым приходя к структурной нерасчлененности хайку (см. подробнее стр. 201–202).
(обратно)142
Так, Э. Хирш начинает заметку о моностихе в своем «Глоссарии поэта» с того, что образцом моностиха является хайку [Hirsch 2014, 390]. В англоязычном сообществе авторов и переводчиков хайку такой подход широко обсуждается с конца 1970-х гг.: ср., напр., красноречивое название статьи Кларенса Мацуо-Аллара «Хайку: настоящее однострочное стихотворение» [Matsuo-Allard 1977]. Чуть подробнее о хайку как моностихе в англоязычной традиции см. стр. 316–317.
(обратно)143
«Отсутствие твердых форм в поэзии может показаться безобидным, но это не так. Твердые формы структурируют поэзию. Когда какой-нибудь поэт в эпоху поэзии, богатой твердыми формами (например, Катулл, Галеви или Вийон), писал свои стихи, ‹…› каждый новый текст либо принадлежал к одной из существующих твердых форм (и тогда он воспринимался в контексте знаменитых образцов этой формы или в контексте стереотипа восприятия этой формы), либо оказывался вне твердых форм, но близко к какой-то и каким-то из них (и тогда важную роль в восприятии текста играла подсознательная или сознательная попытка читателя понять смысл и назначение отличий между формой данного текста и близкими к его форме твердыми формами). ‹…› В настоящее время ‹…› в русской поэзии традиционные твердые формы совершенно прекратили выполнять функцию структуризации поэтического пространства, поскольку актуальное пространство поэзии сдвинулось, а формы остались там, где были», – и т. д. [Верницкий, Циплаков 2005, 156].
(обратно)144
Выбор именно этого ограничителя обусловлен у Лавриной нумерологическими резонами: «Шесть – это два раза по три и три раза по два. Числа два и три сакральны для русской культуры. Два напоминает о двойственной природе Христа. Принципу дуальности следуют множество русских пословиц, когда вторая их половина противопоставляется первой. Троекратность воскрешает образ Троицы. Это часто повторяющийся в народном творчестве, в религиозных и магических текстах прием. Троекратное повторение означает утверждение, воскрешение к бытию. Касательно шести вспоминается также пушкинский шестикрылый серафим как дух и гений поэзии. Число шесть тоже обладает полнотой и имеет сакральный смысл: за шесть дней были сотворены мир и человек».
(обратно)145
Не лишне отметить, что речь идет не только о первом моностихе на русском языке, но и о первом моностихе русского автора, вопреки гипотезе П.Н. Беркова [Берков 1962, 53–55], согласно которой Михаил Ломоносов в 1756 году сочинил однострочную латинскую эпиграмму в подражание Джону Оуэну (см. след. прим.), попавшую на листы с подготовительными материалами к ненаписанной книге «Теория электричества»:
Si vir es atque vires, cape vires et cape vi res.– по причине игры слов текст практически непереводим (дословный перевод Я. Боровского: «Если ты муж и процветаешь, то собери силы и силою бери вещи» [Ломоносов 1952, 238–239]). «В просмотренных мною работах о новолатинской поэзии ‹…› мне не удалось обнаружить данной эпиграммы. Поэтому я склонен считать этот моностих произведением Ломоносова», – не без осторожности пишет Берков; нам, в цифровую эпоху, проще обнаружить источник: цитируемая Ломоносовым строка встречается, в разных вариациях, в нескольких источниках XVII–XVIII веков – напр., [Nihus 1642, 163].
(обратно)146
Вопрос об однострочных стихотворениях Античности мы специально не рассматриваем, а обзорной литературы по этому вопросу, видимо, не существует [Chamoux 2004, 758]. Уместно, однако, отметить, что совершенно твердых свидетельств задуманной однострочности дошедших до нас с древних времен в однострочном виде текстов нет: практически всегда вполне вероятно, что уцелевшая строка представляет собой осколок более обширного текста. Это обстоятельство, однако, зачастую оказывалось безразличным для позднейших авторов – равно как и происхождение из письменной литературы или эпиграфики: так, Бен Джонсон в начале XVII века иллюстрирует свою мысль о том, что «даже единственный одинокий стих может составить превосходное стихотворение», двумя эпиграммами Марциала и стихом из «Энеиды» Вергилия – подписью Энея к щиту Абанта, прибитому ко входу в святилище Аполлона в Акциуме [Johnson 1906, 120]. В любом случае надписями и эпиграммами представление о возможностях моностиха совершенно ограничивалось: так, составленный Э. Филлипсом, учеником и племянником Джона Милтона, толковый словарь «The New World of English Words» (1658) определял моностих как однострочную эпиграмму, а Дж. Г. Льюис двести лет спустя замечал, тоже со ссылкой на Марциала, что «редкость моностихов вызвана трудностью втискивания в одну строку всех обстоятельств, необходимых для объяснения шутки, и самой шутки» – также подразумевая, тем самым, жанровую определенность формы [Lewes 1845, 459]. Более того, в значительной мере моностих понимался как возможность, присущая именно латинской эпиграмме: так, популярный эпиграмматист XVII века Джон Оуэн (1564?–1622?) мог вслед за тремя прецедентными однострочными эпиграммами Марциала (II. 73, VII. 98 и VIII. 19) обратиться к этой форме и включить в свое четырехтомное собрание (1606–1613, свыше 1500 эпиграмм) три однострочных текста (IV. 256, V. 56 и V. 75 [Owen 1766, 152, 188, 191]), но в полном переводе этого собрания на английский язык (1677) им, разумеется, соответствуют двустишия; впрочем, и однострочные эпиграммы самого Марциала переводились если не прозой, то как минимум двустишиями – а то и четверостишиями, как, например, в относящихся к XVIII веку немецких переводах Эфраима Мозеса Ку и Готхольда Эфраима Лессинга [Martial 1787, 187, 189]. Любопытно, что Лессинг, чьи эпиграммы в целом создавались под явным влиянием Марциала [Nisbet 2008, 201], сочинил-таки однострочную эпиграмму-экспромт «Эпитафия повешенному»:
Он здесь покоится, пока не дунет ветер. Hier ruht er, wenn der Wind nicht weht.– опубликованную, однако, спустя многие десятилетия [Joerdens 1812, 41]. Первые же однострочные переводы однострочных эпиграмм Марциала были напечатаны лишь в 1825 г. Бенедиктом Вильманом [Martial 1825, 150, 156].
(обратно)147
Ср. другой взгляд на вещи у С.И. Николаева, полагающего, что «отграничить “реальную” эпитафию от “литературной” довольно сложно, а иногда и просто невозможно» [РСЭ 1998, 7].
(обратно)148
Но вряд ли прав С.И. Кормилов, утверждая (хотя и без полной внятности) на этом основании, что моностих Карамзина принадлежит исключительно «лапидарной» традиции: «Русская культура практически до конца XIX столетия не знала моностиха литературного… Эта [карамзинская, – Д.К.] попытка перевода лапидарного слога в литературу не удалась, ‹…› и более века еще литературный моностих не появлялся» [Кормилов 1995, 71]. Любопытно, что как раз в «лапидарной» традиции к единственной карамзинской строке часто дописывали вторую – например: «Душа твоя востанет в блаженстве заутра» [РСЭ 1998, 9]. Напротив, сложно увидеть карамзинское влияние в совершенно естественном для «лапидарного слога» читательском моностихе – однострочном фрагменте многострочного стихотворения, хотя именно такую логику рассуждений демонстрирует О.И. Федотов: «В.Н. Топоров обращает наше внимание на весьма примечательный факт: по аналогии с данным произведением Карамзина в дальнейшем были использованы как кладбищенские моностихи изолированные строчки из его же “полнометражных” текстов. Например,
Прохожий, помолись над этою могилой!– не что иное как заключительная строка его перевода Элегии Грея» [Федотов 2002, 20], – библиографическая ссылка на В.Н. Топорова у Федотова отсутствует, но вряд ли это Топоров приписывает Карамзину строку Василия Жуковского и называет заключительной первую строку заключительного четверостишия.
(обратно)149
Републиковано в [РСЭ 1998, 104] без кавычек и с заключительной точкой вместо восклицательного знака.
(обратно)150
На нее обратил наше внимание М.А. Амелин.
(обратно)151
В действительности авторство этой идеи принадлежит Владиславу Ходасевичу, также ссылающемуся на Грота и на то, что «наброски державинской эпитафии не раз встречаются как раз в тех тетрадях Державина, где записывались черновики стихов» [Ходасевич 1991, 515]; эту заметку Ходасевича, опубликованную в 1933 г. в парижской газете «Возрождение», Марков упоминает, но время ее публикации называет неверно: 13 августа вместо 23 июля ([Марков 1963, 254]; в [Марков 1994] эта ссылка вообще снята).
(обратно)152
Аналогичные подсчеты М.Л. Гаспарова дают 17 текстов в промежутке с 1740 по 1830 гг., из 3260 учтенных [Гаспаров 2000, 316].
(обратно)153
Сообщение Кормилова о публикации этой надписи в журнале «Друг просвещения» (№ 10 за 1805 г.) [Кормилов 1993, 19] основано на недоразумении: в действительности в этом издании на стр. 25 (а не 222 – у Кормилова, видимо, опечатка) помещен другой текст Державина – четверостишие «На кончину графа Суворова-Рымникского князя Италийского» (в [Державин 1866, 380] под названием «На смерть Суворова»).
(обратно)154
Полемический характер этого утверждения направлен, вероятно, на широко распространившееся благодаря мемуарам Е.Б. Фукса мнение, что такую эпитафию Суворов сочинил себе сам [Фукс 1827, 9].
(обратно)155
Другая эпитафия Суворову, написанная Николаем Гнедичем и отнесенная к моностихам С.Е. Бирюковым [Бирюков 1994, 60], в действительности является двустишием [Гнедич 1832, 204]; в [Бирюков 2003] пример из Гнедича снят, но в вузовский учебник [Федотов 2002, 20] успел попасть.
(обратно)156
В связи с этим фактом вызывает некоторое недоумение замечание Кормилова о том, что публикация данной надписи не была осуществлена потому, что после 1791 г. (года смерти Г.А. Потемкина, убившего Голицына на дуэли – спровоцированной им, согласно тогдашним слухам, из зависти) «это потеряло смысл» [Кормилов 1993, 18].
(обратно)157
Кормилов же пишет о нем (и о других державинских моностихах) в [Кормилов 1993] как о лапидарном (а не литературном), а затем в другом месте, упоминая о «первых русских литературных моностихах Державина и Карамзина» [Кормилов 1996, 145], отсылает к этой своей работе.
(обратно)158
Хотя в отдельных случаях ритмическая корреляция текста и названия, безусловно, имеет место: см. стр. 39–40 и 332–333.
(обратно)159
И наоборот: в произвольно выбранных 50 баснях Хемницера нами зафиксированно 12 стихов, обладающих логической и синтаксической самостоятельностью аналогично спорным фрагментам. Все они представляют собой шестистопный ямб (хотя вообще ямб хемницеровских басен вольный), да и в других отношениях сходство очень сильное (ср., напр.: «От зла нередко зло другое происходит.» – «От зла и одного чего не отродится!»)
(обратно)160
На этот источник обратил наше внимание М.И. Шапир.
(обратно)161
Из стихотворения Батюшкова «Мои Пенаты»: «Упьемся сладострастьем / И смерть опередим».
(обратно)162
Имеются в виду Джеймс Томсон (1700–1748) и Жан Франсуа Сен-Ламбер (1716–1803), авторы одноименных поэм «Времена года» (1730 и 1769 соответственно).
(обратно)163
В последующих републикациях варьируются союзы: ou нередко меняется на et и наоборот, что довольно мало влияет на смысл текста.
(обратно)164
Rimaillet – от глагола rimailler «рифмачить, сочинять плохие стихи». В одном из позднейших источников автором этой переделки назван Анри де Каррион-Низа (1767–1841) [Maurice 1856, 247].
(обратно)165
Циркулируя, по-видимому, и изустно, с различными искажениями и дополнениями; отметим цитирование моностиха Жаном-Батистом Гурье с атрибуцией его неаполитанскому посланнику в Париже Доменико Караччоли (1715–1789) [Gouriet 1806, 155].
(обратно)166
Жан Кризостом Ларше, граф де Ла Турай (1720–1794), в 1755–1790 гг. состоял адъютантом (а поначалу, особенно во время начавшейся через год Семилетней войны, отчасти и воспитателем) при принце Конде (1736–1818), однако не последовал за ним в эмиграцию, а удалился в деревню работать над новой книгой, где затем был арестован, препровожден в Париж и гильотинирован; известен, главным образом, своей перепиской с Вольтером [Bellevüe 1911].
(обратно)167
Вероятно, имелся в виду Сульпиций Север, римский христианский писатель рубежа IV–V веков, знаменитый изысканной лаконичностью стиля. С другой стороны, франц. sévère – «строгий, суровый».
(обратно)168
Можно довольно уверенно утверждать, что замечание Нугаре о беспрецедентности однострочных «Времен года» для классической поэзии относится не к самому факту однострочности, а к однострочному стихотворению, свободному от жанрового канона. Так, в 1816 году Жозеф Никола Барбье-Вемар (1775–1858) в своем журнале латинских стихотворений «Hermes Romanus» опубликовал сочиненный по просьбе читателя (!) моностих – подпись к известному бюсту Мольера скульптора Жана-Антуана Гудона, – явно понимая этот жест как вполне естественный [Hermes 1817, 807]. Характерно, что в словаре французского языка, составленном на основе записей Антуана Ривароля (см. след. прим.), моностих определяется как однострочная эпиграмма [Rivarol 1827, 639].
(обратно)169
Возможно, такой вид сюжету придала контаминация с другим анекдотом, рассказывавшимся про писателя Антуана Ривароля (1753–1801), отозвавшегося будто бы о прочитанном ему двустишии: «Неплохо, но есть длинноты», – этот анекдот вроде бы был впервые опубликован в 1803 г. [P.M. 1803, 176]. Во всяком случае, спустя сто лет французский справочник крылатых слов и выражений рассказывает эти две истории вместе и выражает предположение, что в первой из них Ривароль вполне мог быть «другом Севером» [Alexandre 1901, 121]. Кроме того, Риваролю же принадлежит язвительная шутка по поводу еще одного одинокого стиха – строки из стихотворения Антуана Лемьера (1723–1793) «О торговле» (Sur le Commerce, 1757):
Тризуб Нептуна – скиптр над всем подлунным миром. (Le trident de Neptune est le sceptre du monde.)– этот стих, предмет особой гордости автора, широко цитировался современниками и даже именовался «стихом века» (не только в связи с собственными поэтическими достоинствами, но и как афористическое выражение геополитической доктрины): по воспоминаниям М. Кюбьера-Пальмезо, Ривароль ответил на вопрос об этой строчке: «Да, это одинокая строка» (Oui, c’est le vers solitaire), подразумевая посредственность стихотворения в целом, – пуант шутки, однако, в том, что vers solitaire (одинокий стих) звучит так же, как ver solitaire (ленточный червь) [Palmézeaux 1803, 294]. Среди других возможных претекстов моностиха де ла Турая можно назвать относящуюся к 1703 году и опубликованную в 1770 году переписку Никола Буало с младшим коллегой и будущим издателем Клодом Броссетом, в которой обсуждался перевод Буало однострочной эпиграммы из «Палатинской антологии» (IX. 455, вдохновлявшей многих эпиграмматистов [Добрицын 2008, 247] и переведенной на латынь с сохранением однострочной формы Томасом Мором): Буало превратил ее в заключительный стих десятистрочного стихотворения, но в самой строке сократил одно слово, что и привело к дискуссии о краткости и избыточности в поэтической миниатюре [Boileau 1770, 264, 268–270, 275].
(обратно)170
Консультацией по этому вопросу мы обязаны И.А. Пильщикову.
(обратно)171
Впрочем, том 11 этого издания, в котором содержится данный эпизод, остался в личной библиотеке Пушкина неразрезанным [Модзалевский 1910, 214]. Однако направить фантазию молодых Вяземского и Пушкина в эту сторону могли и какие-то иные прецеденты минимизации и эрозии формы и содержания, явившиеся во французской литературе последней трети XVIII века зримым свидетельством культурной и эстетической революции, – ср., напр., [Moore 2009, 16–25] о пародийной пьесе (названной к тому же «стихотворением в прозе») Шарля Жоржа Кокле де Шоспьера (1711–1791, известен прежде всего как цензор, разрешивший «Женитьбу Фигаро») «Добродетельный распутник» [Coqueley de Chaussepierre 1770], каждое из пяти действий которой представляет собой немногочисленные никак не связанные слова и знаки препинания, разбросанные по пустой странице (или, если угодно, разделенные обширными пробелами); характерно, что для современников (в лице, например, М.Ф. Пиданза де Меробера [Mémoires 1783, 153]) эта публикация была едкой пародией, тогда как для новейших исследователей она выступает провозвестником кардинальных изменений в соотношении текста и фона у Стефана Малларме, дадаистов и т. д. [Andel 2002, 24–27]
(обратно)172
Т.е., вопреки безоговорочному заявлению В.Ф. Маркова о том, что «наше сознание воспринимает как однострок случайно дошедшие до нас обрывки из древних поэтов» [Марков 1994, 347], этот подход вовсе не является самоочевидным. Корректнее формулирует Е.И. Зейферт: «Ненамеренная фрагментарность текста (его частичная потеря, незаконченность, публикация фрагмента произведения) в сознании творческого человека может вызвать ощущение намеренного приема – отрывочности, оборванности текста как атрибута художественной формы с богатыми возможностями: множеством вариантов интерпретации смысла, стимулированием читательского сотворчества – и стать… примером для подражания» [Зейферт 2014, 17].
(обратно)173
Консультациями по этому вопросу мы обязаны В.В. Зельченко и С.А. Завьялову.
(обратно)174
Этой графике следует позднейший русский перевод Виктора Ярхо [ЭП 1999, 362]:
Сплели Из лотоса венки, на грудь надели и на шею. (обратно)175
Более ранний перевод Василия Водовозова и позднейший Викентия Вересаева также двустрочны; для колебаний в графике подлинника здесь нет оснований: фрагмент дошел в составе трактата по метрике «Гефестион», где он фигурирует как пример двустишия ямбическим триметром [Campbell 1988, 90–91].
(обратно)176
Из трех имеющихся в каноническом корпусе сочинений Марциала однострочных фрагментов (самостоятельных или нет – в точности неизвестно), без откровенно непристойного II. 73.
(обратно)177
«У римлян были законченные стихотворения в одну строку… Я просто хотел сделать такую попытку с русским стихом» [Измайлов 1911, 395]. Брюсов, очевидно, имеет в виду латинские эпиграммы, литературность которых с сегодняшней точки зрения сомнительна; сборник таких эпиграмм (среди которых целый ряд однострочных) был в домашней библиотеке Брюсова. Находились в поле зрения поэта и греческие однострочные фрагменты; в имевшейся у него книге «Anthologia lyrica graeca» один из таких фрагментов, содержащий характеристику Сапфо, данную Алкеем, несет следы брюсовской работы по его переводу (ОР РГБ, ф.386:Книги:628, л.117об). Существенно позже Брюсов переводил однострочные фрагменты раннелатинских авторов (см. [Брюсов 1994, 795]).
(обратно)178
От обсуждения присущих этой эпохе особенностей в восприятии слова и текста нам хотелось бы, в рамках нашей гораздо более специальной темы, уклониться, но и без подробного обсуждения понятно, что повышенный интерес к формальной стороне искусства способствует перемещению в фокус внимания авторов, читателей и исследователей малой формы и малых единиц текста.
(обратно)179
В предисловии к этому изданию анонсированы всего четыре «одностишия»: «Мы не воздержались также от включения в сборник четырех одностиший, подобных ставшему в свое время притчей во языцех: О, закрой свои бледные ноги…» [Брюсов 1935, 7]. Первоначально составитель планировал публикацию только текстов 1894 г., три текста 1895 г. были вписаны И.М. Брюсовой в гранки (РГАЛИ ф. 613 оп. 1 ед. 5755 л. 72).
(обратно)180
К которой, к сожалению, доверившись академическим авторитетам, присоединились и мы в нашей ранней публикации [Кузьмин 1996, 72].
(обратно)181
Тире на конце этой строки всеми публикаторами опущено.
(обратно)182
Позднее этот бодлеровский сонет был все же переведен Брюсовым полностью, в шестистопном ямбе (см. [Брюсов 1994, 271]).
(обратно)183
Комментаторы Собрания сочинений, интерпретируя «Кошмар» как вариант заглавия, ошибочно относят его к другому моностиху, написанному почти годом позже [Брюсов 1974, 595].
(обратно)184
Ср.: «автор, перечитывая и просматривая записи, обнаруживает, что возможно перевести некоторые из них из одного статуса в другой (объявить текст законченным)» [Азарова 2008, 274].
(обратно)185
В связи с этим традиционная датировка брюсовского моностиха 3-м декабря 1894 г. становится не вполне корректной: эта дата относится к наброску из записной книжки, дата же вышеозначенного решения и итоговой правки – а до этого нет оснований говорить о существовании отдельного текста, нуждающегося в датировке, – остается неизвестной. Ср.: «Есть все основания для двойной датировки эквивалентов <текста>: временем их написания и временем теоретического осмысления в таковом качестве» [Орлицкий 2002, 602].
(обратно)186
17 августа датировано, в частности, письмо П.П. Перцову, цитируемое на стр. 133.
(обратно)187
Хотя и здесь невозможна твердая уверенность в том, что одинокие строки не являются бегло, для памяти записанными Брюсовым началами каких-то ненайденных многострочных стихотворений, предназначенных составить цикл с первым текстом, или попросту незавершенными набросками.
(обратно)188
Иного мнения придерживается О.А. Клинг: «Брюсов шел на эпатаж сознательно, но, думается, читателей не столько шокировала сама “новая” форма стиха, сколько содержание, а точнее “бледные ноги”» [Клинг 1992, 272], – аргументируя это, однако, тем, что из всех своих моностихов Брюсов выбрал для публикации самый рискованный в содержательном отношении; как мы видим из истории брюсовских черновиков, это не так, потому что до опубликованного в «Русских символистах» моностиха других моностихов у Брюсова не было.
(обратно)189
Инициалами «А.З.» в этом случае, вероятно, подписался А.Е. Зарин (хотя И.Ф. Масанов и не учитывает «Звезду» среди журналов, в которых этот автор пользовался данным криптонимом [Масанов 1956, I:40], Энциклопедия Брокгауза и Ефрона указывает на тесную связь Зарина с этим изданием [ЭСБЕ 1905, 772]).
(обратно)190
С.И. Гиндин отмечает, что это письмо «ярко характеризует восприятие зарождающейся новой поэзии сознанием массового читателя» [Брюсов 1991, 681].
(обратно)191
Ср. точно такое же «например» в отстоящем от «Русского богатства» на полвека отзыве Б.В. Михайловского: «Многое вызывалось желанием обратить на себя внимание, эпатировать публику доведенными до крайности “новшествами” (например, нашумевшее “стихотворение” из одной строки…)» [Михайловский 1939, 290].
(обратно)192
Дает ли этот пассаж Кандинского основание для заявления современного исследователя: «Как и многих, художника поразила строка В. Брюсова “О, закрой свои бледные ноги!”, о чем он позже вспомнил в своей ранней статье» [Турчин 1998, 19]?
(обратно)193
По поводу приписывания самого брюсовского текста Александру Добролюбову С.Н. Тяпков замечает, что это знак неразличимости для Буренина отдельных представителей символистского течения [Тяпков 1986, 92], – однако ответственность за эту накладку лежит не на Буренине, а на П.П. Перцове, тремя месяцами раньше опубликовавшем в той же газете «Новое время» сообщение о принадлежности знаменитого моностиха Добролюбову [Перцов 1901] (характерно, что, отмечая тут же неточность цитирования Бурениным Брюсова, Тяпков приводит брюсовский текст с двумя обычными ошибками – запятой после «О» и восклицательным знаком). О том, что современники, при всей знаменитости моностиха, могли путаться в его авторстве, говорится также у Ивана Бунина в так называемой «Автобиографической заметке» (Письмо к С.А. Венгерову от 10 апреля 1915 года): абзац, в котором Бунин описывает, не называя, Александра Емельянова-Коханского, завершается замечанием: «именно ему долго приписывали многие все эти “закрой свои длинные ноги” и т. п.» [Бунин 1967, 259], – возможно, впрочем, что Бунин здесь использует брюсовский моностих в собирательном смысле, подразумевая ранние тексты Брюсова вообще и отражая общеизвестную напряженность во взаимоотношениях Брюсова и Емельянова-Коханского, включавшую и факт публикации последним стихотворений Брюсова под своим именем, на уровне слухов, возможно, известный и современникам (см., напр., [Кобринский 2010, 86–87]); как более или менее осознанное оскорбление в адрес Брюсова расценил такое уравнивание Буниным его и Емельянова-Коханского Петр Пильский [Пильский 1999, 273]. В позднейших мемуарах приписывает моностих Брюсова Андрею Белому Иван Клюн [Клюн 1999, 271].
(обратно)194
Впрочем, еще раньше Константин Станюкович в одном из фельетонов упоминает о «новых людях», один из которых «написал замечательное стихотворение ровным счетом в 4 слова: – О, застегни свой жилет!» [Пильский 1999, 276]. Интересно, что буренинский тип остроумия в точности воспроизведен спустя более чем сто лет, хотя и по совершенно постороннему поводу, Виктором Топоровым: «Представьте себе, что вам хочется украсть у Валерия Брюсова знаменитый моностих “О, закрой свои бледные ноги!”, – но украсть так, чтобы вас не поймали, а вернее, даже поймав, не смогли притянуть к ответу. И вот вы пишете: “Ах, открой твои пухлые губы!” – и ни одна собака к вам не подкопается, ведь ни одно слово не совпало» [Топоров 2012], – помимо прочего, критик переоткрывает, спустя 30 лет после М.Л. Гаспарова, идею ритмико-синтаксического клише.
(обратно)195
Должно быть, это потому, что в своих пародиях Буренин, как выражается современная исследовательница и поклонница его творчества Н.Н. Шабалина из Елабужского педагогического университета, «превосходно подхватывает технику поэта и сатирически разрушает изнутри всю его систему, доказывая тем самым, что это стихотворение всего лишь очередной литературный опус» [Шабалина 2012, 144], – а может, и от того, что, как полагает по поводу Буренина В.И. Новиков, «внутренне близки друг к другу политическое мракобесие, человеконенавистническое хамство – и эстетическая ограниченность, неуважение к таинственной специфике непрерывно обновляющегося искусства» [Новиков 1989, 401].
(обратно)196
Отметим экзотическое удвоение экспрессивности: Троцкий добавляет Брюсову уже не один, а два восклицательных знака. Происхождение второй, «менее известной» цитаты установить не удалось; вообще в своих статьях в «Восточном обозрении» – подцензурной левой газете, испытывавшей постоянные затруднения с цензурным ведомством, – Троцкий обращает к «своим» читателям намеки разной степени прозрачности, и это, вероятно, один из них.
(обратно)197
Начиная уже хотя бы с того, что устойчивость содержательного и стилистического инварианта текста относительно перестановки его элементов может говорить не столько об их независимости от целого, сколько об ином основании этого целого, холистическом, представляющем части как эпифеномен целого – в этом смысле Андрей Белый в 1910 году, как будто отвечая на требование Троцкого: «Синтеза! Синтеза!» [Троцкий 1926, 169], писал: «“синтез” предполагает, скорей, механический конгломерат ‹…›, “символ” указывает более на результат органического соединения» [Белый 2010, 68].
(обратно)198
Ср.: «Основной модус художественного видения мира, присущего создателю “Уединенного” и “Опавших листьев”, ‹…› можно было бы обозначить как “патологическую” неспособность Розанова воспринимать мир “извне”, в качестве объекта, иными словами – под знаком “формы” (внешней границы)» [Кулишкина 2004, 7].
(обратно)199
Ср. также резюме А.А. Голубковой: «В том, что касается эротики, Розанов не чувствует никакого сходства с Брюсовым» [Голубкова 2004, 295].
(обратно)200
Брюсов, однако, с Гурляндом не согласился, объясняя авторскую пунктуацию соображениями содержательного характера: «После “О” не поставлена запятая во избежание двусмысленности: можно было бы подумать, что поэт обращается к букве “О”, предлагая ему (не ей) закрыть свои “бледные ноги”» [Брюсов 1991, 679].
(обратно)201
Вообще различные ошибки и неточности в републикациях моностихов поразительно часты для текстов столь небольшого объема, – такое впечатление, что публикаторы просто полагались на свою память. Знаменательно, в частности, что к 135-летию Брюсова критик А. Ганиева, приветствуя классика статьей под названием «Сатана с декадентской бородкой», упоминает «знаменитый и вызвавший много насмешек афоризм <sic! – Д.К.> “О, прикрой <sic! – Д.К.> свои бледные ноги”» [Ганиева 2008].
(обратно)202
Теме соотношения слова и жеста посвящена книга [Цивьян 2010], в которой упоминания о моностихе Брюсова решительно не хватает.
(обратно)203
Некоторых удивительным образом занимает и поныне: «“О закрой свои бледные ноги” – Брюсов. А зачем их закрывать? И чьи они, а может, лучше – не закрывать. Пусть себе торчат?» [Ляндо 1997, 338].
(обратно)204
Занятно, что в мемуаре Эрберга Брюсов защищается религиозной трактовкой текста от эротической трактовки – хотя безобидность первой относительно второй вовсе не очевидна: напротив, Б.М. Гаспаров полагает, что эти объяснения лишь усугубляли скандальность ситуации (added insult to injury) [Gasparov 2011, 5].
(обратно)205
Впрочем, осторожный Шершеневич тут же оговаривается: «Возможно, что это была очередная мистификация, которые очень любил Брюсов», – и, в свою очередь, связывает появление знаменитого моностиха с интересом Брюсова к позднелатинскому автору Авсонию, что, однако, малоправдоподобно: интерес Брюсова к поздним римским авторам возникает десятилетием позже, в частности, к переводам Авсония он обращается только в 1909 г. [Брюсов 1994, 795, 809]
(обратно)206
Возможно, на это же намекал и А.И. Дейч, сообщая о стихотворении Брюсова, что «вся поэма состояла из одной этой строчки, а дальше следовали лишь многоточия» [Дейч 1914, 110] – при том, что никаких многоточий в публикации «Русских символистов» нет.
(обратно)207
Забавно, что идею Анненского некритически (с опущенной мотивировкой) воспроизводит С.Н. Тяпков в статье о Брюсове для биобиблиографического словаря «Русские писатели», где упоминается «навеянное Малларме однострочное стихотворение, занимавшее в “Русских символистах” отдельную страницу» [Тяпков 1990, 120]. Ср. также несколько загадочный комментарий Р.М. Дубровкина, замечающего, что Анненский «имеет в виду перенесение самых внешних признаков, а не заимствование поэтической системы» [Дубровкин 1998, 249].
(обратно)208
Еще более удивительно, впрочем, что некоторым современным специалистам смысл брюсовского текста совершенно ясен: так, Ю.Б. Борев мимоходом замечает, что «поэт-символист В. Брюсов в стихотворении в одну строку откровенно обращается к своей даме: “О, закрой свои бледные ноги!”» [ТЛ 2001, 250], а О.Д. Буренина-Петрова, напротив, специально останавливается на том, что брюсовский моностих, «будучи обращенным к Христу, эквивалентен целому тексту-молитве и ‹…› создается по всем законам символистского сверхтекста, иконически отображающего ритуальный повтор акта творения» etc. [Буренина-Петрова 2005, 117] – даже если вынести за скобки сомнения в том, что гипотетическое закрывание Христом своих бледных ног может служить ритуальным повтором акта творения, остаются непонятными методологические основания, позволяющие однозначно интерпретировать принципиально открытый для разнонаправленных интерпретаций текст благодаря опоре на домыслы мемуаристов.
(обратно)209
Любопытно, что десятью годами позже сходным способом аргументирует брюсовский зоил В.В. Розанов в связи с «Апофеозом беспочвенности» Льва Шестова: «Авторы пишут или начинают писать “отрывками”, без системы и порядка; но и мы, читатели, не имеем ли неодолимую потребность, начиная с известного возраста, читать тоже “отрывочно”, и, напр., купив книгу, не читаем ее от доски до доски, а только “просматриваем”, т. е. “выуживаем” из нее что-нибудь, почти наугад, а остальное бросаем, переходя к другой книге» [Розанов 1999, 339]. Ср. также у Джорджа Мура о стихах Виктора Гюго: «Никто не читает его, кроме журналистов, цитирующих его в газетах, что, впрочем, разумнее, чем может сперва показаться: ведь сущностное требование к искусству – чтобы оно было редким, другое – чтобы оно был кратким. Из целого стихотворения, как известно, редко мы удержим в памяти больше, чем строфу, и частенько из всей строфы лишь одна строчка остается в памяти» [Moore 1888, 57]. Эта логика рассуждений воспроизводится разными авторами вновь и вновь при обсуждении неравноценности строк в стихотворении – вплоть до эффектной (и очень американской, логично возникающей именно в связи с поэзией Роберта Фроста) мысли о том, что в стихотворении есть суммирующая его смысл строка, которую можно использовать как наклейку на бампер автомобиля [Erhardt 2001].
(обратно)210
К теме «гипотетических интерпретаций» примыкает проведенный А.О. Маркосянц анализ употребления Брюсовым эпитета «бледный»: показав, что эпитет этот важен для раннего Брюсова (зато после 1906 года практически у него не встречается) и связан преимущественно с темой поэта, исследовательница не рискует, однако, приписать «бледные ноги» образу поэта, замечая, напротив, что «если современники Брюсова упрекали его за ‹…› словосочетание “бледные ноги”, то они имели в виду прежде всего особое, символистское звучание этого слова, неуместность употребления его по отношению к “ногам”» [Маркосянц 1964, 164–165] – кажется, ничто в приведенных нами выше и ниже откликах современников на возможность такого понимания не указывает.
(обратно)211
Ср. у другого современного прозаика, также в речи персонажа: «Я понимаю, Блока не учить, у этого прекрасного поэта стихи длинные. Но Брюсова… Чего там учить? “О, закрой свои бледные ноги”. Рай для склеротиков» [Савельев 1999, 4]. Вообще востребованность брюсовского моностиха в новейшей русской литературе и массовой культуре довольно высока: чего стоит одна только вереница газетных заголовков с его использованием – особенно склонна к ним почему-то «Комсомольская правда»: «Модный обозреватель “КП” – Саре Джессике Паркер: О, закрой свои бледные ноги!» (16.10.2010), «Дресс-код в России: “О закрой свои бледные ноги!”» (27.01.2011) и т. п.
(обратно)212
В черновом варианте третьей главы трактата «Что такое искусство?» (1897): «Один в Москве написал целый том совершенной бессмыслицы (там есть, например, стихотворение из одного стиха: “Ах, закрой свои бледные ноги”), и так осталось неизвестно, мистифицирует ли он ту публику, которая браня и смеясь (некоторые и защищают), но все-таки покупает и читает, или он сам душевно больной» [Толстой 1951, 321]. Как замечает С.И. Гиндин, «знаменитое “О закрой свои бледные ноги” было опубликовано не в авторском сборнике, а в третьем выпуске альманаха, и выпуск этот по габаритам своим никак не мог быть назван “томом”. Следовательно, Толстой ни третьего выпуска “Русских символистов”, ни “Chefs d’Oeuvre” не читал и даже и не держал в руках. Возможно, он не помнил и имени осуждаемого им поэта, но что тот пишет чепуху – знал точно» [Гиндин 1996, 118].
(обратно)213
В статье «Молодым поэтам», напечатанной в 1965 г. в журнале «Новый мир»: «Не всегда легко молодому поэту ‹…› пробиться к читателю. Иной раз для этого ему приходится изрядно поработать кулаками. И очень часто мы видим сначала кулаки этого пробивающего себе дорогу поэта, а потом уже и его самого. Такими “кулаками” были, например, стихи молодого Валерия Брюсова “О, закрой свои бледные ноги!”, в которых еще нельзя было провидеть классически уравновешенного Брюсова поздних лет» [Маршак 1973, 55].
(обратно)214
У обоих образ бледных ног атрибутирован Иисусу. Волошин в 14-м сонете из венка сонетов «Lunaria» (1913): «И пленных солнц рассыпется прибой / У бледных ног Иошу́а Бен-Пандира»; Сологуб в стихотворении «Под сению Креста рыдающая мать…» (1921): «Оставил Мать Свою, – осталось ей обнять / Лишь ноги бледные измученного сына». В.В. Полонский, сопоставляя эти две аллюзии, отмечает, что Волошин усиливает рискованность брюсовского образа до уровня кощунства (называя Иисуса именем, принятым в антихристианской иудейской литературе и подразумевающим, что он был сыном римского солдата), тогда как Сологуб, напротив, освобождает цитату «от травестирующих установок в сакральной референции» [Полонский 2008, 105–107, 109–110] – кажется, что не последнюю роль в этом освобождении играет инверсия определения.
(обратно)215
В стихотворении «Незрелость» (1928): «Красот твоих мне стыден вид, / Закрой же ножки белой тканью» (наблюдение И. Мазинг-Делич [Masing-Delic 1987, 356]).
(обратно)216
В гиньоле «Ералаш» (1970-е гг.) заставивший Брюсова адресовать свой моностих Алексею Маресьеву [Бахчанян 2005, 31].
(обратно)217
«Всё рефлексии, вопросики, декаденщина <sic! – Д.К.> всякая, как это – “о, закрой свои бледные ноги!” – и Азеф залился долгим гнусавым хохотом» [Гуль 1991, 168].
(обратно)218
Некоторые дополнительные свидетельства о позднейшей реакции на моностих Брюсова можно найти в работе [Иванова 2009].
(обратно)219
Замечательно, что автор нового перевода этой книги (с идиш на английский язык) Майер Дешелл не поверил в возможность «некогда знаменитого однострочного стихотворения», так что в последнем издании брюсовская строка характеризуется как «припев из некогда знаменитой песни» [Glatstein 2010, 70].
(обратно)220
Иначе полагает С.Н. Тяпков, отмечающий, что «в своей “поэме” Гиляровский сумел “передразнить” и псевдомногозначительность одностишия Брюсова, и эротический намек, многими прочитываемый в нем, и даже брюсовскую ориентацию на Рим» [Тяпков 1986, 92]. Ни один из трех параметров сходства, предлагаемых Тяпковым, не кажется нам очевидным – и уж во всяком случае «брюсовская ориентация на Рим» едва ли могла быть заметна пародисту в период сразу после появления «Русских символистов», когда вся деятельность Брюсова воспринималась исключительно как апелляция к опыту новейшей французской поэзии.
(обратно)221
Анализ «Поэмы конца» и сопряженной с нею проблематики значимого отсутствия текста выходит за пределы нашей темы; см. об этом [Крусанов 2010, I:1:542–543, Сигей 1992, 148–152; Brooks 2000, 45–58; Орлицкий 2002, 600–604]. Отдельного исследования заслуживает и рецепция «Поэмы конца», «прочитываемой» (чего, как мы увидим ниже, делать не следует) вне контекста всей книги Гнедова.
(обратно)222
Параллель между книгой Гнедова и моностихом Брюсова провел и критик Д. Левин (см. [ПРФ 1999, 700]). См. также несколько любопытных соображений о родстве Брюсова и Гнедова в [Кобринский 2000, I:17–19]. В целом же вопрос о преемственности русского футуризма по отношению к символизму широко обсуждался как современной критикой, так и последующим литературоведением; наиболее подробно см. [Клинг 2010].
(обратно)223
Странным образом С.И. Кормилов полагает, что метрический характер этот текст приобрел «случайно, в силу особой краткости» [Кормилов 1995, 73]. Зато С.В. Сигей видит отсылку к моностиху Брюсова и в другом стихотворении Гнедова, «Op. 16», относящемся к тому же периоду, – в строке «А ножки-то, ножки-то у батюшки беленьки!?» [Сигей 2001a, 203].
(обратно)224
Возможность «сворачивания» большого текста в малый, поэмы в моностих была, по-видимому, важна для Гнедова, – об этом подробно пишет С.В. Сигей, выделяя среди «излюбленных приемов» Гнедова «коллапс массивной формы» [Сигей 1992, 146]; сюда же замечание Ивана Игнатьева о «стенографировании» как методе Гнедова [Крусанов 2010, I:1:636]. Впрочем, «поэмой» называли и моностих Брюсова – в частности, И.Ф. Анненский, иронически сопоставлявший эту «самую короткую поэму» с гигантской эпической поэмой австрийского поэта-модерниста Теодора Дойблера [Анненский 1979, 328]. Ср. также шутливое упоминание в письме Александра Блока жене, чье домашнее прозвище было Буба: «В одной книге футуриста я нашел поэму, не длинную, касающуюся тебя» (с дальнейшим воспроизведением Поэмы 9 «Бубая горя», состоящей из троекратного повтора слова «Буба») [Блок 1978, 312] – письмо датировано 4 мая 1913 года, так что Блок не преминул ознакомиться с книгой Гнедова по горячим следам.
(обратно)225
Ср., впрочем, совершенно неожиданную интерпретацию С.В. Сигея, видящего в «Смерти искусству!», равно как и в ряде других текстов русского футуризма, фольклорно-ритуальную основу [Сигей 2001a, 211–212]. Еще несколько любопытных расшифровок и аналогий см. в [Сигей 1992, 146–147].
(обратно)226
Дж. Янечек, посвятивший значительную часть книги [Janecek 1996a] анализу возможных семантических импликаций в заумных текстах, предлагает также учитывать при интерпретации слова «полынчается» глагол «линчевать», а по поводу слова «душу» отмечает амбивалентность его прочтения в качестве существительного и глагола [Janecek 1996a, 103] – оба предложения вполне невероятны (первое – потому, что из транслитерации русской графемы «ы» английской графемой «y» отнюдь не следует обратное, второе – потому что оно не учитывает метрики текста). Зато слово «полынчается» соблазнительно рассмотреть как результат словосложения «полынь» + «*чается» (от «чаять» с учетом «отчаяться»): обнаружение у Гнедова такого приема сделало бы еще более явной связь «Смерти искусству!» с рассматриваемыми далее моностихами Чернакоты-Галкина и Василия Каменского.
(обратно)227
Гнедовский «звукопас» имел особую судьбу в русской поэзии, попав в дальнейшем в стихотворение Осипа Мандельштама «От сырой простыни говорящая…» (1935), – на это обратили внимание Е.А. Тоддес [Тоддес 2005, 441–442] (напрасно, впрочем, увязывавший эту неожиданную перекличку с возникновением у Мандельштама под впечатлением от звукового кино интересом к «футуристической эстетике и ее “технократическому” аспекту»: как раз к этому аспекту футуристической эстетики Гнедов не имеет касательства) и Р.Д. Тименчик [Тименчик 2008, 427]; из строки «Знать, нашелся на рыб звукопас» видно, что для Мандельштама семантика этого слова вполне отчетлива.
(обратно)228
В некотором роде этот прием Гнедова предвосхищает один из системообразующих приемов Льва Рубинштейна, у которого на карточках систематически предъявляются семантически опустошенные, с дефектной референцией фразы типа «Он и полезней, и вкусней». Вообще довольно-таки отчаянные поиски корней и претекстов для поэзии Рубинштейна, приводящие разных специалистов к самым отдаленным и экзотическим аналогиям [Kolchinsky 2001, 98], заставляют задуматься о том, что «Смерть искусству!» в этом качестве была бы не хуже многого другого.
(обратно)229
Ср.: «Футуристы изживали всё, что бросало тень на их принципиальный разрыв с психологией» [Васильев 1995, 36].
(обратно)230
Другие интерпретации, предложенные Йенсеном в той же работе, – прочтение «ю» как древнерусской формы указательного местоимения женского рода в винительном падеже или визуальное восприятие буквы Ю как комбинации единицы и нуля, – кажутся малоправдоподобными, хотя и укладываются в его понимание значения заумного текста как продукта читательского творчества.
(обратно)231
Несмотря на это, к той же догадке, что и Йенсен, вновь приходит Ж. – Ф. Жаккар [Жаккар 2011, 52].
(обратно)232
Вообще текст Гнедова имеет богатую и не слишком удачную историю републикаций: помимо осуществленного нами отдельного издания, он воспроизводился полностью по меньшей мере семь раз (см., однако, стр. 164–167): Г.Н. Айги [Гнедов 1989], С.В. Сигеем [Гнедов 1992, 43–48], С.Е. Бирюковым [Бирюков 1994, 61], анонимно (главным редактором издания поэтом Сергеем Соловьёвым?) [Гнедов 1994], В.Н. Терехиной и А.П. Зименковым [РФ 1999, 158–159] (репродуцировано в переиздании 2009 г. без изменений), В.Н. Альфонсовым и С.Р. Красицким [ПРФ 1999, 392–394], А.А. Кобринским и О.А. Лекмановым [ОСДО 2001, 476–479]. Качество этих републикаций весьма различно, как ввиду разнообразных ошибок и опечаток (особенно в обоих изданиях 1994 года), так и в силу различной степени точности в воспроизведении графических, орфографических и пунктуационных особенностей оригинала (часть которых, вполне возможно, и не должна воспроизводиться в точности). Отметим еще отдельную републикацию Поэмы 8 в собрании моностихов В.Ф. Маркова ([Марков 1994, 355]) – без надзаголовка и какого-либо указания на принадлежность к целому (что, конечно, нужно признать неправомерным, но при этом рассматривать как свидетельство интерпретации Марковым книги Гнедова именно как книги, допускающей свободное изъятие любого отдельного произведения); попутно следует сказать, что Марков ошибочно приписывает «Поэме конца» название «Пепелье душу» ([Марков 1994, 351]), – впрочем, подобных ошибок памяти не счесть в различных упоминаниях о «Смерти искусству!» и особенно о «Поэме конца», в изобилии рассыпанных по страницам различных мемуаров, относящихся к Cеребряному веку, и в этом отношении «Смерть искусству!» разделяет судьбу других шумно известных авангардных текстов начала XX века (ср., напр., занявший две полные страницы перечень ошибок при воспроизведении и цитировании стихотворения Алексея Кручёных «Дыр бул щыл…» в [Janecek 1996a, 67–68]). Отдельная републикация «Поэмы конца» была предпринята, не без элементов «игровой филологии», М.И. Шапиром и Л.Ф. Кацисом [Гнедов 1990].
(обратно)233
Которому следуют [Гнедов 1994], [Гнедов 1996] и [РФ 1999], но, к сожалению, не следуют наиболее массовые переиздания [ПРФ 1999] и [ОСДО 2001].
(обратно)234
Заметим также, что Гнедов вообще использовал тире гораздо охотнее (так, в пяти текстах книги «Гостинец сентиментам» 79 тире при 18 дефисах), а его использование дефисов приближается к нормативному (как правило, в конструкциях с приложениями типа «Бегун-Тоска» и в случаях словосложения типа «огне-лава», «зеленко-мурава»; дефис, соединявший бы две разные части речи, как в случае «Затумло-Свирельжит», у Гнедова не обнаружен).
(обратно)235
И по умолчанию расценивая их как достоверные – несмотря даже на то, что в одном из мемуаров в качестве автора «Поэмы конца» фигурирует Алексей Кручёных.
(обратно)236
Ср.: «И это чтение должно было обозначать своеобразный перевод поэтического языка на язык жеста» [Парнис, Тименчик 1985, 227].
(обратно)237
Ср. [Hollander 1975, 34] о принципиальной неединственности способа прочесть стихотворение или положить его на музыку, [Wysłouch 1994, 175] о принципиальной неединственности экранизации литературного произведения и т. п.
(обратно)238
Ср. также обратную идею – о том, что текстом «Поэмы конца» является как раз жест, – у С.В. Сигея [Сигей 2001a, 200], указывающего, кроме того, что сам Гнедов считал верным вполне определенное описание своего жеста [Сигей 2001a, 211]. Ю.Г. Цивьян, в свою очередь, квалифицирует текст «Поэмы конца» как «предельный случай слова-жеста» (слова, имплицирующего движение говорящего) – «жест, не заменяющий слово, а отменяющий его» [Цивьян 2010, 24]. К этой же интерпретации, видимо, склоняется А.В. Крусанов, замечающий, что в своей книге Гнедов «фактически переходил от языка слов к языку жестов, языку телодвижений, хореографии, пантомиме» [Крусанов 2010, I:1:635]. Методологически, тем не менее, жест неизбежно остается интерпретацией и переводом по меньшей мере до тех пор, пока его совершение никак не предписано на письме. Правомерно также сопоставить в этом аспекте с «Поэмой конца» и ее исполнением другие нулевые тексты – например, текст Дона Патерсона «Отправившись на встречу с учителем дзена в горы Кюсю и не застав его», тоже вызывающий и рефлексию исследователей по поводу семантики чистого листа (напр., [George 2014, 103–104]), и впечатления зрителей от исполнения его со сцены «неловким молчанием» [Wroe 2006].
(обратно)239
В остальных републикациях все поэмы «Смерти искусству!» воспроизведены в подбор – за исключением публикации [ОСДО 2001], где «Поэме конца», в отличие от других поэм, выделена отдельная страница: это решение также нельзя признать удачным, поскольку тем самым статус одного из пятнадцати элементов книги оказывается резко отличен от остальных.
(обратно)240
С другой стороны подходит к этому же выводу Н.Г. Бабенко, указывающая в связи с «Поэмой конца», что «в произведениях, содержащих невербальные знаки молчания, необходимой является некая вербальная рамка, в функции которой входит обозначение “вектора” интеллектуальной и эмоциональной рефлексии читателя» [Бабенко 2003, 68], а потому «белый лист последней поэмы В. Гнедова получает значимость, семантизирующую рамку в виде названия поэмы, лексической структуры и архитектоники всего произведения “Смерть искусства”» [Бабенко 2003, 76].
(обратно)241
«Это – крестьянин, штукатур по профессии, пожилой человек и безусловный поэт. ‹…› Я терпеть не могу ничего специфически русского в поэзии, но справедливость заставляет меня сознаться, что он очень талантлив, очень. Кроме того, он прекрасный старик», – писал в 1909 году Константину Фофанову о 24-летнем Кокорине 22-летний Игорь Северянин [Северянин 2005, 54].
(обратно)242
См. также [Тименчик 2008, 19] о двустишии Кокорина, послужившем Мандельштаму источником вдохновения.
(обратно)243
Вообще говоря, графические особенности публикации дают возможность усомниться в характере этих текстов: если во всех остальных озаглавленных текстах в альманахе названия выделены жирным шрифтом и имеют в конце точку, то в обоих интересующих нас текстах первые строки даны светлыми прописными буквами без какого-либо знака препинания, – что позволяет интерпретировать тексты как двустрочные без названий. Однако предположение о том, что перед нами моностихи, выглядит предпочтительнее. В структурном плане обращает на себя внимание принципиально различное строение первых строк и вторых – такое различие закономерно соответствовало бы позиционной разнице между названием и основным корпусом текста. Как озаглавленные моностихи понимает эти тексты автор первого сообщения об альманахе в газете «Саратовский вестник» за 25 декабря 1913 г., явно черпавший информацию из первых рук: «Первая – строка заглавие. ‹…› Вторая – самое произведение. ‹…› И третья – подпись автора. ‹…› И больше ничего» [Архангельский 1913]. Кроме того, присутствие в альманахе моностихов логично с точки зрения истории его возникновения – см. ниже.
(обратно)244
Впервые оба текста републикованы в [Тяпков 1984, 70, 72] с опечаткой во втором тексте: «-фонтано-» вместо «-фонотоно-», которую повторяют все последующие цитаты и републикации (в частности, [Кормилов 1995, 73]).
(обратно)245
Автор двух стихотворных сборников, «крестьянин-самоучка, много лет ходивший за сохой» [Крогиус 1926, 20].
(обратно)246
В каком-то смысле можно интерпретировать изолированное употребление любого окказионализма как акт завершенной предикации со значением «Верно, что музозвонофонотонопенеигрика <существует>». В данном случае, сверх того, акцентированное словосложение сближает окказионализм Галкина с элементарным типом предикации – первичной именной синтагмой (по Э. Бенвенисту). В связи с этим, по-видимому, целесообразно отнести по крайней мере этот текст Галкина к стиху, а не к «удетерону» (во введенном нами выше понимании термина – см. стр. 29).
(обратно)247
Другое возможное влияние – стихи Василиска Гнедова из последовавшей за «Смертью искусству!» публикации в альманахе «Небокопы» [Гнедов 1913b]: «Посолнцезеленуолешьтоскло…» и т. д. Это «магмасловие», по выражению С.В. Сигея (который легко включает Каменского в число авторов, которыми «изобретения Гнедова были абсорбированы» [Гнедов 2003, 5–6]), характеризуется, однако, гораздо более сильными деформациями на стыках морфем, вплоть до неопознаваемости некоторых: «извилоизъдоъмкипооянетяликъ» и т. п. Кроме того, во французской поэзии незадолго перед этим – осенью 1916 г. – также появились стихи Пьера Альбер-Биро «из склеенных слов» [Сануйе 1999, 58] (вроде vertigecélestialdesimmensitésspatiales), но здесь, напротив, ликвидация межсловных пробелов не вызывала никаких деформаций на стыках, да и настолько оперативное знакомство с новинками французской поэзии для этого времени – в разгар мировой войны – представляется маловероятным (ср.: «Весть о дадаизме дошла до России поздно. Мы услыхали о нем почти пять лет после его возникновения…» [Эфрос 1923, 119]).
(обратно)248
«[Каменский: ] Выпустили же в Саратове какие-то провокаторы сборник “Я”.
[Журналист: ] Почему провокаторы?
[Каменский: ] Провокаторы! Азефы! ‹…› Люди, которые могут сделать это, – способны на всякую другую низость» [Архангельский 1914]. См. также [Крусанов 2010, I:2:423].
(обратно)249
Можно, однако, заметить, что – продолжая лингвистические аналогии – наряду с фузией (*-виночь = вино+ночь) Каменский использует и агглютинацию (*золотороз– = золото+роз – если не предполагать в качестве прокладки испанского «oro» или французского «or»; *-пьювино– = пью+вино).
(обратно)250
В многочисленных републикациях этого текста в связи с переходом на новую орфографию упущен важный нюанс: пореформенное написание инкорпорированного в окказионализм Каменского слова «россыпь» (вместо следовавшего старой норме «розсыпь») снимает один из вариантов разложения окказионализма – «золото роз» (как максимум заменяя его на куда менее нагруженное семантически «золото рос»). На необходимость восстановить написание через «-з-», не препятствующее вычленению современным читателем элемента «россыпь», мы впервые указали в [Кузьмин 1996, 24]; впоследствии по этому пути пошли В.Н. Альфонсов и С.Р. Красицкий [ПРФ 1999, 252] и А.А. Кобринский и О.А. Лекманов [ОСДО 2001, 426]. В качестве занимательного курьеза следует указать на попытку белгородских филологов истолковать эту орфографическую коллизию как существование двух равноправных вариантов моностиха Каменского, из которых один описывает звездную ночь, а другой (в котором после выделения «роз» у исследователей остается элемент «сыпь») – любовное свидание [Плотникова, Халявина 2011, 54].
(обратно)251
А значит, и, опять-таки, между стихом/прозой и «удетероном». Думается, однако, что не приходится квалифицировать тексты Каменского как однословные – хотя бы уже потому, что «внутри» их можно вычленить не только слова, но и синтагмы («пью вино», «золото роз»). Вообще рассматривать такие сложные и, в целом, нетипичные для Каменского образования как рядоположные его обыкновенным окказионализмам очевидной бинарной структуры («летайность», «небесон» и т. п.) [Сахно 2014, 110] представляется неточным.
(обратно)252
Безусловно, квалифицировать эту серию работ Каменского следует как принадлежащую к сфере визуальной поэзии и не относящуюся к поэзии как таковой (см., например, [Стригалёв 1995, 520–522]), но для наших рассуждений это несущественно.
(обратно)253
Вообще функции такой словесной спайки в поэтическом тексте заслуживают исследования, – нам известен по этому поводу только параграф [Бадаев, Казарин 2007, 114–121], неудачно называющий данное явление «графика сплава» (сплав от спайки отличается тем, что взаимодействующие элементы соединяются отнюдь не только краями) и приходящий к не слишком оригинальному выводу о том, что его использование «чаще всего обусловлено попытками добраться до сути составляющих языковой ткани, предельно нагрузить текст в смысловом отношении, подстегнуть мысль реципиента, уничтожить автоматизм его восприятия». Между тем в русской поэзии этот прием дал такие далекоидущие последствия, как индивидуальная поэтика Александра Горнона, в которой «привычные слова начинают распадаться, обнаруживая внутри себя иные; начало и конец слов соединяются, но при этом зрение и слух должны держать в своем поле “естественное” состояние слова, балансируя между двумя обычно изолированными лексическими единицами; ‹…› более дробное членение (вплоть до отдельных фонем) создает в чтении подвижные элементы звукового потока, которые могут входить в состав как предшествующей единицы, так и последующей» [Березовчук 1995, 268], – у Горнона, однако, решающее значение приобретает архитектоника сложных конструкций, выстраиваемых из такого материала, вплоть до перевода их в тексты тройного кодирования использованием нелинейной записи, местами напоминающей о «Железобетонных поэмах» (на основе которых Горнон создал анимационный фильм); о преемственности между Каменским и Горноном см. [Суховей 2013, 323–325]. Однострочные тексты такого рода в дальнейшем по-русски практически не встречаются – однако они были переизобретены в 1980-е гг. в американской традиции и практикуются рядом поэтов, в том числе принадлежащих к сообществу авторов хайку, – Винсентом Феррини (Vincent Ferrini, 1913–2007), Эмили Романо (Emily Romano, род. 1924), Робертом Генри Пуленом (Robert Henry Poulin, род. 1942) и другими:
peopletalkillife Роберт Генри Пулен (обратно)254
В этом издании тексту Вермеля ошибочно приписано название «Танка» – вероятно, по ассоциации со сборником Вермеля «Танки» (1915), в котором Вермель вновь вслед за Брюсовым, во второй раз в русской поэзии обращается к форме японского пятистишия [Орлицкий 2000, 63, 68]. В [Бирюков 1994, 60; 2003, 95] заглавия у текста нет, зато в самом тексте две ошибки: «своей» вместо «одной» и пропуск начального «И», – это потому, что его републикация восходит к [Гаспаров 1989, 15], где именно так.
(обратно)255
Сам Вермель, возможно, рассчитывал на повторение брюсовского и гнедовского скандального успеха: согласно воспоминаниям Сергея Спасского, он говорил: «Мои стихи вызывают раздражение. Меня встретит еще большее недовольство, когда я напечатаю стихи из одной строки», – впрочем, на общий резко недоброжелательный тон мемуаров Спасского (называющего Вермеля, сообразно требованиям эпохи, «типичным эстетствующим буржуа») следует делать поправку: характерно и то, что ритмического своеобразия вермелевского текста Спасский не чувствует, воспроизводя его с ошибками: «И даже кожей своей ты единственная» [Спасский 1940, 62].
(обратно)256
Любопытно, что современный испанский исследователь Э. Мога, отмечая нередкое появление у авторов разных стран моностихов, которые «разбиваются на два или более предложения, подчас в форме вопросов и ответов», видит в этом приеме, напротив, средство создания «диалектического напряжения, позволяющего единственной строке выйти во множественность голосов или смыслов» (el verso se expande en diversas voces, o pluraliza su sentido) [Moga 2007, 49]. Заманчиво предположить, что основой для разночтений послужило изменение статуса моностиха за без малого столетие: ситуация введения моностиха как новой формы подсказывает «центростремительность» интерпретации (как однострочная форма может осваивать и деформировать разные семантические и синтаксические построения?), ситуация прижившейся формы, полноправно вошедшей в арсенал имеющихся у поэзии выразительных средств, влечет за собой «центробежность» интерпретации (как далеко простираются возможности этой формы, насколько ее могут деформировать другие конструктивные элементы текста?).
(обратно)257
Биография Окушко установлена А.О. Никитиным [Никитин 2013, 417]. В год создания своей единственной напечатанной книги он, после отчисления с филологического факультета Московского университета и высылки из Москвы ввиду неблагонадежности, работал десятником на каменоломне под Бронницами, 14 февраля 1918 года участвовал в известных выборах короля поэтов в Политехническом музее, а уже 12 сентября того же года – в заседании Рязанского губисполкома с заявлениями о том, что «террор должен проводиться во всех отношениях, ‹…› должно организовать и проводить расстрелы» [Никитин 2013, 28], затем в должности помощника начальника Кавказской трудовой армии отвечал, в частности, за выселение терских казаков (РГАСПИ, ф. 85 Г.К. Орджоникидзе, оп. 11, д. 131, л. 11.), был награжден орденом Боевого Красного знамени и делегирован для участия в X съезде РКП(б), а к году публикации книги занимал должность заместителя управляющего Инспекции советского строительства ЦКК РКП(б), – на свой лад замечательно, что после всего этого у Стефана Окушко не пропало желание опубликовать-таки «Двенадцать сказок на кружевном циферблате судьбы», включая «Сказку в розовом конверте».
(обратно)258
Из чего, однако, не следует еще, что прототипы эти выведены в романе под собственными именами, так что напрасно А.И. Очеретянский, Дж. Янечек и В.П. Крейд так и включают поэта Аскольда Свешникова в число забытых поэтов-авангардистов начала XX века [ЗА 1993, 254]. На нескольких прототипов указала сама Панова в частной переписке (РГАЛИ ф. 2223 оп. 2 ед. 65 л. 22, 27–28) – в частности, в образе Мишки Гордиенко выведен Владимир Филов (1899–1984), в описываемый период один из лидеров литературной группы ничевоков, в дальнейшем художественный руководитель Барнаульского театра кукол и автор книги «Пугачёвцы на Алтае» (см. также [Никитаев 1992, 60]); сведений о прототипе Свешникова в переписке Пановой мы не нашли, однако легко предположить, что это главная фигура в группе ничевоков Рюрик Рок (1898–1932?): имена Рюрик и Аскольд соответствуют друг другу своей древнерусской окраской, Рок, как и Свешников в романе [Панова 1987, 341], уехал за границу, да и во влюбленной в Свешникова Тамаре Меджидовой узнается жена Рока Сусанна Мар (Чалхушьян). Впрочем, о моностихах Рюрика Рока никаких иных свидетельств нет, а отчетливо ориентированная на имажинизм поэтика его опубликованных текстов не слишком похожа на приводимый Пановой моностих.
(обратно)259
Первые два текста в составе цикла из 5 стихотворений. В собраниях Маркова [Марков 1994, 355] и Бирюкова [Бирюков 1994, 60] опубликованы как полный цикл из двух текстов под общим названием «Паутинки»; на неправомерность такой трансформации обратил внимание Кормилов [Кормилов 1995, 72].
(обратно)260
О беспрецедентном для русской поэзии – до 50 % от общего числа строк – количестве длинных метров у Бальмонта см. [Ляпина 1978, 119].
(обратно)261
Подсчет соотношения низких и высоких звуков по методике, предложенной М.В. Пановым [Панов 1966] для анализа заумной поэзии (воздействие этого соотношения на эмоциональное восприятие текста Панов подтвердил экспериментально), дает в этом стихотворении 16:3, т. е. 84 %:16 % при языковой норме 50 %:50 %.
(обратно)262
Использованные для разделения текстов в составе подборки полиграфические линейки идентичны отмечавшим начало нового (не озаглавленного) стихотворения в других подготовленных автором изданиях, отчетливые образные, тематические или ритмические взаимозависимости между миниатюрами обнаружить не удается – иного выбора, кроме как квалифицировать все восемь текстов как самостоятельные, нет.
(обратно)263
Как отмечает, однако, в своем комментарии к новому изданию сочинений Нельдихена М.А. Амелин, «несмотря на то, что Нельдихен в публикациях помечал фрагменты 1920–1921 гг., некоторые из них явно относятся к более поздним годам» [Нельдихен 2013, 367].
(обратно)264
Разрабатывающая проблему афоризма наиболее подробно немецкая литературоведческая школа, оживленно полемизируя по поводу границ жанра (наибольшая концептуальная четкость выдержана в работе [Fricke 1984], широко критикуемой в связи с тем, что введенные ограничения оставляют за пределами жанра многое из того, что традиционно причислялось к афоризмам, в том числе и ряд произведений XIX века, определенных как афоризмы своими авторами [Spicker 1997, 11–12]), не сомневается в том, что жанр этот существует в рамках прозы. Русская традиция изучения афоризма никак не может освободиться от наследия притязавшего на роль первого исследователя темы полномочного представителя СССР при ООН Н.Т. Федоренко, в порядке почетной отставки получившего кресло главного редактора журнала «Иностранная литература» и статус литературоведа, – а он полагал, что «афоризм как краткое изречение, выражающее оригинальную мысль, часто встречается в поэзии» [Федоренко 1975, 17], не различая при этом афоризм как целостное произведение и афоризм как обособившуюся цитату, «крылатую фразу» [Федоренко 1975, 30–32] и апеллируя в целом не к структуре текста, а к его функционированию в культуре: «сочиненное только тогда становится афоризмом, когда входит в постоянное обращение, принято и широко усвоено живой народной речью» [Федоренко 1975, 31]. Ср. ту же, с позволения сказать, методологию, переформулированную в новейшей манере: «Причисление признака “прозаичность” к разряду инвариантных признаков афоризма противоречило бы эмпирическому материалу (особенно много рифмованных афоризмов содержится в афористических сборниках в их электронной версии в Интернете)» [Ваганова 2008, 14].
(обратно)265
А потому напрасно, думается, в некоторых позднейших републикациях опущены заключающие текст кавычки, акцентирующие его персонажность. Вообще публикационная история этого текста показательна: в частности, два наиболее полных посмертных издания Сельвинского – несмотря на то, что в обоих случаях комментаторы утверждают, что публикация осуществлена по [Сельвинский 1931, 42], – дают этот текст с различной пунктуацией:
Лучше недо – чем пере. [Сельвинский 1971, 10] «Лучше недо-, чем пере-». [Сельвинский 1972, 62]– вторая из этих версий основана на второй прижизненной публикации [Сельвинский 1934, 157], а первая, видимо, вообще ни на чем не основана.
(обратно)266
Впрочем, и Бурлюк во втором и последнем опубликованном моностихе двинулся к иному решению: вместо метрически очевидной, но ритмически довольно бедной сентенции – игровая конструкция с рискованно кратким для моностиха метром (двухстопный анапест) в сочетании с эффектным звуковым повтором:
Поплевать на попа.– также в составе цикла с квазижанровым названием: «Поэтические уховёртки» [Бурлюк 1932, 17].
(обратно)267
«Козловая» вместо «Козлевая», «Серебрей» вместо «Сереброй», «Бубая гора» вместо «Бубая горя», «Рабкот» вместо «Робкот». Особенно характерно, что верно воспроизведенное в журнальной публикации заумное слово «затумло» в книге 1929 г. превратилось – явная опечатка – в «загумло», да так и осталось во всех последующих переизданиях. В то же время отметим, что в Поэмах («песнях») 3 и 4 дефисы первоиздания, предвосхищая конъектуры С.В. Сигея, выправлены на тире.
(обратно)268
Любопытна также написанная по горячим следам пародия на роман Сергеева-Ценского, принадлежащая сатирику Арго и начинающаяся словами: «Затумило. Скрымь солнца, разломченная, свирельжит в Просторечьеве» [Новиков 1989, 455], – используя стихи Хаджи-Гнедова как зачин своей пародии, Арго фактически выделяет их как самый яркий языковой штрих в тексте Сергеева-Ценского, одновременно производя частичную нормализацию гнедовской зауми, особенно на уровне синтаксиса. Представляет интерес и следующая фраза пародии: «Воздух насыщен электричеством, духами, запахом свежего варенья, а также “Шиповника” (альманаха на 1912 год)», – в которой можно увидеть намек на распознание первоисточника: ведь именно в «Шиповнике» (правда, не в 1912, а в 1913 году) К.И. Чуковский писал о Гнедове и цитировал его.
(обратно)269
В первой публикации с подзаголовком «Одностишие», при всех републикациях опущенным.
(обратно)270
Возможно, однако, что текст Гатова написан и раньше, во время пребывания во Франции или по его горячим следам. Рецензируя в 1967 г. книгу избранных стихотворений Гатова «Влюбленным всей земли», Илья Сельвинский вспоминал: «Однажды в Париже мы посетили Пабло Пикассо. ‹…› Среди картин висел на стене портрет какого-то мужчины. Пикассо сказал, что эта вещь написана им в возрасте четырнадцати лет. Я был потрясен зрелостью этой работы. ‹…› Картина изображала человека лет сорока. Лицо его носило на себе линии всех пороков. Мне вспомнилось замечательное стихотворение Гатова, называлось оно “Повесть” и состояло из одной-единственной строки: Он в зеркало смотрел, как в уголовный кодекс. Я рассказал об этом Пикассо. Художник задумался, потом промолвил: “Votre Gatoff… Il est un vrai poète”. “Пикассо прав, – добавил Луи Арагон по-русски. – Гатов большой поэт, раз он сумел сотворить такой маленький шедевр”» [Сельвинский 1967]. Рецензия эта была написана по просьбе самого Гатова: «Вот бы Вам, моему другу, написать две страницы о моих стихах, кстати привести новеллу о Пикассо и о “Повести”…» (письмо от 9.01.1967, РГАЛИ, ф. 1160 оп. 1 ед. 196 л. 5). Описываемый эпизод должен относиться к концу 1935 или началу 1936 г., когда Сельвинский побывал во Франции (см., напр., [Безыменский 1982]); отметим, что по возвращении из этой поездки Сельвинский начал работать в отделе поэзии журнала «Октябрь», где в конце концов было напечатано стихотворение Гатова [Озеров 1982, 368].
(обратно)271
Спустя много лет Гатов обратится к Сельвинскому с характерными словами: «Мы с Вами сверстники, и, думается, мы – неплохое поколение, – хотя путь у нас куда труднее, чем напр. у символистов, которых мы в юности застали еще в полной их силе» (письмо от 4.11.1959, РГАЛИ, ф. 1160 оп. 1 ед. 196 л. 4об), – для вполне ортодоксального советского автора параллель довольно красноречивая.
(обратно)272
При таком громком резонансе моностиха Гатова в конце 1930-х гг. довольно странно обнаружить в [Кормилов 1995, 74] его датировку 1950-ми – особенно если учесть, что навсегда напуганный Гатов сам это свое сочинение больше никогда не публиковал: оно появлялось в печати только в составе хрестоматий и антологий.
(обратно)273
В дальнейшем пополнивший свой вклад в советскую литературную критику не менее патетическими строками о том, как «реакционно настроенный акмеист Осип Мандельштам, склонный к метафизическому философствованию, объяснял свое враждебное отношение к революционной действительности» etc., а затем и сам попавший под раздачу в газете «Правда» как «глава критиков-формалистов – буржуазных эстетов», «унаследовавший гнусные методы космополитов» [Тименчик 2005, 315].
(обратно)274
МИТИНГ
Кто против – поднимай руки!– исключительно емкая картина советского митинга с подразумеваемым единогласием и смертельной опасностью любого диссидентства создается благодаря актуализированной омонимии фразеологизмов: «поднимать руку» (голосовать) и «поднимать руки» (сдаваться).
(обратно)275
В.И. Тюпа видит в этом тексте «устранение объекта, открывающее путь к автореферентности высказывания» – характерным образом цитируя его без названия в своем сочинении о вреде авангарда [Тюпа 1998, 29]: в действительности анонсированная названием диалектика кубанёвского подхода к субъекту состоит в его функциональной нетождественности самому себе, взятому в разных аспектах: предметном и инструментальном, отправном и целевом (не говоря уже о том, что и само по себе возвратное местоимение чревато диалектическим единством субъекта и объекта) – и от этого очень далеко до солипсизма и нарциссизма.
(обратно)276
Ср. в многострочных текстах Кубанёва того же ноября 1939 г.:
Даже в вас меня, мой гид, Давний тмин томит и тмит.или
Через треск, Через плеск, Через близкий блеск. (обратно)277
Словарь Даля фиксирует «утор» как отглагольное существительное от «уторять» (утаптывать, о дороге) и множественное «уторы» со значением «нарезка в ладах или клёпках обручной посуды, для вставки дна», на второе значение пример: «Бочка потекла уторами». В обоих значениях слово легко встает в позицию объекта по отношению к субъекту «вода», однако семантика глагола при этом остается не вполне проясненной. Впрочем, словари XX века знают только второе значение слова.
(обратно)278
Ср. размышления И.Е. Винокуровой об ориентации молодых поэтов рубежа 1930–40-х гг. на футуризм и словотворчество раннего Маяковского и идеологическую заостренность позднего Маяковского [Винокурова 2006, 139–141].
(обратно)279
Евгений Евтушенко предваряет книгу 1989 года предисловием, включающим мемуарный эпизод: «Помню, как однажды во время разговора о силе интонации в становлении личности поэта Луконин вдруг озарился улыбкой, процитировав мне стихотворение Глазкова о футболистах… И действительно – какая чистая, лукавая и в то же время грустная интонация» [Евтушенко 1989a, 4]. Нет, впрочем, полной ясности относительно того, какую из редакций глазковского стихотворения цитировал Луконин: в первой версии статьи Евтушенко фигурировало «стихотворение Глазкова о футболистах, которое начиналось так» [Евтушенко 1971, 24], в следующей – «стихотворение Глазкова о футболистах, которое кончалось так» [Евтушенко 1989b, 406]. Сам Луконин, упоминая о стихах Глазкова, которые «не печатались, а помнились нами, вызывая наши восторги», характеризует эту строку как «выпадающую из ритма и смысла», то есть явно взятую из многострочного текста [Луконин 1973, 444].
(обратно)280
Ср. аналогичную ситуацию с дошедшими в воспоминаниях и записях современников одиночными стихотворными строками Александра Введенского – например, в письме Владимира Смиренского Лидии Аверьяновой 15 января 1926 года: «Мне очень понравилось, как написал Введенский: Крадётся хитрый сыр ‹…›» [Мейлах 1993, 211]. Наиболее авторитетное собрание сочинений Введенского включает, буквально по образцу собраний Анакреона и других античных авторов, семь однострочных фрагментов подобного происхождения [Введенский 1993, 85, 92, 93, 95, 97, 99] – и это, видимо, к ним относится загадочное замечание О.Д. Бурениной-Петровой: «Можно предположить, что некоторые так называемые фрагменты утерянных сочинений Введенского ‹…› были, скорее, своего рода моностихами, подобными брюсовскому “О закрой свои бледные ноги!”, а отнюдь не частями недошедших до нас произведений. Для Введенского, как и для символистов, моностих являет собой сверхнарратив, стремящийся компенсировать нереализованность гипотетического дискурса о Gesamtkunstwerk’е, и одновременно его негативное подобие» [Буренина-Петрова 2005, 159], – затруднительно судить о том, что являет собой моностих для Введенского, на основании фрагментов, извлеченных из его текстов другими лицами.
(обратно)281
Ср. в мемуарном очерке Маркова перечень поэтов, интересовавших его самого и кружок его друзей-однокурсников, – Тютчев, Баратынский, Блок, Маяковский, – завершающийся замечанием: «Однажды, из другой компании, попалась к нам “Вторая книга стихов” Заболоцкого с поразившей нас надписью: “Дарю тебе книгу величайшего поэта наших дней”. У них, значит, был культ Заболоцкого» [Марков 1955, 174].
(обратно)282
Из неопубликованного письма Маркова Г. П. Струве от 25 апреля 1963 г., о котором сообщил нам О.А. Коростелёв, явствует, что какие-то издания Хармса Марков получил от своей сестры Нины, жившей в Ленинграде; но значит ли это, что у сестры Маркова могли возникнуть связи с людьми, располагавшими неизданным наследием Хармса? А если в распоряжение Маркова попала копия воспоминаний Зегжды (их машинопись из личного архива Александрова датирована 1962 годом [Дмитренко, Кобринский 2009, 453] – не по заказу ли Маркова они написаны?), то почему он дает текст Хармса в другой редакции?
(обратно)283
См., напр., у М.Б. Ямпольского: «Я отмечал, что хармсовский текст начинается с амнезии, с забвения собственного истока. Это текст, как бы не имеющий начала. Но текст Хармса в подавляющем большинстве не имеет и конца. Тексты Хармса систематически обрываются, часто вместо конца фигурирует исчезновение, то есть фигура незавершенности» [Ямпольский 1998, 192]. М.С. Евзлин распространяет это положение дел на всех обериутов, отмечая, что (в частности, у Игоря Бахтерева) «нет ни одного окончательно зафиксированного текста» [Евзлин 2013, 11]. Ср. также уже упоминавшуюся концепцию «недоопределенности» Н.М. Азаровой [Азарова 2008].
(обратно)284
Принадлежность этих текстов Пушкину была оспорена Л.Б. Модзалевским: «Обратившись к этому автографу, мы, проведя тщательную экспертизу почерка, пришли к бесспорному выводу, что рукопись с этими шуточными стихами писана рукою Льва Сергеевича Пушкина, почерк которого уже не раз вводил в заблуждение специалистов, вследствие своего разительного сходства с почерком его брата. Нет сомнения, что и самые стихи принадлежат Льву Пушкину, большому любителю литературы, “презревшей печать”, и упражнявшемуся вместе с С.А. Соболевским и И.П. Мятлевым в писании подобных стихотворений. ‹…› Стихотворные “пакости”, введенные в литературный оборот братом великого поэта, должны быть навсегда изъяты из собрания сочинений Пушкина» [Модзалевский 1936, 220] – замечательно, что Модзалевский, чуть выше подробнейшим образом описавший внешний вид листка со стихами, не приводит ни одного конкретного почерковедческого наблюдения, приведшего к “бесспорному выводу”. Несмотря на ироническую реплику М.А. Лифшица («Кажется, что если прав Брюсов и указанные экспромты написаны все же самим А.С. Пушкиным, то особенного позора для русской литературы в этом нет. Пафос стыдливости слишком громко звучит в небольшой заметке Модзалевского» [Лифшиц 1936]), охранительный жест, исходивший из академической Пушкинской комиссии, был воспринят, и в дальнейшем эти миниатюры под именем Пушкина не публиковались.
(обратно)285
Вообще при работе с рукописями Хармса достаточно часты ошибки исследователей, принимающих за его оригинальные тексты те или иные сочинения других авторов, с той или иной целью Хармсом переписанные. Одну такую ошибку, принадлежащую Ж. – Ф. Жаккару, обнаруживает сам Кобринский [Кобринский 2000, I:47]; восемью годами раньше Жаккар с соавтором отмечают аналогичную ошибку П. Урбана [Гроб, Жаккар 1992].
(обратно)286
В отличие от других публикаторов Хармса В.Н. Сажин стремится воспроизводить особенности хармсовской орфографии и пунктуации – отсюда авторское написание «нука» вместо нормативного «ну-ка». Этот текстологический принцип неоднократно встречал как резкие возражения (см., напр., [Мейлах 2004, 136–137]), так и решительную поддержку ([Шапир 2015]).
(обратно)287
Ср. также рассуждение А. Уоннера о моностихах Брюсова и Гнедова как предшественниках прозаической миниатюры Хармса – для этого, однако, Уоннеру приходится квалифицировать моностихи как минимальные стихотворения в прозе [Wanner 2003, 132–133].
(обратно)288
О зауми и словесных деформациях у Хармса см. также [Мейлах 1999, 18–26].
(обратно)289
Напрямую к делам давно минувших дней французские модернисты по данному вопросу апеллировали не в большей степени, чем русские – к Карамзину, но возможно, что в обсуждении подобной идеи Вильдраком и Дюамелем сыграл роль более поздний прецедент – история про заявление Теофиля Готье о том, что во всем наследии Жана Расина замечателен единственный стих:
La fille de Minos et de Pasiphaé (Дочь Миноса и Пасифаи)Готье такого не писал, но в одном из его некрологов (1872), принадлежавшем Максиму Гоше (1828–1888), рассказывалось в качестве литературного анекдота, что на некотором званом ужине около 1867 г. Готье высказался таким образом, чтобы подразнить присутствовавших «профессоров риторики» (однако, замечал Гоше, «здесь и основание его поэтики – ‹…› безразличие к идее и подлинный культ звука и цвета») [Wise 2002, 13]. Оттуда, уже безо всяких оговорок о не вполне ответственном характере утверждения, максима Готье перекочевала в «Эстетику современного стиха» Жана Мари Гюйо [Guyau 1884, 261] (и далее в антимодернистский трактат Макса Нордау «Вырождение», 1892–1893, – который, как показал Р. Вроон, был прочитан Брюсовым уже к середине 1893 г. и стал для него, как и для других молодых русских читателей, ценным источником сведений о французском символизме [Vroon 2002]), книгу эссе Робера де Монтескью «Мыслящие тростники» [Montesquiou 1897, 233] и наконец в роман ученика Гоше и воспитанника Монтескью Марселя Пруста «По направлению к Свану» (1911), благодаря чему сам расиновский стих в изолированном виде широко обсуждался в последующей литературе, преимущественно в аспекте изысканной звуковой структуры (в пику чему Ролан Барт использовал его как иллюстрацию своего требования к литературной критике – порождать смыслы: критик, занятый этой строкой, должен «установить такую смысловую систему, где ‹…› смогли бы занять свое место хтонический и солярный мотивы» [Барт 1989, 361]; о том же см. [Goldmann 2007, 107–108]). Впрочем, воспоминания Максима дю Кана приписывают мысль о том, что эта строка Расина – «лучший стих на французском языке», Гюставу Флоберу и относят ее к 1850-м гг. [Du Camp 1883, 186] – и этой версии следует В.Ф. Марков, упоминая «полюбившуются Флоберу расиновскую строку» как прообраз «однострока-романа» [Марков 1963, 251].
(обратно)290
Опубликованные переводы Владимира Маркова:
И несравненный шнур из медных труб морских. [Марков 1994, 353]и Игоря Бойкова:
И странный шнур морских штормов. [Аполлинер 2005, 43]– основаны, таким образом, на недоразумении (впрочем, Аполлинер Бойкова в целом представляет собой недоразумение [Яснов 2006]).
(обратно)291
Отметим, однако, попутное замечание М. Пупона, согласно которому в стихотворении, помимо прочего, зашифрован Орфей, слушающий пение сирен; образ сирен многократно возникает у Аполлинера, и присоединяющаяся к этой трактовке М. Буассон готова даже видеть в cordeau еще и chœur d'eau [Boisson 1989, 508], но нам особенно интересно, что в развитие этой идеи Ф. Диненман предлагает производить trompettes marines из одного места в чуть более раннем стихотворении «Вандемьер», где взгляд сирен trompa les marins, «морочил моряков» [Dininman 1984] – и такое происхождение однострочного текста из многострочного напоминает уже о соображениях С.В. Сигея по поводу Василиска Гнедова. Впрочем, обсуждалась и возможность того, что моностих Аполлинера возник как осколок неоконченного текста [Decaudin 1993, 47] – как у Брюсова и многих других (А. Зьегле отмечал, однако, что ведущая к отбрасыванию уже написанного самокритичность Аполлинеру свойственна не была [Ziéglé 1971, 627]). Еще одна трактовка, мимо которой нельзя пройти, связана с тем, что trompette marine называет своим любимым музыкальным инструментом господин Журден из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (действие второе, явление первое; в русских переводах дословно «морская труба») – тот самый Журден, который далее, в седьмом явлении, изъявляет настойчивое желание выражаться «ни стихами, ни прозой» – встречая возражение Учителя философии: «Всё, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза»; такая интертекстуальная увязка, по мнению некоторых французских специалистов, превращает моностих Аполлинера в акт метапоэтической рефлексии [Joubert 2010, 186–187].
(обратно)292
Имеется перевод Михаила Яснова ([Береговская 1998, 50–51]):
I
Был кроток нрав ее, да короток умишко.II
Гвоздики пестрые, подаренные ею…III
Единственным крылом в ночи трепещет сердце.IV
Как песенки ее просты в лучах заката…– в публикации опущено издевательское bis в конце второго моностиха, а в переводе четвертого текста утрачена убийственная ирония.
(обратно)293
«Смысл словно за пределами слов – и все же подсказан ими, их звуком, их формой, образами, которые из них проступают… В этот миг поэзия растворяется в своего рода цветной музыке. И тут же, для равновесия, насмешка, возвращение к банальности, столь печальной и горькой, когда она подвергается осмеянию или просто когда она очень сильно ощущается как таковая» etc.
(обратно)294
Речь идет о галопирующей инфляции в Германии начала 1920-х гг.
(обратно)295
Видеть здесь тонкую отсылку к «Временам года» графа де ла Турай, вероятно, было бы преувеличением. Преувеличивает, вероятно, и М.Ж. Дюрри, воспроизводящая эту историю (по пересказу из [Bersaucourt 1921, 10]) для того, чтобы заметить, что первые читатели аполлинеровского «Поющего» были столь же изумлены, сколь собеседник Вилье де Лиль-Адана [Durry 1964, 107].
(обратно)296
«… de façon que “La Pénultième” finit le vers et “Est morte” se détacha de la suspension fatidique plus inutilement en le vide de signification» [Малларме 1995b, 174]; в русском переводе Романа Дубровкина этот смысловой акцент выпущен: «Сначала “Флексия”, а потом, тоном ниже: “Мертва”» [Малларме 1995b, 175].
(обратно)297
Статья Ж. – Л. Аруи «Верленовский моностих» [Aroui 1994] начинается с констатации отсутствия у Верлена собственно моностихов и посвящена использованию Верленом одностишия, изолированного стиха.
(обратно)298
Строка Верлена, приписанная к длинной пародии Валада на Эжена Манюэля – почтенного поэта и крупного чиновника, чьи стихи, как заметил позднее В.В. Вейдле, «продолжали читать разве что в пансионатах для благородных девиц» [Вейдле 2002, 267], – гласит: «Да, Манюэль! о да! – ведь наши души сёстры!» [Album 1961, 121], – ясно, что в выхваченном из альбома виде она не имеет смысла.
(обратно)299
Исключение составляют статьи македонского поэта Петко Дабески (наиболее подробно [Дабески 2007]), опирающиеся на современные российские исследования и вряд ли известные за пределами Македонии. Еще о Брюсове, возродившем однострочную форму после античных времен (что все же некоторое преувеличение), вскользь упоминает в статье на совершенно постороннюю тему Ф.Л. Алдама [Aldama 2014, 142].
(обратно)300
Мимолетные замечания зарубежных исследователей в связи с брюсовским моностихом либо вполне тривиальны: «искусство намеков» (l'art de la suggestion) [Stremooukhoff 1955, 306], «хулиганское сочинение» (piece of hooliganism) [Pyman 1994, 72], – либо агрессивно-поверхностны: так, П.У. Мёллер пишет, что Брюсов постоянно использовал эротизм как средство привлечь внимание публики [Möller 1988, 278], а в рецензии на [Марков 1994] неожиданно утверждается, что основной скандальный пуант брюсовских «бледных ног» состоял в двусмысленности глагола «закрой» (cover/close) [Croft 1995, 1064] – довольно очевидно, что во втором, более фривольном значении по-русски глагол «закрыть» (вместо «свести» или «сжать») невозможен.
(обратно)301
Интересно, что в XXI веке потребовался новый перевод брюсовского стихотворения на английский язык – его осуществили Марго Шоль Розен и Григорий Дашевский:
Oh, cover your pale legs! [Dedalus 2007, 33] (обратно)302
Дж. Кейшиан замечает, впрочем, что «практически все английские образцы моностиха импортированы из других языков – брюсовского русского, аполлинеровского французского» [Kacian 2012, 39], – но, к сожалению, не поясняет, что в истории англоязычного моностиха видится ему именно брюсовским следом (аполлинеровский, как мы увидим ниже, прослеживается без труда).
(обратно)303
При дальнейших републикациях Унгаретти добавил к тексту указание на место и время действия: «Куртонский лес, июль 1918 года» – тем самым не только приурочив написанное на несколько месяцев раньше стихотворение к самому кровопролитному сражению итальянских войск на французском фронте (эпизод Второй битвы на Марне), но и усилив мотив ожидания гибели в будущем (поскольку мысль об осени датирована летним месяцем).
(обратно)304
И недаром – потому что даже спустя почти полвека итальянская критика подозревала в однострочной французской версии прозу, «дневниковую запись» [Cambon 1976, 14]. Дж. Кэри более справедлив, указывая на ритмическую близость моностиха Унгаретти к александрийскому стиху, но и ему представляется неоправданной принесенная в переводе жертва (итальянский текст построен, помимо прочего, на синтаксической непоследовательности: начинаясь в единственном числе, он заканчивается во множественном, – эффект сильнее, чем в русском переводе) [Cary 1993, 163–164], – странным образом при этом не берется во внимание, что во французской версии прием не потерян, а перевёрнут: моностих начинается во множественном числе, а заканчивается в единственном. См. также стр. 343–344 по поводу графики этого текста.
(обратно)305
В оригинале моностих озаглавлен «Голубка». У Маркова опущено название, а птица в тексте поменяла пол. Двустрочная редакция 1925 года была озаглавлена «Соловей»:
Трепет крыльев голубки иных потопов слышу.– резкое расхождение ритмического и синтаксического членения, нанизывание однотипных «вложенных» дополнений и столкновение двух «птичьих» образов делают эту версию гораздо более герметичной, так что радикализация формы в данном случае сопровождалась упрощением высказывания – чего не наблюдалось во французских автопереводах.
(обратно)306
Статус текста Альтолагирре как моностиха не лишен проблематичности, поскольку он напечатан не на одной странице, а на пяти, по слову на каждой; названием, однако, поэт предлагает соотносить его именно с моностихом, а не с короткострочным пятистишием.
(обратно)307
У позднейших специалистов встречается квалификация «Тени сороки» как единого многочастного текста [Krupat 1989, 113; Kostelanetz 2001, 674]; ни в структуре книги и отдельных текстов, ни в высказываниях автора и отзывах современников мы для этого оснований не видим.
(обратно)308
Имеется в виду апострофа, риторическая фигура: обращение к отсутствующему лицу.
(обратно)309
Имеется в виду рассказанная в «Десяти книгах об архитектуре» Витрувия история о том, как молодой архитектор Дейнократ предложил Александру Македонскому высечь из Афона его статую.
(обратно)310
Здесь цитируется предисловие Джона Хемингса и Генри Конделла к так называемому «Первому фолио» – изданию шекспировских пьес 1666 года.
(обратно)311
Мысль о Сведенборге как своего рода поэте и, в частности, наследнике и сопернике Мильтона неоднократно обсуждалась в XIX веке и на американской почве связана, прежде всего, с именем Ральфа Уолдо Эмерсона.
(обратно)312
Это подлинная фраза из книги Сведенборга «Истинная христианская религия», в которой в английском переводе Джона Эйджера, опубликованном незадолго до этого, возникла случайная внутренняя рифма: «As they had no swords, they fought with the points of words» [Swedenborg 1889, 473] (в латинском оригинале Сведенборга, разумеется, ни рифмы, ни иных признаков стихотворности нет: «Quia non erant illis enfes, acuminibus verborum pugnabant» [Swedenborg 1771, 214]).
(обратно)313
Строго говоря, в обеих публикациях Томас не утверждается, что приведенные моностихи ею же и сочинены, хотя подводящая к стихотворной части риторическая проза, безусловно, прочитывается как рамка того же авторства. Однако есть и другая возможность, на которую указывает третья публикация моностихов, появившаяся вновь в журнале «The Critic» за подписью С.Р. Эллиот [Elliott 1897]. Сэмюэл Р. Эллиот (Samuel R. Elliott; 1836–1909), медик и литератор-любитель, был тесно связан с Томас: в том же «The Critic» он опубликовал о ней панегирическую статью [Elliott 1898], в модном журнале для дам «Delineator» – серию бесед с ней («Женщины и музыка», «Женщины и война», «Женщины и бизнес» и т. п.), а путеводитель по Коннектикуту прямо сообщает, что в загородном доме Эллиота Томас постоянно проводит лето [Abbott 1907, 69]. Поэтому, несмотря на отличия этой публикации от предыдущих – 10 однострочных стихотворений без прозаической рамки и общее название «Одинокие строки» (Solitary Lines) без употребления слова «моностих», – можно было бы предположить, что и в «The Atlantic Monthly» моностихи написаны Эллиотом или хотя бы при его участии. Сами моностихи третьей публикации кардинально не отличаются от уже рассмотренных:
НОВЕЙШИЙ ИКАР
Мир отступает, оставив нас в воздухе.ЖЕМЧУЖИНА
Из тьмы морских глубин украли каплю света.ТУМАН
Дыханье Господа над зеркальцем морей. (обратно)314
История этой строки также представляет определенный интерес для нашей темы. Крэшо (1612? – 1649) опубликовал в 1634 г. латинское четверостишие-эпиграмму, заканчивавшееся строкой с этим образом: Nympha pudica Deum vidit, et erubuit [Crashaw 1873, 96] (то, что вода, превращаемая Иисусом в вино, здесь предстает в образе стыдливой нимфы, то бишь представительницы языческого пантеона, можно списать на барочную неразборчивость, – впрочем, предлагалась и конъектура: lympha 'жидкость' вместо nympha). Существует несколько переводов этого четверостишия на английский язык, однако широкой известностью пользуется только цитируемый Хейр перевод заключительной строки, приписываемый юному Джону Драйдену (1631–1700): по легенде, Драйден, будучи школьником, представил эту единственную строчку в качестве домашнего сочинения на заданную тему о соответствующем евангельском эпизоде – как писал в 1874 году анонимный американский автор, «это было его первое сочинение в стихах, и оно предвещало бессмертие» [Pen & Plow 1874]. Перед нами, таким образом, характерный пример читательского моностиха.
(обратно)315
Характерным, хотя и дальним следствием этого поворота можно считать практику англоязычного японского поэта Ёрифуми Ягути (Yorifumi Yaguchi; род. 1932), под влиянием западной поэзии заметно отошедшего от своих лежащих в традиции хайку корней, но сохраняющего определенный след поэтики хайку [Birky 2003, 559] – в том числе и в однострочных стихотворениях.
(обратно)316
Поскольку до этого Ходжсон шесть лет провел в Японии и занимался, в частности, переводом поэтической антологии «Манъёсю», влияние хайку и танка на его поэтическое мышление обсуждалось; впрочем, отмечает в связи с этим Т. Сайто, склонность к сверхкраткой форме проявилась у Ходжсона еще в стихах 1910-х годов [Saito 1962, 158] – и, действительно, в них больше от постромантической георгианской декларативности:
Кто перескажет слезу! Рыба выглядит крупней в воде. [Hodgson 1961, 169, 174] (обратно)317
Первая публикация моностихов Лошака, впрочем, относится к 1929 году [Lochac 1929], совпадая по времени с развернувшейся во французской прессе полемикой по поводу эстетической самоценности одинокой строки, возникшей в связи с публикацией отрывков из рукописного наследия Жозе Марии Эредиа [Breunig 1963, 316–319]; публикатором и инициатором полемики выступил близкий к Аполлинеру Жан Руайе (1871–1956), и он же опубликовал моностихи Лошака в своем журнале «Le Manuscrit autographe». В том же году, как отмечает Л. Брейниг, появился и сатирический рассказ Леона дю Гриффа «Записки провинциала», герой которого не только готовит к публикации книгу однострочных стихотворений, но и в быту разговаривает одностишиями александрийского стиха. Лошак, впрочем, двинулся дальше и в 1949 г. выпустил вторую книгу однострочных текстов [Lochac 1949], составив ее полностью из восьмисложников и дав подзаголовок «Микроны» (Micrones); эта публикация, однако, осталась не замечена критикой. Справедливости ради нужно отметить, что, хотя даже во Франции линию развития моностиха нередко ведут напрямую от Аполлинера к Лошаку [Tortel 1986, 3], между ними находится Поль Элюар, опубликовавший в 1925 году книгу однострочных текстов «152 пословицы на потребу дня» (в соавторстве с Бенжаменом Пере) [Eluard 1925], а затем еще несколько моностихов на рубеже 1920–30-х.
(обратно)318
Пиллат сформировался как поэт во Франции, где жил с 1905 по 1914 гг., хотя современные ему специалисты и относили увлечение французской традицией, будь то парнасская школа или символисты, к числу юношеских «соблазнов», преодоленных в его зрелом традиционалистском творчестве [Lovinescu 1927, 97]. Критический резонанс, вызванный моностихами Пиллата в Румынии, был довольно значителен [Chelaru 2011, 28, 54] (см. также стр. 52), однако революционера Аполлинера в связи с неожиданным жестом почтенного мэтра не вспомнили – но французский след все равно был заподозрен. Как сообщает восстановивший хронологию событий М. Келару [Chelaru 2011, 45–47], Дж. Кэлинеску опубликовал статью «Ион Пиллат и Эмманюэль Лошак» [Călinescu 1936], намекавшую на зависимость румынского автора от французского, Пиллат ответил в прессе решительным опровержением, указав, что первая публикация его моностихов состоялась в январе, моностихи Лошака были опубликованы в парижской периодике в мае, а в марте сам Пиллат побывал в Париже и оставил своему другу Люсьену Фабру свои тексты, с которыми французская литературная общественность могла ознакомиться. Намекнув тем самым на то, что это Лошак украл у него идею (что никак не может соответствовать действительности: на самом деле первая публикация моностихов Лошака состоялась намного раньше), Пиллат резюмировал: «Я никогда не встречал стихотворения в одну строку (или моностихи, если пользоваться этим варваризмом) ни в одной известной мне зарубежной литературе – и не встречал даже обсуждения этой поэтической идеи» [Pillat 1936], – однако поверить, что в 1913 году, находясь в гуще парижской поэтической жизни, он не ознакомился со свежим томиком аполлинеровских «Алкоголей», довольно трудно.
(обратно)319
Концепция «поля литературы» Пьера Бурдьё, предполагающая его подразделение на «субполе ограниченного производства» (элитарной литературы, адресованной здесь и сейчас узкому экспертному кругу, но в долгосрочной перспективе определяющей ход культурной эволюции) и «субполе широкого производства» (массовой литературы, рассчитанной на немедленный материальный успех) [Bourdieu 1992, 302], при всей своей широкомасштабной объяснительной силе разработана применительно к западной литературе рубежа XIX–XX веков, так что «к другим периодам и национальным традициям и к другим состояниям поля эта модель приложима только mutatis mutandis» [Гронас 2000, 15]. Именно мутацией бурдьеанской категории субполей и является, собственно, эмпирически очевидное описание русской литературы второй половины XX века как слабо взаимодействующих страт официальной и неподцензурной словесности. Менее очевидна правомерность рядоположной квалификации третьей страты – литературы русской эмиграции, но для нужд нашей работы это несущественно.
(обратно)320
Напротив, Д.А. Суховей возводит генезис этого приема у Виноградова к Каменскому, противопоставляя линии Каменского и Гнедова в последующем употреблении голофразиса в русской поэзии [Суховей 2008, 122].
(обратно)321
Ср., напр.: «С начала 50-х годов ‹…› определяющую роль начинают играть несколько приватных художественных кружков, где вокруг ветеранов “левого фронта искусств” и бывших акмеистов группируется творческая молодежь. Они становятся центрами, откуда самиздат расходится по всей стране. Таких центров было несколько. Один из них – дом ленинградского философа Я.С. Друскина, друга Александра Введенского и Даниила Хармса, сохранившего их рукописи вопреки всем превратностям судьбы» [Кривулин 1997, 344].
(обратно)322
Уж не поэтому ли этот текст не включен в собрание В.Ф. Маркова? См. прим. 330 на стр. 214.
(обратно)323
При том, что соотношение иронического и философского в моностихах Гатова и Сельвинского нам, как было замечено выше, видится достаточно близким. Несколько преувеличенная, на наш взгляд, серьезность, с которой Сельвинский трактует моностих Гатова, хорошо корреспондирует с реакцией критики 1930-х гг. (см. стр. 169–170).
(обратно)324
Стоит отметить, что в том же 1958 году был опубликован и «Сентиментальный роман» Веры Пановой, не без симпатии описывающий сцену чтения юным авангардистом своей однострочной поэмы в Ростове-на-Дону 1920 года (см. стр. 158–159), – правда, в итоге авангардист все-таки «уехал за границу, у него там оказались родственики» [Панова 1987, 341], что по состоянию на 1958 г. звучит не вполне безобидно.
(обратно)325
Риторика Шевцова задала тон высказываниям специалистов по Сергееву-Ценскому относительно данного эпизода в романе – вплоть до вполне недавних: так, Т.А. Гавриленко полагает, что «говорящее о чем-то только Хаджи и только ему приносящее удовлетворение странное словотворчество вообще понять невозможно – никому и никогда» [Гавриленко 1995, 71]. Но об оригинальном авторе присвоенного Сергеевым-Ценским текста Шевцов не знал или умалчивал, так что это обстоятельство его преемникам пришлось открывать заново. Честь этого открытия принадлежит П.И. Плукшу: в первом издании его книги о Сергееве-Ценском «поэма» Хаджи обсуждается еще без упоминания о Гнедове [Плукш 1968, 260–261], а ко второму он ознакомился со статьей Ефремина (см. стр. 167) и позаимствовал из нее фразу о Гнедове, который «читал свою “поэму” в богемном кабачке “Бродячая собака”» [Плукш 1975, 221], – дополнив ее не только дополнительными сведениями об эгофутуристическом контексте (не вполне достоверными, поскольку под «графическими “аэропланными поэмами” Константина Олимпова» явно имелись в виду «Железобетонные поэмы» Василия Каменского, а не вполне невинный и вовсе не графический сборник Олимпова «Аэропланные поэзы»), но и, вслед за Шевцовым, инвективами в адрес «современного буржуазного модернистского искусства» в лице конкретной поэзии и леттризма, в том числе и работавших с однословными и однобуквенными текстами Йена Хэмилтона Финлея и Арама Сарояна.
(обратно)326
С.И. Кормилов [Кормилов 1991a, 74] насчитывает их 30 – видимо, исключая два текста, записанных «лесенкой» (куда исчез при подсчете еще один моностих – невозможно предположить).
(обратно)327
Этот текст, вполне вероятно, Марков получил непосредственно от автора, с которым состоял в переписке [Марков 1998, 309–315].
(обратно)328
Версия «Трактата об одностроке» в [Марков 1994] практически не отличается от текста [Марков 1963]: новых примеров автор не дал, ошибок и неточностей не исправил – впрочем, добавил пару новых: так, название, под которым была опубликована державинская эпитафия Суворову, корректно («На гробницу Суворова в Невском») воспроизведено в [Марков 1963, 257] и ошибочно («На гробницу Суворова») в [Марков 1994, 354]; вместо совершенно корректной ссылки на книгу моностихов Иона Пиллата «Poeme intr'un vers» [Марков 1963, 248] появилось указание на одноименный раздел в книге Пиллата «Poezii» (1965) [Марков 1994, 346] – между тем книга 1965 г. представляет собой изданное к 20-летию смерти поэта избранное, разделы которого воспроизводят прижизненные сборники.
(обратно)329
Россика РГАЛИ. Обзор поступлений за 1991–2002 гг. // Отраслевой портал «Архивы России» ()
(обратно)330
Как всегда, часть заявлений Маркова не вполне корректна. Примыкание Брюсова к античной традиции основывается, вероятно, на фразе из интервью Брюсова Измайлову (см. прим. 177 на стр. 121), которая в контексте других заявлений Брюсова по поводу истоков и смысла моностиха «О закрой свои бледные ноги.» выглядит явной мистификацией. Какое влияние японской традиции можно увидеть в моностихе Самуила Вермеля – неясно, это замечание Маркова выглядит такой же аберрацией, как название «Танка», приписанное этому тексту М.Л. Гаспаровым (см. прим. 254 на стр. 155). Удивление по поводу отсутствия в русском стихе моностихов с фольклорными корнями также выглядит странно, если помнить о моностихе Сельвинского; правда, Марков не включает моностих Сельвинского в свою антологию, однако не знать он его не мог, поскольку ссылка на соответствующие страницы «Студии стиха» присутствует в тексте «Трактата» ([Марков 1963, 254]; в [Марков 1994] ссылка снята). Любопытно, что авангардную линию в развитии моностиха Марков не называет вовсе.
(обратно)331
Здесь стоит отметить, что фрагментарное письмо уже начала, а тем более – середины XX века значительно отстоит по мотивациям и художественной идеологии от фрагмента в понимании романтиков начиная с Ф. Шлегеля, для которых «фрагмент выступает зародышем или проектом становящегося объективного целого; всякий фрагмент для иенцев (и, кажется, для них одних) – фрагмент будущего» [Дубин 2002, 252], тогда как «фрагмент у Чорана – как, впрочем, уже у Бодлера, а потом у Ницше или Беньямина, – соответствует отдельному мгновению, не соединимому для разорванного сознания ни с каким другим» [Дубин 2002, 253–254].
(обратно)332
«Я почему-то рисовала тогда (в 1915 г. – Д.К.) на всех коробках и бумажках фантастических зверей с выменем. Один из них был увековечен на листе с надписью: “Что в вымени тебе моём?”» – писала Брик в своих воспоминаниях о Маяковском, опубликованных в 1934 г. [Брик 2003, 38]
(обратно)333
Ср., напр., характерные уступительные интонации в самой общей характеристике Дельвига: «Не обладая ни гениальностью Пушкина, ни выдающимися дарованиями Батюшкова или Баратынского, он тем не менее оставил свой след и в истории русской поэзии, и в истории критики и издательского дела, а личность его была неотъемлема от литературной жизни 1820–1830-х гг.» [Вацуро 2004, 655]
(обратно)334
Впрочем, в записных книжках Субботина, подготовленных им к печати позднее, имеется запись от 10 августа 1944 г.: «Окоп копаю. Может быть – могилу? Стихотворение, которое я, может быть, никогда и не напишу. Но, может быть, и не надо ничего дописывать» [Баймухаметов 2013, 2].
(обратно)335
Иначе полагает О.И. Федотов, отмечающий в этом тексте «изысканную аллитерацию (кп – кп, мт – тм)» [Федотов 2002, 21]. Вряд ли для такого прочтения есть основания: странно интерпретировать как аллитерацию контактный повтор однокоренных слов («окоп копаю»), а услышать перекличку «м» и «т», разнесенных по противоположным концам слова «может», с «т» и «м», расположенными контактно, но в разных словах («быть могилу»), не так-то легко, особенно если не забывать, что первое «т» твердое, а второе мягкое. Вообще представляется, что и тема субботинского стихотворения – каждодневное пребывание солдата в ожидании смерти – не требует добавочных ритмико-эвфонических эффектов, и сама однострочная форма избрана именно как жест отказа от любых дополнительных украшений начиная с рифмы. Впрочем, замечание Федотова, по-видимому, представляет собой отголосок разбора субботинского моностиха, проведенного тридцатью годами раньше Е.К. Озмителем (см. стр. 40–41), чьи небесспорные замечания о звуковой конструкции этого текста сделаны, однако, в рамках более широкого и пристального взгляда на его структуру.
(обратно)336
При том, что Солнцев в середине 1960-х гг. отчетливо ориентируется на Сельвинского, шлет ему стихи и восторженные письма, получает ответы и советы и отзывается с наивозможным преклонением: «Ваши письма для меня, язычника, – откровения громадного философского и поэтического ума, перед которым я преклоняюсь, но – как мальчишка, впервые попавший в ядерную лабораторию, в напряженное молчание приборов – стараюсь на себе экспериментировать: убьет молния или не убьет. ‹…› Вы – единственный в своем роде поэт» (3.06.1963; РГАЛИ ф. 1160 оп. 1 ед. 460 л.6). Иными словами, авангардная ориентация Солнцева налицо: «Я люблю только непохожих, единственных: Маяковского, Лорку, Сельвинского, Элюара, Эренбурга, Вознесенского» (там же, л.1), но диапазон авангардных возможностей исчерпывается для него открытыми советскими публикациями новейшего времени и потому остается весьма ограниченным.
(обратно)337
Этот текст вскользь упоминает С.И. Кормилов, перечисляя авторов середины XX века, которые, обращаясь к моностиху, использовали силлабо-тоническую метрику, – и характеризует его как бесцезурный шестистопный ямб [Кормилов 1996, 148]; теоретически эта строка действительно укладывается в шестистопный ямб – форма XXIV с безударными вторым, четвертым и пятым иктами учтена К.Ф. Тарановским 2 раза в статистике 29805 строк соответствующего размера [Тарановский 2010, 134–136], – однако опознание ее как ямбической в изолированном положении кажется более чем проблематичным.
(обратно)338
Псевдоним, использовавшийся Алексеем Хвостенко и Анри Волохонским для совместно написанных произведений. Фактические сведения о литературной группе «Хеленукты» см., напр., [СЛ 2003, 461–462].
(обратно)339
Имеются в виду участники московской поэтической группы «СМОГ».
(обратно)340
Речь, разумеется, идет о книге «Студия стиха» (1962), а не о ранней (1928) поэме Сельвинского с таким названием.
(обратно)341
Имеется в виду книга французского поэта Рене Шара (1907–1988) «Листки Гипноса» (1943–44), сокращенный русский перевод которой появился в 1973 г. Текст книги состоит из множества фрагментов, бóльшая часть которых, безусловно, прозаична, однако некоторые с различной долей вероятности интерпретируются как стихотворные. Во всяком случае, то, что «Листки Гипноса» не являются полностью прозаическим текстом, не вызывало сомнений у исследователей: «Применительно к “Листкам Гипноса” затруднительно с полным основанием говорить о стихе, разве что, может быть, о тексте “Карта вечера…” и нескольких еще строчках двуликого рода (de nature “amphibie”). И тем не менее, безусловно, “Листки Гипноса” представляют собой книгу стихов» [Sereni 1971, 46]. К сходной позиции, видимо, склонялись и русские переводчики. В то же время мера самостоятельности отдельных фрагментов представляется неочевидной; характерно, например, что переводивший «Листки Гипноса» Вадим Козовой существенно усиливал стихотворность в одних фрагментах и ослаблял в других, стремясь сохранить некий баланс стихового и прозаического начал во всей книге. Однострочные фрагменты из издания 1973 г. в переводе Козового мало напоминают спровоцированные ими тексты Эрля:
Как варвар – действовать и как стратег – предвидеть. Только глаза еще способны кричать. [ИСФП 1973, 320, 326]– несколько ближе к ним опубликованные позднее другие фрагменты в переводе Мориса Ваксмахера – например:
Яблоко слепо. Видит лишь яблоня. [СЕП 1976, 132] (обратно)342
О такой компенсаторной функции алфавитного упорядочивания текстов пишет Е.В. Клюев на совершенно ином материале (поэзия Эдварда Лира): «Естественно, что для поэзии абсурда алфавит – идеальная форма. Строгий и заранее известный читателям ‹…› порядок следования равновеликих частей небольшого объема – что еще нужно? Эту форму можно “набивать” чем угодно: она выдержит и переживет любое безумие, оказывая достойное сопротивление какому угодно хаосу! К тому же, не надо думать о том, чтобы связывать части: части связаны изначально (и не нами)» [Клюев 2000, 58].
(обратно)343
Ср. из советского учебника той же эпохи: «Ленинград – это город рабочих» [Хмара 1980, 114].
(обратно)344
Ср.: «Сквозь прежний “традиционный”, “многозначительный” стиль проступают чертежные контуры “прямоты и ясности”, доходящей до профанирующей элементарности, заострились и стали более конструктивными черты эпатажа, присущего некоторым стихотворениям Аронзона и ранее. К произведениям “нового типа” следует отнести ‹…› однострочия» [Степанов 2010, 18].
(обратно)345
Ср.: «Переживанию точности однозначного соответствия между словом и его денотатом, отвечающему эстетике ясного, “дневного” смысла, противостоит вариативность, а то и “расплывчатость” значения этого слова при изображении предметов скрытых, “ночных”. Аронзон исходит в своем творчестве из явственного ощущения существования таких предметов, и именно это ощущение приобретает для него устойчивую инвариантность, тогда как всякое выражение неизбежно представляется приблизительным, обходящим свой предмет по одной из неисчислимо многих касательных» [Степанов 2010, 42–43]. О том, что указательное местоимение, указывающее неизвестно на что, в поэтическом тексте способно, с одной стороны, акцентировать метатекстуальный уровень текста, а с другой – представлять указанное как нечто особо ценное и эмоционально нагруженное, см. [Зубова 2012].
(обратно)346
Комментаторы собрания сочинений Аронзона (П.А. Казарновский, И.С. Кукуй и В.И. Эрль) полагают, что «имеется в виду народная примета – выйти на первый выпавший снег и загадать желание» [Аронзон 2006, I:478]; думается, что такая конкретизация совершенно необязательна: экстатическое отношение к природе вообще и к любому неповторимому мгновению ее существования – постоянный мотив поздней лирики Аронзона: «Боже мой, как все красиво! / Всякий раз, как никогда» [Аронзон 2006, I:213] и т. п.
(обратно)347
Комментаторы собрания сочинений, впрочем, не уверены в том, что эта строка представляет собой моностих, а не просто набросок [Аронзон 2006, I:461].
(обратно)348
Примеры этого рода принципиальны в теоретическом отношении, опровергая взгляд на моностих и вообще миниатюру как цельный квант смысла, свободный от диалектической напряженности между частями и целым (ср., например, у А.Д. Степанова: «Проблема вхождения в герменевтический круг здесь минимизируется: конечно, нельзя сказать, что это целое без частей, но челночное движение от целого к части и обратно здесь бессмысленно в очень своеобразном значении этого слова – потому что не приводит к корректировке авторского смысла» [Степанов 2008, без паг.]). О длине строки как иконическом изображении временнóго промежутка см., напр., [Nänny 1985, 130].
(обратно)349
Цикл «Командировка» впервые напечатан в [Сапгир 2004] в сокращении, и этот моностих в состав публикации не вошел, так что единственной его публикацией осталась сетевая [Сапгир 1997].
(обратно)350
Впрочем, в данном случае перед нами не просто паронимия: столкновение старинной кальки «впечатление» с формой глагола «впечатать» актуализирует в существительном его внутреннюю форму.
(обратно)351
При том, что знакомство Сапгира с вышедшей двумя годами раньше книгой Сельвинского «Студия стиха», в которой моностих представлен как вполне законная поэтическая форма, представляется весьма вероятным, учитывая его (и Игоря Холина) интенсивное общение с самим Сельвинским (см. [Кулаков 1999, 329]).
(обратно)352
Как пояснил нам в свое время работавший с архивом Сатуновского И.А. Ахметьев, графика этого текста в [Сатуновский 1994, 261] воспроизводит машинописный оригинал Сатуновского:
… воскресенье, понедельник, октябрь, ноябрь, макабр…(вторая строка выровнена по правому краю). Позднее Сатуновский возвращается к этому стиху и начинает с него многострочный текст – не отказываясь, однако, и от уже записанного моностиха (т. е. в «основной корпус» своих стихотворений – см. [Кулаков 1999, 234] – автор включил оба текста); в машинописи этого многострочного стихотворения графика первого стиха такая же, с разрывом слова «октябрь», – и это дает основания предположить, что разбивка на две строки вынуждена здесь исключительно длиной стиха. В [Сатуновский 1994, 261, 262], однако, в первом случае (отдельное стихотворение) воспроизводится графика подлинника, во втором (в начале многострочного текста) – этот же стих дан единой строкой. Нам представляется, что составитель издания В. Казак здесь непоследователен, и было бы логично считать данный текст строго однострочным, без «лесенки». Тем не менее, при переиздании сочинений Сатуновского сам Ахметьев пошел по обратному пути и воспроизвел в обоих случаях разбивку машинописного оригинала [Сатуновский 2012, 374, 375]. Учитывая, что внутрисловный перенос во всем корпусе стихотворений Сатуновского (более 1000 текстов) встречается трижды и всякий раз отчетливо мотивирован: «Владимир Ильич Ле– / йбсон» [Сатуновский 2012, 322], «в жалобную кни– / гу, гу, ни гу-гу» [Сатуновский 2012, 256] и хрестоматийное «Вчера, опаздывая на работу, / я встретил женщину, ползавшую по льду, / и поднял ее, а потом подумал: – Ду– / рак, а вдруг она враг народа?» [Сатуновский 2012, 9], – кажется, что видеть этот прием в рассечении слова «октябрь» по слогам нет оснований.
(обратно)353
Сатуновский, в частности, начинал еще на рубеже 1920–30-х гг., примыкая к «констромолу» – «конструктивистскому молодняку» – авторам младшего поколения, группировавшимся вокруг Литературного центра конструктивистов во главе с Ильей Сельвинским. В связи с этим вполне возможно, что интерес Сельвинского к моностиху не прошел мимо его внимания: во всяком случае, в одном из стихотворений Сатуновского фигурирует, хоть и в ироническом контексте, «Илья Сельвинский, мастер миниатюры» [Сатуновский 2012, 381].
(обратно)354
Важно, что глагол «знать» – в отличие, например, от близких по значению «считать», «полагать» или напрашивающихся в данном случае «верить», «утверждать» – принадлежит к «фактивным глаголам», которые «характеризуются пресуппозицией истинности суждения, выражаемого подчиненной предикацией» [Падучева 1990], – и, таким образом, истинность утверждения «Это стихи» имплицитно встроена в данный текст.
(обратно)355
Ср. также у Г.Н. Айги: «Это слова-пароли, слова-шифры, – такими “словоподобиями”, как бы ничего не значащими, обмениваются, например, две “недотыкомки” где-нибудь на бесчеловечно-бесприютном вокзале. ‹…› У Всеволода Некрасова есть своя мистика. ‹…› Абсурдность бесчеловечности, выраженная в его поэзии, такова, что для обычного, “нормального” ума она начинает казаться чуть ли не “потусторонней”…» [Айги 2001, 141].
(обратно)356
Относительно ясности данного текста Никоновой выражает некоторые сомнения И.И. Плеханова, приходящая, на основании беглого экскурса в историю образа мухи в русской поэзии, к выводу о том, что Никонова этим текстом «изъяла из сферы своих интересов и насекомое, и всю экзистенциальную проблематику вместе с ним. Кроме экзистенции творчества» [Плеханова 2007, 271–273]. Сама Никонова в другом месте комментировала иначе: «Путь простоты в своем движении ведет к упрощению не единицы энергии – буквы, а к упрощению единицы интеллекта – мысли. Стихи типа: МУХ НЕТ, СПИНА МЕРЗНЕТ, ЗУБ УШЕЛ – это продолжение абсурдизма наоборот, это своего рода гиперреализм, простой и чистый пепел бытовой речи» (манифест «О сокращении плоскости стиха» в самиздатском журнале «Транспонанс», 1979, № 1, стр. 16); мы уже отмечали (см. стр. 142–143), что примерно эта логика – взрывной потенциал бытовой речи на фоне авангардного письма – вероятно, стоит за Поэмой 12 в «Смерти искусству!» Василиска Гнедова.
(обратно)357
Осведомленность относительно не републиковавшихся и не обсуждавшихся в советской подцензурной печати футуристических текстов приходила к ним постепенно, вплоть до личной переписки Сергея Сигея с Гнедовым в 1977–1978 гг. [Brooks 2006, 179–182] после того, как в 1976 г. Сигей получил возможность целиком ознакомиться со «Смертью искусству!» [Brooks 2006, 186]. Однако уже в 1985 г. Б.В. Останин и А.В. Кобак, квалифицируя творчество Сигея и Никоновой как «ретро-футуризм», пеняли им на то, что в их работах «бросается в глаза не столько собственная оригинальность и изобретательность, сколько осведомленность об идеях авангарда 1910–1930-х годов» [Останин, Кобак 2003, 94–95].
(обратно)358
Второй из этих приемов – расчленение двух слов и «вдвигание» их друг в друга – Никонова выделяет особо, называя его «чехардой» [Бирюков 1994, 75]. Проблематизацией линейности чтения эта «чехарда» сближается также с одновременными работами Всеволода Некрасова – при том, что авангардный никоновский пафос авторского воления над словом (анатомический оксюморон «кисти пяток» и финальный пуант «тут ТОК» не обнаружены в соединении ничем не связанных слов «институт» и «кипяток», а высечены из их столкновения) Некрасову, конечно, чужд.
(обратно)359
Ср., однако, использование того же приема канадским поэтом Джорджем Суидом:
des ert crow ded wi thsp ace do oru nope n foryea rsth eke yb end s [Swede 1981, 36]– с акцентом на спорадическое появление новых значимых слов в результате пересегментации (особенно выразительно в первом тексте выделение ace «малая частица» из space «пространство»). Англоязычные примеры этого рода довольно многочисленны, чему способствует обилие в языке коротких слов, – Б. Граммен выделяет их в особый подтип поэтического минимализма, fissional poetry, «расщепительную поэзию» [Grumman 1997]; кажется, что они обнаруживают поспешность обобщающего замечания Н.А. Фатеевой, полагающей, что «в основе пересегментации лежат две тенденции – лексикализация аффиксов и реэтимологизация корневых элементов» [Фатеева 2006b, 869], но, возможно, дело в большей доле морфологически нерасчлененной лексики в английском языке.
(обратно)360
Согласно классификации видов зауми, предложенной в [Janecek 1986]; краткий обзор см. [Janecek 1996a, 4–5].
(обратно)361
Свидетельством того, что эта форма входит в состав звукового образа украинского языка у носителей русского, может служить эпизод из романа Ивана Тургенева «Рудин», в котором один из персонажей пародирует украинскую речь словами «грае, грае воропае».
(обратно)362
При том, что полный отказ от такой интерпретации, прокламируемый, например, И.М. Сахно («Любая расшифровка <заумной поэзии> является фактом субъективной интерпретации, лишенной научного обоснования» [Сахно 1999, 22]), производит впечатление избыточного исследовательского аскетизма.
(обратно)363
В этой публикации оба текста даны прописными буквами, что, как сообщил нам автор, не соответствует оригиналу.
(обратно)364
Паронимическая пара «день – дань» встречается в стихотворении Хлебникова «А я / Из вздохов дань…» (1918). Впрочем, именно этот тип паронимии, связанный с чередованием ударных гласных, обильно представлен в фольклоре, ренессансной литературе, детской и песенной поэзии, в связи с чем нередко попадает в последнее время в поле зрения исследователей (см. [Корчагин 2011, 107–108]), так что видеть здесь хлебниковский след необязательно.
(обратно)365
Опубликовав еще несколько книг в 1980-е гг., Лакоба отошел от поэзии и сделал заметную политическую карьеру, венцом которой стал пост секретаря Совета безопасности непризнанной Республики Абхазия.
(обратно)366
Понятно, что автору из субполя официальной литературы не пришло бы в голову предложить в «Новый мир» тексты такого рода, а автору из субполя неподцензурной литературы к 1970 году уже не пришло бы в голову предлагать в «Новый мир» что бы то ни было: этот жест сигнализировал о выключенности автора из обоих. В дальнейшем Прийма опубликовал в периодике несколько подборок, отчетливо подражательных по отношению к Андрею Вознесенскому, а затем оставил поэзию и в настоящее время является преуспевающим автором многочисленных книг о своих контактах с НЛО и прилетевшими на них инопланетянами [Прийма 2010].
(обратно)367
Постановка вопроса, отсылающая к тыняновскому тезису о выделенности каждого слова в стихе.
(обратно)368
Л. Робель, замечая, что у Айги «бóльшая часть ключевых образов соотносится с основными мифами очень древней чувашской мифологии», рассказывает со слов самого Айги, что «ребенком ему случилось проснуться ночью и услышать, как мать его усердно шепчет заклинание, в котором без конца повторялось слово, по-чувашски означающее “поле”… Слово “поле” было символом свободы, независимости, счастья» [Робель 2003, 49–50].
(обратно)369
Правомерность и термина, и предложенных Эпштейном (напр., в [Эпштейн 1988, 139–176]) границ явления и способов его описания многократно оспаривалась; ср. их осторожную ревизию в [Аристов 1997] и попытки альтернативной концептуализации в [Кукулин 2003] и [Липовецкий 2000].
(обратно)370
С иной расстановкой акцентов трактует «Осень» Жданова И.И. Плеханова, видя в названии текста возможность перевести со/противопоставление двух реальностей и во временной план: «Длящееся будущее (тень падает) и настоящее (падают листья, увлекаемые тенью) составляют параллельное и взаимосвязанное движение. Их встреча-пересечение в пространстве видится как скрещение плоскостей: тень “падает” благодаря ожившей языковой метафоре, на деле она лежит по горизонтали, листья буквально падают по вертикали или, сносимые ветром, по диагонали прямого угла “ствол – тень”. “Увлекаемые” тенью, они все равно ее не накроют, она так и будет “падать” сверху – как материализованное в ней будущее» [Плеханова 2007, 355–356]. Ср. также замечания О.И. Северской об особой значимости для Жданова семантического поля «тень», устойчиво связанного с представлением о пространстве текста как отражении/тени реальности [Северская 2007, 83, 91].
(обратно)371
Ср. соображения И.В. Кукулина о переоткрытии Лаптевым культурной проблематики метареалистов [Кукулин 2003, 391].
(обратно)372
По сообщению работавшего с архивом Лаптева А.Н. Урицкого, стихотворение «На заданье пошел с половиной Блока…» несет авторскую датировку июнем 1993 года. Тем не менее один из опубликованных в 1991 г. моностихов, вошедших в его состав, Лаптев включил и в книгу 1994 года.
(обратно)373
В советских условиях в этом нельзя было сознаваться, и в статьях идеологов верлибра упор делался на то, что «эта традиция идет из глубины веков. От эпохи досиллабических виршей. И когда будет составлена антология русского классического свободного стиха, в ней мы увидим таких поэтов, как А. Сумароков, А. Радищев, А. Фет, Ф. Сологуб» и т. д. [Бурич 1989, 168] Однако в записных книжках Бурича, опубликованных посмертно, встречаются характерные проговорки, проясняющие точку отсчета: «Неправомерное господствующее положение рифмованного стиха по сравнению с безрифменными системами как следствие изоляционистской политики времени культа личности»; «Мы отстали на целую стихотворную систему, более точно отражающую психологию современного человека» [Бурич 1995, 234, 254]. Ср. также: «В середине 60-х годов <в судьбе русского верлибра> намечаются новые сдвиги, связанные с появлением в литературе ‹…› ряда поэтов, для которых верлибр – одна из основных форм работы со словом. Характерным для них был большой опыт переводческой деятельности, что, безусловно, наложило печать на их оригинальное творчество» [Джангиров 1991, 8]. Излишне говорить, что стремление обогатить отечественную традицию плодотворным опытом других национальных поэзий – вполне правомерная творческая стратегия, успехам которой русский стих многим обязан, однако понимание этого опыта не как расширения спектра возможностей, а как универсального образца может быть оправдано лишь как источник «энергии заблуждения».
(обратно)374
Другое посмертное издание, текстологическая непроработанность которого вызывает сожаления с точки зрения истории моностиха, – это первая и единственная посмертная книга стихов Мэльда Тотева (1937–1993), включающая в себя и несколько моностихов:
Исключения – щели. Разрой, и польется. Вдова владыки – жена сквалыги.МЕТЕОР
Золотой пчелой разлитый звёздный мёд впитала тьма. [Тотев 1999, 197, 128, 104]– и многочастный текст «Фрагменты вчерашнего дня» [Тотев 1999, 195–196], состоящий из 15 разделенных одиночными звездочками элементов объемом от 1 до 3 стихов, которые складываются в довольно цельную картину городской панорамы, выдержанной в экспрессионистских тонах, а также несколько композиций не вполне ясного уровня спаянности, включающих однострочные элементы. Помета к одному из разделов книги: «Автор хотел поэтическими средствами создать стройную картину мира, включив в поэму большую часть своих стихотворений» [Тотев 1999, 107], – подсказывает, что Тотев, как и Лаптев, был склонен скорее к апостериорному объединению фрагментов в единства следующего уровня, но как далеко зашел бы этот процесс в случае участия автора в итоговом издании, сказать трудно. Приходится пожалеть и о недатированности текстов: однострочные стихотворения Тотева довольно разнородны, как видно уже по трем процитированным, и было бы интересно выяснить, когда они написаны и на какие претексты автор имел возможность ориентироваться.
(обратно)375
В следующей публикации этот текст дан в два стиха:
Птица – стремительный жест пространства. [Белый квадрат 1992, 100]– в ряду нескольких двустрочных текстов аналогичной структуры (первый стих – субъект/подлежащее, второй стих – предикат/распространенное именное сказуемое). Возможно, что и здесь, как в случае Леонида Виноградова, мы сталкиваемся с неустойчивостью авторского графического решения.
(обратно)376
Ср. собственную рефлексию Владимира Вишневского по этому поводу: «О, это немноготочие в финале – сколь многое оно способно вобрать…» [Я одностишьем… 1992]
(обратно)377
По крайней мере один из них, по-видимому, результат недоразумения:
А в СССР мне нанесли побои… [Вишневский 1991, 6]– похоже, что автор ошибся в счете слогов, приходящихся на долю аббревиатуры «СССР»: если убавить один слог, то выйдет типичный для Вишневского пятистопный ямб (с пропуском ударения на первом икте). В разговорной речи такое произношение широко представлено и фиксируется журналистикой как характеристика людей с низким уровнем речевой культуры – в зависимости от симпатий журналиста такими людьми оказываются либо участники коммунистического митинга: «“Наша Родина – ССР!” (это не ошибка, это они так кричат – эс-эс-эр)» [Пушкарь 2001], – либо, напротив, журналисты «либеральной» телекомпании: «ЭС-ЭС-ЭР (это у них СССР)» [Айдарова 1999].
(обратно)378
Ср.: «Одностишия наподобие “А свой мобильник я забыл в метро” Вишневского очень наглядно показывают характер героя таких текстов: воспаленное самомнение вкупе с обидой на жестокий мир» [Верницкий, Циплаков 2005, 155].
(обратно)379
Ср., однако, попытку «реабилитации» лирического субъекта Вишневского, предпринятую В.А. Миловидовым, с привлечением «перформативного аспекта дискурса (дикция, манера произнесения текста, внешний вид автора, авторские ремарки, сопровождающие и обрамляющие перформанс и т. д., а также характеристики аудитории)»: учет этих факторов, по мнению Миловидова, позволяет (имплицитному читателю?) извлечь из моностиха
Ты мне роди, а я перезвоню…предположение о том, что «легкомыслие его – только маска, надев которую, он пытается – и успешно – уберечь последнюю из оставшихся в этом мире ценностей (рождение ребенка, – Д.К.) от конечной девальвации» [Миловидов 2000, 74].
(обратно)380
Ср. также беглое замечание А.К. Жолковского о поэтике Вишневского как сказовой [Жолковский 2011, 457].
(обратно)381
«Для массовой литературы нуж<но> ‹…› отчетливое членение на жанры. ‹…› Жанры четко разграничены, и их не так много. ‹…› Каждый жанр является замкнутым в себе миром со своими языковыми законами, которые ни в коем случае нельзя переступать… Пользуясь терминами семиотики, можно сказать, что жанры массовой культуры должны обладать жестким синтаксисом – внутренней структурой, но при этом могут быть бедны семантически, в них может отсутствовать глубокий смысл» [Руднев 1999, 158].
(обратно)382
Вот вполне показательный отзыв: «Его фирменное блюдо, принесшее ему всеобщую любовь и известность, – одностишия. Одностишия Вишневского цитируют, уже не вспоминая об авторе, они давно растворились в городском фольклоре, стали частью народной разговорной культуры» [Кучерская 2003].
(обратно)383
Впрочем, Марина Цветаева в 1940 году отмечала в своей записной книжке, в связи с одной строкой Шарля Бодлера: «Сила японских однострочий, дальше писать нечего, ибо все дано» (запись от 4.12.1940) [Лубенникова 2010]. Любопытно, однако, что Иван Игнатьев уже в 1913 году, в манифесте «Эго-футуризм», усматривал в однострочных «поэмах» из книги Василиска Гнедова «Смерть искусству!» «электризованный, продолженный импрессионизм, особенно характерный для японской поэзии» [ЗА 1993, 93] – никак не заявляя, впрочем, корреляции этого метода с однострочной формой.
(обратно)384
Местность, надо заметить, остается японской – и это не случайно: «Знаменитые местности в японской поэзии играли роль, близкую к сезонным словам: за каждой из них издавна стоял ряд ассоциаций. ‹…› Ёсино, Мацусима, Сиракава – давали поэтам прямой доступ к общему телу национальной поэзии. ‹…› В Америке, можно считать, не существует таких мест, за которыми закреплен устойчивый круг поэтических ассоциаций. А потому англоязычное хайку, если хочет быть жизнеспособным, должно опираться на другие измерения японской традиции» [Сиране 2002, 88–91]. В России, разумеется, дело обстоит так же, как в Америке.
(обратно)385
Характерно в этом отношении, что в самом знаменитом хайку родоначальника этого жанра Мацуо Басё, известном по-русски в переводе Веры Марковой:
Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине.– как раз слово «тишина» в японском оригинале отсутствует, оно добавлено переводчиком [Кудря 1999, 76–77].
(обратно)386
При строгом подходе (по Г.Л. Пермякову), возможно, не все эти речения могли бы претендовать на пословичный статус (так, Пермяков настаивает на обязательности метафорического переноса значения для всех элементов пословицы [Пермяков 1988, 46], что для входящих в состав речения имен собственных невозможно). Однако в данном случае распределение имитирующих фольклор текстов по жанровым прототипам не имеет принципиального значения: важнее само воспроизведение в текстах характерных элементов малой фольклорной формы: от фигуры противопоставления до внутренней рифмы и подбора личных имен по аллитерационному принципу (ср. еще у В.И. Даля: «Ко внешней одежде пословиц надо отнести и личные имена. Они большею частию взяты наудачу, либо для рифмы, созвучия, меры» [Даль 1994, 14]).
(обратно)387
Вплоть до имитации – вполне возможно, что сознательной, – характерных особенностей поэтики некоторых других авторов, постоянно работающих с моностихом: так, текст Нирмала
Дождь. Между мною и небом дождь. [Нирмал 2003, 27]– единственный из 575 текстов его книги, в котором содержатся знаки препинания, – заметно близок к текстам Валентина Загорянского и в пунктуационно-интонационном аспекте (ср. стр. 341), и по содержанию (ср. стр. 258). См. подробнее [Кузьмин 2003b, 146–147].
(обратно)388
Контекст мог бы актуализировать в слове «сахарный» сему белизны – но этого не позволяет однородность с определением «яичный», удерживающая и во втором прилагательном его относительный (а не качественный) статус.
(обратно)389
По всей видимости метящим в культового поэта ленинградского самиздата Аркадия Драгомощенко, хотя собственно в текстах Александроченко на это ничто не указывает. Возможно увидеть в том, что игровой текст создается преимущественно авторами, представляющими свои тексты под псевдонимом, приближающимся к литературной маске, нечто большее, чем совпадение: из авторов, работающих с моностихом, к Бонифацию и Ананию Александроченко следует добавить в этом отношении еще поэта из города Тольятти, публикующегося под псевдонимом Айвенго (Андрей Стеценко; род. 1971):
в рассее все поэты молодые [Вчера, сегодня, завтра 1997, 20]– за текстами подобного рода стоит идеология литературы как источника самоценного удовольствия для автора и читателя, логически ведущая к нежеланию отождествлять те или иные тексты с определенной человеческой личностью.
(обратно)390
Эта форма близка к предсказанному В.Ф. Маркову жанру «голых рифм», для которого он, однако, предлагал двустрочную запись [Марков 1994, 350], – в двустрочном варианте идея была реализована Германом Лукомниковым в книге [Бонифаций 1997].
(обратно)391
Аграмматическая форма «звездей», впрочем, широко распространена в просторечии: поисковая система «Яндекс» давала в 2008 году порядка 14 000 словоупотреблений в Интернете, затем это количество многократно возросло после выхода в свет в 2009 году бульварного романа «Про людей и звездей».
(обратно)392
Несмотря на обоснованные возражения Н.А. Янко-Триницкой [Янко-Триницкая 1975].
(обратно)393
Особенно характерно для мельниковских окказионализмов сочетание наложения с апокопой (конечным усечением одного из исходных слов). См. подробнейшую классификацию в [Изотов 1998].
(обратно)394
Выразительный пример: «Недавно я, старый рыбак Наталья Хозяинова, издалека увидела рыбака Леонида Либкинда. Он писал одностишия! Яркие, остроумные, свежие… Близкое знакомство с творчеством Леонида восхитило меня. ‹…› Непростой это жанр – одностишие. Он предполагает не только поэтическую форму, но и наличие в ней оригинальной мысли» etc. [Хозяинова 2015, 3].
(обратно)395
Этот текст и несколько аналогичных включены в наиболее представительное издание собственных сочинений Владимира Вишневского как лучшие тексты конкурсов одностиший, проведенных в начале 1990-х гг.
(обратно)396
Впрочем, эта ошибка уже приближается к тому типу встречающихся в массовой и наивной литературе авторских просчетов, благодаря которым преодолевается присущая такой литературе «тотальная стертость речевых конструкций» и «“нетрансформированное слово” парадоксальным образом “остраняется”» [Добренко 1999, 355], прочитываясь помимо воли и намерений автора как полноценное художественное высказывание.
(обратно)397
Любопытна в особенности судьба одного моностиха Вишневского, впервые появившегося еще в [Вишневский 1988, 23]:
На этот раз она звалась Наталья…В дальнейшем этот текст дважды ([Вишневский 1991, 5; 1992, 18]) публиковался в виде
На этот раз она звалась Настасья…Затем автор внес в него более решительную правку:
ИНа этот раз Тебя зовут рина… [Вишневский 1998, 79]Однако элемент визуализации текста и нелинейности чтения показался, вероятно, Вишневскому слишком радикальным, и в итоговом (на данный момент) варианте читаем:
На этот раз тебя зовут Татьяна… [Вишневский 2001, 42]– произошло, таким образом, возвращение к пушкинскому первоисточнику.
(обратно)398
Подробный обзор применяемых Элюаром и Пере приемов трансформации исходных текстов – не столько пословиц как таковых, сколько фразеологических оборотов, библейских цитат и пр. – см., напр., в [Mingelgrün 1981]. Русскому читателю эта ранняя книга Элюара и посейчас, не говоря уже о временах Нельдихена и Маркова, известна мало, и даже один из наиболее подробных обзоров сюрреалистической литературы – поверхностная и сильно идеологизированная монография Л.Г. Андреева – ограничивается тем, что определяет ее как «какие-нибудь шокирующие нелепости» [Андреев 2004, 263].
(обратно)399
Статус этого текста, как и приводимого далее другого моностиха Михаила Безродного, проблематичен, поскольку они опубликованы в составе сложного прозиметрического целого: книга Безродного «Конец цитаты» состоит из элементов различного объема и жанра (от моностиха до небольшого филологического эссе), и правомочность выделения из его состава тех или иных частей может быть оспорена. Во всяком случае, эти тексты, как и соседствующие с ними многострочные стихотворения, входят в книгу Безродного как отдельные самостоятельные фрагменты, и проявлений их деформации контекстом целого нам ни с просодической стороны, ни с содержательной увидеть не удалось.
(обратно)400
В.М. Мокиенко и Х. Вальтер, составившие обширную коллекцию новых паремий и паремиеобразных конструкций на разговорно-публицистическом материале, также отмечают обилие «трансформ, основанных на чистом (и при этом обычно случайном) фонетическом и эвфемистическом созвучии» [Вальтер, Мокиенко 2010, 13] – оговорку в скобках следует отнести на счет не вполне академического жанра выступления ученых: среди приводимых ими примеров (Не йоги горшки обжигают; Машу пальцем не испортишь; Птицу видно по помёту; Я милого узнаю по колготкам; Что посеешь, то и пожмёшь; Язык до киллера доведет) в части случаев паронимическое сближение актуализирует вполне определенные смыслы (скажем, замена полета на помет явным образом выражает мысль о том, что сущность человека познается не в лучших, а в худших его проявлениях), а что до других случаев (особенно загадочных колготок), то надо помнить, что Мокиенко и Вальтер имеют дело не с целостными текстами, как мы, а с фрагментами, особенности которых могли быть мотивированы конситуацией или контекстом. Глубже смотрит Е. Фарыно, отмечающий, что сам феномен стихотворного ритма ведет «к произвольным, чисто формальным трансформациям и эквиваленциям. Но информационно существенными являются только те, которые высвобождают родственную семантику между трансформируемым и получаемыми трансформами» [Фарино 2004, 457].
(обратно)401
Любопытно, что автор слегка изменил глагол (у Пушкина «заметил») – вероятно, уходя от стыка двух свистящих и, тем самым, намекая на огрех в классическом тексте.
(обратно)402
Судя по всему, это вымысел, впервые встречающийся в советской пропагандистской книге «Героическая Испания» (1936) и основанный на подлинной фразе «На всем полуострове совершенное спокойствие» из радиообращения республиканского правительства в ответ на первые сообщения о мятеже. Характерно, что живущий именно в Испании М.С. Евзлин, обсуждая этот моностих Сигея, упускает интертекстуальный аспект и пишет о том, что «здесь возникает довольно длинный ряд ассоциаций: быль, былина, былье, былинка, но также – бытие-небытие» [Евзлин 2008, 70].
(обратно)403
Характерно, в частности, что публикация [Ковальчук 1994], откуда взяты два приведенных примера, целиком состоит из текстов этого рода и озаглавлена намекающим на жанровую природу текстов словом «Переделки».
(обратно)404
Типографическое решение 16-й полосы «Литературной газеты» в этот период предусматривало разное шрифтовое решение для стихотворного и прозаического текста; к тому же данный текст не уместился по ширине столбца и был перенесен во вторую строку по прозаическому типу записи. Таким образом, в условиях этой конкретной публикации не складывается читательская установка на обнаружение в тексте сигнала стихотворности.
(обратно)405
Впрочем, произносит эту фразу еще и один из персонажей кинофильма «Раз на раз не приходится» (1987, сценарий Валентина Ежова и Альберта Иванова) [Кожевников 2001, 84].
(обратно)406
Можно было бы думать, далее, вслед за размышлениями Е.А. Тоддеса о том, как ключевому для Тютчева концепту «хаос» соответствует у Мандельштама концепт «пустота» [Тоддес 1974, 79], над тем, что замена мандельштамовского «перепуталось» на «пезданулося» произведена Шишом Брянским именно в этом направлении. Другая возможная отправная точка для сопоставлений – мандельштамовский мотив молчания, в разных отношениях полемический относительно Тютчева [Тарановский 1972]. Непосредственное соотнесение стихотворения «Декабрист» с тютчевским претекстом производилось Ст. Бройдом [Broyde 1975, 42–43] в направлении историософских концепций двух поэтов и в анализе текста Шиша Брянского нам не помогает.
(обратно)407
В фильме «Место встречи изменить нельзя» (сценарий бр. Вайнеров) приписан Конфуцию, однако найти такое высказывание в сочинениях Конфуция трудно, потому что его там нет [Переломов 1998, 284].
(обратно)408
Квадратные скобки в названиях – элемент авторской графики; см. подробнее [Кузьмин 2002, 308].
(обратно)409
Никогда, впрочем, не полном: не согласимся с А.Д. Степановым, замечающим по поводу минимальных текстов Нилина, что «мы не знаем, кто, где, когда и почему» в них говорит [Степанов 2008, без паг.]. Редукция одних элементов конситуации обнажает определенность других – у Нилина, как правило, гипостазируется принадлежность речевого фрагмента определенной эпохе, позднесоветской бытовой речи. В частности, приводимый Степановым в качестве примера моностих
А вы б не брали.– с наибольшей вероятностью отсылает к характерному для этой речи употреблению глагола «брать» в значении «покупать» (хотя и сворачивание синтагмы «брать взятки» – импликацию фразеологизма, в терминологии В.М. Мокиенко, – исключить нельзя).
(обратно)410
Впрочем, в текстах Людмилы Петрушевской нам такого выражения отыскать не удалось, хотя общее количество персонажей этого автора, которые подавились тем или иным продуктом – блином, пирожком, кефиром, червяком и т. д., – неожиданно велико. Может быть, это Нилин и имел в виду?
(обратно)411
Семантический ореол именно этой разновидности размера – с женским окончанием, – кажется, специально не исследован. Вскользь отмечались, например, обращение к ней Михаила Лермонтова в балладах, «основанных в общем на плавной, неторопливой и уравновешенной интонации песенно-мелодического типа» [Шувалов 1941, 272], и различно проявляющаяся в четырехстопном амфибрахии тематическая линия чуда в романтически ориентированной поэзии XIX–XX вв. [Гаспаров 1999, 278]. В силу того, что исследование семантического ореола требует, как правило, учета разновидностей размера и даже строфики (см., напр., [Лилли 1997, 93–94]), обращение к вопросам семантического ореола при изучении моностиха в высокой степени проблематично.
(обратно)412
В принципе возможна и третья трактовка, при которой текст прочитывается как распространенное предложение: сказуемое – категория состояния, подлежащее – инфинитив, дополнение – субстанивированное указательное местоимение. Однако такая инверсия потребовала бы, скорей всего, пунктуационного подспорья в виде тире после первого слова.
(обратно)413
Разложение фразеологизма встречается и в ряде других современных моностихов:
Не каждый свитер неразрывно связан… Владимир Вишневский[Вишневский 1988, 8] На тот свет из этой темноты. Юрий Власенко (род. 1953)[Кузьмин 1996, 81]– не определяя, однако, в полной мере поэтики текста.
(обратно)414
Эта тенденция в поэтике моностиха особенно хорошо развита во Франции: см., например, [Henke 2005, 432–434] о характере прустовских мотивов в моностихе Раймона Кено (1967):
В ЭТОТ САМЫЙ ДЕНЬ
Я марку с Прустом взял в квартале Мариньи– и об их преломлении в позднейшем моностихе Жака Рубо:
ФИЛАТЕЛИЯ
В квартале Мариньи на марках нет Кено. (обратно)415
Для моностиха Перельмутера актуальны по меньшей мере четыре словарных значения: «Жить, быть в живых дольше кого-либо, после смерти, гибели кого-, чего-либо; Жить, существовать во время каких-либо событий, происшествий и т. п., переносить какие-либо (обычно тяжелые) события, явления окружающей жизни; Находить в себе силы перенести что-либо; Воспроизводить, как бы испытывая на самом себе или вновь, глубоко проникаться тем, что возникает в сознании» [ССРЛЯ, 9:603–606].
(обратно)416
«Никто никогда не примечал перемены на этом открытом, ясном, веселом лице, которое было чистым зеркалом прямой и любезной души», – писал, например, П.А. Плетнёв [Плетнёв 1988, 31].
(обратно)417
Строго говоря, работать посудомойкой Цветаева должна была не в Елабуге, а в Чистополе, но эта подробность в состав цветаевского биографического мифа вряд ли входит; утверждение елабужского писателя Станислава Романовского о том, что как раз в Елабуге Цветаева несколько дней все же работала посудомойкой, видимо, представляет собой художественный вымысел [Иванов 2011].
(обратно)418
При том, что абсолютизировать это положение вещей, как делает А.Тумольский («ничтожное место занимала пейзажная лирика в андеграундной поэзии, не говоря уже об “актуальной литературе” современной России» [Тумольский 2000, 311]), также не стоит: у таких поэтов, как Геннадий Айги и Иван Жданов, пейзаж играет исключительно важную роль.
(обратно)419
Нельзя, впрочем, полностью исключить интерпретацию этой пейзажной зарисовки как метафоры социальной жизни – в связи с тем, что лексема «гласность» употребляется в современной русской речи преимущественно в значении позднесоветского политического клише.
(обратно)420
Еще радикальнее формулирует Е.В. Петровская, замечая (в связи с поэзией Аркадия Драгомощенко), что «образ уже не имеет отношения к визуализации», предъявляемый в поэтическом тексте пейзаж перестает быть видимым [Петровская 2013, 273].
(обратно)421
Существенно также, что глагол дан в форме деепричастия, т. е. выражает дополнительное, побочное действие – при умолчании о характере основного. О функциях синтаксической неполноты в моностихах Нирмала см. [Кузьмин 2004, 234].
(обратно)422
Согласно публичному рассказу автора, этот моностих планировался в качестве названия публикации Ахметьева в журнале «Новый мир» [Ахметьев 2001b], «но после того, как автор намекнул, что это не совсем ловко, поскольку текст, собственно, про другой толстый журнал, миниатюра оказалась вообще изъятой из подборки (т. е. в редакции, надо понимать, самостоятельно не уловили, о чем речь)» [ЛЖМ 2001, 6].
(обратно)423
Впрочем, для идиолекта Андрукович достаточно обычное: «В мире Андрукович разреженный воздух (эта разреженность иконически дана в ее текстах – увеличенными межсловными пробелами и значительными отступами от левого края), людей в этом мире почти нет, а предметы попадают туда едва ли не случайно и выглядят пешками в игре трудноуловимых эмоциональных движений лирического субъекта» [Кузьмин 2003a, 449–450].
(обратно)424
Впрочем, нельзя исключить в этом тексте и память о советском кинофильме «Через тернии к звездам», где «Астрой» назывался звездолет.
(обратно)425
Ср. также замечание Л.В. Зубовой о возрастающей в новейшей поэзии частотности тропеических конструкций, в которых агент и референт не связаны никакой общей семантикой и подключены друг к другу через третий член тропа, актуализирующий при взаимодействии с одним из первых двух прямое значение, а с другим – переносное, либо два разных переносных значения в первом и втором случае [Зубова 2006, 898, 901].
(обратно)426
Подробнее о многозначности в моностихах Нирмала см. [Кузьмин 2003b, 143–146].
(обратно)427
Пейоративы разного рода в функции поддержания или установления более доверительного, интимного уровня коммуникации находятся в поле зрения лингвистов (например, [Culpeper 1996, 352]), однако подобные эффекты в поэтическом тексте, по-видимому, пока остаются неисследованными.
(обратно)428
В связи с последней М. Ионова даже замечает, что в ее стихотворениях, «как бы ни был протяжен текст, всегда в архитектонике его почти интуитивно ощущаемым зерном присутствует моностих, формат для поэзии Татьяны Данильянц сущностный» [Ионова 2013, 296].
(обратно)429
Книга стихов Ахматовой, подготовленная к печати в 1946 году, но так и не вышедшая. Виленкин имеет в виду машинопись книги в ОР РНБ (ф. 1073, ед. 72), содержащую позднейшие рукописные вставки и пометы.
(обратно)430
«К ее “фрагментам” и “отрывкам” следует относиться с особым вниманием и бережностью. В. Жирмунский первым высказал предположение, что некоторые из них, в сущности, представляют собою законченное лирическое стихотворение, что их фрагментарность, отрывочность – мнимая, вернее, что она предусмотрена замыслом поэта. ‹…› Само собой разумеется, что и произвольно расширять этот ряд намеренно не законченных, но по существу завершенных стихов Ахматовой не следует; многое так и осталось у нее только черновым наброском, отдельной строкой или несколькими недописанными строками. Но и они бывают по-своему поэтически значительны…» [Виленкин 1983, 173–174]
(обратно)431
В двух случаях публикаторские решения отличаются от решений Кралина: строка «Чьи нас душили кровавые пальцы?» завершается простым вопросительным знаком, не совмещенным с многоточием, строка «Твой месяц май, твой праздник – Вознесенье» записана «лесенкой», с выносом последнего слова на вторую «ступеньку».
(обратно)432
Акт V, сцена вторая: «his delights / Were dolphin-like; they show'd his back above / The element they lived in». В переводе Бориса Пастернака: «Забавы не влекли его на дно, / Но выносили нáверх, как дельфина» (что, как это часто бывает с русскими переводами Шекспира, значительно упрощает образ подлинника).
(обратно)433
Далее материалы этого архива обозначаются только номером единицы хранения.
(обратно)434
К сожалению, в издании ахматовских записных книжек [Ахматова 1996] квадратные скобки используются в служебных целях – для выделения зачеркнутого Ахматовой текста; вследствие этого решения собственные квадратные скобки Ахматовой везде выправлены на круглые и специфика их использования исчезла.
(обратно)435
Впервые упомянувшие об этом автоэпиграфе М.Б. Мейлах и В.Н. Топоров увязывали последующий отказ Ахматовой от него с отказом от первоначального названия стихотворения, «Говорит Дидона», в отсутствие которого самоидентификация лирического субъекта с Дидоной становится более условной [Мейлах, Топоров 1972, 43–44]; вряд ли это справедливо: апелляция в эпиграфе к шекспировскому, гораздо более позднему относительно «Энеиды» прецедентному тексту также нацелена на выход лирического субъекта в метапозицию по отношению к собственному переживанию.
(обратно)436
В издании записных книжек такие графические элементы не отражаются; кроме того, имеющаяся в автографе «лесенка» (последние два слова перенесены на следующую строку и выровнены по правому краю) в печатной версии выровнена по левому краю с капитализацией начальной буквы в слове «устроила», – таким образом, строка пятистопного анапеста ненароком превращена в двустишие [Ахматова 1996, 168].
(обратно)437
Связь этого одиночного образа с мыслями Ахматовой о Цветаевой и дельфинами из шекспировской трагедии, предполагаемая Кралиным, остается гадательной, но увязка его с выходом в свет первого значительного советского издания Цветаевой определенно неверна, поскольку строка появилась в записной книжке Ахматовой раньше – в августе 1964 года.
(обратно)438
В издании записных книжек не отражаются вертикальные пробелы, вследствие чего два фрагмента слились во фрагментированное двустишие [Ахматова 1996, 370].
(обратно)439
Об истории этой публикации см. [Хренков 1989, 188–191], – из этого мемуарного этюда следует, что Ахматова приняла решение об отдельной публикации четверостишия практически экспромтом.
(обратно)440
Ср. также: «Фрагментарность стихового высказывания для А.А. – это попытка передать несвязность, дискретность памяти» [Тименчик 2005, 64]: постановка вопроса, стирающая грань между фрагментом умышленным – и фрагментом, окружение которого память не удержала.
(обратно)441
Впрочем, в известных пределах. Характерно, что все «моностихи» Ахматовой представляют собой строки хорошо узнаваемого метра – и никто из публикаторов не пытается представить как моностих однострочные фрагменты иного рода, также имеющиеся в ее записных книжках: наиболее показательный пример – не появившаяся ни в одном новейшем издании Ахматовой, кроме собственно издания записных книжек, строка
ты самый отнятый– несмотря на то, что по карандашной пометке Ахматовой, заключившей в квадратные скобки буквосочетание «ты» в последнем слове (ед. 103 л. 45об; [Ахматова 1996, 160]), видно, что ее в этой строке интересовала именно стихотворность – давление звучания на значение. Условно говоря, у Владимира Эрля эта строка прочитывалась бы как совершенно определенный моностих, но для Ахматовой вероятнее, конечно, предположить, что это набросок или осколок более длинной ямбической строки с пиррихизированной третьей стопой, – даже несмотря на то, что в способе записи этой строки в автографе (не просто в изолированном виде, но даже и с отчеркиваниями выше и ниже) никаких указаний на предполагаемый контекст не обнаруживается.
(обратно)442
Между тем ситуация с однострочными фрагментами, не вошедшими в состав какой-либо из книг Гуро и сохранившимися в ее архиве в разрозненном виде, более проблематична, – и это касается, в частности, восьми таких фрагментов, опубликованных А. Юнггрен [Гуро 1995, 56–58]. В отличие от Костюк, упоминающей и об этих фрагментах в своих рассуждениях про «моностихи Гуро», Юнггрен никак не настаивает ни на их стихотворности, ни на их завершенности, помещая их в раздел «Наброски и этюды» (Sketches and etudes). Взятые вне контекста, по меньшей мере два самых лаконичных из них вполне могли бы функционировать как моностихи:
ОСЕНЬ
Сухой металлический шум деревьев.ЭТЮД
Синими очами Бог глядит в окна.– можно, в частности, обратить внимание на семантическую внутреннюю рифму «очами – окна» во втором тексте. В то же время очень показательно название «Этюд»: Гуро, будучи и художницей, переносит это понятие со всем комплексом его значений, как жанровых, так и технических, из визуального искусства, и для нее в этюде очень существенна «недоопределенность», его статус предварительного, неокончательного произведения, способного при этом к некоторому автономному существованию; о своем особом отношении к этюду она пишет Михаилу Матюшину: «Теперь я добиваюсь в этюде того, что именно составляет для меня красоту данного момента, ‹…› но все же есть какая-то громадная пропасть, которую не могу никак перешагнуть, ‹…› есть что-то, что не дает мне остановиться на каком-нибудь одном настроении и работать над ним, развить эскиз» [Гуро 1995, 97]. С учетом того, что, как показал в указанной статье Е.М. Биневич, метод композиции последней книги Гуро состоял в отборе и собирании этюдов-фрагментов в единое целое – квалификация оставшихся неотобранными фрагментов как самостоятельных представляется затруднительной.
(обратно)443
Собственно, «Сборник стихотворений» – но в данном случае со вторым смыслом «Собранные стихотворения», намекая на возможность понимания вошедших в цикл текстов как found poetry. Некоторые тексты такое понимание допускают:
СЕСИЛИЯ
Смотри, кошка.– но большинство – никоим образом:
ВРУЧНУЮ РАСКРАШЕННЫЕ УШИ СМЕРТИ
О загляни вовнутрь меня. (обратно)444
По поводу которых невозможно не согласиться с Коулом: они в самом деле совершенно органичны в качестве самодостаточных текстов:
Другая женщина: перемена слёз. В глуби земной, в корнях цветы укрыли свет. (обратно)445
Что, впрочем, не исключает появления в собрании Коула не менее сомнительных текстов, чем в собрании Владимира Маркова, но уже без оговорок вроде сделанной относительно набросков Рётке. Таковы, например, строка Уильяма Блейка из вполне прозаического произведения «Союз Небес и Преисподней» (1790) или относящийся к 1821 году однострочный фрагмент Перси Биши Шелли, впервые опубликованный У.М. Россетти в полном собрании сочинений Шелли [Shelley 1870, 343] (разумеется, на правах отрывка, а не однострочного стихотворения):
Был ветер нежной влагой напоён. The gentleness of rain was in the wind.– а при одной из републикаций еще и получивший название («Дождь») [Shelley 1914, 653]. Впрочем, тщательное исследование записных книжек Шелли началось уже после появления антологии Коула, и к сегодняшнему дню, как отмечает Дж. Донован, установлено, что эта строка встречается в них четырежды (среди набросков «Оды западному ветру»), в том числе трижды вместе с разными редакциями следующей строки и лишь однажды без продолжения, зато с предшествующим (завершающим ненаписанную предыдущую строку) словом when (когда) [Shelley 2011, 23–25]. Публикуя строку Шелли без этого отброшенного «когда», Россетти-младший, тем самым, двигался к осознанию однострочной формы тем же путем, что и Лев Мей в России.
(обратно)446
Слова Полония из наставления Лаэрту («Гамлет», действие первое, сцена третья, перевод Михаила Лозинского).
(обратно)447
Журнал шутки ради был назван именем популярного американского актера, исполнявшего роли ковбоев. Уже в XXI веке канадский поэт Стюарт Росс, выпустивший в Торонто несколько номеров малотиражного журнала, полностью посвященного однострочным стихотворениям, в честь издания-предшественника назвал свой проект именем другого известного актера, «Peter O’Toole».
(обратно)448
При такой интенсивной звуковой организации столь краткого текста не приходится думать об ином переводе, кроме подстрочного: «Видишь – весна: цветок вереска поднимается и оказывается пчелой».
(обратно)449
Сложность с переводом этого названия состоит в том, что словом «transmental» по-английски часто передается русское «заумный» в приложении к поэзии русского футуризма. Кёркап, однако, не одно десятилетие проживший в Японии и интересующийся преимущественно японскими, а не русскими влияниями на английский стих (ср. прим. 140 на стр. 101), вроде бы в виду этого не имел. В отсутствие в русском языке иного прилагательного с близким значением и без неприемлемых коннотаций можно было бы передать название книги Кёркапа как «Отзвуки за гранью сознания».
(обратно)450
Кёркап упоминает пословицы, скороговорки, рекламные слоганы, отдельно взятые фразы-примеры из языковых учебников, палиндромы, извлеченные из прозаических источников читательские моностихи – набор соотносимых с моностихом явлений не слишком расходится с аналогичными рассуждениями В.Ф. Маркова, за вычетом разве что слишком смелого для Маркова пассажа о том, что «обрывки писем, выброшенные в сточную канаву, подчас открывают потаенные однострочные стихотворения, ненароком сочиненные каким-нибудь страдающим от несчастной любви плутишкой» [Kirkup 1971, 8].
(обратно)451
Многослойной интерпретации моностиха Деррида, построенного на омонимии синтаксических конструкций и потому практически непереводимого:
PETITE FUITE ALEXANDRINE (VERS TOI) Prière à desceller d'une ligne de vie– посвящена увлекательная статья [Naas 2008].
(обратно)452
Сведения из письма Азиза Алема от 17.02.2015 и из беседы с ним.
(обратно)453
В отдельных случаях мы вынуждены при исследовании этих вопросов вновь возвращаться к текстам, так или иначе уже проанализированным в ходе исторического обзора.
(обратно)454
Самые общие аспекты его изучения намечены в [Орлицкий 2002, 564–577]. В зарубежной литературе ряд принципиальных положений предложен в [Hollander 1975, 212–227], наиболее подробным исследованием остается [Ferry 1999].
(обратно)455
Собственно, Дж. Холландер непосредственно отмечает возрастающую роль названия в особо кратких текстах – доходя даже до приравнивания его к первому стиху (seems to serve as a first line) [Hollander 1975, 224–225], – а в более поздней работе еще категоричнее: «Однострочное стихотворение почти всегда на самом деле представляет собой двустишие, образованное названием и собственно стихом» [Hollander 2014, 11–12]. Аналогично у Э. Хирша (по поводу моностихов А.Р. Эммонса): «название столь неотъемлемо от стихотворения (so integral to the poem), что оно превращается в своего рода двустишие» [Hirsch 2014, 390]; несколько осторожнее у У. Уоткина в связи с моностихами Кеннета Коха: «стихотворения столь коротки, что различие между названием и стихотворением решительно ставится под вопрос» [Watkin 2000, 102] и у Т. Келариу в связи с моностихами Иона Пиллата: название «умаляет обаяние чистого моностиха» [Chelariu 1989, 50].
(обратно)456
Ср. замечание И.И. Ковтуновой о том, что в лирическом стихотворении заглавие и текст «нередко выступают как поэтические аналоги темы и ремы» [Ковтунова 1986, 147].
(обратно)457
Ср. размышления Б.П. Иванюка о различии между текстами «с ассоциативным типом сходства» (референт сравнения предшествует агенту) и «стихотворениями-уподоблениями» (обратная последовательность) [Иванюк 1998, 164, 226–227].
(обратно)458
Обратимость отношений между текстом и названием подвергается особой проблематизации в том случае, когда инвертирована не только логика их соединения, но и объем, – например, в «удетеронах» (однословных текстах) в понимании Йена Хэмилтона Финлея и его соратников по шотландской школе поэтической миниатюры (см. стр. 46):
КАМНИ В ПОЛЕ ЭТО ПТИЦЫ В ВОЗДУХЕ
чибисы Йен Хэмилтон ФинлейБЛАГОУХАННАЯ НОЧЬЮ КУВШИНКА
луна Томас Кларк[Atoms 2000, 161, 173]– возможно, прецедентным типом текста для такой конструкции является загадка.
(обратно)459
Впрочем, повтор заглавия в тексте, особенно в сильных позициях текста – начале и конце, сам по себе достаточно характерен [Кожина 1988, 170–171]. Следует, однако, возразить против предложения терминологизировать названия, непосредственно повторяемые в тексте, как «тавтологические» [Иванченко и др. 2015, 270]: такой термин без должных оснований имплицирует самоочевидность, тривиальность выделения в данном поэтическом тексте центрального предмета высказывания.
(обратно)460
Ср. данные опроса поэтов в [Иванченко и др. 2015, 305] – хотя базу этого опроса и сложно назвать репрезентативной.
(обратно)461
Те или иные формы звуковой корреляции названия и текста встречаются и в текстах большего объема [Кожевникова 1988, 210–212; Иванченко и др. 2015, 270–271], однако характер их, в силу значительного различия в объеме названия и текста, иной.
(обратно)462
Ср. также выполненный Х. Вендлер анализ стихотворения У.С. Мервина (стр. 39–40).
(обратно)463
Об аналогичных модификациях многоточия у других авторов см. [Суховей 2008, 118].
(обратно)464
Относительно высокая частотность этого знака – за счет 33 употреблений у одного автора, Валентина Загорянского, культивирующего своеобразную медитативно-экстатическую интонацию:
Дождь мой, брат мой кратковременный!.. [Загорянский 2000, 102] (обратно)465
Сходные соображения, хотя и в более мягкой форме, встречаются и у других специалистов: «моностих stricto sensu не только ограничен одной строкой, но и не должен вводить подрывающие <ее целостность> элементы средствами синтаксиса, пунктуации, дополнительных пробелов: его цель – создание единого образа в едином предложении» [Moga 2007, 49] или «настоящие однострочные стихотворения ‹…› не содержат принудительных пауз, обозначенных пробелом, грамматически, синтаксически или пунктуационно, хотя и могут включать логическую пунктуацию, как в случае однородных прилагательных при существительном» [Higginson 2004].
(обратно)466
«Новый знак препинания: недоконченная строка, благодаря которому нам не приходится уже гадать о ритмических замыслах автора» [Пешковский 1925, 166]. Вряд ли можно признать правомерным приравнивание знаков, отражающих ритмическую структуру текста, к знакам, отражающим его синтаксическую и интонационную (в итоге, следовательно, смысловую) структуру.
(обратно)467
Ср., однако, замечание И.И. Плехановой о том, что лишь минимализм «очищает» моностих «от строгости формы – от знаков препинания завершенного высказывания» [Плеханова 2007, 264] – из контекста, однако, видно, что для Плехановой пунктуация существенна как знак апелляции к языковой норме, а не как отражение сегментированности текста.
(обратно)468
Ср. также замечание Эммануэля Окара по поводу моностиха Жозефа Гульельми:
во дворе платаны пять– где увеличенный пробел соответствует времени перефокусировки взгляда, поскольку стихотворение в целом передает последовательность впечатлений [Hocquard 1995, 9].
(обратно)469
Подробнее об этих текстах речь шла выше (см. стр. 262–263).
(обратно)470
«Пространственно-визуальной» по Дж. Янечеку, противопоставляющему эту функцию семантико-синтаксической и интонационно-экспрессивной [Janecek 1996b, 297].
(обратно)471
Особенно характерен для Айги начальный союз «и» с двоеточием после него [Janecek 1996b, 302], важность начального «и» и двоеточия для собственной поэтики была отрефлексирована и самим Айги [Айги 2008, 391].
(обратно)472
Ср. у М.И. Шапира, автора наиболее фундаментальной стиховедческой концепции последнего времени: «Дедуктивное определение стиха наука дать не в состоянии. Индуктивным это определение тоже быть не может: сколько бы стихов мы ни рассматривали, мы не вправе утверждать, что прочие обладают теми же признаками. ‹…› Вместо того, чтобы ориентироваться на привычные, типовые формы стиха, надо сосредоточиться на аномалиях. При условии, что маргинальные явления учтены нами достаточно широко, они очертят собой эмпирическое поле, в центр которого попадут наиболее распространенные случаи» [Шапир 2000d, 81–82].
(обратно)473
В этом смысле предложенная С.И. Кормиловым теория контекстно обусловленной стихотворности (в частности, моностиха), с которой мы полемизируем, лежит – вполне возможно, помимо воли и сознания автора – в русле общей тенденции, хотя, конечно, и для постструктурализма, и для различных социологизирующих концепций мыслимый Кормиловым контекст слишком «близкий», слишком еще внутрилитературный.
(обратно)474
Любопытно, что Девото приходит к этому выводу без анализа моностиха, опираясь исключительно на сопоставление различных определений стиха у испанских, французских, немецких, португальских специалистов – и на исследование способов взаимодействия ритмики и графики в многострочном тексте.
(обратно)475
В качестве самостоятельного текста – у Бонифация (Германа Лукомникова), ранее встречалось в составе текста-коллажа «Ералаш» у Вагрича Бахчаняна [Бахчанян 2005, 27].
(обратно)476
А.В. Бубнов для таких текстов предлагает несколько комичный термин «полупантограмма» [Бубнов 2000, 99].
(обратно)477
В статье [Кузьмин 2014], излагая ее в самых общих чертах, мы наметили возможность дополнительной ее концептуализации (как перехода от понимания одиночной строки как строки, к которой не дописаны другие, к пониманию одиночной строки как строки, от которой, мысленно или действительно, отсечены остальные/лишние), для которой в настоящем издании не нашлось места.
(обратно)478
Ср. рассуждения П. Бюргера о том, что «авангард первым раскрывает общий характер определенных общих категорий произведения» [Бюргер 2014, 30].
(обратно)479
Ранее об этом можно было говорить применительно к Владимиру Маркову, Ры Никоновой, Владимиру Эрлю – в каждом случае с существенными оговорками.
(обратно)480
Хотя проблема названия в художественном тексте в последнее время становится более видимой в научном сообществе – в том числе благодаря нескольким организованным усилиями Ю.Б. Орлицкого научным конференциям, материалы которых, к сожалению, по большей части не изданы.
(обратно)481
Несколько книг, содержащих разноприродные материалы (например, книга [Бурич 1989], включающая как стихи, так и научные работы), поименованы дважды в разных разделах.
(обратно)
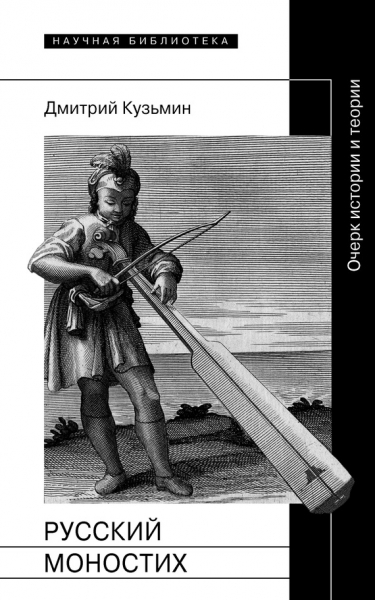




Комментарии к книге «Русский моностих: Очерк истории и теории», Дмитрий Владимирович Кузьмин
Всего 0 комментариев