А.Н. Ильин Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций
Введение
Если раньше массовая культура имела привилегированный статус объекта изучения в философско-культурологическом дискурсе, то теперь ее научное осмысление сдает свои позиции. В информационную (постмодернистскую, постиндустриальную) эпоху, когда с завидным спокойствием уживаются друг с другом самый отъявленный китч и достижения элитарного искусства, когда высокое и низкое переплетаются так, что возникает серьезная проблема отделения одного от другого, говорить о массовой культуре не приходится. Само понимание масскульта расширяет его до такого размера, придает понятию такую концептуальную широту, что вся концептуальность теряется, позволяя проводить отождествление массовой культуры и культуры в максимально широком смысле. А множить сущности, как известно, не имеет никакого смысла. Сейчас масскульт отличается предельной разношерстностью и в некотором роде противоречивостью, что затрудняет ее изучение как целостного явления и не позволяет констатировать какую бы то ни было четкую векторность ее воздействия на человека. Также и культивируемые ею нормы и ценностные ориентации нельзя обобщить таким образом, чтобы дать им однозначную оценку относительно характера их влияния на субъекта. Поэтому масскультурная проблематика потеряла скорее не актуальность, а концептуальность. Вместе с тем как актуальность, так и концептуальность культуры потребления только растет.
В последнее время продолжается спор между учеными относительно целесообразности использования понятия «информационное общество». Скептики утверждают, будто человеческое общество в любом случае информационное, так как террабайты информации не заменят тонны сырья, а потребление не заменит производство, да и язык, позволяющий обмениваться информацией, был изобретен давно. Однако хоть система знаков всегда использовалась человечеством, а знания накапливались и передавались, апогей их функционирования наблюдается именно сегодня, когда производство информации заняло ведущее положение в совершенно различных сферах жизни людей, не умаляя необходимости производства товаров, а знание и псевдознание стали практически неразделимы. Название «информационное общество» не указывает на исчезновение материального производства, а подчеркивает понижение его значения перед сферой услуг и возрастающей ролью информации. В информационном обществе с его калейдоскопично-фрагментарной культурой мифотворчество играет значительную социокультурную роль. Мифы внедряются в сознание и подсознание, формируют общественное мнение и мировоззрение, привычки и ценностные ориентации, вызывают те или иные чувственные и эмоциональные реакции. Они создают огромный массив гиперреальности, будучи основанными на фактах реальной действительности, и в этом заключается их социальная живучесть. Наконец, мифология современного мира создает богов.
Когда-то Аристотель сказал, что о людях можно судить по тому, каковы их боги. Пантеон богов современности, несмотря на свое разнообразие, в целом сводится к сакрализации повседневного, интегрированного в модные тенденции и овеянного различными политическими, экономическими и технократическими мифами. И верховное место в иерархической структуре этого пантеона занимает потребление. Соответственно, проблематика homo consuming как нового антропологического типа стала особо актуальной, и вместе с ней обострилась актуальность критического анализа потребительских тенденций, которые в последние годы успешно интегрировались в общественную культуру и укоренились в ней, тем самым изменив содержание культурного пространства социума и трансформировав ценностные идеалы. Именно этот критический анализ составляет основу данного исследования.
Глава 1. Фиктивность, знаковость и символизм общества потребления
Огромная индустрия, которая производит не только товар, но и спрос на товар, тысячи брэндов, торговых марок и рекламирующих все что угодно журналов, города, переполненные магазинами и салонами, улицы мегаполисов, в которых чуть ли не каждый столб и чуть ли не каждая стена представляют собой рекламу того или иного продукта, десятки тысяч людей, занятых в индустрии производства как товаров, так и потребностей на эти товары. Такое перечисление характерно для нынешней — потребительской — эпохи.
Но что же такое общество потребления? И чем оно отличается от других общественных формаций? Казалось бы, люди всегда покупали и продавали, чем-то владели, тратили деньги, всегда желали жить в богатстве и роскоши. Так почему прежние эпохи не связывают с понятием «потребление»? Современное общество рассматривается через призму потребительства не потому, что люди лучше питаются, чем их предшественники, не потому, что распоряжаются большим количеством технических средств, не потому, что используют больше образов и сообщений, наконец, не потому, что удовлетворяют свои потребности. Объем благ и степень удовлетворяемости потребностей — это условия появления потребления, а не его сущность. Потребление — это знаковая субстанция, «виртуапьная целостность всех вещей и сообщений, составляющих отныне более ипи менее связный дискурс… деятельность систематического манипулирования знаками»[1]. Это сфера «всеобщей аксиоматики. кодированного обмена знаками…»[2]. Суть потребления заключена не в возможности приобрести рекламируемый товар, а в желании это сделать; потребление локализовано не в кармане, а в сфере желания. Бедные также «больны» потребительством, как и богатые, и «заражаются» они также посредством механизмов социализации. Однако в мире, где наблюдается постоянный рост разрыва между бедными и богатыми, малоимущие научаются желать все больше материальных благ, но получают минимальную возможность для реализации этого желания.
Некоторые авторы рассматривают потребительство в качестве болезни и даже используют понятие «синдром потребительства». Синдром потребительства представляется в качестве болезненного, заразного и передающегося внутри общества состояния пресыщения, обремененности долгами, тревоги и опустошенности как результата упрямой погони за новыми приобретениями[3]. Потребительство — это социокультурная система, где социальная идентификация построена не в сфере труда и производства, а вне работы, прежде всего в развлечениях. Если ранее стратификация общества основывалась на месте работы, на месте социальной системы распределения труда, то теперь классификационным первенством обладает стиль жизни, на который указывает тело, одежда, машина, место отдыха и т. д.; эти атрибуты говорят не о жестком социальном статусе, а с помощью них владелец сам конструирует свой предъявляемый другим образ, символически сконструированный[4]. Культурные акценты переориентируются с производства на потребление, и эта переориентация оставляет глубокий отпечаток на многих сторонах человеческого бытия. В обществе потребления, в отличие от общества производства, человек призван жить не для того, чтобы работать и работать не для того, чтобы жить. Он призван жить (и работать), чтобы потреблять, и вместе с тем потреблять, чтобы жить. Правда, слово «жить» здесь стоит взять в скобки, поскольку, прибегая к экзистенциальному пониманию жизни, вряд ли удастся совместить ее с потреблением.
Идеалы и ценности здесь перестают быть самими собой и превращаются в пустые знаки, происходит погружение человека в ирреальный мир знаков, которые, как он верит, принесут ему социальный престиж и счастье. Эта знаковость выступает первичной характеристикой общества потребления, а богатство и излишество — это уже вторичная его характеристика. Человеческие отношения — отношения потребления — становятся опосредованы вещами знаками: интегрированными в систему производства предметами покупки и потребления становятся не только вещи, но и потребности, чувства, знания, желания, страсти и сами отношения. Еще Г. Маркузе писал об индустриальной цивилизации, которая превращает в потребность неумеренное потребление, где общественный контроль коренится в новых потребностях, которые производятся обществом[5]. В обществе потребления ключевое место отводится индивидуальному потреблению, которое опосредовано рыночными отношениями. Без рынка как коммерческого фактора, ослабляющего культурные нормы, невозможно появление мощных потребительских тенденций и соответствующего общественного типа.
Вместе с рыночной стоимостью товар имеет еще и знаковую стоимость (sign-value). Культура потребления обладает системой кодов, расшифровывающих значения вещей. Вооружившись этими кодами, адепт данной культуры распознает товар по его символической значимости, дифференцирует его по критерию престижности/непрестижности. Хорошо раскрученные торговые марки и брэнды гипнотизируют потребителя, особенно если ими пользуются известные и успешные люди. Культура потребления — это хозяйство знаков и символов. Почти любой товар, практически любая вещь получает символическую окраску; или даже сама становится символом. В таком символизме заключен постматериальный характер потребительской ценности. Он не антиматериальный и не материальный, а именно постматериальный, поскольку включает в себя как материальный компонент в виде самого товара, так и его надстройку, указывающую на символическое выражение товара, которая диктует вектор отношения к данному товару и его обладателю. Надстройка как бы говорит о том, каким образом следует к нему относиться.
Так, семейная пара ежегодно обновляет обручальные кольца и «отмечает» свои отношения покупками, что есть потребление вещей, символизирующих отношения между людьми, иногда даже пустые отношения, которые сохраняют устойчивость только благодаря реализации такового потребительского культа. Или же (другой пример) стремление к революции потребляется идеей революции и не ведет к активным действиям. Потребление неистребимо и беспредельно, так как основано на дефиците реальности. Если бы оно было просто поглощением благ, то наступило бы пресыщение, потребности бы удовлетворились, однако людям хочется потреблять все больше и больше. Потребление — это тотальная идеалистическая практика, имеющая мало общего с действительным удовлетворением потребностей или с принципом реальности; «умеренного» потребления не бывает. Обществом потребления является то, где не только культивируется желание покупать, но где само потребление потреблено в форме мифа; эра потребления — это вместе с тем эра отчуждения (хотя, учитывая концепт «смерть субъекта», отчуждения не существует, так как в эпоху потребления отчуждено все и отчуждаться становится некому и не от чего); потребительство — утрата смыслов и игра знаков, это бессознательный и неорганизованный образ жизни (пусть народ удовлетворяется потребительством, лишь бы он оставался неорганизованным и не поднимался на общественную и политическую сцену)[6]. Поэтому мы можем говорить о потребительстве как о системе общественного омассовления, а беспредельность потребительства основана на том, что оно имеет дело не столько с вещами, сколько с идентифицируемыми с ними культурными знаками, обмен которыми бесконечно нарастает. Все это позволяет нам сказать, используя бодрийяровский концепт «соблазн», что потребительство соблазняет своей бессмысленностью, своей пустотой, предлагая игру в пустоту, которую таковой никогда не называет. Оно предлагает нечто, красивую обертку знака (так же как реклама предлагает внешнюю красоту упаковки), за которой скрывается ничто. И это самое ничто вызывает соблазн, выступая ценностью, а иногда даже смыслом жизни, и тем самым обессмысливает саму жизнь. Ведь именно человекоориентированные ценности и идеалы придают человеческой жизни смысл, а в условиях их отсутствия смысл растворяется, оставляя место иллюзии смысла, своей тени.
В обществе, где человеческое счастье зависимо от уровня потребления и где потребление приобретает смысложизненный статус, акт покупки способен доставить больше удовольствия, чем польза от приобретенного продукта. Здесь ни о каком гражданском сознании и говорить не приходится, поскольку сознание потребителя сужается до микроскопических размеров и не способно увидеть для себя ценность в чем-то более возвышенном и общественно полезном, нежели новый рекламный каталог. Граждане ответственны не только за себя, но и за свою страну, сложившуюся в ней политическую систему, заботу о других гражданах, чистоту своего города и т. д. Потребитель по большей части безответственен.
Общество потребления поглощает материальные ресурсы, но пресыщения и вправду не возникает, так как потребности не только удовлетворяются, но и создаются фиктивные потребности, которые, в свою очередь, тоже требуют удовлетворения; одновременно производятся блага и потребности. Сообразно этому, стремление к дальнейшему потреблению проистекает не из нехватки, а, наоборот, из переизбытка. Само желание быть отличным своими вещами является фиктивным. Дорогой автомобиль или платье не существовали как объекты маниакального желания в прежние времена и едва ли станут таковыми для жителей стран третьего мира, которые озабочены в большей степени удовлетворением базовых потребностей. Эти объекты — фетиши желаний, порожденных самим человеком, а точнее индустрией, но явно не человеческой природой; желание комфорта конституируется в нас теми, кто получает от этого выгоду. Конечно, говоря о природе человека, трудно не просто обойти острые углы, но и не представляется вообще возможным разрешить данную проблему. У природы человека есть множество различных и зачастую противоречивых толкований. Вряд ли стоит представлять ее как неизменную и постоянную, равно как сложно сформировать образ естественного человека, основанный на некоей начальной точке исторического развития человека. Однако консьюмеризм, вещизм и свойственные им желания едва ли укладываются в то, что следует понимать под человеческой природой.
Производство, распределение и обмен связаны с созданием и сохранением стоимости, а также со сменой ее форм. Потребление отличается от этих элементов хозяйственного процесса тем, что оно сопряжено с расходованием стоимости. Предметы потребления должны обладать некоторой ликвидностью, которая позволяет говорить об их способности к денежному обмену, а значит, о существовании и расходовании их стоимости. Воздух, который не вовлечен в денежный обмен, не является предметом потребления, хотя человеку он необходим для жизни.
Потребление действительно проникает во все сферы жизни общества. Потребительство вполне уподобляемо любому аддиктивному типу поведения (алкоголизму, курению или наркомании). Аддикция представляет собой замкнутый круг, где результатом удовлетворения потребности выступает возникновение той же самой потребности, которая снова и снова требует заветной дозы; и чем больше человек идет на ее поводу, чем больше ублажает ее, тем в большей степени она им овладевает. Поэтому нельзя сказать, что потребление единицы блага уменьшает потребность в последующих единицах этого блага. В конечном счете процесс перестает приносить удовольствие («эффект удовольствия» снижается) и перерастает в тяжелую зависимость, от которой сложно отказаться. Вроде и удовольствия уже нет, но отказаться от привычного образа жизни все равно трудно. И если эта зависимость санкционирована обществом, а потому не только не осуждается, а даже восхваляется, человеку становится еще труднее ее преодолеть, пойти наперекор социальным нормам.
Некоторые авторы рассматривают общество потребления, исходя из постулата о том, что потребительский характер находит воплощение в описанном 3. Фрейдом анальном характере личности[7], которому свойственны скупость, стремление к накопительству, скаредность и желание удерживать все нажитое в своей власти. Другие же исследователи, наоборот, предают потребительству иную форму описания; по их мнению, потребительство характеризуется не накопительством, а постоянной тратой. То есть, беря во внимания обе формы описания, мы наблюдаем два полюса: на одном — находится стремление удержать обладаемый объект, а на другом — стремление его потерять, растратить. По нашему мнению, стоит наибольшее значение придавать именно первой форме описания, так как вторая — лишь поверхностный взгляд на веши. Вовлеченный в круговорот потребления человек транжирит деньги не ради самой траты, а ради получения за их счет определенных благ. То есть он вовлекается в вихрь обмена, где одни блага (финансы) меняет на другие (автомобиль, вечеринки в ночных клубах, евроремонт в квартире), которые являются символом его успешности и статусности. Он не теряет денежные ресурсы, а покупает на них другие блага, этим перформативным актом удовлетворяя ту же самую склонность к накопительству. Только копятся не деньги, а достоинства, обладая которыми, он предстает в максимально ярком свете в глазах окружающих и тем самым удовлетворяет свою потребность в признании. Так, человек, проигрывающий в казино, вместе с тем демонстрирует свою приверженность к особому классу людей — игроков казино; он показывает другим размер суммы, которую может позволить себе проиграть[8]. И потребление культивирует в нас ориентацию на внешнюю референтность, т. е. желание представать в определенной красе не перед самим собой, а перед внешними ориентирами, которые признают или не признают данную красу — другими людьми.
Исходя из сказанного, мы убеждаемся в отсутствии противоречия между приведенными двумя формами описания потребительского характера. Когда мы говорим о стремлении к накопительству, необходимо уточнять, что именно накапливается. Или это деньги, или удовольствия, или уважение. В современном мире деньги пытаются сохранить в основном люди преклонного возраста, в то время как для молодежи это не является особой ценностью. Но если молодой человек тратит в ночных клубах за одно посещение половину своей зарплаты, это не значит, что он не реализует свое потребительское стремление к обладанию. Просто путем осуществления более или менее эквивалентного обмена объект обладания меняется с денег на престиж или удовольствия, знак труда меняется на знак престижа или удовольствия, в чем и заключается символический обмен. Учитывая сомнительный характер многих удовольствий, их следует обозначить скорее не благами, а псевдоблагами (так же как выделяются псевдопотребности и фиктивные потребности). Эта сомнительность обусловлена не только банальным вредом для психического и физического здоровья, который приносят некоторые удовольствия, но и неестественностью самих этих удовольствий, их искусственной сконструированностью. Сюда стоит отнести некоторые разновидности компьютерных игр, не развивающих психические процессы ребенка, а наоборот, приводящие к их деградации.
Фиктивные потребности — это псевдопотребности, это определенный эрзац потребностей, навеянный нам современной потребительской культурой, согласно которой потреблять надо по-максимуму. Фиктивные потребности не осознаются субъектом как фиктивные. И средством создания в потребителе фиктивных потребностей выступает фиктивный товар, который не удовлетворяет никакой реальной потребности. Изучая ассортимент подобных товаров, невольно удивляешься тому, что только не придумает богатое человеческое воображение. Поистине торговать можно всем хоть воздухом. И на самом деле торгуют всем, чем угодно: от оккультных услуг до всевозможных безделушек. Но фиктивные потребности не ограничиваются существованием фиктивных товаров, а предполагают существование — назовем их так — полуфиктивных товаров. Это предметы потребления, которые необходимы для удовлетворения некоей реальной потребности, но вместе с тем напичканы огромным количеством функциональных особенностей, большинство из которых просто не находит своего применения. Наиболее характерный для современности пример — сотовый телефон, который постоянно усовершенствуется и потому находится в динамическом процессе технического становления. Соответственно, новые модели, приходящие на смену старым, отличаются значительно большей ценой. Но люди их покупают совсем не для того, чтобы пользоваться всеми особенностями и «наворотами» приобретенной модели — казалось бы, никакого утилитарного значения здесь нет, — а лишь затем, что это модно. Сами по себе неиспользуемые многочисленные функции тоже привлекают внимание и мотивируют на покупку. На самом деле утилитарное значение есть, но его можно обозначить как символическое. Не используя всего многообразия функций новой покупки, мы, тем не менее, дорожим ее функциональными достоинствами, так как они возвышают заодно и нас — обладателей вещи — в глазах окружающих. «Чем круче твой телефон, тем большую социальную ценность приобретаешь и ты». Поэтому в современном обществе изобилия, где утилитарная полезность выступает главной ценностью (оппонируя так называемой духовности, духовной пище), все вещи рассматриваются через ее призму; при этом не стоит путать данную форму полезности с качеством вещи, ее долговечностью. Но полезность может быть двух видов: прямая и символическая. Поэтому едва ли можно говорить о том, что предмет, у которого есть невостребованные его обладателем функции, не имеет полезности. Он не обладает ею в прямом смысле, но при этом содержит в себе символическую ценность. Например, коллекционирование старинных вещей, которые могут быть лишены практического применения и даже эстетической привлекательности, имеет символическую подоплеку; основным в таком случае их качеством, указывающим на высокую ценность вещи, будет старинность как воплощенный дух исчезнувшей культуры, а не красота и не применимость в хозяйстве. Или же трофеи, приобретаемые туристами (современными кочевниками), представляют собой не просто безделушки, а содержат в себе всю местную культуру. Что же касается дорогих телефонов с невостребованными функциями, то они обладают обеими формами полезности: 1) их используют для звонков, передачи СМС и т. д. (прямая), 2) они служат доказательством социального статуса их обладателя (символическая). Но в данном случае — при сравнении коллекционирования предметов искусства с постоянной сменой сотовых телефонов — символическая полезность последних граничит с псевдополезностью. Польза — это результат, служащий удовлетворению реальной потребности. Символическая польза — результат, служащий удовлетворению символической (например, эстетической) потребности. А псевдопольза — это результат, служащий удовлетворению фиктивной потребности. Стремление подчеркнуть свой статус с помощью дорогого телефона является фиктивной потребностью, находящейся в одном смысловом поле с регрессией, с симулякром могущества обладания. Видимо, ненужные вещи современному человеку необходимы более, чем нужные.
Это — очередное средство самовыражения, демонстрации мнимого отличия от окружающих. Однако его мнимость заключена в том, что такая консьюмеристская тенденция настолько распространена, что становится модной общесоциальной тенденцией, а значит, следование ей не отличает, а, наоборот, унифицирует субъекта. Как отмечается, в последнее время значительное число российского социума стремится проявлять свое «Я», демонстрировать свой имидж и материальное благосостояние в глазах окружающих с помощью мобильного телефона, а для определенных общностей он является универсальным стратификационным инструментом; сам же факт обладания сотовым телефоном выступает стратификационным маркером[9]. Мы бы сказали, что таковым маркером раньше выступал факт обладания сотовым телефоном, поскольку несколько лет назад его наличие особым образом подчеркивало статус. Теперь же он стал общедоступным, а потому сейчас только хороший — современный — сотовый телефон может выступать инструментом демонстрации высокого общественного положения. А поскольку технологии стремительно бегут вперед, трудно слово «современный» идентифицировать с какой-либо конкретной моделью телефона. Современный — это тот, который был создан несколько дней назад, а еще через несколько дней он станет устаревшим, так как его место займет следующая — более усовершенствованная — модель. Зачастую модели отличаются только дизайном, но, как говорится, «разве этого мало?». Для потребителя иногда дизайн значит очень много, так как создает видимость и других отличий, которых на самом деле нет. При продаже мобильных телефонов человеку предлагается всего лишь обновленная модель того, что у него уже есть. Производство постоянно обновленных моделей (поскольку далеко не всегда они отличаются принципиальной новизной) есть сомнительный вариант прогресса, так как оно вряд ли стоит тех колоссальных ресурсов, которые на него тратятся. Наконец, следует сказать, что прогресс ради потребления не является подлинным прогрессом, поскольку он, с одной стороны, заставляя технику двигаться вперед, с другой стороны, этим движением еще больше усиливает потребительскую зависимость человека от новых гаджетов. Потребительской модернизации быть не может.
Массовость данной тенденции заключается в том, что в гонке за обладание последними моделями участвуют даже те (преимущественно молодые) люди, социально-экономическому положению которых данные модели не соответствуют в силу их дороговизны. То есть каждый участник гонки старается повысить свой статус в глазах окружающих и в глазах самого себя благодаря такой дорогой покупке — этого символически сакрализированного психологического убежища, сакрального искушения пустотой — и тем самым искусственным образом приравнять себя к экономической элите. Мы можем констатировать совершенно нерациональную природу данной тенденции. Производители эксплуатируют чувство идентичности потребителя, играют на нем, предлагая товары, как бы являющиеся залогом счастья и успешности их обладателя, несмотря на то, что отождествление товара с образом победителя является не чем иным, как очередным мифом. Для многих товаров придумывается красивая легенда, обычно с элементами героики или любви. И потребитель покупает не товар, а одухотворяющую его легенду. Для удовлетворения нематериальной потребности ему предлагается приобрести вполне материальный предмет, который не дает однозначной гарантии удовлетворения потребности.
Обычно конкурирующие между собой товары отличаются только этой легендой, дизайном и брендом, а функциональные особенности у них бывают идентичными. Так называемые производители спортивной одежды в большинстве своем ее производителями не являются. Они, не имея своих заводов, эксплуатируют за минимальную зарплату выходцев из третьего мира, а сами занимаются брендингом. В итоге их одежда пользуется большим спросом, чем одежда конкурентов, которая нисколько не отличается качеством. Просто хорошая реклама, бренд, легенда делают свое дело. Иногда в брендинг вкладывается намного большее количество денежных средств, чем в производство. Отдача от него огромна; некоторые подростки воспринимают критику производящей спортивную одежду фирмы, как личной оскорбление, поскольку действительно считают, что именно эта фирма производит самую качественную и самую лучшую одежду, и не просто производит одежду, а дает подросткам признание со стороны сверстников, дарит стиль жизни. То есть важно не столько качество товара, сколько качество рекламы, продвигающей данный товар. Наполненность жизни выражается в количестве сделанных покупок; причем сначала купил, а потом принял решение, нужно ли мне это. Свобода проявляет себя в богатстве выбора и осознании доступности любого варианта этого выбора.
То же самое происходит и с культивированием других продуктов, а не только мобильных телефонов. Так, успешный и уважающий себя человек должен не только посещать самые модные клубы и обладать мобильным телефоном самой последней модели, то есть постоянно менять их, чтобы «идти в ногу со временем», но достаточно часто менять автомобили, несмотря на то, что прежний автомобиль вполне способен служить верой и правдой еще десяток лет. В США выбрасывается огромное количество различных товаров сегодня, поскольку их место займут более модные заменители завтра. Им кажется целесообразней выбросить еду, а не отдать ее беднякам. Это в очередной раз указывает на социально-экономическую поляризацию; в одном месте выбрасывают вполне употребимые продукты, а в другом умирают от голода. Наличие в стране «богатых» свалок говорит о потребительской культуре и психологии проживающего этноса. Характер выброшенных вещей — критерий для определения характера цивилизации. Заметим попутно следующий отдающий трагикомизмом факт: упаковка от пищевого продукта, срок годности которого составляет всего несколько дней и который употребляется за десять минут, сохраняется сотни лет.
Внедрение дизайна в производственный процесс, постоянное изменение дизайна, конституирующее желание приобрести товар самой последней марки, создавало производство товаров кратковременного потребления, чтобы стимулировать все новые продажи. Не товар приспосабливается к нуждам потребителя, а нужды — к товару. Культурное старение изделий происходит намного раньше их физического износа. То есть каждая новая модель какой-либо вещи, только что появившаяся на рынке, расценивается как научно-техническое изобретение, которое в обязательном порядке следует приобрести, — предмет массового обожания, фетиш, формирующий наше отношение к себе не как к ценному в быту предмету, а как к гаджету, реализующему рекламные потребительские фантазии. Похвастаться новым приобретением — святая обязанность. Чтобы быть просто одетым, нужен всего лишь один костюм, а чтобы быть просто модным, необходимо практически бесконечное число костюмов.
С помощью интегрированного в капиталистическую систему потребления успешно и вполне законно манипулируют желаниями и потребностями, но у этой проблемы — двойное дно, при котором потребление служит основой уже для незаконных манипуляций и спекулирования на желании консьюмеров подчеркнуть свой статус. Так, владельцы и продавцы некоторых магазинов наживаются на покупателях, приклеивая на какое-нибудь вполне простое и дешевое платье ярлык от кутюр, выдают его за нечто дорогое и модное. И довольно много модниц, желая купить шубу из шиншиллы, сами того не подозревая, за эти деньги покупают вполне обычную шубу из кролика.
Символизм вещей заменил собой в коллективном бессознательном символизм архетипов как общекультурных священных образов, передающих глубинный смысл. Телефон и автомобиль, как и наполненная шампанским ванна, сами превратились в архетипы.
Телепотребление стало еще одной тенденцией современной культуры. Оно выражается в стремлении некоторых достаточно обеспеченных людей иметь возможность смотреть максимальное количество телевизионных каналов. Одни довольствуются минимальным количеством телеканалов, а другие заинтересованы в богатом выборе. Если раньше все смотрели «Время», то лотом аудитория стала выбирать между многими программами, а семейные просмотры сменились индивидуальными. По нашему мнению, если данное явление и стоит считать очередной тенденцией культуры потребления, то настолько узкой, что она почти не бросается в глаза. Однако она вполне соответствует другим потребительским тенденциям, основанием которых выступает не реальная польза от получаемого реципиентом продукта, а символическая. Так же как и сотовый телефон, телевизионная многоканальность может приносить символическую пользу, играя на статус. И вообще, совершенно непонятна польза от «как можно большего» числа каналов, поскольку такая широта позволит только клипово воспринимать медиасообщения. Несколько каналов создают выбор. И реципиент из этих нескольких выбирает три-пять, содержание которых соответствуют его интересам и которые он смотрит постоянно. А сто или даже больше каналов, многие из которых повторяют друг друга, создают иллюзию выбора, способствуя поверхностному, клиповому восприятию передаваемой информации, которую вследствие ее объема нормально воспринимать ни один человек не в состоянии.
Безудержное потребительство не только ослепляет человека, не давая возможности различать оригинал и копию, важное и второстепенное. Оно также определяет «одномерный» характер человека, массифицирует его, лишает рефлексии и всякой критической способности. Поэтому все для него становится одинаковым и одноразовым. В контексте, например, музыкальной продукции, современный massmen, следуя за модой, стремится «идти в ногу со временем», но своевременность этой ходьбы мнимая. Его уже не прельщает та музыка, которую он слушал, например, три года назад; более интересной становится то, что на пике популярности сейчас, потому что это слушают ВСЕ. Музыкальные группы появляются и исчезают подобно грибам после обильного дождя, но они бывают совершенно не отличимыми друг от друга ни принципиальной новизной своих «творений», ни исполнительским профессионализмом (если говорить о распространенном феномене попсы), но потребитель пытается их различать по критерию «достойно уважения — недостойно уважения», хотя на самом деле критерий чисто исторический: «вчера-сегодня». То, что появилось сегодня — интересно, а то, что было вчера — устарело. Скорее даже, этот критерий следует назвать не историческим, а хронологическим или анти-историческим, поскольку история исчезает; с гегемонией китч-культуры приходит конец истории.
С. Брандт писал:
«Известно испокон веков: Новинка — слабость дураков. Но и новинка старой станет — И вот уже другая манит».Устаревает все, так как мир стал одноразовым. Теперь уже одноразовыми являются не только бумажные стаканчики, но и произведения искусства. Забыт тот факт, что гениальные творения не устаревают никогда. Теперь все гениально, но лишь на один день. Конечно, во многом это связано с инновационными тенденциями «третьей волны», за которыми человек отчаянно старается успевать, однако если в области техники (компьютеры, телефоны и т. д.) действительно происходят инновации, то в области искусства имеют место в первую очередь псевдоинновации, олицетворением которых выступает мода. То, что не способно устареть, признается устаревшим и несовременным, понятие «классика» десакрализуется. В культ входят хэппенинги и инсталляции «здесь и сейчас», где фигурируют произведения, на создание коих уходит крайне непродолжительное время, в отличие от продуктов художников, музыкантов и писателей прошлых времен, которые могли чуть ли не всю жизнь работать над творением, в отличие от монументальных архитектурных сооружений, возведенных на века. Однодневки-хэппенинги, которые исчезнут сразу после закрытия выставки, противопоставляются долговечным, переживающим своих создателей произведениям искусства, приобретают статус актуальности и современности. Длительная работа над произведением не приветствуется, поскольку потребительская культура способна навесить ярлык «старье» на продукт прежде, чем процесс его создания будет завершен. То что раньше приносило вековую славу и связанную с ней дорогу в символическое бессмертие, сегодня не актуально. Вместо славы теперь приобретается известность — краткосрочная, быстротекущая, укладывающаяся в слова Э. Уорхолла о времени, когда каждый получит свои 15 минут известности. Те, кто заслуженно способен претендовать на славу, кто отдал творческому процессу долгие годы, отодвигаются на второй план и уступают дорогу попсовым исполнителям, авторам бульварных романов, фотомоделям, диджеям и т. д. Годы усердного труда — ничто по сравнению с частыми появлениями в ток-шоу, на VIP-вечеринках и окруженных журналистами элитарных тусовках. Долгий труд просто вне конкуренции.
«Who wants yesterdays papers, who wants yesterdays girls» («кому нужны вчерашние газеты, кому нужны вчерашние девушки»), — пели когда-то Роллинг Стоунз. Эти строки известной песни послужили своеобразным лозунгом для зародившегося на западе, а в последние десятилетия появившегося в России так называемого движения «pickup». Pickup — это система соблазнения, основой которого выступают техники нейро-лингвистического программирования. Главными принципами данной технологии (или даже образа жизни) выступают: 1) соблазнить как можно больше девушек, 2) максимально сократить временной интервал между знакомством и сексом. То есть длительные и глубокие отношения не предполагаются, и на их место ставится просто сексуальное желание, реализация которого находит свое применение в мастерском овладении разнообразивши техниками соблазнения[10]; секс освобождается от последствий воспроизводства и превращается в предмет коллекционирования. Даже проводятся всякие дорогостоящие тренинговые курсы и учебные программы, направленные на овладение этими навыками. Мы не имеем ничего против нейро-лингвистического программирования как оригинальной и достаточно эффективной системы коммуникации и психотерапии. На эту технологию повесили ярлык манипуляции, но легитимность этого ярлыка обоснована настолько, насколько можно было бы обвинять укравшего у богов огонь Прометея в изобретении костров инквизиции или насколько можно было бы укорять нейрофизиолога И. Павлова в создании массированного роботизированного человека, руководствующегося только внешними стимулами. Но pickup как определенный контекст, в котором нашли применение методы нейро-лингвистического программирования, заслуживает критического рассмотрения, так как он является одним из примеров современного общества потребления, где вместо любви культивируется секс, где вместо глубины (качество) отношений культивируется их количество (чем больше соблазню, тем лучше) — промискуитет поверхностного насыщения. Секс тоже стал предметом потребления. В этом смысле весьма показателен клип группы Iron Maiden на песню «Wasted love», где герой, тело которого испещрено татуировками-именами некогда соблазненных девиц, мучается от духовной пустоты. Характер «одноразовости» приобретают не только вещи и произведения искусства, но также люди и отношения. Поведенческое поддержание «одноразовости» делает мир быстротечным, а быстротечность мира стимулирует склонность людей к «одноразовости». Причина и следствие тесно переплетаются.
Безудержность потребительства — это эрзац подлинной субъектности, это вариант психологической защиты, компенсирующей внутреннюю пустоту внешними предметами потребления. Культура потребления — погоня за практически ненужными вещами, которая становится смыслом жизни, за бесполезным гламуром — дешевыми блестками и улыбками металлокерамики. Человек уже перестает задумываться о смысле жизни, о цели своего существования, то есть, по замечанию Л. Далакишвили, культура, «назначенная» для придания смысла человеческому бытию, приостановлена в своем действии или даже выключена[11]. На ее место пришла другая культура, основанная на вещизме и информационном хаосе.
Вещи покупаются и выбрасываются для того, чтобы их заменили другие вещи — их более усовершенствованные эквиваленты. И этот процесс забвения старого и блиц-возникновения нового, которое моментально сменяется другим новым, происходит циклически. Он превращается в рециркуляцию (не только гаджетов, но и продуктов искусства), в последовательность маленьких рождений и смертей, как бы отменяющую большую смерть, откладывающую ее на завтра, после чего снова на завтра и так далее, как в той шутке, когда бюрократ говорит «я же вам постоянно велю прийти завтра, а вы каждый день приходите сегодня». В этом откладывании смерти нет ничего мистического и трансцендентного, оно не имеет ничего общего с направленным на спасение религиозным сознанием.
Если сегодня мы покупаем компьютер, то через пару лет в связи с совершенствованием технологий он неизбежно устаревает, и потребитель выбрасывает еще не исчерпавшую полезности вещь. Поэтому смысл тенденций консьюмеризма (в первую очередь рекламы) — сделать нас недовольными тем, что мы уже имеем, чтобы подтолкнуть к большему потребительству, пробудить в нас некое архаическое, регрессивное недовольство, близкое скорее к детскому капризу, чем к логическому зрелому решению. Люди в момент «не-обладания» товаром ощущают себя ущербными и неполноценными, что указывает на их зависимость от моды, дизайна и вообще культуры потребительства; о какой же тогда свободе говорят рекламщики и прочие глашатаи потребления? Общество потребления — это общество соблазна постоянной нехваткой, стимулирующей бесконечность покупок, которая, в свою очередь, стимулирует потребителя поддерживать инициируемую производителями гонку за прибылями. На первый взгляд все потребности человека должны удовлетворяться; по крайней мере он сам должен думать, будто его потребности удовлетворены. Однако вместе с их удовлетворением неизменно приходит новый голод, так как немедленное удовлетворение вспыхнувшей потребительской одержимости недолговечно; удовольствие призвано в конечном счете приводить к разочарованию, а последнее «лечится» с помощью погружения в еще большее удовольствие. Причем для «экономического роста» необходимо, чтобы удовлетворение потребительского желание было быстрым и как можно более краткосрочным (потребил — переключился) и сразу же возникала переакцентация внимания на другое желание, требующее безотлагательного удовлетворения. Передышка тут неуместна. Вместо нее требуются все новые искушения, череда искушений и соблазнов, поддерживающая потребителей в возбужденном состоянии, а их образ жизни — в состоянии consumer travelling, то есть бесконечного потребительского путешествия, процесса ради процесса. Процесс не должен застаиваться, вставать на тормоза, а потребитель призван превращаться в ребенка, которому в силу его возрастных особенностей хочется всего и сразу и который рутине и ожиданию предпочитает непоседливость и быструю скорость переключения. Таким образом, желание ведет не к удовлетворению, а к производству желания; консьюмеризм — это тенденция, конституирующая желание желать. Потребитель при этом не чувствует принуждения и давления по отношению к себе; он скорее считает, что все его коммерческие действия — результат собственного выбора и свободного волеизъявления. Консьюмер — раб желаний, пределов желаниям не существует, желания доставляют мучения, удовлетворение желаний приносит (краткосрочное) удовольствие, желания культивируются искушением, за удовлетворение желания человек готов платить, человек заражается желаниями от других[12]. Стиль потребительской жизни формирует соответствующие потребности, и вместе с тем он поддерживается потребительскими решениями, воплощенными в поведении.
Но о расточительности мало кто из представителей потребительской прослойки задумывается, так как считают ее жизненно важной и необходимой. Создается впечатление, что современный человек — владелец не глубокой души, а только дорогих и технически совершенных игрушек (душевная глубина обратно пропорциональна дороговизне и совершенству игрушек). Ведь продвижение фиктивных и полуфиктивных товаров все больше и больше внушает потребителю, что у него есть потребность в их приобретении. Бедным внушается модность и дешевизна товара (хотя он обычно бывает не дешевым), а богатым, наоборот, его эксклюзивность и дороговизна. Технический прогресс дошел до того уровня, что он значительно опередил антропологический прогресс; теперь товар посредством своей метафункциональности стал намного более сложным и совершенным, чем сам человек. Так технический прогресс (дите цивилизации) наносит удар по культуре. Человек потерял свое привилегированное положение, бессознательно отдав его своим игрушкам. Хотя нет, он не мог отдать его игрушкам, так как он их постоянно меняет, не фетишизируя никакую из них. Скорее всего, привилегии лежат на самом процессе смены одного товара другим, улучшенным. Не на человеке, не на товаре, а на процессе манипуляций с товаром. Из этого процесса рождается реальность, а без него она исчезает.
Важная особенность потребительского общества — механизм, согласно которому желания сначала удовлетворяются, а только потом появляются; например, при дегустации новых продуктов в супермаркетах или раздаче сигарет на улице[13]. То есть механизм допотребительского общества здесь работает с точностью до наоборот, причина и следствие меняются местами, ожидание удовлетворения потребности появляется раньше самой потребности. Нельзя сказать, что в эпоху консьюмеризма только такое положение дел (удовлетворение потребности предшествует ее возникновению) имеет место. Скорее, эти два механизма сосуществуют вместе. Если механизм «появления и удовлетворения желания» свойственен в большей степени традиционному обществу, это совершенно не значит, что он утратил свою силу с наступлением общества потребления; он остался, но поделил сферу желания с механизмом «удовлетворения и появления потребности», который, в свою очередь, выступает сильным фактором в формировании потребностей, как реальных, так фиктивных и полуфиктивных. Он не просто удовлетворяет с самого начала несуществующие в данный момент потребности, удовлетворяя их, он тем самым способствует их формированию. Так, человек узнает про появление нового сорта колбасы, заходя в супермаркет и дегустируя этот сорт. Но после дегустации он не столько удовлетворяет свою потребность, сколько ее формирует. Удовлетворяется потребность попробовать, но не наесться бесплатно, а формируется потребность купить.
Рабом в нашу эпоху являются не только консьюмеры (рабы игрушек), но и бизнесмены (рабы денег). Их принцип звучит так: жить ради того, чтобы зарабатывать. А более человекоцентрированный принцип такой: зарабатывать, чтобы жить. Зарабатывание любой ценой, в ущерб жизни и здоровью, вызвано таким же животным инстинктом, как и консьюмеризм. Они оба бессмысленны. Потребительские гаджеты отвлекают консьюмера от осмысленной социально ориентированной духовной деятельности и вместе с тем от тоски по этой деятельности.
В классификацию полуфиктивных товаров включен не только критерий их метафункциональности, но и узкофункциональности (в отличие от полной дисфункциональности фиктивных товаров). Так, у машинки для открывания консервных банок больше нет никаких других функций, и благодаря такой узости применения мы вполне могли бы обойтись без нее, учитывая наличие у человека способности к самостоятельному открытию банок и извлечению на свет божий их содержимого; в этом заключена полуфиктивность данного технического устройства. К подобным предметам можно отнести многие «удивительные» устройства типа специальной щетки для чистки крыш шкафов (только крыш и только шкафов!), машинки для извлечения косточек из фруктов, электрического устройства для перемешивания сахара в кофе/чаю. Совсем неудивительно, если в недалеком будущем стремительное появление таких «изобретений», призванных выполнять самые примитивные действия, приведет человека к наивысшему состоянию лени, из-за которого его телесная функциональность атрофируется настолько, что он элементарно гвоздь не сможет вбить в стену без своих технических помощников. Все эти устройства целесообразно обозначить максимально абстрактным словом «штуковина», выступающим родовым понятиям по отношению к бытовым мелочам, далеко не каждая из которых имеет свое имя. Учитывая стремительное появление таких устройств, им просто не успевают (в силу скудости языка) придумать имена. «Штуковина» означает все то, что из-за крайне узкой специализации не поддается наименованию и конкретному обозначению[14]. Если ранее временной интервал между техническими изобретениями составлял годы и десятилетия, то теперь он составляет месяцы или даже недели. Этот процесс постоянного появления новых гаджетов (равно как и поток информационного перенасыщения) говорит об убыстрении истории. Вполне закономерным образом вырисовывается актуальность и вместе с тем особая трудность ответа на вопрос «где же кончается полезное и начинается бесполезное, где проходят грани, разделяющие необходимое, нужное и совершенно ненужное?».
Итак, предметы в обществе потребления характеризуются в первую очередь не своим прямым назначением (они могут быть практически бесполезны), а знаковой, символической функцией, благодаря которой их владелец становится обладателем престижного статуса владельца, то есть человека, который просто может себе позволить приобретать различные гаджеты и «штуковины». Истина современного предмета — не служить для чего-то, а значить, быть не инструментом, а знаком[15].
Может быть, доводя эту логику до абсурда, следует предположить, что сами товары в виде дорогих машин типа Lexus современному человеку не особо нужны. Достаточно просто с помощью фотошопа создать фотографический образ себя-любимого, с иголочки одетого, стоящего рядом с дорогим автомобилем в окружении двойки-тройки обнаженных красавиц. Или, не претворяя в реальность тягу к путешествиям, таким же магическим способом сделать фото на фоне, к примеру, Эйфелевой башни и тем самым преодолеть пространство. И ведь действительно, среди прикованных к одному-единственному месту потребительски ориентированных масс, не имеющих достаточного количества финансов для воплощения в жизнь стратегем консьюмеризма, в последнее время таковая тенденция набирает обороты, и фотошоп становится ее основным средством. По нашему, возможно, несколько консервативному мнению, зрелая личность не испытывает подобных потребностей и у нее не возникает желания показаться в глазах других людей в более материально богатом облике, чем тот, который ей в действительности присущ. Потребность казаться — одна из основных фиктивных потребностей. Потребитель ее реализует в том случае, есть он не способен реализовать потребность иметь. Вполне уместной выглядит следующая шутка: мы не осознаем свои потребности, но узнаем о них из рекламы и других сфер коммуникационного пространства. Зачем покупать жвачку, если можно просто посмотреть по телевизору рекламу жевательной резинки и, включив воображение, представить себе ее вкус? Индустрия не реальной покупки реального товара, а приобретения иллюзии и впечатления, встала на поток и охватила тех, кто не в состоянии приобрести товар вместо впечатления от него.
Вообще, потребительству характерно бегство от одиночества, которому придается в основном негативная окраска; считается, что одиночество — это нечто близкое неустроенности, неудачливости и т. д. С помощью знаков-отличий, а не действительных отличительных особенностей, реализуется это бегство. Живое общение вытесняется сетевой коммуникацией, шопингом, посещением тренажерных залов и салонов красоты. Все это вовлекает человека в многочисленные социальные связи, которые как бы гарантируют его включенность в сообщество ему подобных, и самое страшное для него — быть исключенным из этого потребительского сообщества. Статусы, гаджеты, знаки дают человеку возможность фигурировать внутри данного сообщества, выступать внутри него «своим». Можно сказать, что они функционируют в качестве некоей индульгенции. Однако если общение с другими людьми фундировано исключительно потребительскими гаджетами и статусной позицией, вряд ли такая коммуникация имеет хотя бы отдаленную связь с эмпатическими проявлениями человеческой души, рождаемыми в живом общении. Предпочитая вещи людям, человек отдаляется от сообщества людей. Нормальные, основанные на взаимоуважении и дружбе отношения способствуют более высокому качеству и продолжительности жизни.
Время для общества потребления утрачивает смысл. Культура без идеологии будущего, без идеалов, ориентированных вперед, не предполагает стратегических целей и горизонтов планирования. В ней не находится места ни личным проектам будущего, кроме пресловутого накопления материальных благ, ни каким бы то ни было проектам новых социально-исторических рубежей. Вместо них приходят расточительство, гонка за быстро сменяющейся модой, маниакальное стремление покупать новые модели уже имеющихся товаров и жизнь в кредит. Эти явления, видимо, в некотором роде компенсируют отсутствие идеалов, отсылающих вперед, ценностное ослабление хронотопа, предполагающего будущее.
Одноразовость вещей заменила их прежнюю рабочую долговременность. Одноразовым становится почти все — от стаканчиков и прочей посуды до одежды. Если раньше делали качественные джинсы и обувь, то нынешняя продукция, лежащая на прилавках магазинов, отличается тем, что временной интервал между покупкой и выбросом максимально сокращен. Штаны после первой-второй стирки выцветают, а в процессе весьма непродолжительной носки протираются, а у обуви, которой хватает на один, максимум два сезона, трескается или даже отлетает подошва. И это нормально, ибо нет ничего вечного под луной консьюмеризма, в соответствии с которым стимулируется желание потреблять больше и больше, не задумываясь о том, что потребляется ширпотреб. Качественная продукция, сделанная «на века», перестает пользоваться спросом, так как в ее отношении потребитель думает «зачем она мне, все равно на следующий год выйдет из моды». Поэтому носить одну и ту же обувь пять лет стало ненормальным явлением, а приверженность отжившим свой срок вещам рассматривается как признак бедности и невовлеченности в «крутое» сообщество потребления. Причина преждевременной смены гардероба кроется не в том, что обувь и вещи могут за продолжительное время изрядно износиться (они могут и сохраниться), а в том, что мода их уже не приемлет. Все течет, все изменяется, и качество товаров, их функциональная долговременность коррелирует с быстротой смены модных тенденций. Если раньше человек искал качественность физических характеристик товара, то теперь этот поиск потерял свою актуальность; на его смену пришли идеологические характеристики. Произошла переоценка ценностей: надежность вещей сменилась новизной, удобством, красотой, соответствием высокому вкусу. Бабушкины сундуки обесцениваются. «…Производство живет именно непрочностью и недолговечностью вещей, на этом основаны его логика и стратегия. Экономика стабильных и качественных вещей немыслима: экономика развивается только выделяя из себя опасность, загрязнение, износ, неудовлетворенность, обсессию»[16]. Если раньше, как отмечает Э. Фромм, существовал лозунг «Все старое прекрасно!», то сегодня бытует другой — «Все новое прекрасно!»[17]. Если раньше усилия вкладывались в долговечность, то теперь в дизайн. Качественную продукцию и производить-то стало невыгодно в условиях рынка; если швейный комбинат станет производить одежду, которую можно носить десятилетиями, он потеряет свою рентабельность. Производимые в условиях рыночной экономики вещи должны быть одновременно доступными и конкурентоспособными, а принцип доступности, как правило, бьет по качеству. Срок службы любой производимой продукции не превышает тот, который необходим для сохранения цикличного потребления. Чем дольше товар используется, тем это хуже для циклического потребления и рыночной системы экономики, так что долговечность товаров обратно пропорциональна экономическому росту. Поэтому износ, так называемое запланированное устаревание товаров, считается экономически выгодным, но абсолютно нерациональным с точки зрения природопользования, поскольку имеющаяся модель рынка, основанная на быстрой смене продукции, требует значительных природных ресурсов. Да и для экономики это выгодно условно, поскольку выгоду от постоянной смены товаров получают производящие эти товары корпорации, а не экономика в целом. К тому же нет никакой выгоды для страны, если ее население покупает товары у корпорации, которая является иностранной или транснациональной. Более экономично и природосообразно было бы построить процесс производства согласно условию «любой производимый продукт должен быть изготовлен так, чтобы время его использования было максимально долгим». Но это противоречит экономической выгоде отдельных корпораций, которая пока, к сожалению, значительно перевешивает на чаше весов своего экологического оппонента. Хотя в некоторых странах начали практиковать так называемую продленную ответственность производителя, которая обязывает производителей принимать изготовленный ими отслуживший свой век товар у клиентов, чтобы он вернулся на фабрику (а не пополнил кучу мусора) в качестве деталей для изготовления подобных товаров. Хорошо, если бытовой прибор поддается починке, если отслуживший свое прибор сдается на детали, а не выбрасывается. Возможность утилизации смягчает растрату ресурсов, что крайне актуально сегодня, когда цивилизация производит не просто массу одноразовых и недолговечных товаров, а громадный массив мусора. Иссякают как природные ресурсы, так и места для хранения отходов. Помимо повышения качества бытовых приборов, которое устранит их частые поломки и необходимость их постоянной смены, возникает актуальность разработки моделей бытовой техники, потребляющих значительно меньшее количество электроэнергии и при этом материально доступных для каждого покупателя.
С. Кара-Мурза приводит следующий пример[18], указывающий на стремление современного рынка сократить срок жизни товаров и тем самым заставить потреблять как товары, так и услуги. В «Жигулях» все основные агрегаты мотора установлены так, что они открыты для самостоятельного доступа, то есть можно самому чинить машину без обращения к мастерам. А в «Ситроене» эти же агрегаты недоступны, что заставляет покупать услуги по самому мелкому случаю. Потребителю предлагается не какой-то отдельный товар, а целая система товаров и услуг, связанных между собой как функционально, так и символически. Например, при покупке автомобиля человек сталкивается с проблемой его страхования, хранения и ремонта, приобретения необходимых и просто желаемых аксессуаров. Покупка товара вовлекает потребителя в целую систему услуг и производственных отраслей, от которых нельзя отказаться, так как приобретение одних вещей требует приобретения других, поддерживающих первые в функциональном состоянии. Чем больше вещей мы приобретаем, тем сильнее мы обязываем себя заботиться о них и выделять больше времени и денег на их ремонт, усовершенствование и оберегание.
Культивирование нового, стимуляция потребления по сути означают стремление возбудить в потребителе отвращение к самому себе. Возбуждается отвращение к себе-настоящему, который пока не имеет необходимый продукт, и симпатия к себе-будущему, который приобрел товарное средство формирования «Я-концепции». Но хитрость заключена в том, что всевозможные штуковины создаются постоянно, и этот процесс уходит в бесконечность. А значит, культивация отвращения к себе так же, как и прогресс технологий, будет продолжаться. Имеет место следующая взаимосвязь: отвращение-покупка-счастье-отвращение-покупка-счастье…
Внимание потребителя перемещается с вещи на ее упаковку, или же сама вещь становится собственной оберткой, конфетным фантиком, ярлыком с пустой внутренней формой, паразитарным означаемым, которое возбуждает фиктивное желание и продуцирует тела желаний, подменяющих настоящее распределение вещей[19]. Обертка, фантик — это своеобразные означающие, которые далеко не всегда указывают на что-либо; иногда их означаемым оказывается ничто. Это имя — имя собственное, это приманка. Аналогичным образом Р. Барт рассматривает имя рассказа, его название, считая его «королем означающих», которое возбуждает у читателя аппетит, служит приманкой[20]. Название, обертка, фантик, упаковка — все это суть бренды, имиджи, отсылающие нас к тому, что за ними скрывается. И вообще, следуя мысли Ж. Бодрийяра, вся система массовой коммуникации представляет собой не отсылку к реальному миру, а систему координат, где происходит отсылка «от одного знака к другому, от одного предмета к другому, от одного потребителя к другому»[21]. То есть средства массовой коммуникации не столько описывают реальность, не столько создают ее репрезентацию, сколько играют в реальность, сами превращаясь в нее, заставляют циркулировать не смысл, а самих себя вместо всякого смысла, конституируют саморепрезентацию.
Упаковки создают образ заключенного в них товара, и если упаковки различны, то и находящиеся внутри них вещи представляются отличными друг от друга. Известны эксперименты, когда людям предлагали попробовать два вида воды — дистиллированной и недистиллированной, — но в бутылке с этикеткой «дистиллированная вода» на самом деле была обычная вода, ничем не отличающаяся от той, которая была в другой бутылке. Люди обычно говорили, что первый образец вкуснее, так как упаковка оказала свое воздействие; продукт, «нагруженный» рекламой, имеет иной вкус, чем тот же напиток без упаковки. Наоборот, когда испытуемым предлагали два разных вида воды в одинаковых бутылках, они не ощутили отличий. Похожие эксперименты проводили с «разными» стиральными порошками: коробка одного была желтая, другого — синяя, а третьего — желто-синяя. Стиральный порошок, насыпанный в последнюю, оказался, с точки зрения домохозяек, наиболее оптимальным. Но во всех коробках был один и тот же порошок.
Одна вещь привлекает внимание своим отличием от другой. Но если даже шоколад «Марс» производился бы в разных упаковках, содержание, скрытое под этими упаковками, все равно оставалось бы одним и тем же, то есть тождественным своему предшественнику, носящему это же название, но облаченному в иную обертку. В этом и заключена фиктивность. Бумажный стаканчик — это упаковка желания попить. Мы покупаем упаковки. Причем эти упаковки стоят чуть ли не столько же, сколько и сам товар. Вместо бумажного пакета тот или иной товар содержит дорогая упаковка, привлекающая взгляд. Потратив деньги на упаковку, мы сокращаем потребление количества товаров или же мы, желая оставить на том же уровне объем потребления товара, платим больше. Уничтожив советский строй, страна перешла к цивилизации упаковки. Советский человек, еще не познакомившийся с яркостью потребительства, предпочитал покупать масло в свою бутылку, чем более дорогое масло за счет упаковки.
В продвижении псевдопотребностей и формировании желаний огромную роль играют мода и реклама. Но удовлетворение нормальной (естественной) потребности не нуждается в рекламе. В ней нуждается некая фикция, желание, без удовлетворения которого вполне можно обойтись, не нанося ущерба себе. У человека не так уж много истинных потребностей. Те, которые мы называем фиктивными, возникают скорее не из жизненной необходимости их удовлетворения, а из сравнения с другими людьми человека, который склонен считать себя обделенным в случае, если он не имеет того, что есть у них. Эти новые желания, по замечанию Ф. Фукуямы, бесконечно растяжимы, и их невозможно удовлетворить, так как современная экономика, при всей ее эффективности и инновативности, создает на каждое удовлетворенное желание новое, которое тоже требует удовлетворения. Люди несчастливы не из-за неспособности удовлетворить фиксированный набор желаний, а из-за возникающего разрыва между новыми желаниями и их удовлетворением[22]. И хоть Ф. Фукуяма, создавший философское псевдоизобретение в виде крайне ошибочного футурологического прогноза об обязательном наступлении во всем мире либеральной демократии, не является нашим методологическим союзником, к этим словам стоит прислушаться. Вспоминается случай с банковским сотрудником, который купил себе дорогой автомобиль только потому, что ему надоело чувствовать себя обделенным по сравнению с его коллегами; на самом же деле автомобиль ему был нужен не столько для транспортировки себя, сколько в качестве символа, демонстрирующего коллегам, что он такой же, как и они. Однако финансовых затрат на автомобиль обычно уходит больше, чем на пользование общественным транспортом. Банально говорить, что сегодня, когда магистрали городов под завязку заполнены автомобилями, общая скорость движения остается низкой, и это требует тратить много топлива на простой. А еще необходимы затраты на ремонт машин и замену деталей.
Потребность в сравнении себя с другими, которая рождает множество фиктивных потребностей, сама по сути является фиктивной. «Обрабатываемые низкосортными электронными СМИ, которые предлагают нам счастье в бутылочках для духов и газированной воды, радость в пачках сигарет и консервных банках, мы уже не имеем ни места для веры в Деда Мороза, ни времени для того, чтобы закалить детство. Мы теряем способность мечтать, не получая взамен ничего, кроме пустоты, растерянности, утраты себя. Химически чистое счастье кажется нам более жизненным, чем побуждающий двигаться вперед путь формирования себя как личности. Меркантилизируются отношения супружества, родства и дружбы. В этой игре, как в голливудских фильмах, тот, кто не обладает опытностью и бесстыдной жестокостью, гибнет»[23]. Человек призван находить счастье не в гонке за фетишами, а в ощущении собственного существования. В потребительской гонке счастья как раз он не находит. Будучи погруженным в мечтания, он отождествляет реализацию этих мечтаний с достижением счастья, но даже при достижении порога мечтаний он внезапно обнаруживает, что не стал счастливее. Счастье не имеет прямой связи с уровнем дохода, и об этом говорят результаты многих социологических опросов. Например, в Венесуэле, в которой общий уровень жизни ниже российского, счастливыми себя называют 55 % граждан, в то время как в России — всего 6 %, а в более или менее преуспевающей Литве замечен максимальный уровень суицидов в Европе[24]. Во времена Великой депрессии в США магнаты совершали самоубийства, несмотря на то, что уровень ах обнищания не шел ни в какое сравнение с уровнем обнищания простого народа. Да и современные олигархи, теряя часть своих доходов, обычно входят в уныние и даже в глубокую депрессию, забывая, что их материальное благополучие значительно превосходит благополучие обычных граждан. Человек чувствует себя счастливым при опоре на внутренние, а не внешние ресурсы, при достижении именно своих, а не навязанных кем-либо, целей.
Консьюмер желает дорогих игрушек, а не сотканных лаптей, в отличие от крестьянина, который одевался предельно просто, так как должен был обеспечивать семью. Крестьянин смотрел вперед и соотносил расходы и доходы. Консьюмер же смотрит только вблизь и совершенно не соотносит расходов и доходов, стремясь жить не по средствам, а по кредиту. Жить по средствам и рядиться просто для него стыдно. И этот стыд появился не сам по себе, а был навязан соответствующим типом культуры. Довольствование тем, что есть — одна из самых страшных перспектив для потребителя, особенно если то, что есть, слишком мало.
Руками прежде всего транснациональных корпораций создается необходимый плацдарм для развития потребительства в виде насаждения искусственных потребностей и унификации культур. Для того чтобы корпорации продать свой продукт, да еще продать людям той общности, чья культура не нуждается в таких приобретениях (к примеру, «Макдональдс»), необходимо создать потребность путем нивелирования культурного разнообразия, которое является сильнейшим барьером для процветания глобального бизнеса. Таким образом, постепенно в быт эксплуатируемого этноса вторгается потребительская культура, подающаяся как наиболее современная и отвечающая требованиям времени альтернатива традиционной культуре. С помощью ее усилий поддерживающие в прошлом этнографическое своеобразие обычаи, ритуалы и стили поведения постепенно исчезают, обмениваясь на новые «прогрессивные» стандарты. Потребительские мифы, говорящие о необходимости приобретения товаров транснациональных корпораций, оправдывают разрыв с национальным прошлым, который дал толчок к установлению существующего порядка вещей, к приведению многих культур к единому знаменателю. Машинерия производства желаний и потребностей не знает отдыха. Международные корпорации превращают мир в плацдарм для реализации глобальных маркетинговых стратегий, ориентированных на стимулирование не менее глобального спроса, а маркетологи становятся агентами продуцирования потребительской идеологии.
Другой аспект деятельности транснациональных корпораций — это стремление к монополии. Конечно, любой бизнесмен будет стремиться занять лидирующее место в той или иной сфере, но, что касается особо крупных корпораций, их продукция не всегда качественна, несмотря на что они все-таки остаются монополистами. Так, операционные системы Microsoft далеко не во всех случаях отличаются удобством и качеством, однако они лидируют. Примеров можно привести много. Монополист имеет право устанавливать свои — довольно высокие — цены и производить продукт, который уступает по своим характеристикам аналогичному продукту других компаний, которым, вместе с тем, далеко до конкурирования с тем, кто стоит выше их. Когда конкурируют продукты, а не их производители, люди остаются заваленными далеко не самым качественным товаром.
Вещи в своей совокупности создают материальную среду, в которой живет человек. Благодаря присущему им символизму они несут сообщение, оказывающее серьезное влияние на сознание людей. Соответственно, вещи, проектируемые с учетом их знаковых функций, становятся решающим фактором в формировании обыденного сознания. Дизайн вещей (автомобиль, телефон, квартира) и присущая ему стандартизация становятся важным механизмом внедрения в ментальное пространство культурных ценностей. Стандартизация необходима для общественного порядка, в котором сохраняется как бы инаковость людей (человек должен считать себя уникальным) и где этих индивидов соединяют связями, не приводящими к полному единству, которое способно вылиться в бунт против монополий и корпораций, но при этом единство создается для формирования потребительской моды на тот или иной товар. Иначе говоря, все должны покупать нечто, но именно данное нечто, товар, а не идеи, обязаны объединять людей. Объединение на уровне материальных ценностей, на уровне товарных знаков, на уровне модных брендов необходимо для культуры потребления и ее «авторов», но им совершенно не нужно формировать объединения на уровне интеллектуальных ресурсов. Так, помимо материальных товаров, в США объединяющим фактором стал спорт, который связывал разнообразные общественные единицы — от самых малообеспеченных слоев до элитарных кругов; спорт являет собой некий срез массовой культуры, точкой притяжения ее различных потребителей.
Возникает вопрос: как соотносятся между собой культура китча и культура потребления? По нашему мнению, потребительство выступает всего лишь частью китча. Потребительский образ жизни рассматривают в единой связке со словом «гламур»; гламур — «чучело красоты» (термин А. Секацкого), обитель интеллектуальной серости и вторичности (но внешней яркости), смыслозаменитель, замещающий подлинность глубин человеческого духа. Однако внутри китч-культуры мы находим и анти-гламурные явления, которые не входят в дискурс консьюмеризма, но все равно локализуются в области культурного хлама. Например, вряд ли следует наделять культуру гопников характеристиками гламура и пафосности потреблятства. Хотя в полной мере антагоничными потребительским тенденциям их тоже не стоит воспринимать, так как с потребительством их роднит стремление к материальному достатку, нерефлексивность, низость культурного уровня и упадок нравственности. Тем не менее китч предлагается понимать как более широкое явление, нежели потребительство и гламур.
При оценке культурного облика потребительства необходимо также обратиться к вопросу «что именно потребляется»? Все-таки непозволительно говорить о потреблении, не касаясь проблемы его объекта. Потребляться ведь могут не только бытовые или пищевые товары, удовольствия, связанные с мелкими страстишками, типа стриптиза или азартных игр. Объектом потребления могут быть и произведения искусства. То есть потребительская сущность проявляется на разных уровнях массовой культуры, а не только на уровне китча (хотя китч служит наиболее подходящим фундаментом для укоренения этой сущности). Но тем не менее принято связывать с культурой потребления не культуру как таковую, а бескультурье; само слово «потребление» ассоциируется с понятиями бездуховности, меркантильности, грубой материальности и паразитарного образа жизни, согласно которому человек стремится «меньше работать, но больше потреблять». Такое понимание нельзя назвать неверным, так как оно имеет под собой веское основание в виде идеалов и ценностей, которые насаждают «низы» масскульта. Конечно, культурно-образовательный уровень так называемых «новых русских» — прослойки бизнесменов и чиновников — преимущественно характеризуется уровнем ниже среднего (и это с уверенностью можно сказать, не прибегая ни к каким конкретным статистическим данным), по-настоящему культурные люди ходят не в казино и ночные клубы, а в библиотеки, театры и музеи. Но вместе с тем среди материально обеспеченной прослойки общества — адептов гламура и потребительства — находятся люди, обладающие утонченным вкусом, которые коллекционируют хорошие и редкие книги или картины, что уже говорит о некоем положительном (в культурном смысле) аспекте потребительства. Хотя здесь возникает дискуссионный вопрос: а потребительство ли это?
Но эта положительность находится только в том случае, если потребитель высокого искусства понимает смысл этого искусства, пропускает его через себя и воодушевляются эстетической насыщенностью произведения. В других же случаях человек приобретает эксклюзив, который остается им непонятым; основным мотивом такого приобретения опять же выступает статусность. Так, вспоминаются некоторые буквально анекдотичные примеры из недавнего прошлого. Когда признаком наличия хорошего вкуса считалась богатая коллекция книг, некоторые желающие блеснуть «вкусом» приобретали целые библиотеки, заполненные довольно дорогими и эксклюзивными изданиями. Однако — что самое смешное — они их не читали и вообще к ним не прикасались из-за отсутствия культуры чтения и в страхе за сохранность коллекции. Некоторые даже, боясь прецедентов воровства книг с полок, вбивали металлический штырь так, что он проходил от одного конца полки к другому, пронизывая собой все стоящие на полке книги. Соответственно, после осуществления такой хитрости книги не только невозможно было украсть, но ни одну из них нельзя было взять с полки вообще. Так и стояли они бесполезным грузом, незаслуженно пронзенные. Зато они несли символическую пользу, подчеркивая утонченную интеллектуально-эстетическую сущность их обладателя. Штырь здесь тоже обладает определенным символизмом; он ограничивает в настоящем использовании культурного продукта (в извлечении полезности «по назначению»), но дает возможность сохранения не столько самого продукта, сколько его псевдополезности, его знаковости. Дорогие книги, как элементы роскоши и средства установления различий, носят черты показной бесполезности и праздности, выступая инструментом «потребления напоказ». Показное потребление также может быть выражено не только в дороговизне изделий, но и в их интеллектуально-эстетической наполненности, глубину которой средний потребитель едва ли понимает. «Но вот анализ “овеществленных душ” миллионов образованных и культурных людей показал, что 95 процентов из них потребляло продукты духовного производства вообще без единой мысли в голове, а у 5 процентов еле шевелились мыслишки, да и то такие, каких они не высказывали вслух, — пишет А.А. Зиновьев. — Наш мозг развивался вовсе не для создания богатств внутреннего мира, а лишь для борьбы за богатства мира внешнего»[25]. Потребитель в первую очередь ориентирован на ценности еды, питья, развлечений, а не на поднимание головы вверх, к небу.
В густонаселенном районе, где каждого человека окружают тысячи людей и где отсутствует фактор личных знакомств, свой социальный статус можно обозначить через демонстративное потребление. Соответственно, в крупных городах трата на видимый образ жизни значительно выше, чем в сельской местности, и в большей степени развита экономия на скрытый образ жизни. Нет смысла тратить много денег на товары, которые не предстанут перед широкой публикой. Помимо прочего, горожане подвержены влиянию моды и рекламы в значительно большей степени, чем сельчане, ибо современный город представляет собой огромное медиа-пространство, в котором соседствуют совершенно разные рекламные бренды и торговые знаки.
Исходя из многих примеров, целесообразно сделать вывод о том, что символизм и знаковость потребительства, воплощенные в потребности отличиться от других, указывают не на достойность отличий, а на безвкусие человека, которого прельщает такой образ жизни. Если существуют массовые способы подчеркивания отличий, то благодаря массовости они становятся подчеркиванием сходств. Поэтому крайне парадоксально звучит фраза опрошенных подростков о том, что джинсы дают «свободу быть самим собой», равно как и убеждение в том, что индивидуальность выражается фирменным знаком на своей одежде. Следование такой моде говорит об отсутствии персонального вкуса и о стремлении ценить не сами предметы потребления, не их эстетический смысл, а всего лишь их социальную знаковость. В таких тенденциях нет места субъектности. Культ различий, в соответствии с которым потребитель стремится выделиться, появился внутри массового производства. Однако даже если человек действительно выделяется из основной массы, например, обладанием дорогих одежд от кутюр (что далеко не каждый в состоянии себе позволить), этот факт нисколько не выводит его за рамки сложившейся унифицирующей системы, а скорее, наоборот, указывает на еще более глубокую интеграцию в нее. Стоит вести речь о некоем вторичном обществе потребления, мире подержанных и фальсифицированных товаров, которые выступают ложными образцами «настоящих» товаров. Это вторичное сообщество предлагает игру по правилам потребительства тем, кто ограничен в своей платежеспособности. Это периферийная и суррогатная зона общества потребления, представители которой как бы стирают грань между собой и тем гламурным меньшинством, которое живет в «действительном» обществе потребления. Но стирают лишь «как бы», на уровне видимости. Хотя, конечно, не стоит разделять «настоящее» потребительство и его «суррогатную» область, поскольку оно в любом случае выступает суррогатом действительных культурных образцов.
Возвращаясь к проблематике так называемого хорошего вкуса, за удовлетворение которого приходится высоко платить, обратимся к примеру. Так, некоторые материально обеспеченные меломаны предпочитают пользоваться дорогими аналоговыми звуковыми системами, которые позволяют не выхолащивать музыку, не лишать ее присущих ей достоинств (что происходит при использовании дискретных/цифровых аудиосистем). Музыка обладает некоторым трудно уловимым для человеческого уха «нечто», которое утрачивается при прослушивании аудиокассет, компакт-дисков и вообще при использовании недостаточно качественной аудиосистемы, и требует весьма дорогостоящих музыкальных «игрушек»[26]. Приобретение техники «высокой верности» требует избыточных финансов. С одной стороны, нет ничего предосудительного в этом перфекционизме, в стратегии поиска лучшего для себя. Но, с другой стороны, она представляется почти бессмысленной потому, что чисто физически слуховой аппарат человека не способен в полной мере уловить принципиальное различие между звуком, который выдается высококачественной техникой, и звуком, который генерирует техника более или менее высокого качества. Людей с исключительным слухом не так уж много, а стремление обладать самым лучшим, достоинства которого все равно не будут эстетически оценены, присуще намного большему количеству людей, называющих себя меломанами. Не уловимое, но присутствующее «нечто» выступает одним из оснований существования меломана как меломана; оно его манит, но при этом ускользает, не дает поймать себя за хвост. Можно слышать достоинства, а можно просто знать о том, что они есть. Так вот большая часть людей, гордо именующих себя меломанами, только знают об этом, но это знание не дает возможности услышать «нечто», тот высококачественный звук, к которому они так стремятся. Следовательно, их стремление едва ли рационально. Это «нечто» также следует именовать избытком, который, будучи воплощенным в вещи, характерен для общества потребления и его консьюмер старается потребить — достигнуть того наслаждения, коего он никогда не достигает на 100 %. Здесь уместна не формула «хорошая аппаратура нужна для хорошей музыки», а скорее формула «хорошая аппаратура нужна для довольства собой».
«Любой каприз — за ваши деньги» — эта фраза известна всем. И действительно, в потребительскую рыночную эпоху любой каприз клиента выполняется, если клиент готов за него платить. Нувориши уже не знают, как использовать свое воображение, чтобы выдумать новый консьюмер-проект. В последнее время пробудился интерес к космосу, на что указывают покупки участков на Луне, Марсе и других планетах нашей солнечной системы. А те, кто побогаче, позволяют себе покупать целые звезды. Понятно, что космос не просто таит и всегда таил для человека множество загадок, а сам по себе является этакой гиперзагадкой, но не до такой же степени.
Весьма наглядно новшества потребительского воображения проявили себя в области ритуальных услуг. В годы СССР принцип равенства распространялся не только на жизни людей, но и на смерти, что выражалось в практически полной одинаковости гробов и надгробных памятников, а также минимальном ассортименте ритуальных услуг. Позже, когда государственную монополию сменили рынок и частная инициатива, индустрия смерти стала предлагать родственникам своих клиентов не только дорогие услуги по захоронению, но и ряд услуг, которые мы можем смело отнести к абсолютно бредовым потребительским явлениям. Так, родственникам покойника предлагалось отправить прах умершего на космическую станцию. Для VIP-клиентов ассортимент услуг расширялся до оснащения гробов подсветкой, кондиционером и даже встроенной стереомузыкальной системой[27]. Для чего все это? Не зря вспоминается анекдотичная фраза о том, что гробы из дуба полезны для здоровья. Обращаясь к психоаналитическому дискурсу, смеем предположить, что подобные явления воспринимаются их заказчиками в качестве своеобразной бессознательной компенсации за смерть. Мол, если человек будет иметь доступ и после смерти к благам, которыми он пользовался при жизни или которыми мечтал воспользоваться (полет в космос), он как бы умирает в минимальной степени. Кроме того, наделяя потребительскими благами умершего близкого, человек как бы задабривает его, вступает с ним в символический обмен. И несмотря на то, что подобные мотивы вполне понятны, сами описанные явления не согласуются ни с религиозными (имеются в виду прежде всего мировые религии, а не сектантские движения), ни с распространенными светскими практиками захоронения, что позволяет выводить их на уровень нормативной периферии.
Добавим, что осознание своей конечности заставляет человека трансцендироваться. Но трансценденция проявляется по-разному. В первом случае субъект стремится оставить себя своим потомкам в виде сочиненной музыки или стихотворений, написанных книг и прочих продуктов творческой деятельности, уповая на бессмертие своих творений, а значит, и бессмертие своего имени. Во втором случае он отдает себя нации или семье как нитям, ведущим человека к бесконечности; ведь нация и семья корнями уходят в древность, а жизненными перспективами — в далекое будущее. В третьем случае человек проявляет стремление «жить в кайф», «брать от жизни все», «жить играючи», насытиться сполна всеми удовольствиями, которые только возможны, и это переедание символизирует не увековечивание себя и своего имени, а пресыщение жизнью, убежденность в том, что выжал из нее все до последней капли и не упустил никаких ценных ощущений, на которые только способно тело; если взял от жизни все, смерть не та страшна. Реклама, мода и вся машинерия культуриндустрии подпитывает такой вариант трансцендентности, если, конечно, его можно именовать трансцендентностью в полном смысле слова. При этом другие варианты трансцендентности сегодня нивелируются, так как потребительская культура с ее склонностью к одноразовости поставил под сомнение бессмертность гениальных творений и незыблемость семьи (да и саму идею бессмертия, вечности и бесконечности), а также он подчеркнутым индивидуализмом отвел национально-патриотическим ценностям маргинальное место; ему на помощь пришла глобализация, пошатнувшая суверенность наций-государств, а значит, и соответствующую систему коллективистских ценностей. То, что некогда трансцендировало и представляло земную жизнь в качестве билета в вечность, обесценено, а земная жизнь предстает теперь как возможность поймать вечность в гедонизме и удовольствии. Потребитель склонен к коллекционированию удовольствий, к расширению своего опыта, но опыт представляется скорее как просто совокупность приятных впечатлений, нежели как жизненная мудрость, которая чему-то учит.
Культура потребления, возбуждая желания отличиться от других, «оттянуться» и «получить кайф», способствует забвению того, что необходимо для духовного (и не только духовного) существования человека. Потребитель — не активный субъект, способный реализовывать свои подлинно субъектные интенции, а сырье, материал, потребляемый (в свою очередь) идеологией, модой, рекламой, наконец, низшим уровнем массовой культуры и его мифами. Он находится в рабском положении, не представляя свою жизнь без телефона, компьютера, ноутбука и т. д. и по-детски радуясь каждому новому приобретению. Хоть эти гаджеты и вносят в нашу жизнь очередную порцию комфорта, некоторые их них являются причиной ухудшения здоровья, отчужденности от других людей, зависти и, конечно, роста еще большей неудовлетворенности собой и своими владениями. В них есть польза, но нет необходимости. Быт становится комфортным, но искусственным. Природа потребления связана с отсутствием баланса между необходимыми вещами и теми, которые дают нам чувство нормальной удовлетворенности. Когда культивируется желание приобретать все БОЛЬШЕ и БОЛЬШЕ, данный разрыв превращается в дурную бесконечность.
Общество потребления отличает материальный гедонизм и непосредственным образом с ним связанное следование неподлинному принципу «иметь», противопоставленному подлинности бытия, явление несвободы человека от вещей[28]. Иметь дорогую квартиру с большим метражом, машину новомодной марки, загородную дачу для шикарного отдыха и т. д. — вот ценности, свойственные потребительскому образу жизни, предметы потребления, с которыми их обладатель буквально идентифицируется: я — это то, чем я обладаю. Обладание автомобилем — это «свидетельство о гражданстве; водительские права служат дворянской грамотой для новейшей моторизованной знати»[29]. Но как субъект обладает определенным объектом, так и объект становится обладателем субъекта. Идентифицируя свое «я» со своей собственностью, в случае утраты последней, человек теряет себя, так как его чувство идентичности основано на факте обладания объектом, в чем и заключается диалектичность взаимодействия раба и господина, которые способны меняться местами. Субъект, таким образом, сам становится вещью. Невольно вспоминаются слова киника Диогена Синопского об одном богатом скряге: «не он господин своего богатства, а богатство — его господин». Приведем также слова Батая: «поскольку накопление богатств для промышленного производства все возрастает, создает излишек, — буржуазное общество является обществом вещей. По сравнению с картиной феодального общества, оно вовсе не является обществом личностей… Объект, подлежащий обмену на деньги, ценится выше, чем субъект, который (поскольку находится в зависимости от объектов, пока он ими владеет) больше не существует для себя и уже не обладает никакой действительной ценностью»[30].
Естественно, у человека есть потребности, и ничего плохого и предосудительного в этом нет. Но когда эти потребности переходят за рамки всякой разумной меры, человек утрачивает подлинное существование, разменивая его на предметы обладания и потребления. Это те предметы (деньги, квартира, машина, слава, власть), с которыми он идентифицируется полностью, с которыми отождествляет свое Я, а потому даже не представляет свое существование без них. Если в здоровом обществе принято любить людей, а вещами пользоваться, то в обществе с потребительской инфраструктурой смыслов все наоборот: вещи становятся любимыми и вожделенными гаджетами, а люди — объектами для использования. Если в советское время присутствовала ориентация на минимизацию страданий, в постсоветское время она сменилась доведенной до крайности ориентацией на максимизацию комфорта.
В общем, сущность эпохи потребления закономерным образом связана с состоянием массовой культуры, так как потребительство является одной из основных тенденций масскульта. Последняя же поддается описанию через призму массовой коммуникации и систему массмедиа; потребительство и массмедийность взаимообусловливают друг друга. Сама же грань между необходимым потреблением и потребительством (злоупотреблением) представляется весьма абстрактной.
Глава 2. Симулякры продуктов питания, социальная деконсолидация и проблематика миграции
Позднекапиталистическая эпоха, разгар которой именуется потреблением, характеризуется виртуализацией реальности и реальнизацией виртуальности. Собственно, реальность и виртуальность переплетаются в странное сочетание, в котором трудно отделить реальность от потоков симулякров. Так, по мнению С. Жижека, реальная жизнь потребительства приобретает черты инсценированной подделки, призрачного шоу, где люди ведут себя как актеры, где мир наполняет реклама, где фантазм расширился до общественных размеров[31]. Культовый фильм братьев Вачовски «Матрица» отлично показывает виртуализацию и ирреализацию реальности; думается, не случайно он появился именно в наше время.
Виртуализация, а точнее симулякризация, затрагивает более частные аспекты потребительства, заменяя некоторые товары на подделки. Так, безалкогольное пиво, сахар без сахара, кофе без кофеина — подделки, которые, лишенные своих прежних вредных для человеческого организма качеств (алкоголь, сахар, кофеин), могут потребляться неограниченно. Именно в этом некоторые современные философы видят чуть ли не корень потребления: с приходом на рынок таких товаров-подделок прежняя (модернистская) умеренность в потреблении, этика самоконтроля и подавления влечений, стимулирующая воздержание от вредных веществ, сменилась неумеренностью. Мол, то, что стало безвредным, позволительно потреблять сколько угодно; продукты превратились в свои собственные отрицания. Об этом говорит С. Жижек в фильме «Реальность виртуального», где добавляет, что раньше целью психоанализа было снять с клиента чувство вины за его преступление против общественных запретов (и своего здоровья) ради наслаждения, а сейчас, наоборот, клиент чувствует вину за отсутствие наслаждения, и психоанализ призывает его стать собственным цензором, частично отказаться от наслаждения. Подобные рассуждения точны и остры, но вряд ли такому узкому феномену потребительской культуры, как товар, утративший свою опасную суть, следует придавать большое значение. Ведь количество товаров, лишенных их первоначальной (опасной) сущности, не так уж велико, а если заводить речь в целом о потребительском рынке, то, наоборот, стоит глубоко задуматься о вреде очень многих товаров, напичканных химией: от картофельных чипсов до шампуней.
Следует особо отметить «достижения» в области производства продуктов питания. Вся продукция фастфуда содержит химикатов больше, чем натуральных веществ. Последних там практически нет. Коров и куриц кормят химикатами, овощи орошают подобными же препаратами, в фарше содержится далеко не только мясо и далеко не только здоровое мясо. Черничные и клубничные сырки и йогурты не содержат натуральных ягод; вместо них в составе продуктов есть так называемые ароматизаторы, идентичные натуральному продукту. Здоровое питание транснациональные корпорации, как и местные производители, не культивируют. Продукты, которые они предлагают, от мусора из помойного ведра отличаются ценой, внешним видом, запахом. Но все это симулякры, скрывающие вредную для здоровья человека сущность данных продуктов. Трансжиры, красители, эмульгаторы, ароматизаторы, консерванты и другие Е оказывают очень вредное влияние на организм. Многие пищевые симулякры стоят намного дешевле натуральных продуктов, поэтому рентабельнее использовать вредную химическую продукцию. К тому же она, усиливая запах и вкус, стимулирует потребление. Так, в некоторые виды газированной воды вводят жаждоусилители, которые стимулируют дополнительное потребление напитка. Если еда выглядит красиво и приятно пахнет, еще не значит, что это еда. Известны многие случаи инфекционных заболеваний (и даже эпидемий) людей, питавшихся фастфудами. Особенно это характерно для американцев — растолстевшей нации фастфуда. Вообще, потребление фастфуда способствует появлению избыточного веса, нарушает баланс гормонов в организме, снижает иммунитет, вызывает гастрит, бессонницу, хроническую усталость и массу других заболеваний. Суррогаты, не являясь настоящим товаром, как бы отсылают к нему, мимикрируют под него.
На полках гипермаркетов все больше и больше встречается сыров, сделанных из жира, кетчупов, не содержащих томатов, соков, не имеющих отношения к фруктам, вин без винограда, и прочих подделок, которые в силу своей поддельности утратили привилегию иметь старые названия. Причем количество подобных продуктов неуклонно растет, создавая проблему отличия настоящих товаров от их симулякров, а также проблему поиска натуральных товаров, которых становится все меньше и меньше. Прогресс имитации и подделывания налицо, но вряд ли его следует понимать именно как прогресс, если рассматривать прогресс как общественно полезное явление. Все-таки классический философский закон о переходе количества в качество работает не всегда. Либеральный принцип рентабельности занял свое место под солнцем. Производителям невыгодно использовать полезные (или хотя бы безвредные) добавки в силу их дороговизны. К тому же свободу действий производителей не особо ограничивает закон, который позволяет использовать многие вредные пищевые добавки. Те же добавки, которые закон запрещает, все равно находят свое применение. В стране с побеждающей коррупцией и победившим либерализмом нетрудно «договориться» с санэпидемстанцией или другими призванными следить за качеством пищевых продуктов структурами, чтобы последние закрывали глаза на падение качества пищевых продуктов. Поэтому пресловутая фраза «все по ГОСТу» утрачивает свою легитимность. В советское время такого беспредела не было, поскольку сферу питания контролировало государство, а вместо приоритета рентабельности доминировал приоритет национального здоровья. Самое время решить вопрос о необходимости учреждения новой сертификации продуктов питания, а также пересмотра правил и технических условий изготовления многих других — не только пищевых — товаров, что поспособствует борьбе с опасностями, которые несет технический прогресс и потребительская цивилизация.
Отметим также развивающиеся сегодня технологии генной модификации продуктов питания. Несмотря на доказанную вредность генно-модифицированной продукции, ее способность вызывать онкологические заболевания, бесплодие, аллергии, мутации, нарушения иммунитета и многое другое, политически инициируемая борьба с этим видом отравы не проявляется. В тех же США, наоборот, правительственные организации не только не вступают в борьбу с корпорациями, деятельность которых приводит к серьезному ухудшению экологии и общественного здоровья, но даже оказывают им поддержку. Объясняется эта поддержка тем, что якобы генная инженерия позволяет путем искусственного продуцирования биоразнообразия разрешить многие социальных проблемы, связанные с дороговизной, сохранностью и качеством продуктов питания, а также с голодом в «третьем» мире. На самом же деле генная инженерия, находясь в руках транснациональных корпораций, множит вредоносный потенциал продуктов питания. Делая овощи или фрукты устойчивыми к вредителям или температурным изменениям, усиливают экономически выгодную сохранность этих продуктов, иногда обеспечивают снижение цен на них и одновременно наделяют их свойствами, которые не были им изначально присущи. Вводя в вещество чужеродный ген, то есть ген не родственного растения, меняют сущностную конструкцию вещества, его хромосом, и вещество перестает быть собой. Приобретенные свойства, обеспечивая экономическую выгоду, зачастую оборачиваются витальным эрзацем, так как оказываются неприемлемыми для организма потребляющего соответствующие продукты человека. И не только человека. У крыс после длительного питания трансгенным картофелем были обнаружены негативные изменения состояния слизистой оболочки кишечника, частичное атрофирование печени, уменьшение объема мозга, нарушения кишечного тракта, зобной железы и селезенки, изменение размеров тела и внутренних органов, нарушение двигательной активности вплоть до паралича конечностей, повышение агрессивности самок по отношению к своим детенышам, бесплодие. Было проведено множество экспериментов, в результате которых доказали негативный эффект от генно-модифицированных продуктов. Стоит заметить, что на проведение подобных экспериментов наложено некое табу в виде отсутствия финансирования. Это неудивительно, поскольку крупным корпорациям и лоббирующим их интересы властным институтам невыгодно не просто спонсировать такие исследования, но допускать тиражирование их результатов в средствах массовой информации. А в мире либеральной экономики крупные монополисты имеют серьезные рычаги влияния в том числе в политической сфере, независимо от специфики их деятельности. Зачастую результаты экспериментов фальсифицируются таким образом, что в прессу поступают заявления о допустимости использования в питании человека изученного продукта, хотя многие независимые исследования указывают на недопустимость применения данного продукта в пищу.
Многие генно-модифицированные агрокультуры уничтожают полезные для нормальных растений находящиеся в земле микроорганизмы, загрязняют соседние поля, истощают почву, разрушают леса — путем опыления «воюют» с нормальными растениями. Мутированные растения разрушают экосистему, представляя опасность для насекомых, животных, птиц и человека и в результате сокращая биоразнообразие, а не расширяя его. Отходы от трансгенизации, как и другие отходы, сливаются в окружающую среду. Если вдруг созданные с помощью генной модификации животные попадут в естественную окружающую среду, они могут поспособствовать депопуляции своего вида генно-модифицированные объекты чужды природе. Они сами по себе есть продукты загрязнения, которые отличаются от других отходов только тем, что создаются специально и целенаправленно. Так что в последнее время кроме опасности радиационного и химического загрязнения появилась опасность генетического загрязнения.
Ученые из разных стран мира подписывали открытые письма правительствам всех стран об опасности генно-модифицированных объектов с требованием введения моратория на использование их в пищу. Хоть люди выступают с акциями протеста против таких гигантов химической промышленности и сельскохозяйственных генно-модифицированных технологий, как Монсанто, власти предпочитают не замечать общественного недовольства. Причем корпорации периодически производят генно-модифицированные растения (например, пшеницу), которые дают только один урожай, то есть в принципе бесплодные, и тем самым заставляют потребителей снова обращаться к услугам корпорации.
Если транснациональные корпорации добьются тотальной транс-генизации, она обернется экономической удавкой для многих стран. Например, они будут реализовывать бесплодные после первого урожая семена, что сильно ударит по экономикам стран-потребителей, так как процесс урожайной регенерации, выраженный путем получения из урожая этого года урожай следующего, станет невозможным. Закупать семена каждый год значительно менее выгодно, чем их закупить единожды на долгосрочный период. И если страны-покупатели не смогут выполнить тех или иных условий, поставки семян остановятся, и начнется голод. Контроль над сельским хозяйством — очень серьезный рычаг управления мировой экономикой, которым сейчас практически завладели корпорации типа Монсанты. В Индии тысячи фермеров были разорены после того, как производители генно-модифицированных семян хлопка продали им товар, умолчав о его искусственной природе. Фермеры надеялись на богатый урожай и потому, переполнившись оптимизма, брали ссуды в банках. Проценты по ссудам росли, а урожай — нет. Некоторые из фермеров даже покончили жизнь самоубийством. Если крупнейшие корпорации наладят массовые поставки генно-модифицированной продукции по низким ценам, они одержат верх над производящими нормальные продукты конкурентами и овладеют сельскохозяйственной монополией. Кроме того, в странах, где планируется засаживать большие территории генно-модифицированными культурами, произойдет нехватка плантаций для развития нормального сельского хозяйства, что тоже поспособствует экономическому спаду.
Введение закона, запрещающего использование генно-модифицированных объектов, невозможно, так как данная технология становится на настолько широкий поток, что точка невозврата пройдена. Кстати, законодательной базы для борьбы с вредностью не генно-модифицированных объектов, а пестицидов, сегодня тоже нет. Выращивание генно-модифицированных продуктов обычно менее затратно, чем естественных, и потому они дешевле. Так, генно-модифицированные продукты медленно портятся, а потому время их реализации увеличивается. Они считаются более устойчивыми к негативным внешним воздействиям, к которым неустойчивы натуральные аналоги. На место трудоемкой ручной обработки приходит быстрая обработка пестицидами. Генная технология позволяет регламентировать время созревания продукта, делать это созревание одновременным, чтобы облегчить и машинизировать сбор; особенно это актуально для кофе, ручной сбор которого крайне трудоемок. В силу этих обстоятельств растет прибыль для производителей генно-модифицированных объектов, а цена продуктов снижается. Следовательно, обязательно найдутся люди, которые захотят в силу дешевизны генно-модифицированных объектов потреблять именно эти продукты, и данный факт также затруднит принятие «антигенети-ческого» закона. И конечно, в условиях рыночной экономики, где главным фактором выступает не общественная полезность, а прибыль, находятся те (производители), кто предпочитает сполна следовать принципу рентабельности, несмотря на приносимый в результате его осуществления огромный общественный и экологический вред. Однако необходимо введение закона, обязывающего производителя указывать природу произведенного продукта. Так, модифицированная кукуруза не имеет права именоваться кукурузой. Потребители должны знать, что именно они потребляют. Но руководство корпораций не заинтересованы в этом, а правительства разных стран идут им навстречу и если даже не лоббируют корпоративные интересы, то не сопротивляются им.
Культура потребления способствует эгоизации человека. Если традиционные культуры, как правило, осуществляли сплочение людей, то потребительство актуализирует удовлетворение только своих, индивидуальных потребностей, что разрушает былое единство на разных уровнях: от семейных до конфессиональных, от малых групп до больших. Также с идеалами культуры потребления типа «много потреблять, но мало производить» неуклонно рождается в социуме лень и сверхвысокие запросы. Гедонизм разрушителен для нации своим потенциалом сладострастного безволия. Именно гедонизм послужил одной из причин падения Римской империи, которая погибла не столько в силу внешних обстоятельств, сколько от растущей «культуры» безвольных развлечений, а внешние обстоятельства в виде интервенций довершили саморазрушение Рима.
Согласно Ф. Ницше, европеец XIX столетия менее стыдливо относится к своим инстинктам; он без всякой горечи признается самому себе в своей безусловной естественности, т. е. своей неморальности, и находит силу вынести лицезрение этой истины[32]. Это наблюдается и теперь, в эпоху нашей современности, когда переоценка ценностей воздвигла на пьедестал величия то, что порицается здоровой культурой, которой свойственны хороший вкус и здоровая мораль. Потребительская культура видит расточительность в тех, кто для расточительности недостаточно богат, тех, кто на вершину добродетели ставит именно добродетель, то есть духовность и мораль, и расточительно им отдается, иногда даже посвящая свою жизнь не личным интересам, а общественным.
Во многих социологических исследованиях мы находим подтверждение тому, что для современной молодежи наиболее значимыми личностными качествами являются утилитарно-прагматичные, в которых нравственно-патриотическим, а также ценностям самореализации не находится места (доброта и честность не входят в список наиболее востребованных качеств), а целевые установки сводятся к индивидуальному, а не общественному, благу[33]. Кроме того, молодежь в последнее время выделяет ценностно значимым такой концепт, как наличие связей с нужными людьми, что косвенно указывает на большую веру в коррупцию, чем в собственные личностные качества и профессионализм. Если та или иная культура не принимает в качестве ценности личностно-профессиональные особенности, она будет принимать иные ценности, которые, мягко говоря, не вписываются в рамки морали и закона. При снижении возвышенного и огрублении норм человеческого общежития возникает дефицит человечности.
Мысль о том, что меркантилизм и культивирование богатства имеют под собой безнравственные основания, весьма банальна. Но в ее продолжении скажем, что общество потребления не только безнравственно, но и беспринципно. Если принципы угрожают материальному достатку, то они перестают быть личными принципами и становятся чем-то ненужным, рудиментарным. Недаром говорят, дружба за деньги — это бизнес, любовь за деньги — это проституция. Причем проституция затрагивает политиков, журналистов, писателей, спортсменов, которые не стесняются продаваться всяким сомнительным силам. «Сегодня корпоративная этика российских журналистов аморальна, судебная власть де-факто подконтрольна исполнительной, большой бизнес, подчиняющийся исполнительной власти, служит основным орудием управления СМИ. В своей деятельности они ориентируются только на вульгарный потребительский спрос и указания власти, поступающие опосредованно»[34]. Потребкульт десакрализирует все ценности, ранее считавшиеся святыми. Взамен их сакральности он предлагает им цену. Ценности в таком целерациональном (в отличие от ценностнорационального) обществе допустимы только в том случае, если они служат экономическим утилитарным интересам. Вместо утверждения общественно необходимых здоровых ценностных ориентаций, фундированных на нравственности и взаимопомощи, утверждается «философия барыша», согласно которой необходимо для себя любимого как можно больше урвать с других людей. Соответственно, потребление, уничтожая нормальные общечеловеческие ценности, разрушает нормальные связи между людьми, а значит, и разрушает стабильность. А желания, которые оно обещает удовлетворить, порождены в том числе желанием стабильности. Парадокс.
С. Кинг в романе «Нужные вещи» наглядно продемонстрировал готовность человека преодолеть ту грань, которая отделяет его как существо гуманное от своего антипода. В романе, конечно, гипертрофированно, но все же мастерски, показано, что люди ради приобретения приглянувшегося им предмета могут быть готовы заплатить не только деньгами, но и нормами человеческого сосуществования. Главный герой, открыв небольшой магазин, продает товары по бросовой цене, но, помимо денег, просит каждого покупателя оказать ему услугу, представляющую собой нанесение вреда кому-то из соседей. Все, кто зашел в его магазин, с радостью идут торговцу «на помощь». В результате из-за скромной торговой деятельности были поссорены между собой все жители городка. При разговоре о безнравственности потребительских тенденций вспоминается фильм «Изображая жертву», в котором приведен очень яркий по сути и манере преподнесения монолог следователя, отчаявшегося от окружающего его нормативного релятивизма. Ранее спокойный и хладнокровный сотрудник милиции буквально взорвался от негодования после допроса преступника, совершившего тяжкое преступление без всякого серьезного мотива, и при обильном использовании ненормативной лексики очень емко и кратко описал происходящие в обществе процессы декультуризации и нравственного падения. Это монолог является не просто эскалацией сюжетного действия, а ядром фильма, основном моментом, к которому медленно но верно ведется киноповествование.
Все меньше и меньше наблюдается позитивная консолидация молодежи, основанная на солидарности, сотрудничестве и руководстве общественно-полезными целями. А вот негативная консолидация (криминальность) в постперестроечное время начала стремительно развиваться. «Положительные» объединения требуют от инициаторов проявить больше усилий, чем «отрицательные»; последним значительно легче возникнуть. Сейчас есть, конечно, много молодежных объединений, но основным мотивом вступления в них является не желание быть полезным обществу, а стремление все к той же карьере; объединения, с помощью которых осуществляется позитивная консолидация, чаще всего рассматриваются в качестве социального лифта. Процессы молодежной самоорганизации либо имитируются, либо навязываются извне. В.В. Петухов пишет следующее про современную молодежь. «Налицо явная нехватка «солидаризма», способности действовать ради «общего блага», а также — гипертрофированная ориентация на частную жизнь, понимание свободы исключительно как свободы индивидуального выбора — где работать, как работать, где жить, куда ездить отдыхать, с кем дружить, о чем говорить, какие фильмы смотреть, участвовать или нет в политической жизни и т. п.»[35]. Хотя вопрос об участии или неучастии в политической жизни здесь представляется неуместным; тем более автор в этой же статье говорит, что всего 2–3 % молодых людей указывают в социологических опросах о своем участии в митингах и демонстрациях, о работе в политических партиях и молодежных политических объединениях. Этот вопрос молодежь обычно не ставит перед собой, поскольку он представляется неактуальным, а в случае его «нечаянной» постановки в большинстве случаев назревает однозначный отрицательный ответ.
В потребительском обществе прослеживается все меньшая социальная консолидированность. Профсоюзное движение существует лишь формально. Политическая оппозиция настолько разобщена, что инвестировать чаяния в ее силу и мощь не представляется возможным. Конечно, нет такой формы идентичности — оппозиционер. Оппозиция — это мозаика разных структур, дискурсов, точек зрения и действий, которые не просто отличны друг от друга, а зачастую находятся в непримиримых противоречиях, поэтому она априори самоотдалена. Но внутренняя са-моотдаленность оппозиции объясняется не только идейными противоречиями, не только разобщенностью перед избирательной урной. Часто говорят о таком факторе, как фатализм, выражаемый грустными словами «что бы мы ни делали, все равно ничего не получится». Еще один из важных факторов — утрата доверия людей друг к другу, которая не позволяет даже абсолютным единомышленникам сплотиться в единый сильный союз. Это недоверие появилось вследствие потребительской культуры индивидуализма, социал-дарвинистские общественно-фрагментирующие ценности которой вместе с перестройкой стали активно и даже агрессивно внедряться в общественное сознание.
Индивидуализм, деконсолидированность, мещанство, аутореферентность как проявляющиеся на всем общественном поле тенденции имеют связь с осознанием тщетности попыток в коллективных действиях, с разубежденностью в возможности оказывать совместное влияние на глобальные процессы и важные политические решения, с невидимостью связи между коллективной активностью и серьезными изменениями в экономике и политике, с трудностью адаптироваться к возрастающей неопределенности, в общем, с фатализмом, переводящем внимание с коллективистских акцентов на индивидуалистические и вытесняющем из сознания само существование глобальных проблем и архиважных решений. Если люди повергли себя в фатализм, они не смогут консолидироваться против чего-то или за что-то, поскольку коллективное действие как проявление волевой решительности предполагает в качестве своей основы определенное выраженное в идеологии стремление, очищенное от сомнений разума, а когда стремления нет, действию вырасти не из чего. Если они принимают невозможность влиять на определяющие их жизнь события за истину, она становится истиной. Людей уже не интересуют глобальные проекты, ставящие перед собой в качестве цели не столько избавление от насущных проблем, сколько построение абстрактного общества будущего в долгосрочной временной перспективе. Для реализации такого проекта необходимо коллективное действие, которое отсутствует не только потому, что люди потеряли веру в коллективизм, но и потому, что они потеряли веру в проекты. Консолидация на основе общих интересов не представляется методом реализации собственных интересов, а скорее наоборот, видится как условие ограничения индивидуальной свободы и потери личного времени. Если исходить из схемы, согласно которой мотивация зависит от умножения ожидания результата на его ценность (формула М = О × Ц), следует сказать, что при разговорах о консолидации и солидаризации хромает как ожидание, так и ценность, поскольку результат одновременно представляется невозможным по части достижимости и не сильно нужным или просто при его достижении цель не оправдает средств, и он окажется слишком дорогостоящим, а значит, и не ценным. Соответственно, мотивации к коллективности нет. Публичное пространство заполняется не общественным и политическим дискурсом, а дискурсом интимности личной жизни и мелких бытовых забот.
Наблюдаемые сегодня во всех сферах социальной жизни непредсказуемость дальнейшего вектора общественного движения и зыбкость социальных норм только укрепляют фатализм, недоверие, безответственность, агрессию, спад интереса к политике и вообще всему надповседневному, а также убеждение в бесполезности как самостоятельной, так и коллективной борьбы за улучшение тех или иных аспектов мира, политики и общества. В известном трудно найти методы борьбы с неизвестным, с неопределенностью. Эта непредсказуемость, поливариантность и мощь изменений мирового масштаба выражается в глобальных процессах типа
— утрачивания государствами своей суверенности и политической силы в наступившую эпоху глобализации с характерными для нее централизацией и мобильностью огромных капиталов и их влияния на политические решения во многих странах;
— экологических бедствий;
— международного терроризма, который, руководствуясь непонятной логикой, не оставляет шансов предугадать, по кому он ударит в следующий раз;
— вседозволенности и гиперразвития транснациональных корпораций, часть которых обладает бюджетом, значительно превышающим бюджет некоторых стран (и потому влияние правительств этих стран ослабевает);
— банального давления национальной власти на общество и ее волюнтаризма;
— падения влияния институтов, призванных отстаивать права трудящихся;
— роста нищеты;
— неспособности экономических, политических и социальных наук давать точные предсказания, которые утвердили бы определенность или хотя бы вероятностность дальнейшего состояния общества и сфер человеческой деятельности;
— быстрой смены конъюнктуры рынка, требований и условий труда, которые бьют по идее долгосрочности, стабильности жизни и упроченности личных обязательств;
— увеличения количества мигрантов, которые далеко не всегда считаются с нормами жизни и даже законами принимающей их страны;
— роста преступности.
Список проявляемых сегодня и кажущихся неуправляемыми масштабных процессов можно продолжать. С такими мощными тенденциями отдельный человек не способен совладать, и у него возникает мнение, что они неуправляемы в принципе или по крайней мере неуправляемы снизу, а потому борьба с ними есть борьба с ветряными мельницами. Возникает замкнутый круг: люди своим бездействием и невмешательством упрочивают рост нестабильности, а последний, в свою очередь, укрепляет индивидуапизм и деконсолидацию.
Для психики более комфортен примерно следующий (конечно, условно сформулированный) принцип: если «мы» не можем влиять на происходящее, то проще отказаться как от понятия «мы» и лежащей в основе «мы» солидарности, так и от серьезности происходящих в стране или в мире тенденций; вместо «мы» и глобальных процессов есть «я» и мои личные интересы. Таким образом, происходит вытеснение общественного из реальности. Сознание становится не реалистическим, а аутистическим, проявляющим эскапизм и предпочитающим скрываться под панцирем индивидуализма. Общественное и индивидуальное становятся удаленными друг от друга так, что индивидуальное остается здесь, а общественное уходит в некую недосягаемую область, отдаленность которой обесценивает попытки дотянуться до нее и, соответственно, нивелирует смысл и полезность этой области для реальной жизни с ее прагматизмом. Людей волнует не глобальная проблематика, а лишь те проблемы, которые становятся на их личном пути и служат барьером для реализации их личных целей. Редко люди задумываются о том, что эти проблемы зачастую имеют глубокие корни, растущие не из местечкового локального аспекта, а из функционирования масштабных систем, и потому выбрасывают накопленную агрессию совсем не на тот объект, который заслуживает справедливого гнева. Скорее всего, именно поэтому массы придают большее значение сводкам о местечковой преступности, а сообщения о коррумпированности какого-нибудь крупного чиновника привлекают меньше внимания; возможно, не возникает понимания того, как наказание крупного государственного функционера, жертвы которого неконкретны и анонимны, может обезопасить людей от гнетущей повседневности, вызванной угрозой обычной уличной преступности, способной обратиться против каждого и избрать для себя абсолютно конкретную жертву.
Хоть и существует соотношение между личными и общественными проблемами, в ментальной сфере не остается места для их соотнесения. На площади, где призваны собираться люди для решения важных социальных проблем, вместо сбора людей, соотносящих частное и общественное, теперь господствуют ток-шоу, которые на всю область публичного транслируют сведения о личной жизни звезд, разговоры об интимной жизни обычных людей — своих персонажей, — обсуждения прочих проблем быта, не выходящих за рамки быта, за рамки частного. Тем самым подобная дискурсивная практика не соединяет частное и общественное, а частное подает под видом общественного, совершает тотальную подмену, а потому только разъединяет эти две сферы, уничтожает общественное и за счет этого отдает максимально широкое пространство на откуп частного. Подмена серьезного «откровениями» пустословия одерживает верх и учит людей отдаваться самим себе, замыкаться в своих личных проблемах. Но она не учит объединяться, смотреть за линию горизонта, видеть за деревьями лес, мыслить о значительно более глобальном и серьезном, чем правильный выбор стирального порошка в гипермаркете. Прислушаемся к мнению 3. Баумана: «общественное» колонизируется «частным» в виде деградации публичного интереса до любопытства к частной жизни общественных деятелей, искусство жить в обществе сводится к копанию в чужом белье и публичным интимным излияниям, а общественные проблемы, не поддающиеся подобной редукции, вообще перестают быть понятными. В эпоху глобализации социальные институты теряют силу, что ведет к упрочиванию общего интереса к частному, а нежелание людей переводить интерес в плоскость общественного облегчает работу тех глобальных сил, которые заинтересованы в бессилии государств и общественных институтов[36]. Поэтому массовый интерес тянется не к сложным и действительно важным общественным проблемам, а ко всяким бессодержательным сенсационным «открытиям», касающимся, например, личной жизни звезд шоу-бизнеса, к тем явлениям, которые по уровню действительной актуальности и общественной значимости сравнимы чуть ли не с пылинкой на ветру. В индивидуализированном обществе закономерна тенденция подмены серьезных социальных проблем и задач личными интересами.
Неудивительно, что масштабные системы социального жизнеустройства представляются большинству людей практически невидимыми, а потому непостижимыми и недостойными пристального внимания. Большие проекты сменились на микроскопические, ограниченные частными интересами. Попытки преобразования мира сменились на стремление оградиться от мира и его угроз, на абсолютизацию проекта частного мирка. Люди все меньше принимают всерьез обещания политических лидеров и активистов общественных движений, ибо горький опыт научил неверию политике. Они обычно объединяются с политическими деятелями не благодаря своей вере в их лозунги и проекты, а благодаря импульсу найти влиятельную поддержку для решения своих индивидуальных проблем. Поэтому объединяться предпочитают с сильными политическими акторами, которые путем нарастающей поддержки увеличивают свою силу, а также и отправляемое влияние на общество в первую очередь в своих, а не в общественных, интересах. Если раньше нонконформизм протестовал против доминирования общественного над частным, против государственно санкционированного давления на личность, то сейчас его функцией становится не только сопротивление давлению на личность сильных экономических и политических акторов, но и гегемонизму частного, индивидуального и обывательского над общественным.
Индивидуализм следует понимать не как проявление независимости и самодетерминированности, не как освобождение от некоей нивелирующей личность предопределенности, а скорее как проявление эгоизма и меркантильности в соответствии с изоляционистским принципом «моя хата с краю». Индивидуализм — внегласно принятое обеими сторонами поддержание дистанции при минимизации взаимодействия. Человек есть микрокосм не в качестве индивида, а в качестве субъекта. Индивидуализм — производное от индивида как сугубо биологического существа, не выражающего никаких субъектных и гражданских качеств. Именно индивидуализм, а не субъективизм как проявление осознанной самодетерминации и гражданской позиции, является основой потребительства, которое разрушает нормальные человеческие связи, солидарные проявления гражданственности и разделяет людей на «неделимые атомы», проявляющие друг к другу в основном экономический интерес. Неудивительно, что волна потребительства хлынула в нашу страну именно после перехода России с околокоммунисгического уклада к околокапиталистическому, к социал-дарвинистскому. В последние годы, начиная сразу после перестройки, среди молодежи заметны меркантильный индивидуализм и утрата солидарности, повлекшие за собой атомизацию и нарушение коллективных связей. Установки на личную выгоду и потребительство стали реакцией на внедрение рыночных (или квазирыночных) принципов в экономику[37]. Укрепление меркантилизма наблюдается не только среди молодежи, а становится общесоциальным принципом. В обществе, в котором укоренены ценности стяжательства, эгоизма, алчности, личной выгоды (в том числе за счет других людей), индивидуализма и обладания мало кто хочет жить согласно ценностям солидарности. Во-первых, в таком окружении становится крайне проблематично выжить и чего-то добиться с помощью социально утверждающих ценностей. Во-вторых, такой человек представляется другим в качестве аутсайдера, маргинала, каковым быть почти никто не желает, то есть по-настоящему человечные общественно созидающие ценностные ориентации получают статус пороков, достойных осмеяния. Для избегания риска стать отверженным каждый приспосабливается к большинству и тем самым множит потребительские стратегемы. Парадокс заключается в том, что при господстве индивидуализма каждый такой приспособленец к большинству антагонистичен этому большинству и себе подобным.
Крысы считаются одними из самых социальных животных. Основа их живучести заключена в их социальной сплоченности. Их сообщество, можно сказать, напоминает единый организм, в котором нет эгоистического индивидуализма. Над крысами были проведены эксперименты, цель которых — разрушение социальных связей путем внедрения безнравственности. Сильная крупная особь долго морится голодом, после чего к ней в клетку бросают мертвую крысу. После некоторого замешательства она все-таки пожирает тело своего собрата. Потом в клетку попадает еле живая особь, и первая ее также съедает, руководствуясь рациональной позицией «она все равно умрет, а я должна выжить». И когда в клетку попадает крысенок, наша особь, нравственность которой уже расшатана двумя первыми инцидентами, поедает этого крысенка, следуя принципу «выживает сильнейший». В общем, уровень безнравственности с каждым новым разом повышался, и отношение крысы к своим соотечественникам существенно изменилось. Она перестала колебаться — жрать или не жрать собрата — и ее действия наполнились решительностью. Затем ее выпустили в родное крысиное сообщество. Но это уже была другая крыса, у которой прежнее нравственное отношение к собратьям сменилось на логику эгоизма. Но окружающие особи не знали об этом и продолжали ей доверять как своей. Вскоре эта крыса вместо поиска пищи для себя и для сообщества стала воспринимать представителей данного сообщества в качестве пищи. И если предположить, что все члены общества станут такими же порочными, как этот «крысиный король», если его стиль жизни впоследствии станет принятым общественным большинством, само общество превратится в поле битвы всех против всех и в конце концов полностью разрушится. Инверсия, при которой на место высшего приходит низшее, сделает свое дело. Конечная стадия разделения общества — превращение его в пудру, когда мельче уже некуда, когда ничто никого не связывает, когда все индивидуалисты, когда все крысиные короли. Общество разделяется на множество точек, на множество пространственных единиц и тем самым перестает быть антропной вселенной, теряет свою пространственность, выраженную в совместности бытия. Понижается уровень связности между индивидом и обществом, между поколениями, между индивидами и т. д. Это очень напоминает гипер(пост)капиталистическое потребительское общество, общество без тормозов, где нравственность как социальный фундамент сменилась утилитарной и прагматичной логикой. В потребительском обществе «своих» нет. Там есть борьба за выживание всех против всех, способствующая дальнейшей дегуманизации социума. Там маргинальными признаются разные формы зависимости людей друг от друга (в том числе инвалидов от своих близких и от государства), хотя именно взаимозависимость есть основа нравственности, и осознание человеком того, что он своими действиями причиняет кому-то вред или приносит добро, выступает глубоко нравственным явлением. В таком обществе разрушается основа общественного сохранения, а социальный опыт сменяется энтропией. Утилитаризм охватывает не только людей, но и мир в целом. Любые проблема мира, в том числе и экологическая, вызывают у прагматика-гедониста вопрос «Что я от этого получу?», который демонстрирует верх индивидуализма и меркантилизма. Принцип апологетов либерализма и потребления «спасись сам — и тысячи спасутся вокруг тебя» не работает. Индивидуализм самоспасения не приводит к спасению других, а потому представляет собой тупиковый путь. В нем нет ничего, что работало бы на сплочение социума. Поэтому сам термин «общество потребления» весьма условен.
Понятия «общество» и «потребление» несовместимы (как и понятия «культура» и «потребление»), поскольку потребительские тенденции разрушают общество, трансформируют его просто в совокупность предельно индивидуализированных атомарных единиц, в планктонообразную, дрейфующую в океане созданного им же бессмыслия. Общество является продуктом человека, равно как и человек есть общественный продукт. Если принять во внимание эту формулу, апеллирующую к замкнутости взаимоотношений общества и человека, к их тесной сопричастности, мы придем к мнению, что социальная атомизация, создаваемая потребительством, нивелирует данную формулу, разрывает ее, не давая возможности человеку создавать общество, а не-созданное общество, соответственно, лишается права создавать человека. Совокупность потребительски ориентированные индивидов, утратившая общественное, утратившая необходимые для связи друг с другом скрепы, способна продуцировать индивидов «по образу и подобию своему» — таких же асоциальных и также ориентированных на потребление. Асоциальность и индивидуализм потребительства выступают объединяющими индивидов ценностями, но не скрепляющими их между собой. Социологам впору задуматься, не утратила ли их наука в современных условиях объект своего изучения, не исчез ли он с появлением новой общественной формации, которая нивелирует общественное и в которой господствует индивид — «не-общественный человек». Интересно мнение 3. Баумана, говорящего, что «общество» — это уловка, обозначающая согласие и принятие определенных ценностей, а также сила, придающая статус величественности согласованному и принятому; если принятое безумно, но принято всеми, оно перестает быть безумным[38]. Потребительское общество — это мир одинокого в своей индивидуальности консьюмера-солипсиста. Также есть смысл культурологам, вектор исследовательского интереса которых направлен на осмысление современных культурных тенденций, задуматься о прочности позиций рассматриваемого объекта, так как культуру потребления следует считать культурой бескультурья.
Один из самых ярких примеров культивирования десолидаризации и абсолютной безнравственности — телепередача «Слабое звено», в которой вовлеченные в интеллектуальную игру люди, являющиеся друг для друга конкурентами, методом голосования удаляют не столько тех, кто проявил интеллектуальную поверхностность и не смог ответить на поставленные вопросы, сколько, наоборот, наиболее сильных, а потому и наиболее конкурентоспособных. В результате победителем выходит далеко не самый умный и достойный, а зачастую даже самый посредственный. Он уносит деньги, заработанные не только собой, а всей командой, что утверждает идеологический концепт об отношении к команде и к каждому игроку не только как к конкурентам, но и как к средствам своего выигрыша. Победитель, как правило, отличился не большим именно своим выигрышем, но все равно стал победителем. Во время игры он кооперируется с другими участниками для выталкивания самых сильных, после чего старается перехитрить тех, с кем временно объединился. Объединение, дружба выступают здесь временными сугубо инструментальными явлениями, функциями, от которых следует отказаться, когда они сделали свое дело. Главный смысл игры не ответить на максимальное количество вопросов, не проявить интеллектуальную глубину, а всего лишь суметь исключить тех, кто это сделал, вытеснить других, пока они не вытеснили его. Такие передачи, ставя участника в условия борьбы всех против всех и переворачивая вверх дном ценность справедливости, восхваляют не просто принцип конкуренции, а принцип жесточайшей конкуренции, основанной на несправедливости и эгоизме. Они самими правилами игры предлагают путь победы любой ценой, «хождение по головам» в качестве единственно верного вектора движения и создают модель реальности, в которой сильное звено неким «волшебным», противоречащем нормам честности и справедливости способом переводится в ранг слабого. Можно сказать, участники игры своим поведением не только создают некую образцовую модель поведения для зрителя, предлагают ему переступить моральные «барьеры» и воспользоваться проверенным (а возможно, и единственно верным) способом достижения успеха, но и отражают уже сформировавшийся в индивидуалистическом обществе поведенческий паттерн. Соответственно, зрителю представлен образец и зеркальное отражение самого себя, что подчеркивает жанр подобных шоу, выраженный в слове «реалити».
Релятивизация ценностей во многом обязана пресловутому идеалу игры. Причем необязательно в прямом смысле «живи, играя!», но и в более абстрактном. Имеется в виду игра ценностями. Многие современные масскультурные бренды лоббируют ценности, прямо противоположные тем, в духе которых воспитывались прошлые поколения. Естественно, нельзя сказать, что «прошлые» ценностные ориентации абсолютно все без исключения заслуживали высокого аксиологического статуса, но тем не менее общая их картина была более человечной, чем нынешняя. Так, в основу многих современных брендов закладываются идеи, противоположные ценностям упорства и труда. Если раньше образ жизни по принципу «без труда не выловишь рыбку из пруда» был достаточно хорошо укреплен в общественном сознании, то теперь труд (особенно честный) скорее высмеивается. Цепко хватаясь за потребителя, бренды отвоевывают аудиторию как друг у друга, так и у семьи, школы и вуза[39].
Сейчас в России получили колоссальную популярность такие фильмы, как «Бригада», где в лице обаятельного бандита романтизируется не честный труд, а преступность и образ жизни «братков». В фильме воспевается дружба, но она находит свое выражение в криминальном контексте, который ее возвышает над моральным ценностным полем. В других культовых фильмах (например, «Брат», «Брат 2») восхваляется героизм, но ложный и неправильный, ставящий личную силу выше закона и ведущий к размыванию в общественном сознании настоящего образа героя. У подростков, с интересом смотрящих эти фильмы, складывается соответствующее убеждение о том, как следует жить в этом мире. Французский фильм «Враг государства № 1», отлично снятый и отлично показавший жизненный путь известного бандита, продемонстрировал главного героя в качестве персонажа, который просто обязан привлекать к себе зрительские симпатии. Если и можно снимать фильмы не про героев, а про антигероев, не стоит превращать их антигероизм в героизм. Это — преступление против нравственности. В соответствующей кинематографии главными персонажами выступают бесчестные люди; их аморализм позволяет им достигать верхов на социальной лестнице, в то время как честные рабочие показаны в виде бедных и неудачливых персонажей, достойных только осмеяния. Конечно, нельзя сказать так про все фильмы, снимаемые в последние десятилетия, но, как правило, произведения, где поднимаются темы любви к родине, чести, духовности, в меньшей степени рекламируются и получают меньшую популярность, существуя скорее только для поддержания принципа разнообразия.
Проблема бескультуризации коренится не только в кино и музыке, но и находит свое воплощение в ток-шоу, литературе и т. д. Так, широко распространенное телевизионное явление «Дом», «Дом 2», видимо, призвано не только добавлять в жизнь зрителя на время просмотра изюминку отдыха и развлечения, но и разрушать семейные ценности. Трансляция подноготной звезд, их сексуальных похождений, грязи чьей-то личной жизни, основанных на подобной грязи и пошлости ток-шоу — это своего рода взгляд в замочную скважину. Спрос на личные истории, стремление узнать как можно больше о частной жизни знаменитостей, возможно, компенсирует дефицит внутренней полноты самого потребителя, осмысленности его частной жизни. Пожалуй, имеет смысл говорить об особом жанре порнографии.
Многие голливудские кинематографические «произведения», которые скорее стоит относить к культурным эрзацам, не только нашли своих искушенных зрителей, но и закрутили маховик, создали отличный фундамент для появления исконно русского «искусства» подобного типа, который разрушает культуру народа уже не извне, а изнутри. Дети включают телевизор и видят совсем не то, что можно смотреть детям. А что делает государство? Ничего. Китч не запрещается, а специально тиражируется; запрещается только детская порнография и критика действий правительства. Между тем в здоровом обществе СМИ должны тиражировать здоровый образ человека — инициативного, образованного, высококвалифицированного, любящего родину, законопослушного, нравственного и успешного в силу именно этих, а не противоположных им качеств.
Переходя из сферы реальности в сферу художественного творчества, обратим внимание на знаменитые романы С. Кинга «Бегущий человек» и «Долгая прогулка», в которых показан развлекательный аспект возможного будущего общества, который не сравнится ни с безнравственностью современных телепередач, ни даже с жестокостью популярных в античном мире гладиаторских боев и корриды. В этих романах фигурирует герой, за которым следят миллионы и который не в виртуальном мире, а во вполне реальном рискует собственной жизнью, убивает и умирает ради своего спасения. Если видеошоу современности, показывающие аморализм и насилие, строятся на виртуальности, то здесь весь ужас происходящего, так зачаровывающий зрителей, переносится в настоящий мир, на улицу. Против его демонстрации никто не протестует, а наоборот, его ждут, за ним наблюдают с замиранием в сердце, главному персонажу сопереживают, но это сопереживание не имеет больше связи с нормальными человеческими чувствами, поскольку зритель любит насилие, за которым волнительно наблюдает, ни в коем случае не желает его прекращения и даже не смущается тем, что демонстрируемая игра совсем не игра, а совокупность мучений и рисков главного героя. Его личная трагедия и трагедия окружающих его людей становится для зрителя всего лишь ток-шоу, и она представляется ему именно так как раз вследствие сверхреалистичности происходящего. Если бы персонаж испытывал насилие и проявлял его только на экране, если бы актер был всего лишь актером, он не завораживал бы так сильно. Он порабощает зрителя каким-то патологичным очарованием, притягивает к себе некоей нездоровой харизмой, создает мощный гипнотический эффект именно потому, что не является актером, играющим роль, не вовлеченным ни в какие опасные для себя события, а наоборот, он, окутанный опасностями, играет самого себя. В романе «Бегущий человек» персонаж телешоу вынужден скрываться от любых людей, каждый представляет для него опасность, ибо объявляется премия за его поимку и за его голову. Соответственно, зритель становится участником шоу, его глаза затуманены азартом, а разум — тотальным и в высшей мере безнравственным неразумием. Думаю, романы С. Кинга представляют собой пусть гипертрофированное, но все же отражение существующего сегодня индивидуализированного общества и даже неявный прогноз худшего варианта социальной реальности будущего, где удовольствие зрителя будет зависеть от лицезрения не костюмированного сценического, а от самого реального насилия.
В массовом сознании часто связывают термины «консьюмер» и «буржуй», но их отождествление в корне неправильно. Буржуазия как общеупотребительное понятие давно имеет негативную коннотацию. На самом деле буржуазия — это предпринимательская прослойка, которая, конечно, эксплуатировала низшие классы, но вместе с тем отличалась особым трудолюбием и стремлением вложить каждую копейку в производство. Консьюмтариату же присущи противоположные качества.
«Идейный» потребитель не захочет работать вахтером, техничкой, врачом и т. д. Парадоксально то, что адепты потребительства сами не хотят заниматься производством (недаром шопинг многие воспринимают как вид деятельности, альтернативный труду), но при этом испытывают в нем потребность, поскольку потреблению без производства не обойтись. Однако за низкооплачиваемую «черную» работу почти с радостью хватаются выходцы из бедных стран и прочие эмигранты — трудолюбивые, мало потребляющие, с низкими запросами. В итоге территориальный этнос перекладывает «черную», но все же необходимую для общества работу на эмигрантов, без которых уже обленившийся социум жить не может. Однако эмигранты, проживая на территории чужой страны, не всегда считаются с культурными устоями доминирующей национальной прослойки. Так, некоторые из мусульман проявляют культурный изоляционизм и не приемлют культурных ценностей русских, а часть из них считают последних неверными. Образ жизни определенных групп эмигрантов носит законсервированный субкультурный характер, которому свойственно неприятие русской культуры и неуважение к традициям и жизненным нормам коренного этноса. В России возможно серьезное изменение общественной структуры из-за сосуществования таких факторов, как отрицательный естественный прирост населения и демографический прирост за счет миграции; при убыли русских вероятен приток мигрантов, и Россия из страны русских рискует превратиться в страну без русских. Следовательно, в обществе, готовом принять в свое лоно всякого, кто согласен «работать за еду», зреют гроздья гнева, которым для выплеска злости на эксплуататоров необходим только численный рост, кстати, с лихвой осуществляемый в том числе посредством государственной политики. А если учесть вполне вероятную возможность природных катастроф, которыми обглоданная планета отреагирует на «человеческий фактор», в слабую Россию может хлынуть целая волна обездоленных народов, которых природные катаклизмы сильно тряхнут[40]. И ясно, чего от этого стоит ожидать в будущем. Культура и так далеко не в лучшем виде, система образования «хромает», да еще перспектива конфликтности на межкультурном уровне говорит о своем приближении.
Сегодня и так достаточно большой миграционный поток очень слабо контролируется. В результате притока рабочей силы из других стран происходит сокращение рынка труда, снижение уровня заработной платы коренного населения, ущемление трудовых прав российских граждан, рост безработицы, нарушение этнического баланса населения, ухудшение криминогенной и санитарно-эпидемиологической обстановки[41]. Особого внимания заслуживает то, что эмигрантами совершается множество преступлений: изнасилования, торговля наркотиками, убийства, грабежи и т. д. Если эти мигранты еще и активно размножаются в чужой стране, они тем самым рождают общественную маргинализацию. Так, дети этих мигрантов идеологически интегрируются в господствующую потребительскую культуру, а их родители не могут заработать столько денег, чтобы данная интеграция произошла не только идеологически, но и фактически. Выполнять ту же работу, что их родители, дети не хотят. Уровень притязаний мигрантских детей возрастает, а их материальный достаток вступает в противоречие с притязаниями. В таком случае они пополняют уличные банды и множат преступность. То же самое следует сказать и про подростков, относящихся к коренному этносу, которые хотят, но не могут интегрироваться в соблазнительное потребительство; последнее размывает границы легитимного поведения и вносит неясность в их репрезентацию. Когда в стране существует не одна из этих групп, а обе, преступность растет благодаря как тем, так и другим. Когда готовых работать за еду мигрантов становится мало, когда их притязания возрастают, стране становится необходимо завозить новое поколение еще пока не соблазненных потребительством мигрантов для «черной» работы, которое, в свою очередь, поспособствует усилению описываемой тенденции, связанной с их детьми. Круг замыкается.
Как мировая корпоратократия, экономически закабаляющая страны третьего мира и вынуждающая их население искать труд за границей, так и сами обездоленные мигранты являются номадическими единицами. Между этими принципиально различными по статусу группами находится коренное население тех или иных принимающих поток эмигрантов стран. Если для первых пространство утратило всякое значение, перестало быть хотя бы минимальным барьером, то для вторых его преодоление затруднительно, но неизбежно. Для одних номадичность — проявление безграничной свободы. Для других номадичность — вынужденная мера против голодной смерти. Одним она дает возможность дематериализовываться, преодолевать любые препятствия и олицетворять собой анонимную мировую власть. Для иных она символизирует невозможность приспособить к своим нуждам родную землю. Одни с радостью летают первым классом. Другие, преисполненные раздражением и недовольством, вынуждены зачастую путешествовать тайком, нелегально и совсем не на тех транспортных средствах, на которых проявляют свою мобильность люди «первого класса». Локальность — признак закабаления, связанности по рукам и ногам и беспомощности. Но и понятие мобильности имеет различный и даже противоположный смысл для находящихся у подножия и для восседающих на вершине новой иерархической системы. Вероятно, среди коренного населения, сжатого номадичными мигрантами и экстерриториальным капиталом, будет возрастать ненависть как к корпоратократии за ее вмешательство в их экономику, так и — в особенности — к пришлым людям, живущим на чужой земле и следующим своим законам и правилам. Так что неудивительны вспышки национализма, кризис мультикультурализма и ряд межстрановых конфликтов. Глобализация, характеризующая себя сломом последних барьеров для движения глобального капитала, способна показать свою другую сторону, изнанку, в соответствии с которой возникнут новые барьеры для мигрантов «низшего класса» — национализм, ксенофобия, законы о миграции и прочие методы сдерживания наплыва дешевой рабочей силы.
В общем, все это ведет к еще большему углублению кризиса, охватывающего коренное население, и особенно усугубляет положение молодежи, формируя антистимулы для создания семьи и рождения детей. Мигранты ведь не только занимают рабочие места, не пользующиеся популярностью у местного населения, а своим присутствием создают условия, при которых работодатели скорее возьмут неприхотливых пришлых работников, чем местных. В том числе поэтому — из-за существования дешевой рабочей силы, а не только из-за статусной непрестижности — эти места не пользуются особым спросом у нормальной, а не потребительски ориентированной прослойки общества. За прекращением потока миграции и, соответственно, исчезновением создаваемой ею конкуренции последовало бы снижение безработицы среди коренных жителей и увеличение заработных плат местным рабочим, у которых уровень квалификации в основном выше, чем у мигрантов. Но этого прекращения не предвидится. Пока государство и работодатели заинтересованы в дешевой и бесправной рабочей силе, обеспечивающей экономию на социальной защите и снижение производственных издержек, существуют ниши для трудоустройства эмигрантов, в том числе незаконного. Другим весомым фактором наличия этих ниш является неблагополучная экономическая ситуация в странах исхода мигрантов, заставляющая их искать заработки за рубежом. Необходима защита национального рынка труда от бесконтрольного притока дешевой рабочей силы и усиление контроля за нелегальными мигрантами.
В результате молодежь условно делится на два класса, которые разделяет огромный разрыв в доходах: 1) консьюмеры, так называемая «золотая молодежь»; 2) малообеспеченное и даже бедное население. Самое примечательное то, что как первые, так и вторые не заинтересованы в семейной жизни и в рождении детей, что обязательно скажется на состоянии семейных ценностей в будущем и на демографическом развитии страны. Первых потребительская культура отвращает от ценностей семьи, а вторых — малообеспеченное положение. Конечно, разрыв в доходах выступает следствием не только массового распространения потребительства и недостаточной эффективности управления миграционными процессами рабочей силы, но и неэффективности государственной политики в целом и роста коррупции в среде государственных служащих разного ранга. Но и культура потребления, вместе с тем, играет свою роль в увеличении коэффициента Джини.
Потребительство и гедонизм работают на сокращение рождаемости; консьюмеризм не приемлет семейных ценностей, а придерживается индивидуализма, согласно которому жить надо в кайф и жить для себя, а не для семьи или детей. И даже в странах с высоким уровнем дохода населения, но в которых господствуют потребительские ценности, наблюдается демографический спад, поскольку потребительская культура делает свое дело даже там, где у людей есть материальная возможность обеспечивать детей. Поэтому стоит согласиться с утверждением А. Никонова о том, что если в прежние века регулятором рождаемости были эпидемии чумы и других болезней, то сегодня этим регулятором выступает приобретенный за счет развития техники и технологий комфорт, который декларирует жизнь для себя, а не для своих детей. Ранее зрелость и самостоятельность наступала годам к 16-ти, а сегодня она и в 30 может не наступить, что объясняется не только потребительскими тенденциями, но и спецификой информационной цивилизации, в которой от каждого специалиста требуется постоянно обновлять свои знания для того, чтобы идти параллельно развитию технологий; постоянно обучаясь, он испытывает дефицит времени на многое другое, в том числе и на семью. Так что закономерна демографическая стабилизация, выраженная в нулевом приросте, именно для развитых стран, наполненных комфортом[42]. Не согласимся только с положительной оценкой данных тенденций, высказываемой Никоновым. Тем более сейчас, в посткризисное время, уровень комфорта падает также и на Западе. Ячейкой общества всегда являлась семья, но теперь, с постепенной утратой социальности, ее легитимность ставится под сомнение, несмотря на то, что лишь семья способна быть общественной ячейкой; один человек, в отличие от семьи, не способен продолжать род, а потому необходим социальный скреп в виде семьи.
Неудивительно, что процесс феминизации, выраженный в появлении культа бизнес-леди, начался и стал развиваться именно на Западе. Бизнес-леди отличается от мужчины, пожалуй, только первичными половыми признаками. Во всем же остальном она с ним сходна. На первом месте у нее работа и заработок, ей свойственны такие качества, как (традиционно мужские) карьеризм, властность и решительность, а во многих случаях склонность к алкоголю и курению. Рождение детей для нее не представляет особой ценности. Культ бизнес-леди появился в лоне феминизма, который стремился уравнять женщин с мужчинами по всем показателям, а где-то и возвысить представительниц слабого пола над их сильными оппонентами. Парадоксально то, что феминизм своими целями по сути дефиминизировал женщину, выхолостил из нее женское и заменил мужским.
Радикальный феминизм выступает уже не за равенство полов, а за господство женщин над мужчинами. Феминистки решительно отрицают тот факт, что большинство женщин предпочитают роль ведомых, они хотят быть в разумных пределах подчиненными мужчинам, так как данное положение обеспечит им защищенность и снимет долю ответственности за принимаемые решения, и это предпочтение абсолютно нормально. Женщины часто сознательно отдают право лидерства мужчинам, что доказано психологами и этологами. И когда феминистки-радикалистки обвиняют этих вполне нормальных женщин в рабском сознании, они тем самым обвиняют их в женскости, и круг замыкается. Ратуя за женщину-лидера, подавляющую мужчин, они ратуют за трансформацию женщины в мужчину. И где тут борьба за женские права? Некоторые радикальные феминистки вообще считают традиционную семью рудиментом, заслуживающим упразднения. Совсем абсурдными выглядят их нападки на сексуальную связь женщины с мужчиной, которая рассматривается как пособничество женщины мужчине-врагу и насильнику по своей природе; следовательно, защищается гомосексуальная связь, то есть лесбиянство. Следовательно, наносится удар по традиционной семье. В феминизме присутствует запал для уничтожения «старых архаичных патриархальных» устоев, то есть семьи, которая радикальными феминистками воспринимается в качестве структуры закабаления женщины. Радикальный феминизм и есть самое наглядное проявление сексизма, вредного для целостности общества. Причем в США он имеет достаточно влиятельное политическое лобби, оказывающее во многих случаях успешное давление на американское законодательство, что повышает статистику осуждения мужчин за несовершенные преступления. Благодаря влиянию феминизма, благодаря принятию кабальных для «изнасиловавших» своих жен мужей законопроектов девальвируется выгода брака для мужчин, мужчин лишают родительских прав, и происходит разрушение семьи. Неполные семьи обычно характеризуются худшим воспитанием детей, чем полные, и рост неполных семей, соответственно, приводит к ухудшению детской и подростковой воспитанности, что, в свою очередь, влечет рост преступности. Так стоит ли разрушать семьи, руководствуясь абсолютно бредовыми, взращенными на почве феминизма, основаниями? Конечно нет. Не желающие заводить семьи феминистки экспортируют это нежелание на других женщин, не понимая действительную социальную ценность семьи и исходящую от такой пропаганды общественную самоубийственность. А изнасилованными предлагается считать любых женщин, которые почувствовали себя психологически или физически избитыми. Просто почувствовали. Именно женское чувствование, а не объективное мужское действие, является неоспоримым критерием.
Глава 3. Храмы потребления, интервенция в детское сознание, шопинг, труд и кредитомания
Интересно обратить внимание на архитектуру храмов потребления — супермаркетов, гипермаркетов и всевозможных гигантских торговых центров. Как правило, в них соединяются в один большой комплекс многочисленные залы, наполненные огромным количеством товаров, рестораны, бары, кинотеатры и т. д. Эти храмы благодаря своей лабиринтообразной архитектуре напоминают ризомность интернет-сети, где с открытием одной страницы вниманию пользователя предлагается еще масса страниц, посвященных искомой (и не только) теме. В гипермаркетах, попадая в один зал, мы видим за ним еще один или даже несколько, которые «приглашают» нас войти. В итоге человеку предлагается не только тот продукт, на покупку которого он был изначально ориентирован, но все многообразие продукции. Наличие в гипермаркетах баров, ресторанов, аттракционов, игровых автоматов и кинотеатров — это как бы попытка психологически приблизить данное место ко многим сферам жизни человека, сделать гипермаркет сверхфункциональным комплексом, где можно не только купить что-то, но постоять за стойкой бара, неторопливо потягивая сок, посмотреть кино, покататься на новых аттракционах всей семьей, оставить ребенка на детской площадке и т. д. Здесь — в этой цитадели впечатлений — можно проводить целый день и даже все свободное время, именно здесь сейчас и протекает лавина свободного времени потребителя. Часто из-за большого размера торгового комплекса выпускается специальный путеводитель по нему, карта, наличие которой является неким критерием, отделяющим просто супермаркет от настоящего потребительского храма.
В контролируемой гиперреальности потребления нет валяющихся на полу пьяных, нищих и попрошаек, что дает проводящим там досуг семьям особое чувство безопасности. Там, где каждая витрина говорит о райской жизни, потребитель чувствует себя намного лучше, чем в домашней обстановке и в подлинной реальности. Там, где для удобства предлагается тележка, которых не было раньше, в магазинах традиционного «старого» типа, потребитель получает возможность перемещать больше товаров, что выступает стимулом для увеличения объема покупок: тележка — это своеобразное предложение катить, а не нести продукты, это одно из изобретений эпохи потребительства. Не менее важным изобретением является тележка для детей, которая позволяет детям чувствовать себя взрослыми, настоящими покупателями, когда они доверху накладывают эти тележки всякими сладостями и заставляют родителей — зачастую прибегая к капризам и истерикам — платить за эту поклажу. Также неудивительно, что интересующие детей товары специально помещают на нижние полки, которые в силу детского роста бросаются в глаза маленьким покупателям. В гипермаркетах весь дизайн, вся архитектура в целом и каждый ее элемент в отдельности приглашает к покупке, и не просто к покупке, а к реализации принципа «купить нужно все».
Стоит обратить внимание на архитектуру не только гипермаркетов в целом, но и покоящихся в них полках с продукцией. Труд маркетологов заключается в том, чтобы повысить покупаемость товаров, предлагаемых тем заведением, в котором маркетологи работают. Продукция на полках раскладывается в определенном порядке. Не совсем нужные и достаточно дорогие товары располагаются обычно в самом начале, чтобы человек заинтересовался ими до того, как дойдет до целевого продукта. Фрукты иногда подсвечивают специальными лампами в соответствии с цветом плодов (обычно оранжевый), тем самым усиливая иллюзию восприятия цвета самих фруктов, что, в силу подчеркнутой яркости, создает еще более соблазняющий эффект. Ценники, предполагающие скидку, обычно отличаются ярким цветом. Рядом с пивом покоятся всякие кириешки, соленые орешки, сушеные кальмары и рыба, которые часто используются в качестве неотъемлемой закуски к пиву; такой ассортимент дает возможность купить все необходимое сразу и в одном месте. Запахи из кулинарного цеха проникают в торговые залы, тем самым формулируя кинестетическое приглашение. В результате человек выносит из гипермаркета несколько ненужных покупок как бы в довесок к нужным.
Эти храмы становятся почти монополистами в век глобализации. Мелкие лавочки не могут предложить клиентам такого ошеломляющего спектра товаров и услуг, и потому они неуклонно теряют конкурентоспособность. Вместе с тем торговля концентрируется в одних точках, а города вследствие изменения их облика крупными торговыми центрами становятся одинаковыми. Мощь торговых центров дает городам товарный вид и этим привлекает туристов. Но в скором времени этой мощью некого будет удивлять, поскольку ни один город не обойдется без гигантов торговли. Города из пространств для личной или общественной творческой активности превращаются в функциональные центры потребления. А так как создание крупных торгово-развлекательных центров играет важную роль для привлечения туристов, руководство каждого из них стремится предложить какую-то «изюминку» для услаждения своих клиентов. Но любую новую выдумку быстро перенимает руководство других комплексов, поскольку все они стремятся превзойти друг друга в размахе и изобретательности. В результате все эти потребительские храмы становятся похожими, почти идентичными.
Некоторые потребительские цитадели открываются с такой помпезностью, которая не была присуща даже открытию самых известных средневековых храмов. Они, а не памятники культуры, считаются достопримечательностью мегаполиса, в котором находятся. И в них люди проводят больше времени, чем в парках, церквях или просто в общении с семьей и детьми.
Сегодня нет необходимости куда-то идти или ехать за покупками. Система сервиса предлагает просто позвонить и сделать заказ. Интернет стал самым глобальным торговым комплексом из всех возможных. Но такой «легкий» вариант устраивает далеко не каждого, поскольку в своей основной массе консьюмеры получают удовольствие от процесса, а не от результата. Им необходим шопинг, походы по магазинам и гипермаркетам, а не только пролистывание рекламных каталогов, предлагающих богатый выбор продукции и возможность ее заказа не вставая с дивана. Часть каталогов даже платно распространяется; человек платит как за получение рекламы, так в дальнейшем и за получение рекламируемого продукта. Хотя в большинстве своем каталоги находятся в свободном доступе и периодически встречаются в почтовых ящиках, магазинах, банках и т. д.
К храмам потребления относятся также бизнес-центры, ночные клубы, казино и т. д. Хорошо, что в России законодательно запретили казино. Однако других храмов потребления и бессмысленного прожигания жизни достаточно много. Пусть уж лучше их будет мало, но зато больше социально полезных учреждений типа больниц, госпиталей, театров, дворцов культуры, музеев.
Важным для нашего анализа представляется проблема направленности рекламы на детей. Сейчас дети приобрели особую покупательскую способность посредством влияния на своих родителей, поэтому они выступают весьма перспективным адресатом рекламных кампаний. Ребенок — это потребитель «три в одном»: он тратит карманные деньги, оказывает влияние на покупки родителей и представляет собой материал для воспитания потребительского поведения в будущем — во взрослой жизни. Дети черпают рекламную информацию из телевидения, Интернета, рекламных щитов, детских журналов и т. д. — всех тех источников, которые пользуются способностью обращаться к адресату напрямую, минуя традиционные социальные институты типа семьи и школы. Дети, пользуясь сотовыми телефонами, ICQ, чатом, электронной почтой, фастфудом, полностью интегрированы в современную потребительскую культуру, которая ориентирована на нетерпеливую жизнь «здесь и сейчас». В общении со сверстниками товары типа новых игрушек и компьютерных игр занимают важное место; как и во «взрослой», в «детской» потребительской культуре они также подчеркивают статус обладателя. Появилась целая индустрия, актуализирующая именно детскую покупательную способность. Медиа-проекты, рекламирующие специально создаваемые для детей продукты питания, DVD, видео-игры, мобильные телефоны, игрушки и т. д., гипнотизируют маленьких покупателей, делая из них настоящих потребителей. Они убеждают детей в том, что смысл жизни заключен в покупках. Продаются не просто рекламируемые продукты, а игрушки, символизирующие персонажей детских мультипликационных фильмов. Так создается привязанность предлагаемой игрушки к полюбившемуся ребенком мультипликационному герою, и эта привязанность играет важную роль в деле продвижения детских продаж. К примеру, после выхода мультфильма «Черепашки-ниндзя» был реализован огромный массив продукции, связанной с этим фильмом; статуэтки героев, комиксы, журналы-раскраски. «Звездные войны» стали тиражироваться не только как фильм, но и как куклы, маски, световые мечи, продукты питания с изображением на упаковках главных героев саги и прочие аксессуары. Чипсы, каши, макароны и другие продукты питания, на упаковках которых красуются полюбившиеся детям герои, представляются маленьким покупателям вкуснее, чем не связанные с мультфильмами продукты, хотя на самом деле они бывают одинаковыми по составу и вкусу.
Авторы книги «Потреблятство» отмечают следующую детскую игру в качестве примера введения детей в наполненную тратами жизнь. Игроки вставляют «кредитные карточки» в пластиковый банкомат и достают игрушечные деньги, которые надо потратить в игрушечном торговом центре. Цель игры — накупить максимальное количество вещей и первым вернуться на автомобильную стоянку. В этой же книге находим пример рекламирующего компьютерную игру слогана: «это куда приятнее, чем застрелить соседскую кошку»[43]. Как говорится, без комментариев. Если первый пример ориентирован на взращивание потребительских ценностей в самом общем смысле, то второй является наглядной иллюстрацией привития детям жестокости.
Реклама также проникает в школьное пространство. В школах западных стран логотипы известных фирм можно увидеть рядом с расписанием занятий, в спортивных залах и даже в самих учебных классах. То есть в местах, которые призваны развивать, воспитывать и образовывать учеников, появляется коммерческая дискурсивная практика, наоборот, стереотипизирующая мышление детей и отправляющая анти-воспитательное воздействие. Хитрые маркетологи не упускают возможности взаимовыгодного сотрудничества с частными школами и вузами. Так, при отсутствии государственного финансирования учебных заведений их руководство не гнушается заключать договоры с рекламными компаниями, которые финансируют учебное заведение, а в обмен размещают в нем рекламу своих товаров. Авторы книги «Потреблятство» приводят следующий вопиющий случай. В 1998 г. из школы в штате Джорджия исключили ученика за то, что он надел футболку с рекламой пепси в День кока-колы в школах. 600 ученикам школы велели надеть футболки с рекламой кока-колы и скандировать это слово на лужайке. Компания, производящая напиток, обещала школе заплатить 500 долларов за проведенную акцию. Как это следует понимать? Грош цена учебным заведениям, которые зарабатывают деньги, синтезируя даваемые детям знания с рекламной информацией. Такой синтез вообще неуместен. Тем более он неуместен, если рекламируемые продукты пользуются негативными отзывами врачей. Читатель может вполне справедливо оправдать школьное руководство, сказав, что ему каким-то образом деньги зарабатывать надо для сохранения своего учебного заведения. Да, это правда, капиталистическая система выстраивается такая, что едва ли позволяет учебным заведениям другими, более приемлемыми, способами, функционировать и развиваться. В этом и заключен порок данной системы. Если маркетологи решают, что реклама имеет право находиться где угодно, такое решение не должно давать им право размещать свою рекламу везде, где только захотят, и уж тем более эксплуатировать детей. Однако рыночная система не сопротивляется таким «креативным» и «инновационным» решениям. Вряд ли эти маркетологи сами хотят, чтобы их дети пользовались рекламируемыми ими продуктами и были подвержены инициируемой ими бомбардировке детского сознания.
Направленная на детскую целевую аудиторию реклама — явление не новое. Однако именно в последние годы она превратилась в настолько мощный по своему «воспитательному» воздействию гипермеханизм, что время, потраченное ребенком на общение с учителями и родителями, уступает времени, проведенному с телевизионными персонажами, которые делают ребенку самые разные коммерческие предложения. В результате количество детских покупок растет; дети все больше и больше акцентируют внимание на выпрашивании у родителей денег для покупки приглянувшихся игрушек. Целенаправленно формируемые и поддерживаемые интересы детей превращаются в прибыль. Психологи и социологи специально наблюдают за детьми, чтобы подобрать коды доступа к их восприятию, чтобы с учетом психологических особенностей возраста определить максимально эффективную конфигурацию цветов, персонажей, словесных сообщений, музыкального сопровождения и т. д. Детское сознание в большей степени подвержено воздействию рекламы, и этой незащищенностью успешно пользуются рекламщики и маркетологи. Ими был открыт детский рынок, заполнивший собой всю культуру детства. Можно сказать, данная культура приобрела рыночную сущность. Рынок не просто превращает ребенка в типичного потребителя, а сеет гроздья конфликтности между детьми и родителями, отдаляет поколения друг от друга, перечеркивает духовную близость между ними, и, соответственно, разрушает основы детско-родительских отношений и семейные ценности. Неудивительно, что дети «передовой» американской нации сейчас не в меньшей степени страдают ожирением, чем их родители, которые подвергались намного меньшему рекламному воздействию, когда сами были детьми. Да и реклама прошлых времен была менее агрессивной и не пыталась взращивать конфликтность между детьми и их родителями, не провоцировала детей на бунт против семейной дисциплины. Теперь же маркетологи принялись изображать родителей в виде ничего не понимающих в приобретениях несовременных людей, носителей атавистических ценностей.
Интернет сегодня используется в качестве инструмента в том числе детской рекламы. Дети регистрируются в различных социальных сетях, оставляют там свои данные. Маркетологи используют эти сети, например, для одновременных поздравлений юных блоггеров с днем рождения и предложением новых игрушек. Или же они просто рассылают интернет-рекламу своих продуктов, которые ориентированы на детей.
Кроме того, дети видят не только направленную непосредственно на них рекламу, а также ту, которая ориентирована на взрослых, но транслируется в дневное время. Например, реклама косметики усиливает детское желание стать взрослым, а сама косметика переходит из сферы взрослости в сферу детства, расширяя предназначенные для нее возрастные рамки. Эротично выглядящие куклы подчеркивают необходимость внешней привлекательности и преждевременно актуализируют сексуальность. Сюда же стоит отнести рекламу сигарет или алкоголя, рекламу содержащих сцены секса или насилия кинофильмов или просто рекламу какого-то товара, где подчеркивается излишняя сексуальность в образе главного героя. В общем, культура потребления охватывает представителей разных возрастов, и ее сущностные особенности не привязаны к какому-то конкретному возрасту.
Соответственно, вырисовывается ряд проблем, связанных с воздействием рекламы на детское сознание. Реклама зачастую предлагает ребенку вещи, которые родители купить не в состоянии, что рождает комплекс неполноценности и приводит к ухудшению отношений с родителями. Демонстрация особенно стройных моделей во многих случаях приводит к занижению самооценки и психическим расстройствам типа анорексии у девочек-подростков. Реклама фастфудов приучает детей к нездоровой пище. Реклама, будучи неотъемлемой тенденцией культуры потребления, навязывает соответствующую идеологию. Дети уже не хотят быть врачами или космонавтами, как в прежние времена. Им больше импонируют успешные в материальном смысле люди — те самые, которых представляет реклама. Ребенок видит на экранах этих счастливых людей и посредством включения механизма подражания присваивает предлагаемые модели поведения и мировоззрение. Вместе с тем психологи и социологи все больше и больше говорят о возрастающих показателях депрессий и суицидальных мыслей у детей и подростков и об увеличении подростковых самоубийств.
Некоторые психологи именуют шопинг одним из видов терапии. Действительно, шопинг дает человеку возможность расслабиться, отвлечься от проблем. Но вместе с тем данный вид «психотерапии», вытягивая человеческое сознание из одного проблемного поля, погружает его в иное. С таким же успехом сектантство можно считать видом терапии, однако в данном случае человека заставляют забыть о проблемах и невзгодах не путем их конструктивного решения, а путем погружения в абсолютно неестественную для нормального здорового человека законсервированную среду. Эта среда в конечном счете если не создаст для него новые проблемы, то есть то, что он в субъективном смысле станет воспринимать в качестве проблем, преобразит его личность так, что она перестанет соответствовать объективным научно обоснованным критериям психического здоровья. Поэтому называть шопинг видом терапии — все равно что предлагать лечить головную боль гильотиной, а наркоманию — алкоголизмом. Да, шопинг, как и многие виды человеческой деятельности, позволяет переориентировать внимание и отвлечься от каких-то неприятных мыслей и переживаний, поэтому он способен нести психокоррекционный заряд. Но всего должно быть в меру, иначе психокоррекция превратится в очередную психозависимость, ибо шопинг вызывает привыкание. К тому же он является очередным суррогатом времяпровождения, заполняющим бессмысленностью экзистенциальную пустоту, которая вместо него могла бы быть заполнена чем-то более социально важным и нужным, надповседневным.
Саму, шопоманию вызывает дискурс телепередач, в которых транслируется удовольствие от шопинга и даже раздаются титулы типа «королева шопинга»; раньше выдавали медали героям войны и ветеранам труда, а теперь вектор сакральных смыслов переориентировался на королев шопинга. В последнее время шопинг приобрел настолько широкую распространенность, что затмил собой такие занятия, как чтение книг и отдых на природе. Точно так же массовая соляризация (посещения соляриев), дающая загар искусственным путем, затмила собой естественный загар и тем самым устранила живое общение с природой и впечатления от этого общения. В сфере психологических зависимостей рейтинг шопинга стал расти; психологи именно в последние годы зафиксировали игроманию и шопинг как проявления растущих в обществе аддикций. Лучшим вариантом психотерапии является не шопинг, а общение с природой. Имеются многочисленные свидетельства, согласно которым естественная среда повышает эмоциональное состояние людей, снижает склонность к агрессии и суицидам, заряжает бодростью и даже способствует отказу от вредных привычек. Природа бесплатно может дать человеку то, чего он пытается достичь с помощью денег. Но она это дает преимущественно тем, кто готов общению с ней.
Современный человек, взращенный в условиях урбанизации, уже не испытывает потребности в общении с природой и обнаруживает в себе на фоне растущих знаний о технических новинках падение знаний о естественном окружающем мире. Он наиболее интегрирован не в биосферу, а в техносферу, в гаджетосферу, которая стала его привычной средой. Ему бывает достаточно насладиться природной красотой, транслируемой по телевидению, или посещением парка. Но «телевизионная природа» не имеет ничего общего с природой как таковой, поскольку телевидение не способно передать целостной чувственной репрезентации предмета трансляции. Тем более передачи о природе — всего лишь модели, смонтированные из огромного количества отснятого материала, и этот монтаж не позволяет увидеть природу такой, какая она есть. Он показывает ее таковой, какой она будет максимально интересно выглядеть с точки зрения падкого на захватывающие сюжеты, а не на естественную эстетику, урбанизированного зрителя. Например, величественный тигр в этих передачах выглядит как неугомонный охотник за своими жертвами, а не как сонный и ленивый представитель семейства кошачьих, каким обычно является. Походы в парк также не отличаются полнотой, поскольку парки — всего лишь островки на континенте урбанизации, где вся флора высажена с учетом не природной гармонии, а субъективно человеческого представления о красоте. Деревья, высаженные в строгом соответствии расстояния по отношению друг к другу, трава, выглядящая намного более зеленой, чем может быть, — все это указывает на управление человеком природой, на реализованную человеком потребность при создании островков естества примешивать к этому естеству свое эстетическое представление и тем самым уже частично лишать естество его сущности, естественности. Парки и скверы передают массу впечатлений о природе, они не позволяют нам забыть о ней и о нашем с ней родстве, они переводят наше внимание с цивилизационного отрыва от естественной реальности на саму эту реальность. Но они также не способны передать своим посетителям всю полноту и гамму ощущений, которые дает природная естественность.
Потребителям свойственно сравнивать себя с представителями других, еще более обеспеченных, групп, которые фактом своей обеспеченности оказывают на них психологическое давление и этим стимулируют наращивать потребительские объемы. В некоторых случаях выбор совершается в пользу более дорогого товара, так как с возрастанием цены привлекательность товара увеличивается; этот эффект известен как эффект Веблена[44]. Иногда консьюмер, маскируя настоящий мотив, оправдывает данный выбор тем, что дороже — значит качественнее, престижнее, вкуснее и т. д.; неудивительно наличие общественного стереотипа, согласно которому качество товара и его цена прямо пропорциональны. Подобные тенденции служат потребности в демонстративной праздности, которая подчеркивает дистанцирование от труда как непопулярного, неблагородного и даже унизительного вида деятельности, а также дистанцирование от групп, вынужденных заниматься трудом. Известна следующая шутка: друзья порицают успешного консьюмера за то, что он купил футболку в обычном магазине за сто рублей, а не зашел в презентабельный бутик и не купил такую же за тысячу.
Всеобщее для современной культуры — это не производство, а потребление[45], что говорит о состоянии социального сознания: место таких ценностей, как любовь к труду заняла расточительность. Труд выступает средством получения потребительских благ для загипнотизированных модой и рекламой людей, которые не имеют достаточного количества финансов для воплощения этого желания, а потому вынуждены трудиться. Другая же часть консьюмеристски настроенной прослойки, наоборот, не испытывает никакого уважения к труду, считая его низким и недостойным занятием, а человека, отмеченного необходимостью труда, предпочитает водворять на социальную периферию, где жизнь представляется менее осмысленной и менее достойной. Труд, равно как приверженность обычаям и высоким социальным идеалам, идеологией потребления подвергается символическому насилию, критикуется и высмеивается. Под трудом здесь понимается прежде всего труд не сам по себе (и уж тем более редко встречаемый «труд в удовольствие»), а тот, который носит вынужденный характер, который необходим в борьбе с бедностью, который маркирует низкий социальный статус рабочего и который обязывает подчиняться трудовой этике и соответствующим предписаниям. Консьюмер стремится к самовоплощению в области, находящейся по ту сторону труда, но по сю сторону вещей. В обществе «психопатологии изобилия» уважением пользуются не трудяги и не нонконформисты-вольнодумцы, а те, кто приближен к политической или экономической элите. Впрочем, политика и экономика настолько связаны и переплетены, что приближенность к политической элите априори знаменует приближенность к экономической, равно как и наоборот. Человеку физического труда, как и свободному мыслителю, в таком обществе места нет. Оно есть для популярного телеведущего, диджея, поп-звезды, пиарщика, имиджмейкера, популиста, разменивающего свободу слова на свободу дорого продавать свое слово. Вузовский преподаватель или создатель настоящих произведений высокого искусства не имеет никаких шансов привлечь к себе внимание, сравнимое с тем, какое притягивают к себе представители этих потреб-профессий. Труд властителя потребительских дум априори не производителен, а во многих случаях даже вреден. Но он занял почетное и престижное место, поскольку все большее значение получают индустрия развлечений и область искусственного создания потребностей. «Правильным стилем жизни оказался воинствующий гедонизм, возведенный в добродетель и доблесть, а национальной идеей России (которую так долго и безуспешно искали специально назначенные президентом Ельциным люди) стали деньги»[46]. Для консьюмера верны антиэтичные принципы «успех любой ценой» и «стыдно быть бедным».
Как в прошлые эпохи наличие свободного времени, досуг был символом роскоши и социального статуса, так и сейчас он является особой ценностью. С точки зрения потребительской культуры потребление должно быть избыточным, выходящим далеко за границы повседневных потребностей. Избыточное потребление — это своеобразное указание на свободу от труда, показатель высокого социального статуса человека, его причастности к сакральному «сообществу потребления». Объем потребления — показатель социальной (классовой, статусной) дифференциации. Сами же потребительские практики поддерживают социальное и материальное неравенство.
Если в советское время труд возводился в культ лозунгом «Мир, труд, май», то специфику современного общества в большей степени отражает лозунг «Мир, вклад, май» — рекламный слоган одного из банков, продолженный словами «Пусть работают деньги». Такая реклама вдвойне цинична. Во-первых, процентная ставка в банках настолько мала, что не покрывает собой растущую инфляцию, а потому уж явно не способна гарантировать свободу от работы путем перекладывания рабочей функции на деньги. Во-вторых, ростовщичество, пропаганда которого закреплена в этой фразе, губительно для экономики (мы не говорим о моральной стороне данного явления). Переход от труда к потреблению, к расточительству знаменует экономический крах. Экономика не способна к существованию без труда, а потребительство его не приемлет или же приемлет с натяжкой. Помимо этого, фраза «мир, вклад, май» разрушает, можно сказать, архетипический ассоциативный ряд, который является одним из главных культурных символов минувшей эпохи и заключает в себе память о ней.
Успех в западной культуре является краеугольным камнем, к которому каждый должен стремиться. А предметы потребления подчеркивают успешность человека. Однако фетишизация успеха оборачивается такими побочными явлениями, как нехватка времени на общение с близкими и на самореализацию (не в профессиональном смысле), постоянный стресс в конкурентной гонке за успехом — ведь в ней участвуют многие и тем самым «тянут» за собой любящего сравнивать себя с другими потребителя, — отсутствием интереса к глубокому постижению действительности (скольжение по поверхности), упадком культуры в общем и культуры чтения в частности. В конце концов, с возрастом у многих бывших трудоголиков, которые трудились ради успеха и получения высших потребительских благ, возникает личностный кризис, связанный с ощущением бессмысленности участия в такой гонке, а ранее представлявшаяся единственно достойной идеолого-поведенческая модель уже не кажется такой значимой. Мечта или достигается, но не приносит удовлетворение, или просто не достигается; обычно количество затраченной энергии не соответствует уровню конечной удовлетворенности. Если изнурительный, сопровождаемый постоянным стрессом труд все-таки не приносит желаемых результатов по достижению определенного потребительского верха, вполне вероятно появление нервных (и не только) заболеваний.
Человек, который живет в постоянной спешке и в условиях неопределенности, оказывающих на его психику серьезное давление, крайне мало времени тратит на жизненно важные процессы типа приема пищи, общения с близкими и т. д. Он куда-то торопится, заглядывает в составленный на несколько дней вперед тесный график в записной книжке, прежде чем решить, найдется ли у него время встретиться со старым другом. Изнашивается и организм и нервная система. В конце концов, возможны как депрессия, раздражительность, нервозность, бессонница, так и соматические болезни — гипертония, сердечно-сосудистые заболевания. Даже в случае победы в крысиной гонке крыса остается крысой. Большинство людей, стремящихся перегнать других и доказать им и самому себе свою ценность, непомерно устают от циклического сценария: утро, часовая поездка до места работы, изнурительный труд до вечера, часовая поездка домой, немного свободного времени вечером на домашние дела, сон. Причем долю и так не отличающегося особой длительностью свободного времени люди проводят перед телевизором, который только подпитывает потребительский образ жизни. Поэтому неудивительна возникающая склонность к таким аддиктивным формам поведения, как алкоголизм. Стремительный темп жизни является источником заболеваний и дисгармонии во взаимоотношениях с другими людьми.
Изнурительный труд, дефицит времени и соответствующие им синдромы и формы поведения — явления, сопутствующие потребительской культуре. Консьюмеристский труд не менее изнурителен, чем труд советских рабочих. Только последние работали в том числе на благо фронта, во имя державы, национального богатства и светлого общечеловеческого будущего; вспоминаются лозунги типа «на роботу с радостью, с работы с гордостью!». К этим лозунгам люди, конечно, относились со скептицизмом, и нельзя сказать, что декларируемые слова вызывали однозначно положительный отклик в сердцах и умах советских тружеников. Однако в тот исторический период ценность труда была совершенно другой. Другими также были те цели, для которых труд выступал средством. К своему труду советский труженик, в отличие от современного потребителя, относился не как к проклятию, а как к лично и социально значимой необходимости, и в этом отношении не прослеживалось никакого презрения к трудовой деятельности. Консьюмер свой труд, естественно, не сопрягает ни с каким национальным благом и общественной пользой. Этим отличается специфика тяжелого труда, одинаково свойственного обоим общественным устройствам.
Кроме того, прежний труд характеризовался долгосрочностью, так как капиталист предпочитал связывать капитал и труд крепкими узами, бороться с текучкой кадров для создания благоприятной психологической атмосферы коллектива и минимизации издержек на обучение персонала. Да и трудящийся был доволен пожизненной работой на одном и том же предприятии; он даже мог гордиться тем, что в его трудовой книжке всего одна запись. Сегодня практически каждый часто меняет рабочее место, руководствуясь, конечно, как конъюнктурой рынка, так стремлением выстроить карьеру в условиях оторванности капитала от труда, его мобильностью. Однако, учитывая частоту смены рабочих мест, следует говорить скорее не о долгосрочных планах, а, наоборот, о краткосрочных. Сфера занятости теперь устроена так, что люди приходят и уходят, проявляя создающую иллюзию независимости от «неудобных уз» мобильность и вовлекаясь в текучку кадров. Последняя, в отличие от прежней трудовой укорененности, не позволяет выстраивать серьезные и длительные коллективные отношения и солидаризироваться с коллегиальным коллективным духом; он зачастую даже сформироваться не успевает. Отношение человека к трудовому месту чем-то напоминает гражданский брак (его легитимация также произошла в эпоху современности), который мало к чему обязывает и характеризуется не только возможностью его разорвать при необходимости или просто назревшем желании, а в большинстве случаев склонностью к такому разрыву. Недаром 3. Бауман сравнивает место работы с кемпингом, где человек останавливается на время и к которому он относится не как к общему дому с его культурой социального взаимодействия, а как к месту, покидаемому в случае, если не были предоставлены обещанные удобства или они просто разонравились[47]. В общем, структура сегодняшней занятости также вносит лепту в расширение процесса индивидуализации и утверждающейся мобильностью труда демонстрирует не столько независимость рабочих, вольных делать выбор, а их заменимость, выражаемую придающем неуверенность в завтрашнем дне принципом «незаменимых людей нет». Все больше постоянный труд сменяется подработками, временными вакансиями, неполным рабочим днем, краткосрочными трудовыми договорами, вахтовым методом и т. д. Поэтому текучка кадров является в большей степени социальной, а не экономической проблемой. Жизнь (и не только трудовая) превращается в краткосрочную тактическую перспективу в мире «текучей современности», где мастерство забвения прежних идентичностей ценится выше мастерства идентичностного укоренения, где прочность идентичности представляется барьером для адаптации к меняющемуся миру, где от фундаментальности и долгосрочности избавляются социальные связи, гарантии прав трудящихся, место локализации труда, жизненные стратегии, ценностные ориентации типа доверия, верности, солидарности и преданности. По меткому замечанию 3. Баумана, если в эпоху сотворенного из стали и бетона модерна господствовала тенденция сохранения и стабильности идентичности, то эпоха сделанного из пластмассы постмодерна знаменуется избеганием фиксации и сохранением свободы выбора[48].
Промышленная революция позволила за меньшее время создавать большее количество потребительских товаров, но прогресс цивилизации не освободил человека от тяжелого труда, не сделал его более нравственным и разумным и не наделил его дополнительным свободным временем, что бы там ни предсказывали футурологи-утописты. Научно-технический прогресс становится нерегулируемым, так как производительные силы и техника развиваются, а человек — нет (и даже деградирует). Здесь заключено фундаментальное противоречие модерна, которое разрушает сам модерн. Возможно, это противоречие, это истошное развитие техники, наслаиваемое на развалины человеческого духа, и выступает основой формирования потребительской культуры. Советский строй, развивая технику, ставил перед собой в том числе задачу развития человека. Развитие осуществлялось через бесплатное предоставляемое каждому качественное образование, через доступ к культурным ценностям, через труд, который был общественно полезным, в отличие от труда современных вовлеченных в гедонистическую оргию шоуменов, привносящим деструкцию в общественные отношения и общественное сознание восхвалением гламура и поддержанием всяких передач жанра «ниже пояса». Примечательно то, что сегодня наиболее высокую зарплату получают те, кто не вовлечен в структуру производительного общественно полезного труда — банкиры и деятели шоу-бизнеса; они вовлечены в сферу услуг, которые, в свою очередь, носят сомнительный характер по части своей полезности. Люди, занимающиеся производительным трудом, получают значительно меньшую зарплату. Это явление подтверждает грандиозную социальную инверсию, в соответствии с которой белое и черное меняются местами, и такая подмена происходит не просто на ментальном уровне, в сфере ценностей, а на ценностнопрактическом уровне, затрагивая область как мыслимого, так и реального, саму структуру социальных, культурных и экономических отношений. Таким образом, техноцентризм должен уступить дорогу природо- и антропоцентризму.
Экономический рост, кризис перепроизводства вещей и информации, которые своим нарастающим созданием обгоняют человеческие потребности и экологические нормативы, влечет за собой нехватку времени и напряжение сил. А постоянная нехватка времени рождает симптоматическую торопливость и лихорадочность действий, направленных на то, чтобы все успеть. Эта торопливость, спешка, выраженная в излишней быстроте при употреблении пищи, занятии сексом и т. д., становится неотъемлемой чертой личности человека, распространенной в потребительском обществе формой невроза. Возникает впечатление, что человек стремится победить время, но на самом деле он побеждает свою нервную и иммунную системы, свое здоровье, увеличивая вероятность того же сердечного приступа. Раздувающиеся запросы, обычно основанные на сравнении человека с другими, более успешными людьми, заставляют его зачастую требовать от себя невозможного и бороться с критическим для организма объемом нагрузки. И если нагрузка завышена всегда, а не в какие-то отдельные моменты профессиональной деятельности, организм начнет давать сигналы о своем истощении, принимающие форму соматической усталости, подавленного настроения вплоть до депрессии. Не исключены даже суицидальные попытки.
Трудоголизм, вызванный желанием обладать высоким статусом и большим количеством гаджетов, оказывает влияние и на семейную атмосферу. С одной стороны, супруги испытывают вполне естественную потребность проводить больше времени вместе. С другой — они хотят не уступать более успешной соседской семейной паре, а также представителям так называемого среднего класса, которые фигурируют на телеэкране. Уместно привести шутку о расписании занятого человека, в котором ежедневно на общение с женой отводится время с 9:05 до 9:10. И когда эти две потребности вступают в противоречие (а таковое здесь просто неизбежно), возникает конфликтная ситуация на почве ухудшившейся семейной атмосферы, рискующая перерасти в серьезный конфликт. В самом печальном случае конфликт приводит к разводу. Вещи иногда представляются важнее отношений.
Периодически замечается следующий порочный круг. Глава семейства работает слишком много ради максимальной прибыли, что отнимает у него время на семью. Жена проявляет недовольство, семейные отношения накаляются, и муж с еще большим рвением углубляется в работу и засиживается в офисе допоздна, предпочитая рабочее спокойствие домашнему беспокойству и скандалам. Чем больше он работает, тем напряженнее взаимоотношения с домочадцами, а чем напряженнее взаимодействие с близкими, тем больше он работает.
Свободное время необходимо человеку. Если он себя полностью отдает труду, а труд рассматривает как мучение, как сугубо инструментальную ценность, позволяющую достигать высокого потребительского статуса, львиная доля его времени уходит на неподлинное, выражаясь языком экзистенциальной философии, существование. Вспоминается следующая шутка. На надгробной плите написаны годы жизни — 1915–1995, - а снизу уточнено: «прожил 40 лет». Почему не 80, согласно годам жизни, а в два раза меньше? Потому что в те моменты, когда человек совершает подневольные, не приносящие действительно полезного результата виды деятельности, он не то чтобы не живет, но его существование на данный момент не отличается глубиной и духовностью. В свободное время человек может не только предаваться сомнительным развлечениям, но и заниматься садоводством, чтением, спортом, наукой, осваиванием каких-либо ремесел или просто общением с близкими. То есть каждому необходимо время на самореализацию вне труда, на осуществление той деятельности, которая более полезна и исходит от себя самого, от своего желания, и приносит личное удовлетворение. Жизнь небогатая материально, но наполненная досугом, полнее в духовном смысле жизни богатой, но не имеющей свободного времени. Свободное время необязательно каждый проводит с пользой, но все-таки оно является необходимым условием самообразования человека и повышения его уровня рефлексивности.
Богато обставленные дома и квартиры оборачиваются разрушенными семьями, высокие доходы — моральным регрессом, подчеркнутая статусность — экзистенциальным одиночеством, трудоголизм — подорванным здоровьем, приятный шопинг — зависимостью от гипнотического воздействия вещей, а сама потребительская гонка — бесцельностью существования и бессмысленностью целей.
Молодые семьи берут массу мелких кредитов, вся совокупность которых из-за мелочности каждого представляется супругам вполне посильной. Однако впоследствии они понимают свою ошибку, когда осознают свою неспособность оплачивать все, что обязались оплачивать. Тогда семья начинает переживать кризис, который не всегда находит конструктивное разрешение.
Занимающие далеко не последнее место в обществе потребления реклама и маркетинг, актуализируя в человеке все новые и новые потребности и заставляя его покупать все новые и новые товары без сопоставления их стоимости с уровнем личного дохода, создали такое явление, как массовая кредитомания. Это явление, способствуя увеличению потребления, в свою очередь, стало одной из причин раздувания экономического пузыря. В свое время ради стимулирования массовых покупок производимых и экспортируемых продуктов американцев стали отучать от стратегии накопления средств, позволяющей «завтра жить за счет сегодня», а, наоборот, стали приучать к кредитомании, позволяющей «жить сегодня за счет завтра». Для среднего американца нормально жить в долг. Кредиты берут почти на все: на автомобиль, дом, обучение, вплоть до всяких мелких гаджетов. Банки, потеряв осторожность, стали выдавать кредиты без разбора; кредитовались как более или менее состоятельные люди, так и те, чье материальное положение оставляло желать лучшего. В результате многие заемщики оказались не в состоянии вернуть долги. Лопанье экономического пузыря, основанное на колоссальных невозвратах, ознаменовало приход экономического кризиса, который, по сути, является не только экономическим, но и культурным. Вообще, система кредита достаточно парадоксальна, так как позволяет получать, не заработав, позволяет потреблению опередить производство, так что кредитование стоит назвать одним из детищ эпохи потребления. Это сугубо капиталистическое изобретение, которое, путая причину и следствие (производство и потребление), искажает время. Вещь, взятая в кредит, убегает во времени от своего владельца, а владелец, соответственно, не будучи полноценным владельцем, отстает от вещи. Переход от жизни на сбережения к жизни в кредит увеличивает зависимость человека или семьи от источников дохода на уровне «здесь и сейчас», требует иметь не только хорошо оплачиваемую работу, но и гарантию надежности, гарантию того, что человека не ждет увольнение или профессиональное понижение. А если это долгосрочный кредит, данная гарантия просто необходима; вызывает горькую иронию ипотека, скажем, на 50 лет.
С ростом инфляции культура накопительства себя дискредитирует, поскольку деньги, хранимые дома или в банке, постепенно обесцениваются, и потребительская расточительность, в том числе проявляемая в кредитомании, является вполне адекватной реакцией на падение достоинства накопленных средств. Однако адекватной реакцией является умеренное расточительство, которое все-таки позволяет думать если не на год вперед, то хотя бы о завтрашнем дне, и не заставляет человека бросаться в символическую потребительскую гонку, а лишь стимулирует приобретать то, что действительно необходимо. Оправдание расточительства, опирающееся на идею инфляции и бессмысленности накопления, представляется поверхностным, поскольку сам по себе рост инфляции, а также материальная поляризация являются следствием все того же рынка и потребительской культуры, непосредственно с ним связанной. Активы для будущего отходят в сторону перед волной блитц-кредитов, кредитов «здесь-и-сейчас».
Банально напоминать, что кредит способен привести к огромным долгам. К еще большим долгам приводит ситуация, когда консьюмеру трудно остановиться, когда он наращивает кредиты, забывая о текущих долгах. Легкость получения кредита, а также повсеместная реклама соблазнительно выглядящих товаров и услуг формируют желание продолжать брать кредиты и затушевывают принцип реальности, выражаемый в рациональном осмыслении сложившейся ситуации и собственных возможностей по погашению долгов. Одновременно маркетологи находят различные методы привлечения клиентов к взятию новых кредитов. Так, кредитные карточки бесплатно разбрасываются по почтовым ящикам, и это создает эффект близости сомнительного счастья, удержания его в руках как в прямом, так и в переносном смысле. Или маркетологи просто используют красивые слоганы типа «вы можете купить прямо сейчас» (отсылка к сиюминутности), «вы можете себе это позволить» (отсылка к могуществу), «вы будете контролировать процесс» (отсылка к реализации потребности в контроле). Компании, предлагающие ссуду, рекламируют свои услуги типично софистическим методом: мол, ссуды наделяют потребителя покупательной способностью, которая создает спрос, который, в свою очередь, способствует экономическому росту и росту уровня жизни всей нации. На самом деле такая причинно-следственная цепочка совершенно неуместна. В результате подобных провокаций, психологической слабости и мнительности реципиента у него актуализируется потребность в лихорадочной трате денег, после чего накапливается рекордная величина долгов. Эти долги служат значимым фактором риска, опасность которого проявит себя во всей красе, если вдруг счастливый обладатель долгов потеряет работу. Случаи банкротства, соответственно, увеличиваются. Кредитные организации продолжают толкать своих клиентов к денежному краху. Как отмечают авторы книги «Потреблятство», количество денежных накоплений американцев стремится чуть ли не к нулю, каждый год более миллиона американцев заявляют о своем банкротстве; это число превышает ежегодное количество выпускников колледжей. В среднем их долг равняется 22-кратному размеру их месячного дохода[49].
Ситуация, когда соблазн потребительства затмевает здравый смысл, отлично показана в фильме «Семейка Джонсов», в котором бессмысленное стремление персонажа к получению заинтересовавших его гаджетов в кредит привело к банкротству и даже самоубийству. Куда более трагичная картина представлена в антиутопии «Потрошители». Действие происходит в недалеком будущем, где продвинутая медицина предлагает безнадежным пациентам внутренние органы в кредит под огромный процент. У тех, кто не в состоянии выплачивать деньги, просто отнимают кредитованные органы со всеми вытекающими летальными последствиями для их носителей. Если в первом фильме на коммерческий поток поставлены предметы, без которых проживание не является особо затруднительным, то во втором фигурируют предметы, без которых жить невозможно, но на которых есть смысл зарабатывать, забывая о каком-либо минимальном уважении к человеческой жизни. Несмотря на то, что фильмы типа «Потрошителей» являются всего лишь очередными фантастическими картинами и, соответственно, представляют собой не имеющую места в реальности фантасмагорию, стоит задуматься о тех наличествующих в реальности причинах, благодаря которым рождаются подобные сценарии. Мир, в котором та или иная корпорация готова ради коммерческой выгоды забрать почти все у провинившегося неуплатой клиента, отделен всего лишь одним шагом от мира, где та или иная корпорация готова ради все той же коммерческой выгоды забрать жизнь у не уплатившего непомерно большие проценты клиента.
Ипотека и кредит сопряжены с большим переплачиванием, а не с экономической свободой, как вещает реклама. В результате человек уже не позволяет себе потребительскую гонку, поскольку для выплаты кредита нужно много работать, тем самым урезая свое свободное время, и много экономить. А если благополучие семьи, взявшей в кредит квартиру или автомобиль, зависит от рабочего места, люди становятся более меркантильными и циничными, они утрачивают ценность взаимопомощи и превращаются в обывателей. Они, будучи конформистами, никому и ничему не оппонируют, не отстаивают никаких прав, а, уткнувшись в землю, продолжают все более упорно работать на себя, боясь, что в случае вступления в баталии потеряют все непосильным трудом нажитое. Им есть что терять. Когда таких конформистов становится слишком много, властные структуры начинают позволять себе практически все, поскольку видят, что общество послушно и вряд ли станет протестовать против тех или иных правительственных действий. Поэтому систему кредитования следует рассматривать как еще одну форму социального контроля. Также и средний класс в значительной степени отличается конформизмом, несмотря на заверения многих либерально настроенных авторов, усматривающих в среднем классе оппозиционную политическую активность. Он видит большую армию бедных, которая пугает его, отталкивает от себя, разбивает наполняющие его желания перемен, и за гарантию непополнения рядов бедняков он готов молчать и проявлять покорность. Глядя на армию бедняков, богатый потребитель предпочитает мириться со всем происходящим, ибо бедность для него — светский вариант инфернальности, которая способна поглотить всякого представителя среднего класса за противление системе. Зрелище бедноты своим гипнотизмом сковывает протестные инициативы.
Некоторые аналитики говорят, будто культура потребления является показателем высокого уровня общественного благосостояния. Это утверждение в корне неверно. Культура потребления требует от человека недоесть, но последние деньги отдать за какую-нибудь модную безделушку или поход в модный клуб, предварительно еще заняв денег у чуть более обеспеченного или просто умеющего рационально пользоваться деньгами товарища. Так что в мире потребительских кредитов уровень трат необязательно является критерием уровня доходов.
Надо заметить, что кредит бывает выгоден и полезен, когда его объем невелик, кредит предоставляется под небольшие проценты, заемщику действительно необходимо в краткие сроки приобрести некий товар, и он способен выплатить не всю сумму сразу, а только по частям. Проценты в таком случае следует рассматривать в качестве средства оплаты оказанной услуги и возможного риска, который несет кредитор. Однако если кредит становится формой зависимости, о его выгодности и полезности говорить не приходится.
На почве осознания опасностей потребления возникло явление дауншифтинга, означающего сбрасывание потребительской скорости, избирание осторожного, осознанного, вдумчивого движения, которое приносит меньше плодов, но и отнимает меньше времени, нервов и сил. Дауншифтер — человек, отказывающийся от успешной, но полной стрессов работы в пользу более ресурсосберегающей деятельности, которая позволяет самореализовываться не только в профессиональном смысле. Для таких людей работа — не способ достижения американской мечты, а доход — не самоцель, а скорее просто средство выживания и поддержания более или менее нормального материального состояния. Основные же их приоритеты, как правило, выходят за рамки потребительской культуры. Хотя дауншифтинг не характеризует какую-то конкретную профессиональную область и социальный статус, его среду часто наполняют бывшие топ-менеджеры, уставшие от гонки за мнимыми образцами, изменившие ценностные ориентации с успеха в карьере на гармонию в семье, или просто ощутившие проблемы со здоровьем, а вместе с этим необходимость «сбавить обороты». Дауншифтинг появился в обеспеченных странах в результате разочарования в потребительских идеалах и убежденности в том, что занятость — какой бы интенсивной она ни была — все равно не обеспечит удовлетворение всех потребностей, а только послужит преградой для некоторых из них, в частности свободного времени, самоактуализации, общественной деятельности и т. д.
В едином смысловом поле вместе с дауншифтингом находится такое современное явление, как фрилансерсгво, означающее свободный заработок. Но фрилансерство далеко не всегда характеризуется свободой действий и минимальной загруженностью, какие свойственны дауншифтингу; фрилансер может очень много работать, выполняя различные заказы. На наш взгляд, такой образ жизни, как дауншифтинг, является вполне достойной альтернативой потребительскому образу.
Л.И. Чинакова выделяет три моральные установки человека, связанные с удовлетворением его потребностей: 1) аскетизм, 2) гедонизм, 3) гармоничное развитие личности[50]. Заметим, соглашаясь с Л.И. Чинаковой, что аскетизм и гедонизм как два противоположных полюса, как две крайности идут вразрез с гармоничным развитием личности, и последнее с ними несовместимо. Вообще, спор о том, что же гармонично для личностного развития и необходимо для человека — аскеза или гедонизм, — начался еще в Древней Греции. Так, эпикурейцы проповедовали наслаждение, а киники, наоборот, считали стремление к роскоши и богатству пороком. Лично более импонируя кинической философии, мы все-таки в данном вопросе придерживаемся срединной позиции, согласно которой все должно быть в меру. Как беспредельный гедонизм, так и ожесточенный аскетизм наносят удары внутренней гармонии человека. Более того, и богатство, и даже бедность требуют огромных сил. Чтобы стать богатым, необходимо (если заниматься предпринимательством) себя полностью отдавать работе, и это вполне банальная истина. Но чтобы стать бедным, необходимо захотеть этого, чего сделать практически невозможно. Трудно отпустить то, что имеем, уйти в горы и стать отшельником. Не так просто и заняться дауншифтингом, который следует рассматривать как предельно мягкий способ движения от гедонизма к относительной аскезе. Как порой бывает трудно и лениво бросить силы на тот или иной вариант самотерапии (физкультура, тренировка зрения и т. д.), также трудно сделать шаг к снятию потребительского напряжения. Более того, это сделать обычно значительно сложнее, поскольку дело касается не только лени, то есть отсутствия должной мотивации. Культура потребления в меру своего непонимания свысока смотрит на такого человека, считая его ненормальным или человеком второго сорта. Это еще больше затрудняет отречение от потребительских ценностей, а заодно и от признания со стороны культуры.
В последнее время нашла свое развитие антиреклама — абсолютно некоммерческий дискурс, основанный на высмеивании известных брендов, широко рекламируемых товаров и потребительских ценностей, а также конкретных рекламных роликов. Так, в Интернете находим огромное множество демотиваторов, которые следует рассматривать в качестве ироничного ответа заполонившей львиную долю антропного пространства рекламе и потребительскому стилю жизни. Верблюд «Джо Кэмел» представляется не рекламирующим сигареты, а умирающим от рака. Ковбой «Мальборо» из мачо превращается в тоскующего по своему легкому инвалида. Антиреклама функционирует как альтернатива, использующая рекламный дискурс для формирования противоположных ему ценностей. Высмеивая его, она показывает нам его пороки. Однако она не способна выступать в качестве серьезной альтернативы, поскольку занимает крайне незначительное медиа-пространство по сравнению с тем широчайшим пространством, которое отводится рекламе.
В мире появляются различные общественные движения и организации, призывающие к умеренности в жизни. Члены этих организаций более осознанно относятся к своим покупкам и к своей жизнедеятельности с экологической точки зрения. Они предпочитают приобретать самое необходимое, принципиально отказываются от гонки за модой и новинками, от известных брендов, носят простую одежду, имеют недорогие и небольшие автомобили с эффективным расходом топлива.
Неудивительно, что именно сейчас, во время эскалации потребительства, в качестве ответа на него появляются такие антиконсьюмерские явления, как книга Ч. Паланика «Бойцовский клуб» и одноименный фильм, снятый Д. Финчером. Героями этого произведения выступают представители американского среднего (и не только среднего) класса — «белые воротнички», автомеханики и даже копы и политики, которые, заскучав в мире пустоты и неподлинности, нашли выход своей скуке и агрессии в рукопашных боях друг с другом. Таким образом они, выдвинув философию хаоса, основанную на неприятии транснациональных корпораций, унификации, коммерции, накопительства, телевидения, законов и норм этого общества, решили вернуться к архаике, к истокам, выраженным в первобытном инстинкте, который позволяет обрести подлинное существование и войти в настоящий мир. Рукопашный бой, не вызванный никакой реальной причиной, с точки зрения потребительской логики представляется иррациональным и бессмысленным. Но именно в этих иррационализме и бессмысленности персонажи находят рациональность и смысл в качестве реакции на иррационализм и бессмысленность потребительского существования.
Само же потребительство, создавая видимость осчастливливания человека путем приобретения все новых гаджетов, ограничивается этой видимостью, имеющей мало отношения к реальности. Жилплощадь, обильно заставленная новоприобретенными малоиспользуемыми товарами, вовсе необязательно вызывает чувство душевной полноты. Скорее наоборот, материальная полнота сопряжена с душевной пустотой. Люди не должны переставать делать покупки, а должны данный процесс переводить в сознательное русло, придавая значение настоящей пользе от приобретаемого продукта.
Интересно выглядит идея замены налога (не прогрессивного) на доходы физических лиц налогом (прогрессивным) на потребление, то есть облагать налогом не в соответствии с заработком, а в соответствии с потреблением. Это стало бы обязательным государственно санкционируемым инструментом терапии тех, кто в наибольшей форме предрасположен к потребительству. Однако далеко не каждый человек, патологически зараженный потребительством, является сверхобеспеченным в материальном смысле. Поэтому реализация такого законопроекта хоть и послужит терапией, частично уменьшит уровень потребления и заставит многих более осознанно смотреть на процесс покупок, все-таки не уменьшит огромный имущественный разрыв в обществе и станет непопулярной в том числе в среде относительно небогатых людей. Поэтому, не отбрасывая идею полностью, пока оставим ее за скобками и отметим большую актуальность (и безопасность) идеи смены непрогрессивного налога на доходы физических лиц прогрессивным, что приведет к некоторому уравниванию материального положения различных слоев общества и, соответственно, к сокращению имущественного разрыва. Также заслуживает внимания мысль о введении налога не на «хорошее» (прибыль), а на «плохое» (загрязнение окружающей среды), что заставит людей платить больше, например, за неэкономно расходующий топливо автомобиль и, соответственно, снизит приобретение таких автомобилей. Но любая идея о налогообложении в данном контексте должна перерасти в непротиворечивую концепцию, которая несмотря на имеющиеся отрицательные последствия достигнет как минимум двух целей: отвратит людей от бессмысленного потребительства и сократит имущественное неравенство.
Глава 4. Потребление как условие экологического кризиса
Потребительский образ жизни не только по сути своей бессмыслен, но и — хуже того — ведет к хищническому расточению ресурсов, которые, как известно, ограниченны. Внутренняя псевдопотребность потреблять приводит к ускорению оборота товаров. Современная технократическая потребительская цивилизация ненасытна в принципе, а потому и антиприродна. Она расточает ресурсы так, что превращается во врага биосферы, во врага природы и заодно в паразита-самоубийцу, если рассматривать данное явление в глобальном — планетарном смысле. А сам научно-технический прогресс трансформируется в орудие убийства. Поэтому вполне оправданы прогнозы ученых о грядущей экологической катастрофе; обглоданная планета на безумное потребление может серьезно отреагировать в попытке привлечь внимание жадного человека-потребителя, который, вооружившись идеей антропоцентризма, наплевав на экологию и превратив природу из вещи в себе в вещь-исключительно-для-себя, перестал быть человеком разумным и принялся лихорадочным использованием ресурсов, подрывая жизнеспособность экосистемы.
Прогресс цивилизации оборачивается своим эрзацем. Появление все новых и новых гаджетов влечет за собой экологический упадок. Такие гаджеты, как кулеры с чистой водой — изобретения, всего лишь компенсирующие утрату, которую влекут другие изобретения. Но эта компенсация не равнозначна и, соответственно, не создает баланс между приобретением и утратой. В последние годы все чаще находят в обычной водопроводной воде разные химикаты, и поэтому возрастает общественная потребность в покупке так называемой чистой питьевой воды, которая стоит значительно дороже водопроводной. Представляется, что следующим изобретением, которое дополнит собой продажу чистой воды, будет продажа чистого воздуха. Темпы роста загрязнения атмосферы значительно опережают темпы ее восстановления, так как вредное производство остается вредным, а зеленая площадь планеты сокращается вырубкой лесов, постройкой дорог, расширением мегаполисной среды и т. д. Апологеты потребления рассуждают примерно так: именно человеческие потребности стимулируют появление новых технологий, а постоянно растущие потребности дают бесконечные возможности прогрессу, который, в конечном счете, обогатит цивилизацию новыми ресурсосберегающими технологиями. Но нет никакого основания для доказательства тезиса о том, что прогресс в результате избавит нас от самого себя, от побочных результатов своих прежних достижений и выйдет на качественно новый уровень, обеспечив человечество новыми технологиями, позволяющими одновременно сохранить прогрессивные тенденции, потребление и окружающую среду. Этот прогресс уже теряет свое привилегированное положение, и он должен его потерять и десакрализироваться ради спасения человечества.
Вода является универсальным природным ресурсом, источником жизни, без которого не могли бы зародиться никакие формы жизни. В последние десятилетия дефицит пресной воды возникает в регионах, где он ранее не наблюдался. Гиперугнетение пресноводной экосистемы, обгоняющее ее самовоспроизводство, влечет изменения ив качественном и в количественном смысле. Страдают такие характеристики экосистемы, как биоразнообразие и биопродуктивность. Первая выражается в видовом количестве и в показателях внутривидового разнообразия. Вторая рассматривается с учетом производимой биомассы; но не вся биомасса является полезной, так как существуют вредные виды типа водорослей, которые возникают вследствие загрязнения водоемов и приводят к нарушению экологического баланса. Конечно, человек всегда сбрасывал в воду вредные вещества, но загрязнения как такового не происходило, поскольку экосистема успешно боролась с антропогенным фактором и самоочищалась. Загрязняющее воздействие не превышало несущую емкость — предел воздействий на экосистему, превышение которого приводит к ее деградации. Однако сейчас наблюдается апогей загрязнения, который неуклонно ведет к самым неблагоприятным последствиям. Катастрофа происходит тогда, когда негативное воздействие на экосистему значительно превышает ее способность к самоочищению, ее так называемый ассимиляционный потенциал. Под негативным воздействием понимается не только прямое загрязнение, но и комплекс других факторов: забор воды, механическая обработка почвы и ее опустынивание, нарушение режима воспроизводства подземных вод и т. д. Так, фторирование воды является очень вредным для здоровья человека, результаты его выражаются в снижении интеллектуальных и волевых качеств, а также повышении риска онкологической заболеваемости. Однако, несмотря на это, хлорирование воды продолжается во многих странах. Экстенсивный путь развития, основанный на расширении ресурсной базы при сохранении используемых технологий (например, забор воды), ведет к ресурсному обнищанию. А интенсивный — при котором потребление не растет, но увеличивается эффективность использования ресурсов и сокращаются затраты (например, путем водосберегающих технологий), способствует выходу из кризисного положения[51]. Однако для общества потребления интенсивный путь развития выглядит утопичным, поскольку он требует если не снижения, то «заморозки» уровня потребления, а потребительская идеология требует его роста. Осуществление интенсивной стратегии, касающейся всех аспектов давления человека на природу и выраженной в нормализации антропогенного воздействия на среду и экологизации производства и потребления, будет означать если не рождение нового общества, то глубинную трансформацию общества потребления в то, чем оно пока не является. Без реализации этой стратегии утвердятся условия, когда нельзя будет взвалить ответственность на природу и заявить о природных катастрофах, когда появятся только антропогенные катастрофы, принимающие облик природных.
Россия, кстати, не считается вододефицитной страной. Но, несмотря на ее водоизбыточность, не стоит воспринимать проблему водо-обеспеченности в качестве псевдопроблемы, так как она касается всего мира в целом. К тому же в России хоть и наблюдается избыток воды (в количественном смысле), ее качество оставляет желать лучшего, о чем говорит высокий уровень загрязненности рек и озер. Видимо, обеспеченность этим ценным природным ресурсом в свое время создала определенный стереотип, позволяющий промышленным предприятиям бессистемно и совершенно неэкологично эксплуатировать воду и загрязнять земли в речных бассейнах. Хоть Россия в принципе считается насыщенной пресной водой, необходимо помнить, что в некоторых регионах планеты пресная вода становится дефицитной, а потому и дорогой. И рост ее цены может дойти до критической точки, когда вода станет весомым поводом для войн. Поэтому водоресурсным регионам необходимо удерживать в своих руках имеющиеся ресурсы. Но располагая обширными ресурсами и малочисленным населением, трудно удерживать эти ресурсы, которые становятся объектами международных конфликтов.
Наиболее актуальной сейчас является катастрофа в Мексиканском заливе, где разлившаяся в результате аварии нефть грозит остановить и/или охладить Гольфстрим, что, в свою очередь, может привести к масштабному климатическому сдвигу в сторону похолодания, похожему на тот, который — пусть даже в гротескном виде — показан в фильме «Послезавтра». И хоть в мировых СМИ утверждается об отсутствии опасности, связанной с выбросом нефти, который произошел в результате деятельности British Petroleum, едва ли следует всерьез воспринимать эти медийные заверения. Во-первых, власти ничего другого и не скажут — ведь они не хотят сеять панику, и потому сакральная фраза «все под контролем» подходит на любые случаи жизни. Во-вторых, странно, почему в Мексиканский залив перестали пускать журналистов и вообще кого бы то ни было; значит, есть что скрывать. Стремление экономического человека максимизировать прибыль путем выкачивания из планеты как можно большего количества нефти привело к тому, что его жизнь ставит под вопрос не нехватку, а, наоборот, переизбыток ресурсов. Золотая антилопа, превращая все в золото, грозится слишком далеко завести этот алхимический процесс.
Почва — ресурс, столь же необходимый человеку, как воздух и вода. За исторический период человечество утратило огромное количество плодородных почв, и эта трата продолжается. А между тем почва является не только поставщиком продуктов питания, но и выполняет множество различных функций для биосферы Земли[52]. Почва — благодатная обитель огромного разнообразия жизни планеты, и без сохранения почвы невозможно сохранить это разнообразие. Загрязнения почв радионуклидами, нефтепродуктами, ядохимикатами особенно вредны, поскольку почва, в отличие от воздуха и воды, не рассеивает элементы отравляющих веществ, а поглощает их. Авторы книги «Потреблятство» приводят следующий иллюстративный пример. Колумбия занимает всего 1 % суши, в ней произрастают 18 % всех видов растений и там живут многие разновидности птиц. Когда в конце 1980-х гг. фермеры спилили львиную часть деревьев, которые создавали тень вокруг кофейных плантаций, объем получаемого кофе увеличился, но возросли эрозия почвы и смертность птиц. При уничтожении естественной среды обитания птиц и других питающихся насекомыми существ насекомые-вредители стали бурно размножаться, и плантаторы перешли на использование пестицидов. Химикаты попали в легкие фермерам и в пищу животным и растениям[53]. Вот такая далеко идущая причинно-следственная связь. Но если мировой рынок требует кофе, а экономика Колумбии основывается на экспорте этого продукта, с экономической точки зрения целесообразно продолжать производство кофе, несмотря на экологические последствия.
В противовес эсхатологичным концепциям о нерациональном пользовании природными ресурсами выдвигается следующая теория. По мере исчерпания ресурсов их цена возрастает, что вызывает изменения и в спросе, и в предложении. Потребители будут экономнее расходовать подорожавшее сырье, и даже начнется поиск его замены. Производители же, вдохновленные ростом цены, загорятся поиском новых месторождений, а также станут полнее извлекать ресурсы из известных месторождений; те залежи нефти, которые было невыгодно разрабатывать при 10 долларах за баррель, обретут привлекательность при 50. Этих рыночных эффектов не учитывали авторы прямолинейных прогнозов, предсказывавшие исчерпание запасов через 15 лет, через 20 и т. п. По мере роста цены станут рентабельными иные источники данного сырья. По этой теории, ценовой механизм рынка убережет нас от полного исчерпания запасов природных ресурсов. Но моментально сократить потребление сырья и найти ему замену или разведать новые запасы невозможно. Готовиться нужно заранее. Такая теория неверна, так как сколько бы люди ни экономили на ресурсах в дальнейшем, сколько дорого бы те ни стоили, они все равно конечны. Значит, рынок и цена не уберегут от их исчезновения, а только оттянут время конца. Но даже если уберегут, ресурсы станут по карману только самым богатым и привилегированным; огромный разрыв в доходах и потребительских благах возрастет еще сильнее. Во время дефицита ресурсов не каждый сможет себе позволить то, что позволяет сейчас. Да и потребительская культура, в отличие от мрачных прогнозов, вместо экономии воспитывает трату и тем самым выступает мощным барьером для претворения в жизнь описанной «экономной» концепции. Вообще, данная теория представляется недостаточно логичной, поскольку она видит спасение в кризисе; мол, чем меньше ресурсов, тем они дороже, тем больше стимулов для экономии и поиска заменителей (вспоминается ленинское «чем хуже, тем лучше»). Приведем доводы А. Никонова как апологета такой теории. Активное потребление ведет к кризисам, в том числе к кризису исчерпания ресурсов. Зато кризисы подстегивают мышление, поиск выхода из них, то есть науку. Даже СССР, обильно тративший на науку и оборону, во многих областях науки сильно отставал, так как не был обществом потребления: потребление способствует росту науки[54]. США является обществом потребления, но сверхинтеллектуальной цивилизацией штаты назвать сложно, и едва ли где бы то ни было мы найдем прямую зависимость между ростом потребления и ростом науки. Поэтому приведенный Никоновым тезис не более чем софизм, неповоротливая попытка оправдать потребительство.
Соответственно, актуализируются три основных проблемы, требующие решения в ближайшее время: 1) экологическая ситуация, связанная с колоссальным загрязнением природной среды; 2) конечность природных ресурсов; 3) расточительство, свойственное культуре потребления. Все эти проблемы взаимосвязаны, что значительно затрудняет их решение. Во-первых, необходим поиск новых производственных технологий, с помощью которых появилась бы возможность безопасно использовать энергию (вовлечение чистых источников энергии). Во-вторых, важна интенсивная разработка принципиально новых технологий, которые бы обеспечили не просто безопасность для окружающей среды, но и разумное использование ресурсов (вовлечение возобновляемых источников энергии). В-третьих, крайне необходимо активное воздействие на культурные ценности для их трансформации с потребительских на экономные.
Экологическая катастрофа возможна, несмотря на идеи постмодернизма, согласно которым мы уже живем в постапокалиптическом обществе, что апокалипсис позади, что нашим апокалипсисом является наступление виртуального, которое лишает нас реального конца. Если эти постмодернистские воззрения относятся скорее к концу не самой реальности, а восприятия человеком и обществом реальной действительности (хотя философия постмодерна склонна к отождествлению реальности и ее восприятия), которая вытесняется потоками симулякров, то симулякризация на уровне потребления — угроза не только восприятию реальности, но и самой реальности.
Становятся понятны отдающие эсхатологией предзнаменования о всяких концах, в том числе конце истории, в ходе которой проблемы не решаются, а, наоборот, накапливаются (Ж. Бодрийяр, например, в разрушении Берлинской стены видит всего лишь раскаяние, а не великое «историческое» событие[55]). В эпоху потребления история регрессирует, перед ней нет нового вектора движения. Человек долгое время вел борьбу с природой, породившей и кормившей его. Возомнив себя венцом творения, этот единственный из всех детей природы бунтарь счел свое отделение от природы необходимым фактором прогресса человечества. Сейчас, в эпоху «переразвитого мира», несмотря на очевидную ошибочность такого убеждения, процесс отдаления человека от природы происходит в еще больших темпах. Человек разумный породил человека потребляющего.
Причем проекты, направленные против природы, зачастую санкционирует государство. И не просто санкционирует, а в авторитарной форме внедряет в реальность; достаточно вспомнить получившее широкий общественный резонанс дело Химкинского леса.
Не менее важной представляется проблема, связанная с Постановлением Правительства РФ от 13 января 2010 г. № 1, которое, вопреки закону о Байкале, в угоду олигарху О. Дерипаске санкционировало варку целлюлозы на Байкальском ЦБК с использованием хлорной отбелки и сбросом в Байкал ежесуточно более 100 тысяч кубометров высокотоксичных промышленных стоков и другие виды деятельности, наносящие непоправимый вред озеру, которое является объектом всемирного природного наследия[56]. Помощь олигархам, видимо, более приоритетна, чем помощь природе.
Одна из основных экологических проблем Омска сегодня связана со строительством завода по производству поликристаллического кремния. Проект инициирует центральная власть, а местная активно поддерживает эту антиэкологическую инициативу. Губернаторские СМИ утверждают, что противники строительства слишком преувеличивают вред, наносимый этим производством. Однако почему-то во многих странах производство кремния вообще запрещено, а в некоторых оно допускается, но при условии нахождения завода за 200 км от ближайшего города. Этот же завод планируется строить прямо в черте города! Кроме того, официальные СМИ говорят о поднятии экономики региона, чему поспособствует работа завода, и о создании около тысячи рабочих мест с приличной зарплатой, что ударит по безработице. Однако вряд ли экономика региона повысится, поскольку, как часто делается в России, особо опасное производство физически находится где-нибудь в провинции, а юридически зарегистрировано в Москве, и поэтому в столицу уходят все деньги, а в провинции остается масса вредных отходов, отравляющих местное население. Вся выгода достанется небольшой группе людей, а риски и реальные осложнения поделит между собой все областное население. Власть не горит желанием строить подобные заводы на Рублевке, чего нельзя сказать о провинции, население которой не жалко. Так что, вне всякого сомнения, СМИ лгут. Правда в их словах связана только с созданием новых рабочих мест, но вряд ли этот аргумент «за» на чаше весов перевесит аргумент «против», апеллирующий к экологической чистоте и здоровью людей. Тем более в современной охваченной коррупцией России, где все шиворот навыворот, редко соблюдаются нормы по техническому состоянию заводского оборудования, позволяющие минимизировать вред для экологии и людей. Ни для кого не секрет, что в России очень редко происходит обновление оборудования, то есть не учитывается так называемый коэффициент амортизации. В результате терпит нагрузки экология, и происходит стагнация и даже ухудшение национального производства, для развития которого обновлять средства производства просто необходимо. Поэтому существует уверенность в реализации наихудшего экологического варианта, основанная на самой специфике производства, которое опасно априори, и на минимальной вероятности соблюдения норм технического состояния оборудования, которое требует серьезных финансовых вливаний, а потому «необязательно». Добавим, что долгое время от населения скрывалась подготовительная работа по строительству кремниевого завода. Если производство действительно так безопасно, как утверждают уполномоченные лица, незачем соблюдение конспирации.
Сначала планировалось строить этот завод в Абакане, но там люди отстояли свое право на свое здоровье и здоровую окружающую среду, и тогда власти решили перенести строительство в пассивный и конформный Омск. Мнения горожан, конечно, никто не спрашивал. Было проведено много митингов против строительства кремниевого завода, однако в СМИ они не получили освещения, а представители власти активно мешали митингующим. Так, почти на каждый митинг приходили активисты «Омска молодого» или «Единой России» с провокационными плакатами, на которых было написано «Нет кремниевому заводу — назад в пещеры» или «Кремний — безопасно и экологично». Последняя фраза представляет собой абсолютную ничем не прикрытую ложь. Пока производство вредных химических препаратов приносит прибыль, они предлагаются общественному сознанию в качестве безвредных. В мире фабрикуемой реальности первоочередное место занимает не ликвидация самой опасности от того или иного продукта, а контроль за восприятием человеком данного продукта. В Омске есть онкологический диспансер. Видимо, после постройки завода по производству поликристаллического кремния городу понадобится не просто онкодиспансер, а лучший онкодиспансер. Он и будет одной из городских достопримечательностей, ибо омичам — все самое лучшее! Горстка людей будет успешно зарабатывать на этом заводе, а все городское население встанет перед лицом тотальной деэкологизации.
А ведь раньше Омск называли зеленым городом. Жаль, что сегодня он утратил свой «зеленый» статус. Не хочется верить, что он может в будущем превратиться в «антизеленый», неразумно урбанизированный город — сточную яму собственного производства.
В некоторых случаях государственная власть не инициирует анти-экологические проекты, а связывает руки экологическим организациям, делая их бессильными перед лицом серьезных проблем, касающихся состояния окружающей среды. В других случаях оно отправляет политику, которую следует назвать антиэкологической. С принятием водного кодекса Правительством РФ ликвидирован государственный контроль над водным фондом и сформировано правовое основание для приватизации водных ресурсов страны. Водные объекты (реки, озера, различные водоемы) получили статус предметов купли-продажи. На международном уровне созданный для лоббирования интересов сильных мира сего Всемирный банк разработал политику приватизации воды и перевода ее на хозрасчет и пришел к выводу, что заботиться о водных потребностях человечества должны транснациональные корпорации. Мировое потребление воды стремительно растет, и более миллиарда человек на планете испытывает недостаток в питьевой воде. При сохранении текущих тенденций потребность в воде к 2025 г. будет на 56 % превышать доступные резервы, как отмечает С. Голубицкий. В результате вода станет ресурсом, на обретение которого страны начнут брать нескончаемые кредиты у Всемирного банка, а после попадания в ловушку кредитного закабаления должники будут вынуждены выполнить условие перехода их экономики в руки все тех же транснациональных корпораций и Всемирного банка. В боливийском городе Кочабамба в 2000 г. на улицу вышла львиная доля населения с на первый взгляд смешным лозунгом «мы хотим пить». Правительство руками полиции подавило протест. Появились сведения, что именно американцы передали правительству слезоточивый газ для усмирения протестующих. Поводом для общественных беспорядков послужила цепочка «кредиты — тотальная приватизация (в том числе водных ресурсов) — переход в американские руки национально необходимых предприятий — ликвидация целых отраслей — потеря природных ресурсов — повышение цен на воду и обеднение людей». Весь проект был осуществлен корпорацией «Бигтел» через подставную фирму, которая заключила договор с правительством Боливии, предусматривающий выплату неустойки в размере 12 млн долларов в случае нарушения последним взятых на себя обязательств. Впоследствии протест перерос в боевое восстание, унесшее жизни людей. В результате корпоратократия была изгнана из страны, а заключенное между ней и правительством соглашение — расторгнуто. Однако за расторжение соглашения боливийское правительство в судебном порядке принудили оплатить неустойку, которая с лихвой покрывает расходы корпоратократии и даже при незавершении проекта позволяет ей обогатиться[57]. Победа народа в данном случае носит локальный характер и совсем не гарантирует повторения подобных противостояний в дальнейшем в разных странах. Скорее наоборот, политически инициируемая приватизация водных ресурсов заставляет задуматься об отсутствии таких гарантий.
В 2007 г. вступил в действие противоречащий Конституции РФ новый лесной кодекс, до принятия которого российское лесное законодательство основывалось на защите государственной собственности на лес. Леса, некогда бывшие достоянием народа и одной из основ его жизни, превратили в частную собственность, обычный товар, предмет купли-продажи. Частное лицо может купить неограниченный по размерам лесной участок. Соответственно, приобретая лесной участок страны, он приобретает ее часть. Будет крайне печально, если транснациональные корпорации завладеют российскими землями. В России издревле сложилась традиция лесопользования, заключенная в свободном доступе к лесу как источнику ягод, грибов или просто места отдыха. Данный лесной кодекс принципом платности лесопользования для всех ломает эту традицию. Малочисленные коренные народы, проживающие в лесной зоне, отныне не имеют права требовать поддержки от государства по защите среды обитания; ведь они попадают под юрисдикцию от новых хозяев лесов.
О.Н. Яницкий приводит много причин лесных пожаров 2010 г[58]. К ним относятся: лишение муниципальных властей ресурсов и прав для самостоятельного решения проблем местного уровня, исчезновение в школе уроков экологии, третирование властью природоохранных экологических движений, принятие новых лесного и градостроительного кодексов, ликвидация Госкомитета по экологии и охране среды, природоохранных служб, государственной экологической экспертизы, что вкупе превращает леса и парки из национального богатства в предмет купли-продажи. Все названные причины, поскольку они сугубо политичны, можно объединить словосочетанием «деэкологизация государственной политики». Понятно, что это не единственные причины, поскольку высокая температура воздуха и засуха от государственной воли не зависят. Особое место занимает потребительское отношение к лесной (и вообще природной) зоне, выраженное в банальном ее загрязнении продуктами пикниковой деятельности отдыхающего населения: окурки, стекло, незатушенные костры и прочее. Факторы, входящие в комплекс «деэкологизация государственной политики», являются весомыми детерминантами возникновения не только лесных пожаров, но и многих других экологических бедствий, а потребительская культура — если и не всегда причиной появления тех или иных бедствий, то следствием, выраженным в характере поведения людей, а также серьезным фактором риска наступления тех или иных экологических проблем, носящих антропное происхождение. Солидарность, взаимопомощь и добровольная поддержка ближних — качества, несовместимые с потребительством, и вместе с тем необходимые для разрешения локальных экологических бедствий типа пожаров. Теперь уже типична ситуация, когда при лесном пожаре вблизи какой-либо деревни тушением огня занимаются только жильцы этой деревни и только путем использования «того, что было под рукой», то есть без всякой (людской или технической) помощи от местных органов власти. В годы СССР проводилась мобилизованная и более активная работа как по профилактике экологических аварий и катастроф, так и по ликвидации их последствий. Сейчас чиновники в большей степени озабочены сугубо личными интересами, а потому проявляют меньшую заинтересованность в решении экологических проблем и, что самое страшное, специфика устройства федеральной властной системы позволяет чиновникам оставаться безнаказанными за свое тотальное бездействие (о чем свидетельствует в том числе представленный спектр «экологических» нововведений). И подобного рода безнаказанность исправно «работает» не только в контексте лесных пожаров в частности и экологических бедствий в целом, но в максимально широкой сфере; так, уровень коррупции среди государственных лиц продолжает расти, что указывает на усиление не санкционированного де-юре, но и недостаточно наказываемого де-факто индивидуального волюнтаризма. Поэтому верен тезис, что адептами культуры потребления также являются представители власти. И вполне возможно, что этот тип культуры намного ближе для них, чем для людей, не занимающих никаких государственных постов.
Еще в эпоху фундированного христианством европейского средневековья господствовало мировоззрение, согласно которому человек создан по образу и подобию божьему, и это привилегированное положение позволяет ему возвышаться над всем остальным миром, над природой. В Новое время, когда появился культ индустриального разума, идеология антропного хозяйствования во Вселенной получила практическое техническое обеспечение. Противопоставляя себя природе, человек не осознавал до конца свою зависимость от нее. Однако человек стал оказывать воздействие на природу не в век потребления, не в Новое время и даже не во времена Средневековья. На протяжении своей истории он постепенно наращивал давление на окружающую среду. Отношения сотрудничества плавно перетекали в компромисс, после чего обретали форму жесткой конфронтации. Природа долгое время терпела нарастающий антропный фактор и реализовывала стратегию ухода от конфликта, что не могло продолжаться вечно, и она ответила человеку на его расточительность и без(д)умность. Настоящее время — эпоха перемен, когда природный отклик на человеческую деятельность ощущается наиболее болезненно.
В первобытном состоянии человек путем естественного приспособления к природе обнаруживал свое единство с ней. Затем он стал менять окружающую среду в соответствии со своими потребностями. На смену присваивающему типу хозяйства пришел производящий; вместе с тем расширялся спектр человеческих потребностей, которые выходили далеко за рамки биологических, необходимых для выживания. Относительный достаток производимых продуктов обеспечивал демографический рост на планете, а расширение потребностей было сопряжено с появлением новых ремесел и усложнением культуры и общества. Общественные события отличались неотделимостью от природных; так, труд и отдых соотносились со сменой дня и ночи, а сев и сбор урожая повторяли времена года. Время было цикличным, основанным на традиционности, обращенности в прошлое; повторение прежних действий гарантировало достижение воспроизводства на прежнем уровне и отсутствие вредных изменений. Но впоследствии сельское хозяйство и ремесленное производство перестали в полной мере удовлетворять человеческие потребности, так как они позволяли производить ограниченный как в количественном, так и в ассортиментном отношении прибавочный продукт. Возникла необходимость в промышленной революции, с которой связаны многообразие новых технологий, фабричная организация труда, массовое производство, поточность стандартизированных товаров и переход на ископаемое топливо[59]. Производственно-торговая деятельность отделялась от сезонности и приближалась к линейной темпоральносги и точной хроноструктуре. Коммерция и промышленность заняли статус основных сфер деятельности, а торговые связи между сообществами стали обычным делом. Началась эпоха глобализации, когда общества сближались посредством постоянных контактов. Это сближение давало возможность «идти в ногу со временем», приобретая новые предметы и технологии, созданные в других обществах, но и делало общества зависимыми от общей политико-экономической ситуации в мире.
На протяжении почти всего своего существования человек успешно учился вырубать и выжигать леса и засорять природную среду, но ранее он, как правило, делал это по необходимости, для удовлетворения вполне реальных потребностей, и поэтому природа, будучи готовой к давлению со стороны человека, могла стойко переносить это давление. Сейчас же борьба с природой происходит под лозунгом фиктивных потребностей, в угоду принципу «потребление ради потребления», своей целевой самозамкнутостью демонстрирующего и свою полную бессмысленность.
Если в прошлые века процесс наступления человека на природу неуклонно нарастал, именно наше время (XX век) ознаменовало собой не только грандиозный научно-технический прогресс, но и максимальное разрушение экосистемы. Человек научился Создавать соединения, неизвестные природе, и вообще конституировать для себя жизнь, бесконечно далекую от той, которую именуют природной. В результате происходит невиданное ранее загрязнение воды, почвы и воздуха и подрыв основ существования многих видов рыб, птиц, животных и растений. Преодолевая суровости природы, человек стремительно множил свою численность и вместе с тем снижал планетарное биоразнообразие. Культура потребления требует увеличения производства, для чего необходимо огромное количество сырья, добыча и переработка которого зачастую энергозатратна и разрушительна. Истощение ресурсов и нарастание от-ходыой массы вытесняют естественное обновление природы. Без примата экологии и этики над экономикой мы все более приближаемся к катастрофе. К сожалению, идеология потребления противоречит таким концептам, как экономия, солидарность, ограничение и аскетизм, а вместо них возвеличивает противоположный концепт — максималистскую и безответственную трату. Планета Земля из родного дома превратилась в товар. Вещизм поработил человека, когда человек поработил вещество.
Явление вторичного использования природных ресурсов вступает в противоречие с образом жизни, основанным на трате. Вторичное использование ресурсов прослеживается на различных уровнях: от изготовления сухарей из невыброшенного черствого хлеба до демонтажа воздушного лайнера с извлечением еще пригодных приборов и разрезкой корпуса для последующей переплавки. Сгрудившиеся в военных портах отслужившие свое атомные подводные лодки — признак серьезного изъяна в теории, практике и экономике природопользования. Использование бумажной макулатуры позволяет при производстве одной тонны бумаги и картона экономить 4,5 м3 древесины, 200 м3 воды, в 2 раза снизить затраты электроэнергии. В 2–3 раза снижается себестоимость продукции. 15–16 взрослых деревьев остаются на корню. Из 1 т отходов полиэтилена получают 860 кг новых изделий, что экономит 5 т нефти[60]. Утилизация — один из наиболее важных компонентов экологического поведения.
Освободившись от природы, человечество ввергло себя в зависимость от создаваемых им же артефактов. Так, в современном мегаполисе не осталось природного и естественного. Научно-технический прогресс следует рассматривать не как прогресс человечества, а как преодоление своей биосоциальной сущности, самого себя, которое не ведет ни к какой человеко- и миросохраняющей цели. «Необходимо по-новому, строже, чем когда-либо, поставить вопрос об этическом контексте любого знания и любого типа действия, так как homo faber — человек деятельный — не должен подавлять homo sapiens — человека разумного. В противовес этике антропоцентрического гуманизма, осуществившей яростную денатурализацию человека, его максимальное отдаление от nature, необходимо отстоять собственное этическое право природы, переформулировав кантовский категорический императив посредством включения в него коренной задачи выживания человека и природы: «Поступай так, чтобы последствия твоего действия отвечали задаче непрерывности подлинно человеческой жизни на Земле»[61].
В массовой литературе, часть которой претендует на научность, муссируется идея грядущего глобального потепления. Казалось бы, в ней приводятся хорошо аргументированные доводы в защиту данной концепции, однако многие ученые с ней категорически не согласны, считая, что потепление — это миф, придуманный специально какими-то структурами, которым он выгоден. Недаром среди климатологов распространена следующая шутка: причина столь холодной погоды — глобальное потепление. С помощью кинофильмов типа «Водный мир», где показывается облик будущего человечества, оставшегося в живых после вызванного потеплением потопа, данная идея тиражируется (не специально ли?). Основной аргумент защитников идеи глобального потепления сводится к тому, что вырабатываемый в процессе человеческой деятельности углекислый газ оказывает влияние на климат, и рост концентрации этого газа приводит к потеплению. Однако данная идея была опровергнута; оказывается, ранее, тысячи лет назад, были периоды, когда концентрация углекислого газа достигала огромных масштабов, и это не вело к потеплению. Есть идея, согласно которой рост углекислого газа является не причиной, а следствием глобального потепления; берется он из океанов, так как растворимость газов в воде снижается из-за повышения температуры.
С точки зрения А. Никонова, углекислый газ и метан вызывают парниковый эффект, и если бы не поднявшая содержание в атмосфере парниковых газов промышленная революция, то планета начала бы сваливаться в ледниковый период, но… Само по себе потепление, выраженное в таянии льдов, не приведет ни к какому глобальному потопу, поскольку океанский лед итак погружен в воду на 90 %, а оставшиеся 10 % тоже безопасны — ведь плотность льда ниже плотности воды, и при растаянии ледника его объем уменьшится как раз на торчащую из воды часть. Таящие горные ледники также не представляют опасности, поскольку в них сосредоточен всего 1 % ледниковой воды. Кроме того, мировой лед, почти весь сосредоточенный в Гренландии и Антарктиде, растаять не может, так как даже при самом катастрофическом прогнозе тамошняя температура не повысится до нуля градусов, при которой тает лед. Потопа вследствие потепления не будет, — уверяет Никонов, — но уровень мирового океана немного поднимется, потому что при увеличении температуры тело мирового океана, как и все тела, расширяется[62].
Но ученые, выдвинувшие и доказавшие альтернативную концепцию, не получают ни финансирование, ни микрофон на каких-либо крупных конференциях, посвященных проблемам климатических изменений. Тем не менее предсказание о потеплении стало как недоказанным, так и распространенным убеждением, вызывающим чуть ли не панику в некоторых странах. Оно стало слишком удобным. Скорее всего, оно было сформировано для того, чтобы, видя в качестве причины якобы надвигающейся катастрофы человеческий фактор, затормозить процесс промышленного производства, а вместе с тем и развития некоторых стран.
Экологические проблемы, действительно, в последнее время становятся все более актуальными, и в своей совокупности они ведут планету к катастрофе, которая, правда, вряд ли примет форму глобального потепления. Однако мировые СМИ предвещают невероятно масштабное повышение температуры вследствие выбросов углекислого газа и связывают это повышение с грядущим потопом. На этой почве было создано Киотское соглашение, обязывающее как развитые, так и развивающиеся страны сократить выбросы парниковых газов. Эта пропаганда преследует не только цель экологизации, но и цель снижения роста развивающихся стран, удушение их промышленности, а значит, экономической и энергетической независимости. Неудивительно, что сильные мира сего также потребовали от других стран неиспользования необходимого для производства холодильников вещества под названием «фреон», которое якобы угрожает озоновому слою планеты; то есть они делегитимировали производство другими странами крайне важного оборудования — холодильного. Помимо этого, они, вооружившись риторикой о небезопасности для человечества атомной энергетики и ссылаясь на Чернобыльскую катастрофу, стали призывать к отказу от атомной энергетики, которая является важной частью суверенитета стран.
Причем киотский протокол не учитывает климатическую разницу стран-подписантов; так, в России только на отопление уходит много энергии, поэтому при следовании данному протоколу придется попрощаться и с промышленностью и с теплом. Так, может, если потепление вследствие выброса углекислого газа и произойдет, оно будет России как раз на руку, хотя, конечно, на состоянии атмосферы выброс вредных веществ отразится. Ведь меньше придется тратить энергоресурсов на обогрев и, соответственно, в стоимость производимых в нашей стране товаров уже не будет входить стоимость потраченного на сопутствующий обогрев топлива. А таяние льдов ныне бесполезного для судоходства Северного Ледовитого океана обеспечит постоянную доступность северного морского пути. В таком случае реализация киотского протокола еще более самоубийственна, так как она лишит нас не только львиной доли промышленности, но и серьезных экономических потенций, связанных с экономией на потреблении ресурсов и вытекающего отсюда повышения уровня жизни россиян.
Интересно то, что США не стали присоединяться к данному документу, хотя доля их выбросов в атмосферу, согласно одним источникам, составляет 1/7 от общего количества выбросов[63], а согласно другим, она составляет 25 %[64]. Кроме того, США потребляют за счет порабощенного ими третьего мира огромное количество ресурсов, гораздо большее, чем кто-либо другой. Преобладание империалистических американских мотивов, а также свойственных их корпорациям интересов «экономической целесообразности» идут рука об руку с искажением экологических приоритетов. Антиэкологические практики для мирового лидера выгодны, так как корпорации заинтересованы в экономии на природоохранных мерах; соблюдение экологических требований приведет к огромным потерям в бизнесе, чего США позволить себе не могут. А вот навязать другим пытаются. Возникает дилемма мирового масштаба: богатые страны не желают поступиться своим потребительским образом жизни, а бедным просто необходим экономический рост, поддерживаемый за счет увеличения промышленного производства, уровень которого (и объем выбросов) не идет ни в какое сравнение с уровнем (и объемом выбросов) развитых стран. Мировой гегемон, ответственный за огромную долю загрязнения, абсолютно непропорциональную численности его населения, пытается возложить бремя ответственности за климатические изменения и решения этих проблем на тех, чей вклад в загрязнение природной среды намного ниже. Если бы все страны мира резко повысили уровень потребления до той отметки, которая свойственна США, планетарная катастрофа произошла бы внезапно. США вообще не приемлет никаких международных ограничений для себя, но воздействовать на весь мир пытается изо всех сил. Американцы наверняка понимают, что если все будут поступать таким образом, человечество исчезнет, но наделяют себя исключительной привилегией, думая, что все так не поступят, а потому и бояться тут особо нечего; «мы будем зарабатывать, а они нас спасут». Это доказывает не только наглость американской внешней политики, но и факт реагирования рыночной экономики непосредственно на краткосрочные перспективы, а не на долгосрочные интересы. Здесь заключается еще одно отличие капитализма от социализма; преобладание человека экономического над человеком разумным. Далеко не каждое действие человека основывается на разуме, также как и далеко не вся деятельность человечества укладывается в рамки разума, поэтому стоит поставить под сомнение убежденность в том, что человечество живет именно в ноосферном пространстве.
К сказанному стоит добавить, что обязательства развитых стран ежегодно отчислять 0,7 своего ВВП на охрану окружающей среды и помощь слаборазвитым странам, соответствующие решению Конференции ООН по окружающей среде 1992 г. в Рио-де-Жанейро, не выполняются[65]. Те, кто благоденствуют (не только правительства развитых стран, но и многие погрязшие в коррупции политические элиты развивающихся стран), понимают необходимость изменения экологической ситуации — прежде всего не для будущего человечества, а для своего будущего. Но они желают возложить обязанность реализации этих изменения на чужие плечи, предпочитая оставаться в стороне.
Крайне ошибочно оправдывающее недостаток российского производства представление, будто Россия призвана вечно выкачивать нефть и газ, а другие страны призваны их покупать. Добыча нефти не простирается в вечность, так как нет достаточной компенсации за отработку использованных месторождений вновь открываемыми, и эту истину поймут наши обнищавшие потомки. Вообще, в медиа-среде присутствуют разные оценки объема залежей природных ископаемых в России. В официальных СМИ фигурируют крайне оптимистичные оценки, которые объясняются тем, что СМИ принадлежат правительству и экспортерам ресурсов (что в принципе одно и то же); не будут же они, основывая экономику на сырье, говорить о недостатке этого сырья и тем самым возбуждать народное возмущение по отношению к самим себе. Но если мы прислушаемся к мнению А.П. Паршева[66], то выводы относительно объема залежей нефти и газа будут не очень оптимистичными. Нет точных данных по объему залежей. И даже если бы он соответствовал самым оптимистичным прогнозам, нельзя выстраивать экономику на сырье (когда-нибудь оно все равно закончится) и, несмотря на крайне тяжелые для производства климатические условия в России, необходимо переориентировать экономику с сырьевого вектора на производительный. Или же, что менее вероятно, в связи с нахождением экологически чистого заменителя нефть утратит свою нынешнюю ценность, упадет в цене и окончательно погаснет звезда пленительного счастья российской экономики. Упасть в цене она может в том числе и под влиянием наших весьма сильных геополитических конкурентов, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия продавала нефть по высоким ценам. А заменитель искать надо, поскольку экологический кризис, вызванный антропогенным фактором, не за горами. Возникает щекотливая ситуация, основанная на дилемме: или экологически чистая бедность, связанная с недобычей и неиспользованием природных ресурсов, или экологически вредное богатство. Поэтому полезны были бы политические влияния на состояние экологии; например, введение налога на эмиссию углекислого газа, а также влияние на корпорации, чтобы они инвестировали средства в новые экологически чистые технологии. А при рекламируемом во всем мире либеральном режиме невмешательства государства в экономику это сделать будет сложно. Однако сегодня самое время говорить о необходимости нахождения принципиального заменителя, альтернативы вредному производству. И не просто о необходимости его нахождения, но и внедрения.
После очередного взлета нефтяных цен Бразилия обратилась к активному использованию такого нетрадиционного источника энергии, как этанол, содержащий вырабатываемый из сахарного тростника спирт. Уже создано большое количество автомобилей, рассчитанных на использование этого вида топлива. Цена литра этанола на 40 % дешевле литра бензина. Помимо этого, данное топливо сокращает выброс вредных веществ в атмосферу. Государство стало выдавать дешевые кредиты компаниям, специализирующимся на постройке спиртозаводов и подняло налоги на бензин. В результате производство этанола за последние годы серьезно возросло. Затем бразильское правительство подписало с крупнейшими мировыми автопроизводителями соглашение, обязывающее тех собирать в Бразилии модели машин, функционирующих на спирту. Потом, в зависимости от колебаний мировых цен на нефтепродукты и сахар, власти Бразилии путем регулирования соотношения компонентов в смеси из бензина и этанола инициировали создание автомобилей на «гибком» топливе[67]. Сегодня, кстати, участились разговоры о переходе автомобилей на «гибкое» топливо, которое будет приносить меньший вред атмосфере. Также говорят об усовершенствовании автомобилестроения таким образом, что автомобили, по-прежнему работая на бензине, будут более экономно расходовать данное топливо.
В США тоже не сидят сложа руки; предпринимаемое ими развитие технологий добычи метана из сланцев (в отличие от более дешевого, но менее эффективного традиционного способа добычи газа) и перевод автотранспорта на электромобили может сильно ударить по российской экономике[68]. Это произойдет, если наш е-мобиль не станет пользоваться спросом за рубежом, а рост конкурентоспособности на мировом рынке российских автомобилей маловероятен. Неизвестно также является ли электромобиль действительно серьезной альтернативой традиционным автомобилям. Так, А. Никонов утверждает следующее. Электромобиль-очередной миф экологов, поскольку автомобили в совокупности потребляют в 2 раза больше энергии, чем вырабатывают все электростанции, удвоить количество которых нереально. К тому же для производства миллиардов электромобильных аккумуляторов придется построить столько вредных предприятий, что выбросы от них перекроют все автомобильных выхлопы. А. Никонов в качестве достойной «чистой» альтернативы видит водородную энергетику и считает вполне возможной переориентацию автомобилей на водородное топливо[69]. Но переход на принципиально новое топливо повлечет за собой тотальную реконструкцию мировой инфраструктуры, а это займет очень много времени. Да и вряд ли американский политический и экономический истеблишмент всерьез планирует переходить на новые энергоресурсы и уж тем более не заинтересован в том, чтобы на эти ресурсы переходили другие страны, конкуренты. Ведь не для того американцы вели затратные войны, влекущие долгожданный захват нефтяных месторождений, чтобы потом просто взять и перейти на альтернативные источники энергии. Этот переход обесценит львиную долю политических инициатив США, а также приведет к банкротству транснациональные корпорации, специализирующиеся на, скажем так, традиционной энергетике. Видимо, влиятельные Штаты просто готовят альтернативные технологии для крайнего случая, если мировые запасы нефти им удержать не удастся.
Призывы к полному отказу от нефти утопичны, так как нефть является не только источником для работы транспорта, но также сырьем для производства асфальта и пластмассы, а часть электроэнергии производится из нефтепродуктов.
«В России были созданы условия, несовместимые с воспроизводством жизни, — пишет С.А. Батчиков. — Эти условия парализовали общество и блокировали его способность к сопротивлению планам глобализации»[70]. По справедливому замечанию Батчикова, оставленное в нашей стране на голодном энергетическом пайке хозяйство при постоянном расширении экспорта энергоносителей указывает на опасность сговора правительства с мировой финансовой элитой о совместной эксплуатации природных ресурсов России и об учреждении в этой сфере «транснациональной корпорации-государства». Вообще, в соответствии с глобальной политикой, рост экономики ведущих стран достигается не развитием производства, а перераспределением богатства путем резкого ослабления национального государства (например, долговая ловушка), приватизации и скупки ресурсов. И несмотря на то, что ресурсы в нашей стране есть, живем мы по-прежнему бедно, а национальному богатству никакой рост и не светит. Приближенные к власти фигуры больше думают о своих карманах, чем о развитии производственного сектора; газ продается, нефть продается, лес вырубается и продается, сельское хозяйство разрушено — в этом заключается «нормальный» русский бизнес. Сейчас в России усовершенствуется не производство и технологии, а активная распродажа собственных ресурсов. Производства нет, зато есть отлаженная технология производства иллюзии производства. Подкормленные финансисты призваны прятать денежные потоки, а не инвестировать их в развитие производства, пиарщики — создавать и множить в медиапространстве лживые идеологемы о развитии и модернизации, а интеллектуалы — при помощи «подтягивания» науки под реальность оправдывать порядок вещей, который не смогли скрыть пиарщики (так что наука была служанкой власти не только в СССР). Наша страна продает ресурсы за деньги покупающей страны; если бы мы продавали ресурсы за рубли (и не в таком масштабе), то, возможно, наше экономическое положение улучшилось бы. И, несомненно, оно улучшилось бы, если бы государственная политика действительно ориентировалась на рост ВВП, а не на его снижение, а также на рост благосостояния населения.
Не стоит сводить все беды народа к состоянию ВВП. Далеко не в каждой стране с высоким ВВП обычные люди живут обеспеченно, поскольку благостный эффект от экономического роста может просто не доходить до людей и тормозиться где-то на уровне министров и прочей номенклатуры. ВВП, указывающий на уровень экономического развития страны, не является объективным критерием национального успеха. Вместе с тем ни в одной стране с крайне низким уровнем ВВП не будет наблюдаться высокое материальное положение народа. То есть ВВП является необходимым, но не единственным условием роста народного (именно народного) благосостояния, так как благосостояние людей зависит не только от качества их труда, но и от характера осуществляемого над ними управления. Потому нет смысла абсолютизировать ВВП, как это делают многие авторы. Да, рост ВВП необходим, но он вовсе не обязательно приносит людям благосостояние и счастье. В конечном счете, в мире есть страны, где экономический рост отстает от американского, но имеются свободное время, низкий уровень преступности, высокая гарантия занятости и более высокая общая удовлетворенность жизнью. Нужен не просто рост ВВП, а сохранение баланса между экономическим ростом и качеством жизни, которое выражается не только в материальных показателях, но и в духовных, таких как свободное от работы время. К тому же рост ВВП обычно компенсируется ухудшением экологии.
Для поддержки отраслевой экономики необходимо работать, и очень хорошо работать, а также инвестировать, и еще не факт, что получится создать качественный и конкурентоспособный продукт, который с руками оторвут. А нефть отрывают, и работать для ее продажи особо-то не требуется; сырьевая экономика, в отличие от отраслевой, дает возможность обогащаться здесь и сейчас. Она большее предпочтение отдает спекуляции, а не производству. Так какая экономика более заманчива? Конечно, сырьевая. Но этот выбор идет рука об руку с лицемерным принципом «после нас хоть потоп». Даже при выборе между постройкой промышленного предприятия или торгово-развлекательного комплекса чиновники предпочитают выбирать второе, поскольку развлекательный комплекс даст прибыль немедленно, а промышленный объект — спустя значительное время; такой выбор идет на пользу чиновникам, но не стране.
С ростом конкуренции в области добычи нефти и газа или с появлением их заменителей российские (и арабские) газо-нефтяные ресурсы мало кому понадобятся и уж мало кто захочет быть зависимым от РФ. Более того, пока мы обладаем природными ресурсами и пока они представляют ценность на мировом уровне, сильным странам мира сего есть смысл нас эксплуатировать (а также поддерживать экономическую не-конкурентоспособность). Когда же они закончатся или когда упадет их ценность, Россия станет страной, которую не имеет смысла эксплуатировать, а ее население получит статус избыточного; оно уже, можно сказать, его получило — вспомним слова М. Тэтчер о целесообразности оставить проживать на территории России 15 млн человек. Вот такая ирония; в случае перехода мирового сообщества на более экологически чистое топливо природа вздохнет с облегчением, но спекулятивная и антиприродная российская экономика скукожится донельзя. В случае же падения цен на нефть (выгодного мировым банкирам), даже без перехода человечества на альтернативные энергетические источники, российская экономика также потерпит крах. Именно этот сценарий наиболее вероятен в стране, где вместо созидателей правят бал спекулянты, и в условиях, где призывы о модернизации раздаются разве что только в новостях и успешно нивелируются откатами, рейдерством, взяточничеством и т. д.
Потребление является причиной и условием кризиса личности, общества и природы. Когда в обществе нарастает удельный вес апологетов меркантильного потребления, социум заражается этой идеологией, что в конечном счете приводит не только к самодеградации, но и к хищническому отношению к природным богатствам. Большая доля ответственности за ухудшение экологии должна возлагаться в том числе на государство, задача которого — стимулирование инвестиций в новые ресурсосберегающие и экологически чистые (биосферосовместимые) технологии. Эти технологии способны не только снизить оказываемое на природную среду давление, но и посредством инновационного потенциала, обеспечивающего ресурсоемкосгь, а потому и низкую себестоимость продукции без потери ею качества, увеличить конкурентоспособность отечественного товара. Речь идет прежде всего об инновационных проектах, связанных с использованием энергии солнца, ветра, приливов. Без грамотной не только государственной политики, но и совокупности государственных политик, экологическую проблему решить невозможно. «Если раньше человечество испытывало локальные и региональные экологические кризисы, которые могли привести к гибели какой-либо цивилизации, но не препятствовали дальнейшему прогрессу человеческого рода в целом, то теперешняя экологическая ситуация чревата глобальным экологическим коллапсом, поскольку современный человек разрушает механизмы целостного функционирования биосферы в планетарном масштабе»[71]. В борьбе с масштабным экологическим кризисом частногосударственных средств явно недостаточно. Экология стала общенациональной проблемой, и, соответственно, реализация экологических проектов требует совместных действий правительств всех стран. Защита окружающей среды должна стать элементом политики любого государства. Так как каждая страна интегрирована в единую глобальную систему, забота о природе должна быть одним из основных аспектов международного сотрудничества.
На некоторых научных конгрессах все чаще слышатся осознанные призывы к созданию мирового правительства, которое сможет совладать с возникшей экологической ситуацией. Однако тем, кто стремится к мировому господству, как раз эти призывы и нужны, поскольку они легитимируют саму идею формирования мирового правительства. Следует знать, что целенаправленная поддержка данной идеи ни к чему хорошему не приведет. В целях ее легитимации часто спекулируют на невозможности самостоятельного (национального) решения как экологических проблем, так и проблем, связанных с так называемым мировым терроризмом.
Проблема состояния окружающей среды не является сугубо политической, а потому не поддается решению одними лишь политическими средствами. Не стоит также забывать о том, что смягчение экологической опасности связано с соответствующими сдвигами в мировоззрении и образе жизни. Заметим, что конституировать мировоззренческий переход от потребительских ценностей к ценностям умеренности, самоограничения и коллективизма у жителей развитых стран очень сложно. Они настолько глубоко интегрировались в жизнь представителей «welfare state» (или просто обществ, не являющихся благоденствующими, но пронизанными этой с идеологией, как Россия), стали самой сутью человеческого существования, что подвергнуть их резкой трансформации не представляется возможным. Поэтому жители развивающихся и откровенно бедных стран, не привыкшие к роскоши, скорее всего более лояльно относятся к факту каких-то материальных потерь, которые пойдут на общее дело. Но этот тезис не означает бесполезность и тщетность культурных сдвигов в среде потребительских обществ; несмотря на трудность их осуществления, а также и благодаря этой трудности, просто необходимо сделать все возможное, чтобы потребительская идеология стала днем вчерашним в деле решения проблем сегодняшних и завтрашних, ибо сдержанность есть морально-психологический фундамент планетарной выживаемости человечества. «По образному выражению Д. Белла, мы доросли до нового словаря, ключевым понятием в котором будет предел (limit): роста, расхищения окружающей среды, вмешательства в живую природу, вооружения и т. д.»[72].
Не имея достаточного объема знаний о состоянии окружающей среды, человек не может переориентировать свой образ жизни в сторону инвайронментализма. Поэтому необходима качественная информированность общества о проблемах окружающей среды, и особенно актуален этот вопрос сегодня. Информированность в результате должна не просто расширять знаниевую базу, а обогащать «практическое мировоззрение» и приводить к осознанию значимости роли даже одного человека в деле сохранения природы. Только при достаточной информированности вкупе с отказом от нарциссично-обывательской потребительской парадигмы система знаний способна перерасти в систему убеждений, которые, в свою очередь, сформируют соответствующий образ жизни. Приведем две цитаты. «Если не осознавать ценности самого «инвайронменталистского» образа жизни, ценности сохранения природы для каждого человека и общества в целом, то переход к экологически ориентированному образу жизни навсегда может остаться в сфере мечтаний и желаний, а не реальности»[73]. «…Экономическое сознание как сознание ответственное исходит из понимания факта ограниченности ресурсов и необходимости их наиболее рационального потребления. Но от экономического сознания до ответственности поведения субъектов хозяйственной практики дистанция огромного размера. Соблазны и искушения, страсти и эмоции постоянно заставляют человека отклоняться от первоначально установленного мотива поведения. Тем самым мотив не становится императивом, побуждение — нормой, установка — правилом, мысль — убеждением»[74].
Некоторые ученые, посвятившие свои труды проблематике потребительства и его влияния на экологию, настолько увлекаются критикой человеческого покупательного поведения, что молчаливо предлагают, ни много ни мало, вообще перестать покупать. Это предложение носит молчаливый характер потому, что его прямая вербализация выглядит крайне абсурдной. Однако впавшие в безудержную критику современной цивилизации экологи в своих умопостроениях приходят именно к такому выводу, который носится в воздухе, но не высказывается. Звучит он примерно так: «хочешь сохранить природную среду — перестань покупать». Акцентируя внимание на большой совокупности природных ресурсов, необходимых для создания телевизора, компьютера, кофемолки и прочих изобретений техносферы, они намекают на отсутствие необходимости пользоваться этими изобретениями, а значит, их покупать и, соответственно, их производить. Вряд ли эти авторы сами живут в пещерах, носят набедренных повязки и принципиально отказываются от использования в своей жизни данных технических гаджетов. Поэтому такой выходящий за рамки приличия морализм, в основном пропитанный ханжеством и лицемерием, неуместен. Впадая в него, исследователь забывает различие между потреблением и просто покупательным поведением. Второе ориентировано на необходимость для жизни и обеспечение минимального комфорта и не имеет никакой связи с модным расточительством, подчеркивающим статусность. Производство всех используемых человечеством гаджетов, да и само применение в повседневности некоторых из них, оказывает негативное воздействие на окружающую среду, последствия которого распространяются по всей экосистеме планеты. Но вынужденное воздействие является не потребительской тенденцией, а всего лишь средством существования. Реализовывать покупательное поведение необходимо каждому человеку, но оно должно быть рациональным, основанным на осознании действительной нужности тех или иных предметов, и не должно перерастать в оголтелое потребительское поведение.
Совокупный результат всей человеческой деятельности не способствует повышению жизнепригодных свойств среды. Если так будет происходить далее, человек закрепит за собой статус не только убийцы биосферы, но и самоубийцы, поскольку он является частью этой биосферы, а не демиургом, способным подчинить себе природу. Безудержное потребление сейчас обязательно приведет к необходимости расплачиваться потом. И эта расплата, возложенная на плечи будущих поколений, окажется крайне серьезной. Явно наши потомки не ответят нам благодарностью за те проблемы, которые мы создали и взвалили на них. Ставя под угрозу жизнь потомков, человек реализует норму опережающего действия (сначала делает, а потом осознает последствия), чем подавляет не только природный инстинкт самосохранения, но и всякое чувство ответственности перед будущими поколениями. Принцип «Не навреди!» по отношению к окружающей среде безвозвратно устарел и должен смениться принципом «Спаси любой ценой!». Наличие планетарных экологических проблем, общих для всех стран, порождает нацеленность на их совместное решение и придает международнополитической системе конструктивный стержень для экологической деятельности. Необходимо создание не планетарной культуры, о которой много говорят и которая на практике сводится всего лишь к приведению многих культур к общему знаменателю, а планетарной экологической этики как некоей общекультурной универсалии, построенной на глубоком сходстве экологических ценностных ориентаций и стимулирующей соответствующее общесоциальное поведение. Она должна привести к регулированию отношений по защите экологии человеком от самого себя. Пусть экологическая этика будет представлять собой единство в культурно-национальном многообразии. Именно на ней как наднациональной системе регламентации должно основываться международное экологическое право, работающее, а не просто созданное. И работающее явно не в одностороннем порядке, как происходит со многими соглашениями и конвенциями, а являющееся действующим результатом консолидированной воли мирового сообщества.
Конечно, и в политическом, и в идеологическом, и в экономическом, и в экологическом плане каждая страна сейчас, не отходя от принципа «с волками жить — по-волчьи выть», чтобы сохранить целостность и не попасть под внешний диктат, должна выстраивать стратегию национально ориентированного эгоизма. Именно национально, а не индивидуально ориентированного, как это делают некоторые диктаторы, забывающие про интересы народа и сохраняющие целостность страны не для народного процветания, а сугубо для личного благополучия. Однако этот путь хоть и имеет массу плюсов по сравнению с путем конформного следования директивам США, которые стремятся навязать выгодный для себя режим другим странам, все-таки соответствует стратегии занимания лучшего места в аду, где все враждуют со всеми. В идеальном смысле ад должен смениться чем-то большим, миром, где не перекладывается ответственность по-детски с одних на других, когда одни говорят, что, мол, пусть сначала мои соседи снизят вредное производство, а потом уже этим займусь и я. Вот в чем и заключается экологическая этика будущего. Экологическая безопасность, как и ядерная, не призвана обеспечиваться для какой-то одной страны и одного народа. Бессмысленно эту безопасность выстраивать в контексте национального эгоизма, так как она может быть лишь равной для всех акторов планетарной системы.
Глава 5. Истоки появления потребительской культуры
По нашему мнению, культура потребления в ментальном смысле не свойственна русскому народу. Наш народ всегда воспитывался в условиях несвободы и нищеты. Эта культура несвободы и бедности на протяжении сотен лет все глубже и глубже укоренялась в сознании русского народа посредством режимов татаро-монгольского ига, Ивана Грозного, Петра I, И. Сталина. Отсюда с неизбежностью возникли терпеливость и низкие притязания (захудалый кров, кусок хлеба и какая-никакая одежка — этим быт и полнился). Культ легких денег, стремление к наживе противоречат русской культурной традиции. Недаром издревле на Руси были в обиходе пословицы типа «Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою», «Домашняя копейка лучше обхожего рубля», «Деньга лежит, а шкура дрожит». Еще Н. Бердяев писал: «Россия — самая не буржуазная страна в мире; в ней нет того крепкого мещанства, которое так отталкивает и отвращает русских на Западе… Россия — страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и искателей, страна мятежная и жуткая в своей стихийности, в своем народном дионисизме, не желающем знать формы»[75]. Однако эти слова максимально применимы к прежней России, быт которой действительно отличался от мещанства и вещизма, но едва ли фраза Н. Бердяева подходит для описания характера доминирующей сегодня российской культуры.
Мы не даем однозначно положительных оценок аскетизму, который нам так долго прививался, поскольку он также является крайностью, обратной стороной потребительства, однако, учитывая его долгую укорененность в сознании русского народа, можно однозначно заявить о чуждости потребления для русской души. В последнее время океан потребительства огромной волной захлестнул русскую культуру, а само это потребительство — скорее изобретение Америки (страны без корней и культурного богатства), но уж явно не России, которая, несмотря на это, руководствуясь интересом к заморским диковинкам, не преминула примерить на себя соблазнительные и красочные одежды потребления. Это произошло аккурат после развала СССР, культура которого проповедовала нестяжательство и солидарность. Известный социолог П. Сорокин писал: «хотя Советы и подобные им режимы ввели негуманную регламентацию жизни миллионов своих граждан, вместе с тем они освободили эти миллионы от многих прежних форм подчинения и эксплуатации. <…> эти режимы сформировали у своих граждан не только менталитет и поведение регламентированных и порабощенных заключенных, но также характер, энтузиазм и поведение членов свободного «мы-коллектива», добровольно объединенного взаимной симпатией и ответственностью, взаимной помощью, свободным сотрудничеством и неэгоистической любовью в одну огромную семью, или братство»[76]. В СССР культивировалось производство, а не потребление. Причем основной целью этого производства выступало не индивидуальное обогащение, а построение общества благоденствия; соответственно, вместо потребительского индивидуализма и меркантилизма проповедовались социально ориентированные ценности. Фокус внимания ставился на духовных ценностях, в противовес материальным, и социальная политика следовала курсу преодоления общественного неравенства, а не его усиления. Человек трудился не только ради личных благ, как это происходит в потребительском обществе, а ради благ общественных, которые ставились значительно выше личных. Он был голодным, но с минимальными запросами по отношению к себе. Так что трудоголизм, характерный и для того и для другого общественного уклада, будучи проявлением инструментальной ценности, служил различным терминальным ценностям. В одном случае они носили характер сугубо личных, а в другом — личнообщественных. Вместе с тем в потребительском обществе труд сам по себе ценится значительно ниже, чем в социалистическом; более того, он порицается.
То есть советская культура представляла собой не-потребительскую культуру, во многом противоположную культуре потребления. Последняя, насаждаемая со времен перестройки, стала возводить в культ жесткий социал-дарвинизм и принцип жесточайшей конкуренции. Отказавшись от почти архетипических традиций, люди стали охотно прислушиваться к новым демагогам, которые проповедовали «пролиферацию ничто», разрастание «пустых форм». Труд в России после перестройки перестал быть главным фактором преуспевания, а потребительская культура вообще вывела его в лоно маргинализма, одарив чуть ли не позорным клеймом. Произошла нарушившая социально-культурный код и поспособствовавшая росту преступности тотальная релятивизация (постмодернизация) ценностей, проявившая себя в вылившихся бурным потоком эстетике гламура, индивидуалистических идеалах потребления, уголовной лирике, телевизионном насилии и т. д.
В США как одном из образцов капиталистического государства статус общекультурных принципов занимают принципы конкуренции и рынка, выраженные в идеологии «помоги себе сам», что идет вразрез с этикой взаимопомощи. Капитализм только условно называется демократическим режимом, а на самом деле в нем голосуют деньгами; у кого денег больше, на той стороне перевес. Отождествление свободы с частной собственностью противоречит принципу фактического равенства людей, так как далеко не все обладают этой собственностью в равной мере. Сама конкурентная борьба в условиях свободного рынка, за который так ратует либеральная идеология, оборачивается материальным неравенством. Каждый имеет право на собственность, но не каждый реально владеет ею, да и собственность конкретных лиц сильно разнится друг от друга. Хоть все и наделены одинаковыми правами, никто не равен никому. И даже если допустить, будто в условиях конкуренции на рынке побеждают самые достойные (чего, естественно, нет), в таком случае тоже налицо нарушение принципа социального равенства, так как отсутствует система распределения богатств. В состоянии усиливающегося неравенства и текучей неопределенности многие как индивидуальные, так и социальные недуги усиливаются, поскольку само неравенство — это триггер, обоснованно ассоциирующийся с острой несправедливостью и запускающий агрессивную реакцию (как на окружающих, так и на себя). Непонятно вообще, как апологеты рынка могут защищать данную систему ценностей, если был зафиксирован низкий уровень имущественного расслоения, безработицы, преступности, самоубийств, наркомании и психических расстройств, а также более высокий уровень жизни, нравственной культуры, образования, и высокий показатель научных изобретений в обществах, где преобладает относительное равенство. Люди не были так разобщены, они больше доверяли друг другу, и это доверие выражалось в отсутствии домов-крепостей, неприступных заграждений с табличкой «частная собственность», вооруженных до зубов охранников, скрытых систем видеонаблюдения, сигнализаций на автомобилях и кодовых замков на дверях подъездов. «Если национальной идеей позднесоветского человека была отдельная квартира, то национальной идеей человека постсоветского стала дача с глухим забором — ментальный символ современных россиян»[77]. Отгороженный средствами безопасности дом формирует некое иное минипространство, находящееся внутри большого городского пространства и вместе с тем отличное от него. Сами же средства защиты в своей совокупности создают некую новую форму эстетики — эстетику безопасности. Парадоксально то, что в условиях глобализации, которая вроде бы разрушает границы, закономерным образом границы возводятся. Только это те границы, которые как раз и нужно разрушить, ибо они плотными стенами недоверия отделяют людей друг от друга. Возведение границ, изолирующих людей друг от друга, стало стратегией достижения индивидуального комфорта и безопасности. Те, кто успел более или менее долго пожить при советском строе, вспоминают о безбоязненном отношении к ночным прогулкам по городу и вообще о более высоком уровне доверия между людьми; сейчас общественное доверие и взаимопомощь стали всего лишь предметом ностальгических воспоминаний. На наш взгляд, это является настолько' важным показателем, что он способен перечеркнуть все достоинства (и, конечно, то, что принято считать достоинствами) постсоветского времени. Люди утратили доверие друг другу, они опасаются друг друга, боятся уличной преступности, и потому ограждают себя средствами безопасности. Вместе с тем архитектура безопасности только усиливает страх как утех, кто ею пользуется для отделения себя от «враждебного» мира, так и у тех, кому она постоянно попадается на глаза, маячит перед взором и своим присутствием легитимирует собственную функциональность и полезность во «враждебном» мире. Сегрегация усиливает саму себя, и физическое отделение идет рука об руку с психологическим. К счастью, эта сегрегация пока не достигает гипертрофированных размеров, не приводит к геттоизации городского населения, к его фрагментации, к физическому отделению различных социальных слоев (или сообществ) друг от друга, вследствие чего возникла бы однородность пространства, результат которой — максимальное снижение навыка общения с «другими» и терпимости к различиям, а также усиление боязни незнакомцев.
Потребительские идеалы санкционированы религиозной культурой США — протестантизмом, а именно кальвинизмом и лютеранством. Эти религии, в противовес исконно христианскому нестяжательству и его негативному отношению к материальным благам, возвели в культ карьеризм и стремление к максимальному материальному достатку. Несмотря на то, что протестантизм поощряет бережливость и трудолюбие, он также легитимируют индивидуализм, приумножение финансов, деловую коммерческую активность, предпринимательство, рисковость, расчетливость. Если православие опирается на безвозмездную службу Богу, то основой протестантизма является некая договоренность с богом, сводящаяся к постулату «я пожертвовал деньги — и Бог мне должен». Если в православии Бог не может выступать субъектом договоров с человеком, в протестантизме он как бы частично утрачивает свой божественный статус и снисходит до человека, можно сказать, потакает ему. Взаимоотношения между человеком и Богом подверглись кардинальной трансформации; Бог переселился из недосягаемого человеку трансцендентного мира с присущими ему незыблемыми нравственными требованиями в лоно человеческой повседневности, где нравственные императивы зыбки и изменчивы. Протестантизм послужил почвой для возникновения потребительства. Декларируя одновременно ценности труда и потребления, он как бы разрывает человека на части, антагонизирует его. Кроме того, протестантизм служит идеологической ширмой для закрытия глаз на коррупцию, поскольку постулирует правило, согласно которому богатство достигается изнурительным трудом. Соответственно, в его идеологии не находится места объяснению реального стечения обстоятельств, когда те или иные преступники, коррумпированные политики или не занимающиеся изнурительным общественно полезным трудом спекулянты достигают финансовых высот. Протестантизм на это не обращает внимания. И для него богоугодным человеком является богач, а бедняк, наоборот, ставится на периферию богоугодности.
Американский инфантилизм граничит с обостренной рациональностью, как бы ни парадоксально на первый взгляд эта мысль не воспринималась. Разум создает вокруг себя периферию неразумия, которое одновременно стремится уничтожить разум и фактом своего «неразумного» существования конституирует его. Поэтому разум слишком обостренно относится к явлениям, не вписывающимся в него. Американский разум до неразумия чувствительно относится к любым неполадкам и катастрофам — от самых мелких до совсем крупных (типа терактов 11 сентября). Даже малейший непорядок, не согласующийся с господствующей рациональностью, привлекает огромное — буквально параноическое — внимание. Когда с неба по непонятным причинам сыплется больше снега, чем обычно, американцы в панике. Когда река немного выходит из берегов, американцы в панике. Даже когда по радио вещали «Войну миров» Г. Уэллса, население штатов восприняло эту трансляцию за чистую монету — не за художественное произведение, а за новость о пришествии инопланетян, — что вызвало вполне нормальную для американцев панику (не знать этот почти классический роман — уже слишком).
Отдельного сарказма заслуживает прижившаяся в США система предупреждений, касающихся различных товаров. В инструкции к стиральной машине говорится о запрете на помещение кошек в агрегат. Простая лестница имеет предупреждение не танцевать на ней и не прыгать. Складывается впечатление, будто американцам непонятны простые истины. В принципе при сильном желании можно написать к любому бытовому предмету или продукту питания бессчетное множество предупреждений, только смысла в них нет. Эти предупреждения пишутся, конечно, не вследствие глупости американцев, которые не отдают отчет своим действиям, а для предотвращения возможных судебных исков. Например, ребенок сунул руку в духовку и обжегся. Если в товарной инструкции отсутствовало упоминание об опасности обжечься, производящая газовые плиты компания несет ответственность за то, что не предупредила о потенциальных последствиях эксплуатации. Однако абсурдность таких предупреждений говорит об абсурдности их судебной системы, которая, конечно, в гипертрофированном виде, представлена во всей красе в фильме «Трасса 60» Почему-то в России нет этой абсурдности и никто даже не думает судиться по подобным делам. У нас люди в большей степени понимают свою ответственность и предпочитают нести ее сами, в отличие от американских потребителей, перекладывающих ее на производителей товаров потребления.
После уничтожения Всемирного торгового центра — одного из символов капитализма и американской мечты — население США недоумевало: «неужели это произошло с нами?! Неужели в нашей великой стране возможно ТАКОЕ?! Неужели наш разум позволил этому случиться?!» Именно потому что их разум не позволяет этому случиться, ЭТО случается. Нападки на Америку буквально разрывают ткань реальности для американцев. Их инфантилизм и нарциссизм диктует убежденность в том, что случившееся — это патология, сбой в системе, происки враждебных и ненормальных «других», а не норма, не трагическая вписанность в реальность. Хотя это и вправду «другие», но вопрос в том, что «другие» для американского населения не только мусульмане, как привыкла думать широкая общественность, но и руководители транснациональных корпораций. Свойственные американцам самолюбие, нарциссизм, обостренный разум прагматика-параноика-ребенка, высокий уровень материального существования, экономическое благоденствие служат барьером не только для развития культуры, но и для элементарной рефлексии. Экономическое развитие — еще не показатель общественного прогресса. Именно культура, а не экономика — духовный дом человечества. Экономически процветающей стране нет острой надобности в высокой культуре. У них есть техно-цивилизация, у них есть американская мечта. И у них есть возможность и стремление насаждать ее другим. Но у них нет ни малейшего понимания того, почему некоторые «другие» яростно противодействуют американизации.
Одна из особенностей американского мышления — любовь к числам, к счету, мировоззренческий механицизм, воцарившийся несмотря на то, что реальность слишком сложна для сугубо математического подхода и неподвластна описанию узкого калькулирующего мышления. Конечно, переход из мира приблизительности, в котором точность не была необходимой, в мир точности является важным прогрессивным шагом человечества. Однако американская культура превратила точность в холодную расчетливость. Она призывает все измерять в точных оценках, в процентах, и этот дух счета, эта когнитивная простота играет важную роль в капиталистическом обществе потребления. Как отмечал М. Вебер, важный компонент капитализма под названием «расчетливость» является не средством ведения хозяйства, а принципом всеобщего жизненного поведения[78]. Качество подменяется количеством, ценности — ценой, выбор — подсчетом, мораль — расчетом. У этой цивилизаций есть для всего цена, но нет ни для чего ценности. Их культура смещается в сторону обладания дорогостоящими гаджетами и техническими протезами. Только в капиталистическом мире, в цивилизации потребления на смену духовности приходит постчеловеческая эпоха «смерти субъекта», а этика честного производительного труда нивелируется. Поэтому потребительская культура ни в коей мере не оправдывает права называться культурой, и это словосочетание представляется насколько устойчивым, настолько же условным.
Даже в американской науке и образовании прослеживается линия меркантилизации и прагматизации. Это заметил еще М.М. Ковалевский в конце XIX в. «…Ни в одной стране не делается больше практических приспособлений науки к технике, как в Америке, и не встречается меньше научных открытий, нигде элементарные сведения из сферы точных наук не распространены больше в массах и не имеется так мало попыток обобщения положительного знания. Наука, и в особенности философия, — продукты вполне зрелой цивилизации, а американскую далеко еще нельзя считать таковой»[79]. Наука, к которой апеллирует американский истеблишмент, не только страдает культом «утилитарности», но и лишена морального содержания, и поэтому вместо этического вопроса «хорошо ли развязывать войну с Ираком?» в широкой общественности муссируется технологический вопрос «как именно следует начинать войну с Ираком?». Такова она — потребительская культура в оригинале. К сожалению, придется согласиться с проповедником американского мирового гегемонизма 3. Бзежинским в следующем: американская массовая культура и проповедуемый ей образ жизни притягивают молодежь во всем мире, иностранные студенты едут в Америку учиться, а самые способные из них не возвращаются домой[80].
Во многих странах, кроме самих США, стало правилом хорошего тона высказываться критически об американском школьном образовании, хотя сегодня процесс деинтеллектуализации образования набирает обороты почти во всем мире. Известно следующее оправдание невыносимой легкости и губящей мышление тестоориентированности американского образования: неспособность ребенка справиться с заданием травмирует его неокрепшую психику, что недопустимо, поэтому задания составляют в расчете на их выполнимость даже имбицилом. Как говорится, без комментариев. Пусть лучше дети вырастут глупыми и совершенно необразованными нарциссами, чем интеллектуально развитыми людьми с чуть-чуть «расшатанной» тяжелой образовательной деятельностью психикой и «пострадавшей» самооценкой. Зато принципы толерантности останутся непоколебимыми. Дипломы самых престижных американских вузов скорее не доказательство образованности их обладателя, а доказательства его привилегированности; ведь система профессиональной подготовки в США крайне редуцирована, а само образование очень дорого.
Несмотря на большую идеологическую силу мифа, согласно которому капитализм — венец гуманной цивилизации, гуманизмом уклад европейских стран не пахнет. В середине XVIII века только из Индии Англия извлекала ежегодно доход в размере 2 миллионов фунтов стерлингов; за счет колоний поддерживался уровень жизни англичан. Лишь незначительная часть чернокожих рабов, которых везли в Америку, смогла пережить дорогу, большая участь умерла в пути. «Прогрессивный» Запад, в отличие от «отставших» стран, построил себя из материала колоний, которые жестко эксплуатировал. Это разве не паразитизм? Это высшее проявление построения своего счастья на несчастье других. Путь развития Запада, по сути, является тупиковым. Даже при отбрасывании в сторону морального и правового аспектов данной проблемы снова убеждаемся в том, что распространение потребительского стиля жизни западоидов на все человечество с неизбежностью натолкнется на экологические препятствия — ресурсов планеты на глобальное потребительство просто не хватит. Хоть сейчас и говорят об огромных месторождениях гелия-3 на Луне, 1 тонна которого дает столько же энергии, сколько 14 млн. тонн нефти[81], пока неизвестно, чем закончится его добыча (если она и будет начата). Активный поиск новых ресурсов важен, но сам по себе, без совмещения с культурным переходом на непотребительские идеалы, он малополезен.
Вообще, принципы капиталистического производства, ориентированного на меркантильную прибыль как на самоцель, не сочетаемы с ориентацией на общественную полезность. Да и призывы следовать путем Запада противоречат реальной политической линии самого Запада, так как «цивилизованный мир» целенаправленно разрушал островки капитализма, возникавшие в незападных странах; так, во время холодной войны США боролись не с социализмом, а с мощным геополитическим противником (независимо от идеологической ориентации его режима), то есть проявляла себя не борьба идеологий, а борьба сфер влияния. Все светлые мифы Запада о его свободе, быстром прогрессе экономики, культуры и цивилизации лишь выглядят правдоподобными. Запад получил доступ к ресурсам огромной части планеты, тем ресурсам, на которые он не имеет никакого права и которые он отбирал насильственными способами. И сейчас он продолжает получать ресурсы с пространств, которыми не обладает, но именно потому, что коленопреклонные национальные правительства этому потворствуют. Нет никакого эквивалентного обмена, о чем свидетельствует постоянно возрастающая неэквивалентность отношений между метрополией и колонией. Третий мир выдает все больше и больше сырья, и при этом не богатеет, а нищает. «…Потребление сырья в развивающихся странах в 5 раз меньше среднемирового и составляет всего лишь 10 тонн в расчете на одного человека, а в странах «золотого миллиарда» — в 25 раз больше (250 тонн), причем один американец ежегодно потребляет в 37 раз больше (370 тонн) сырья и материалов по сравнению с жителем развивающейся страны <…> На промышленно развитые страны ныне приходится около 2/3 мирового потребления стали, свыше 2/3 потребления алюминия, меди, свинца, никеля, олова, цинка и 3/4 объема потребления энергии, которое выросло в 5 раз, в то время как потребление нефти — в 7 раз. Среднестатистический житель промышленно развитой страны потребляет в 10 раз больше стали, в 12 раз больше топлива и в 15 раз больше бумаги, чем житель любой развивающейся страны, причем один американец за год потребляет товаров и услуг в 10 раз больше, чем китаец, и в 30 раз больше, чем индус <…> Потребление стали на душу населения выросло в XX столетии в 4 раза, меди — в 5 раз, бумаги — в 7 раз, бетона — в 16 раз, пластмасс — в 20 раз. В начале 90-х гг. количество кондиционеров в жилищах увеличилось в сравнении с 1950 г. в 4,7 раза (с 15 до 70 %), цветных телевизоров — в 9,5 раз (с 10 до 95 %). Граждане США владеют сегодня в 2 раза большим количеством автомобилей и в 25 раз чаще пользуются воздушным транспортом, чем в 1950 г. Автомобиль стал символом американской культуры: 20 % американских семей имеют 3 и более автомашин, а свыше 50 % семей — по крайней мере 2 автомобиля. Для обеспечения огромного количества автомобильного и авиационного транспорта в США ежегодно расходуется около 30 % мировой добычи нефти. Страна, население которой составляет всего лишь 5 % живущих ныне на планете людей, потребляет около 40 % мировых ресурсов»[82]. Соотношение доходов 20 % самой богатой части населения планеты к 20 % самой бедной в 1960 году составляло 30:1, в 1980 — 45:1, в 1989 — 59:1[83], а в 1995 г. — 74:1[84]. 3. Бауман приводит следующие данные: среднедушевой доход в «развивающихся» странах падает; к 1970 г. доход на душу населения в Европе был в 11 раз выше, чем в беднейших странах, а к 1995 г. это превышение достигло 50; состояние 358 «глобальных миллиардеров» равно общему богатству составляющих 45 % населения планеты 2,3 миллиарда бедняков; активы трех самых богатых людей планеты превышают совокупный национальный продукт 48 беднейших стран; состояние пятнадцати богатейших людей превосходит ВВП всех расположенных к югу от Сахары стран Африки; среди 4,5 млрд жителей третьего мира трое из каждых пяти лишены доступа к основным элементам инфраструктуры — пригодной для питания воды, сносного жилья, санитарных и медицинских услуг[85]. Цифры могут разниться, но факт остается фактом — неуклонно растет поляризация материального состояния, условий жизни и степеней личной свободы. Либеральные возгласы о происходящем в результате мировой «демократизации» выравнивании доходов абсолютно нелегитимны.
Причем страны Запада потребляют около 75 % всех ресурсов планеты и выбрасывают в окружающую среду примерно такой же процент отходов. Повышению производства для обеспечения возрастающего потребления неумолимо сопутствует рост загрязнения. Н.В. Бекетов приводит следующие цифры: в 60-е годы XX в. доход обычной развивающейся страны составлял около 12 % от дохода типичной развитой страны, а сейчас этот показатель приближен к 5 %, доля богатейших стран в мировом ВВП составляет 86 %, доля средних — 13 %, а доля беднейших — 1 %[86]. Конечно, во многих источниках встречаются разные оценки, но все они указывают на то, что разрыв в доходах между бедными и богатыми странами продолжает расти. В богатых странах проживает всего лишь около 17 % населения, тенденция сокращения рождаемости в обеспеченных странах и ее роста в бедных продолжается. Учитывая сверхвысокий процент потребления ресурсов и загрязнения атмосферы «первым миром», основной причиной планетарного кризиса не столько перенаселенность, сколько техногенные нагрузки, связанные с научно-техническим прогрессом, целесообразно сделать следующий вывод. Именно странами «золотого миллиарда», а не огромным населением бедных стран, перенаселена планета. Давление на планету последних просто несопоставимо с давлением, оказываемым населением богатых и процветающих стран. Однако США и Запад давно выступают некими образцами, то есть во многих других странах общественная культура как бы «стягивается» к проповеди такого же высокого потребительского образа жизни. Их алчные потребности входят во все более обостряющееся противоречие с природой, поскольку планета не способна обеспечить для всех людей такой же уровень жизни, какой сохраняется в тех же самых Штатах. Поэтому, для того чтобы «золотой миллиард» продолжал процветать и оправдывать свое название, все остальные миллиарды должны жить плохо. По принципу «чем хуже вам, тем лучше нам». Или же для относительно равного благоденствия всех со всеми необходимо заселение новых планет. Однако такой вариант остается насколько романтичным, настолько и утопичным.
Причем внутри стран «золотого миллиарда» наблюдается примерно такая же поляризация, как между ними и странами «третьего мира». Процент бедных семей, равно как и детской бедности, неуклонно растет, одновременно с чем самые богатые семьи США только умножают свои капиталы. Так, активы Билла Гейтса превышают размер ВВП некоторых государств, и основатель «Майкрософт» не единственен в таком богатстве. Процент повышения заработных плат топ-менеджеров и простых рабочих несопоставим; соответственно, разрыв между зарплатами «верхов» и «низов» продолжает увеличиваться. Так что глупо превозносить США, называя американское общество обществом равных возможностей. Являясь обществом изобилия, оно совсем не является обществом всеобщего изобилия. Скорее, их следует назвать обществом растущей поляризации, каковая, в принципе, успешно реализуется во многих обществах. Россия и другие страны, даже крайне бедные, неуклонно освобождаются от хотя бы минимально проявляющих себя ранее братства, равенства и справедливости, вовлекаясь в справедливость по-американски.
Русь, которой была свойственна общинность, отказалась от нее, приняв капиталистическую «религию» индивидуализма. Уклад коммунистических режимов, которые хоть и отличаются чрезмерным вмешательством государства в жизнь народа, схож с укладом семейным — пусть даже авторитарным, но семейным, — где каждый член семьи имеет право быть накормлен, то есть имеет право на жизнь, и где один за всех и все за одного. Голод в таком обществе возможен только в силу каких-то серьезных объективных причин, катастроф. При капиталистическом укладе рынок превращает каждого работника в товар, который имеет определенную цену. Здесь человек сам по себе не имеет права на жизнь, это право ему дает рынок. Покупательная способность и доход позволяют человеку не умереть с голоду. Рынок признает экономические права, а не нужды. Во время всеобщего недоедания при капитализме на избыточные запасы пропитания их владельцы согласно логике рынка повышают цены, а при коммунизме они распределяются на всех[87]. Коммунизм дает право на жизнь, а капитализм — веру в незыблемость частной собственности и прав гражданина. Одни при капитализме получают все блага потребительской роскоши, а другие — голодную смерть, то есть проявляет себя огромный разрыв между материальной обеспеченностью различных слоев населения. При коммунизме же этот разрыв максимально сглажен. Естественно, под термином «коммунизм» мы понимаем в большей мере «чистый» коммунизм, чем то явление, которое бытовало в годы СССР. Никакая рыночная экономика не обеспечит своему гражданину такую безопасность, которую обеспечивала плановая экономика социалистических стран; сам рынок противоречит идее общественной безопасности, так как здесь актуализируется спекулятивное желание купить дешевле и продать дороже, а другие люди воспринимаются просто как клиенты или партнеры, а не как представители своей общины. Возводимый сейчас в культ свободный рынок свободен от эффективного государственного регулирования и, соответственно, от принципа всеобщего бесплатного предоставления услуг типа здравоохранения и образования.
Плюрализм — это не то чтобы мифологема, но внутренне конфликтная и потому крайне неустойчивая и шаткая система, в чем заключается его недостаток. Без отлаженной системы сдержек и противовесов плюрализм в любую минуту рискует смениться на новый монизм, демократия — на тоталитаризм, то есть наблюдается тенденция к установлению неравенства — культурного, политического, экономического. Такой системы сдержек нет у либерализма, ратующего за неограниченную экономическую свободу и внутреннюю саморегуляцию рынка, за равенство прав между нищим рабочим и олигархом на приватизацию собственности; либерализм приводит к рождению монополий и росту разрыва между бедными и богатыми слоями населения. В ситуации конкуренции каждый бизнесмен стремится переиграть своих конкурентов, уничтожить их как экономических акторов или подмять под себя, расширив за их счет я-экспансию на рынке, а при расширении, доходящем до монополизации той или иной отрасли или сферы услуг, объявляется война самому рынку. При капитализме каждый субъект борется с рынком. Тот, кто с наибольшей успешностью пользуется даруемой либерализмом экономической свободой, обращает это пользование на ограничение свободы других субъектов экономической деятельности. Выживает сильнейший. И такая ситуация возможна не только внутри одной страны, но и на мировом уровне. Поэтому состояние баланса действия и противодействия, взаимно ограничивающего волюнтаризм с любой стороны, просто необходимо. Либерализму изначально присуща не только теоретическая, но и практическая тенденция к самоуничтожению. Необходимо существование государственных институтов, тщательно следящих за игроками, каждый из которых желает монополии. Пристрастный интерес этих институтов как раздающего карты крупье не должен быть принят за категорический императив, выражаемый де-юре или де-факто; следовательно, они призваны быть полностью беспристрастными и потому олицетворять собой качественно работающую систему сдержек и противовесов.
Свобода рынка, за которую ратуют новые капиталисты, в конце концов приводит совсем не к свободе. Даже если бы свобода торговли воплотилась в реальность, в конечном счете ни к чему хорошему она не привела бы, так как без системы сдержек эта свобода обратится в победу самых предприимчивых и богатых и крах всех остальных, а потому повлечет за собой увеличение имущественного разрыва. Свобода ничем не ограниченной экономической деятельности не является ценностью, поскольку она противоречит правам человека. Такая свобода, ориентированная на индивидуализм, ведет к эксплуатации и духовному разложению. Свобода призвана опираться на социальные, коллективные ценности. Она должна быть общественно полезной, то есть иметь в качестве своего предмета не индивидуальную пользу за счет общественных благ, а индивидуальную пользу как общественное благо. Так что закрытая экономика планового типа была не такой уж неэффективной, как про нее говорят. Приватизация и переориентация экономики, вмиг инициировав расслоение по материальному признаку и открыв Россию для иностранных займов, отбросили страну назад. Так, иностранные финансисты, инвестируя в наши предприятия, получают выручку от продажи, например, сигарет, которые ничем не лучше тех, что производились ранее без участия иностранцев. Если раньше прибыль от продажи табачных изделий шла государству, то теперь ее значительная доля пошла в карман иностранным инвесторам; мы от этого ничего не получаем кроме вызванных курением болезней, поскольку продаем сигареты себе же (внутренний рынок), но значительную часть выручки отдаем на сторону. И далеко не всегда с помощью иностранных инвестиций удается поставить на ноги производство. Тем более из-за российских холодов, требующих огромных издержек, иностранцы не торопятся инвестировать в наше производство, разве что в то производство, которое локализовано на юге страны. Всякие сборочные цеха там размещать удобней. Не очень хорошо обстоят дела, когда иностранные корпорации, которым по непонятным причинам позволили скупить за бесценок российские заводы, производят там ту же самую продукцию, какую раньше производили мы, и продают нам же — тогда вся прибыль уходит иностранцам. Но такое тоже бывает нечасто вследствие все тех же издержек, и поэтому, если производят сигареты, табак везут свой. Хуже обстоят дела, когда иностранцы дают нам займ, который, в отличие от инвестиций, мы обязаны вернуть с процентами вне зависимости от того, насколько прибыльным окажется потребовавший займа проект. Инвестируя, иностранец идет на риск, а давая займ, он получает гарантированную прибыль. В этом случае иностранцы не боятся российских холодов, поэтому щедро дают займы под огромный процент. Либеральная доктрина как раз провозглашает необходимость иностранных кредитов и займов, хотя они бьют по национальной экономике. В большей степени кредитами, а не военной мощью, США добились экономического закабаления многих стран третьего мира.
Насаждаемый нам либерализм как исконно капиталистическая идеология предполагает культ денег, рыночный фундаментализм, невмешательство государства в экономику и, соответственно, свободу частного предпринимательства, которая может вылиться в новый монизм. Ничем не ограниченная свобода торговли помимо актуализации состояния экономического социал-дарвинизма и его санкционирования приводит к развитию монополий, которые, в свою очередь, рождают сверхобеспеченную экономическую элиту, могущую влиять на государственные решения. Рыночный селективный тезис «выживает сильнейший» неправилен. При его принятии за аксиому следует поставить жирный крест на нравственности, а также забыть о том, что человек призван использовать природу (конечно, в разумных формах, а не в формах ее тотального подчинения себе); раз социал-дарвинизм близок природе, то жить надо в пещерах. Вот в чем кроется противоречие: рынок строит цивилизацию, жестоко эксплуатирует природу, ставя ее себе в услужение, и при этом декларирует «природный» тезис о справедливости выживания сшьнешиего. Тем более этот тезис не относится ко всей природе, так как поведение некоторых животных носит социальный характер, и они, объединенные в стаю, дают возможность выжить своим слабым или раненым особям. Культура и экономика должны декларировать цель не борьбы за выживание, а цель взаимопомощи и поддержки путем обмена результатами труда.
Ничем не ограниченный дух предпринимательства рождает олигополии и олигархат, а значит, новую концентрацию капитала. Частная прибыль максимизируется в руках элиты, в то время как социальные обязанности этой элиты минимизируются при «нормальном» либерализме, а печальные последствия освобождения человека от государственного и общественного принуждения широко известны. Кроме того, экономическая свобода ведет к произволу и насилию. Поэтому глупо рассматривать свободную конкуренцию как социально необходимый механизм, напряжение индивидом сил при конкурентной борьбе — как эффективный способ не только удовлетворения собственных потребностей, но и общественно полезное деяние, а «невидимую руку рынка» — как способ равновесного полезного каждому индивиду общественного состояния, достигнутого путем свободного взаимодействия индивидов. Глуп и циничен либеральный тезис, согласно которому человеком движет только его личная корысть, а сумма корыстных интересов всех индивидов обязательно утвердит общественное благо при условии, если государство откажется от регулирования экономики. Нерегулируемая сумма личных корыстных интересов ни к какому общественному благу не приведет и нигде не приводила! Невмешательство государства в экономику, реализация принципа «рынок сам все расставит по местам» только способствует монополизации, с огромной долей вероятности могущей появиться на исходе либеральной борьбы всех против всех под солнцем капиталистического счастья. На практике свободный рынок приводит к жестокой эксплуатации человеческого труда, в том числе детского. Без целенаправленного вмешательства ничего само по себе по местам не расстановится, саморегулирование рынка если и происходит, то явно по сценарию жесткой конкуренции с неизбежной концентрацией капитала и ростом имущественного разрыва. В 1990-е гг. рынок ничего не решил, а только все порешил, взрастив лишь огромный слой бедноты и маленькую прослойку олигархата. В ситуации того же экономического кризиса либеральная доктрина пассивного ожидания от экономики чудес сработает лишь с отрицательным результатом. Вообще либерализация связана со снятием институциональных ограничений на капитал, который в результате становится выше политики. Поэтому вовсе не будет преувеличением определение либерализма как апологии глобального грабежа.
Сама идеологема «невидимой руки рынка» говорит человеку, что, мол, неопределенность и неуправляемость процессов — это нормальное и даже хорошее явление. Она отвращает человека от попыток управлять, легитимирует неуправляемость и создает миф о принципиальной невозможности оказывать влияние на экономические (и в том числе на глобальные) процессы, взращивая в людях фатализм и пассивность по отношению к серьезным общемировым явлениям. Под идеологемой о невидимой руке рынка скрывается вполне реальный, но невидимый кулак корпоратократии. Транснациональные лобби конституируют определенные условия жизни для человечества и одновременно делают так, чтобы человечество думало, будто эти условия возникают сами по себе. За свободный мировой рынок ратуют те страны, которые уже достигли экономических вершин, поскольку они понимают, что в условиях свободного рынка никто не сможет конкурировать с сильнейшим. Для бедных стран свободная торговля непозволительна.
Непонятно, за что борются нынешние либералы. За демократию? Так и социалисты за нее тоже борются. Да и вряд ли для либералов демократия является настоящей целью, несмотря на их слова о необходимости демократизации. За свободный рынок они борются? Да, это так. Но зачем? Свободный рынок не стоит того, чтобы за него бороться, ибо выгоден он будет немногим.
Одни исследователи превозносят плановую модель экономики, в то время как другие отдают предпочтение свободному рынку. Однако как тот, так и другой вариант являются крайностями, вбирающими в себя больше недостатков, чем достоинств. Настолько же несостоятельно противопоставление социалистическо-коллективистского принципа «общество выше личности» и капиталистическо-индивидуалистского «личность выше общества», так как личное благо должно гармонизировать с общественным, так как свобода личности должна быть связана ответственностью перед обществом. Эгоизм, коррупция, государственное или олигархическое давление есть преступления как перед обществом, так и перед отдельным человеком. Не бывает преступлений перед личностью, не оказывающих негативного влияния на общественный уклад, равно как и наоборот. Примечательно то, что сами американцы превозносят либерализм, непосредственным образом связанный с культом потребления и с индивидуализмом. Видимо, они забыли о том, что Великая депрессия в США была побеждена не либеральным подходом, а его противоположностью. Президент Г. Гувер, следовавший либеральному принципу невмешательства в экономику, оказался абсолютно несостоятельным в деле борьбы с развернувшимся кризисом. Сменивший его Ф. Рузвельт для одоления кризиса использовал именно социалистические методы. Так, банковская сфера стала регулироваться государством; были установлены минимальные и максимальные цены (с запретом продажи, выходящей за рамки этого ценового коридора); электрические и газовые компании перешли под государственный контроль; был принят закон, ограничивающий свободный оборот золота; при создании трудовых лагерей безработные получили работу и занимались общественно полезной деятельностью по восстановлению инфраструктуры (возводили мосты, каналы, аэродромы, дороги, электростанции).
Культ потребительства трудно сопоставим с экономическим ростом и эффективной экономической политикой. Это доказали годы антипотребительского режима в СССР. Так, экономика выдержала даже испытание Великой Отечественной войной, которая могла вовлечь страну в страшный кризис, в точку экономического невозврата. Потери были катастрофическими, но даже они не привели к экономической катастрофе. За счет в том числе жесточайшей экономии, антипотребительского образа жизни общественное хозяйство стало постепенно налаживаться. Да и экономическое чудо, именуемое индустриализацией, в СССР было достигнуто благодаря соответствующей культуре, проникающей в каждую сферу жизни общества. Конечно, в годы сталинизма люди жили очень бедно, и либерал правомерно заявит, что доведение народа до бедности — далеко не лучший способ обеспечивать экономический рост. Однако если в те годы СССР впало в одну крайность (в силу объективных обстоятельств), то современный капиталистическо-потребительский мир впадает в другую (без всякой для этого необходимости).
Читатель может обвинить меня в однобокости, заявив, что в капиталистических странах, где бытует потребительская идеология, тоже заметен экономический подъем и индустриальный прорыв. В первую очередь это США. Но у США есть один козырь — Федеральная резервная система, которая печатает не обеспеченные доллары и заваливает ими весь мир, скупая путем грандиозной аферистской эмиссии мировые богатства[88]. Спекулятивность ничем не обеспеченного доллара, превращение капитала в «плавающий» капитал, в виртуалию, в не имеющий реального эквивалента симулякр, который просто воспроизводится и дублируется, дает возможность Штатам находиться на плаву, наслаждаться роскошной жизнью и даже не особо обременять себя производством. Если другие страны производят бытовую технику, мебель, автомобили и прочее, то США производит доллар. Это не значит, что американского производства в принципе не существует, что у них нет заводов и производственных предприятий. Просто производство товаров — не доминирующий аспект американской экономики, по большей части спекулятивной и ростовщической. Кто-то печатает необеспеченную валюту (США), а кто-то (многие страны, и в том числе Россия) непонятно зачем ее коллекционирует. Так что Америке, с ее печатной машинкой (ФРС) и стратегией долларовой колонизации всего внешнего мира потребительская культура в сфере экономики (пока) не столь сильно мешает. Другое дело иные страны, не страдающие финансовым колониализмом.
Если бы та огромная масса долларов, которую напечатала Федеральная резервная система для других стран, вернулась обратно в Штаты, экономика США рухнула бы подобно карточному домику. В 1960-е годы генерал де Голль потребовал от Федеральной резервной системы США обменять имеющиеся во Франции доллары на золото, и американский истеблишмент схватился за голову. 1,5 миллиарда долларов, которые предъявил де Голль, соответствовало трем четвертям золотого запаса США. Золота было мало, а долларов — много, так как Федеральной резервной системы, забыв о золотом покрытии, постоянно вбрасывала на рынок все новые и новые партии зеленых бумажек и тем самым «расплачивалась» за выкачку мировых ресурсов. За 1960–1971 годы кредитная эмиссия доллара превысила реально заработанные США деньги на 468 952 000 кг золота. Американцы совершать обмен не хотели, и Франция в знак протеста вышла из НАТО и ликвидировала на своей территории заморские военные базы. Другие страны тоже стремились запастись золотом вместо долларов. Над США нависла угроза дефолта и демонополизации. В результате французам вернули всего половину из всей предъявленной суммы, и золотой запас штатов существенно снизился. Началась девальвация доллара; цена за унцию неуклонно росла и больше не снизилась до уровня 1960-х годов. Де Голль в разы обесценил доллар. Затем американцы провозгласили независимость курса доллара от золотого запаса. От нефти, кстати, он тоже независим, поскольку в штатах ее добывается очень мало[89].
Количество американских долларов абсолютно не соответствует количеству ресурсов, которые должны эти доллары обеспечивать, но пока находятся рынки сбыта долларов, экономика США расцветает. Чем больше Федеральная резервная система США выпускает долларов, тем богаче Америка становится; чем больше Центробанк РФ выпускает рублей, тем выше уровень инфляции в России, которая не вздувает, подобно США, финансовый пузырь мирового масштаба и не вбрасывает необеспеченные потоки рублей в другие страны. Ввоз долларов в Штаты извне ограничен специальными мерами, а вывоз ничем не ограничен. США как никто другой заинтересованы в ослаблении национальных денежных единиц и в усилении доллара на мировой арене. Природные ресурсы невозобновимы, их трудно добывать, и они стоят достаточно дорого. Доллар же вполне возобновим, а себестоимость стодолларовой банкноты составляет 3 цента. Так за сколько же на самом деле покупают американцы природные ресурсы у других стран? Не дешевят ли последние? За фиктивные бумажки, за симулякр они отдают реальные продукты. Интересно то, что США берут в долг у других стран свои же доллары. Выпускаемая долларовая масса должна быть обеззаражена, чтобы она не стала огромной и в силу своего разрастания не обесценилась. Поэтому США «покупают» ресурсы на свои деньги и обратно берут доллары в долг.
Однако не все так хорошо для Америки, поскольку ее общий долг перевалил за 16 триллионов (!) долларов. США выписывали долговые расписки на эту сумму, которые у них покупали другие страны. Путем обмена долларов на эти долговые расписки американцы получали доллары обратно, которые уже представлялись как излишняя долларовая масса (то есть США покупали собственные долги). Интересно то, что долг США составляет сумму, которую Штаты реально не заработали. Даже если США откажутся от высокого уровня потребления и станут тратить меньше, чем зарабатывают, на погашение этого огромного долга уйдет сотня лет. Поэтому США выбрали другой способ защиты своей экономики — экспорт нестабильности в другие страны, приведение в реальность проекта управляемого хаоса, который способен вылиться в новую мировую войну. Как говорится, война спишет долги. Этим объясняется появление мирового кризиса, экономическая лихорадка многих стран и внезапные одновременные попытки оранжевых революций. Нестабильность в других странах создает прецедент перевода денежных ресурсов в американские долговые обязательства, она увеличивает спрос на доллар.
Нестабильность американской экономики создает необходимость дестабилизации экономик других стран в соответствии с принципом возвышения себя путем понижения других. И они настоятельно требуют сегодня от других стран покупать их облигации. А к тем, кто отказывается это делать, летят «демократизаторы».
Сама так называемая неолиберально-монетарная доктрина, проповедующая абсолютную ценность денег, создает плацдарм для общего культурного спада в целом и деморализации управленческой деятельности в частности; такие потребительские доктрины формируют маниакальную устремленность к повышению прибыли любой ценой, минуя этику. Хоть и говорят в средствах массовой информации, что кризис, возникший первоначально в Америке, является естественным явлением, с которым необходимо смириться, едва ли стоит верить таким россказням. Также под сомнение целесообразно поставить заверения Путина о том, что Россия легче пережила кризис, чем Америка. Почему-то ни один человек не сбежал из «охваченных кризисом» США и Европы в «процветающую» Россию. Хоть люди в Испании, Италии и Греции выходят на улицу с целью выразить свой протест, искать прибежище в нашей стране они не спешат. А вот случаи навеянных безработицей и безысходностью самоубийств в России, в том числе групповых (семейных), в последние годы участились[90]. Когда грянул кризис, олигархи начали просить у Кремля финансовой помощи для бизнеса, а умерить свои личные аппетиты не поторопились. Они как были держателями сверхдорогих игрушек в виде самолетов, яхт, старинных замков и поместий, так и остаются. То же самое следует сказать и о чиновниках, которых кризис не сделал более аскетичными.
Вероятно, кризис — это проявление целенаправленной политики обнищания огромных масс людей (в планетарном масштабе), инициируемой сверхэлитой, состоящей преимущественно из руководителей крупнейших транснациональных корпораций и банков. Недаром ведь, как замечает Р.И. Хасбулатов[91], кризис привел к укреплению монополистического капитала путем поглощения крупными компаниями мелких (например, банк «JP Morgan Chase» поглотил банковскую сеть «Washington Mutual»), к альянсу государства с крупными частными корпорациями. Об этом же пишет Н. Стариков: кризис инициировали владельцы Федеральной резервной системы — частной (!) и неподконтрольной правительству США структуры, которая печатает не обеспеченные доллары и заваливает ими весь мир, скупая путем грандиозной аферы мировые богатства. В результате кризиса акции многих банков упали в цене, а руководители тех банков, которые были в курсе намечавшегося обвала, спокойно выкупили эти акции, устранив конкурентов и прибрав к рукам за бесценок их собственность. Причем государственная помощь многим потерпевшим крах банкам (например, Lehman Brothers) не оказывалась[92]. Это и есть то, что называется сегодня неолиберализмом. Когда происходит монополизация, рынок в традиционном понимании, предполагающий конкуренцию, становится иллюзорным. Помимо монополизации банков и централизации денег, кризис выгоден мировому истеблишменту тем, что способен привести к смещению неугодных ему правительств разных стран; возмущенные своим обнищанием люди выйдут на улицы и потребуют отставки правительства, которое ничего не делает или не может сделать в борьбе с кризисом. Сейчас США не могут развязать войну всех против всех таким образом, чтобы самим в ней не участвовать. Поэтому возникла необходимость в использовании иной методологии, которой стал кризис как способ невоенной мировой дестабилизации.
Сейчас особенно прославляют в деле инициирования кризиса председателя Федеральной резервной системы (1987–2006 гг.) Алана Гринспена, структура которого раздула ипотечные и деривативные пузыри. Дериватив (фьючерс) — это вторичная ценная бумага, акция акции. Он берется в долг не под реальный залог, а под то, что должно появиться; например, какое-нибудь месторождение, которое вы планируете разрабатывать. Гринспена можно назвать последователем Джона Ло, который еще в начале XVIII века во Франции создал грандиозную финансовую пирамиду, в конце концов обрушившуюся. Ло умер в нищете и безвестности, но его дело продолжает жить. Перед Великой депрессией, в 1929 г., был создан так называемый моржевой займ, который сводился к следующему: для покупки акции нужно было заплатить вместо 100 % ее стоимости всего 10 %. Количество игроков на бирже начало увеличиваться, некоторые брали кредиты для покупки акций за 10 %. Мало кто обратил внимание на то, что биржевому брокеру было позволительно потребовать от владельца акции внести незамедлительно оставшиеся 90 %. И внезапно брокеры разом потребовали эти деньги. Владельцы сразу стали продавать акции. Курс акций упал, банки и предприятия стали банкротиться. Нечто подобное было спроектировано перед современным кризисом.
Да и в 1990-е годы в России наблюдалось нечто похожее. При огромной банковской ставке бизнесмены, желающие расширить свой бизнес, не горели желанием брать кредиты в банке. Зато вместо банков появлялись бандиты, которые давали в долг под меньший процент и договаривались с бизнесменом, что он вернет деньги, например, через три года. Внезапно, по истечению гораздо меньшего времени, бандиты обращались к бизнесмену с требованием погасить долг и тем самым нарушали договоренность. Бизнесмен отдать деньги не мог, поэтому у него просто забирали бизнес. Схемы очень похожие. Федеральная резервная система США подсадила на кредитные долги как население Америки, так и другие страны. Переаккредитация закончилась, и кредиторы стали требовать возвращения долгов. Страны-должники, будучи не в состоянии расплатиться, в качестве компенсации обязуются отдавать свои природные ресурсы, «правильно» голосовать в ООН, позволять размещать американские базы на своей территории, всецело участвовать в «поддержке демократии» и т. д. При этом должник все равно остается должником, становясь эксплуатируемым кирпичиком расширяющейся глобальной империи.
Мировые кредиторы заинтересованы именно в невозврате кредита; им не нужны проценты, им необходимо лишить посредством кредита кредитуемую страну ее независимости. Процент постоянно повышается, страна берет все новые кредиты, и на каком-то этапе ее ВВП покрывает только возврат процентов, а не общую сумму долга. А государства, которые не хотят брать в долг, объявляются недемократическими. Если они вместо дальнейшего взятия кредитов объявляют о стратегии сокращения расходов, американцы призывают на основании данного сокращения оппозиционные ряды этих стран бороться с государственной тиранией и произволом; мол, вам сократили дотации и зарплаты, и вы не должны оставлять это без внимания. Правительство зажимается тисками: его решение отдать долг губительно, а решение сократить расходы крайне непопулярно. Особенно оно непопулярно тогда, когда с телеэкранов чиновники вещают о сокращении расходов и вместе с тем сами продолжают пользоваться крайне высокими потребительскими благами. Разворачивая против таких непослушных государств мощную агиткампанию, а также дестабилизируя их экономику, США вынуждают их опять брать в долг. Примечательно, как многие либералы призывают правительство брать в долг, считая, что эта процедура улучшает экономику. С подобным же успехом можно призывать к взятию в долг не правительство, а отдельного человека, говоря, что, мол, чем выше у тебя долг, тем большим доверием ты пользуешься со стороны инвесторов. Примерно этим и занимается потребительская индустрия, стимулирующая кредитоманию. Однако есть сомнения, что такие пропагандисты сами имеют личные долги на миллионы (пусть даже тысячи) рублей, да еще и гордятся ими.
При рассмотрении нынешнего кризиса прослеживается интересный парадокс: кризис начался в США, а доллар все равно растет. За американский по происхождению кризис расплачивается весь мир.
Хоть 3. Бауман предпочитает не усматривать за процессами «текучей современности» какую-то злую силу и некоего субъекта, хоть он, подобно многим современным философам и социологам, склонен постулировать некую неопределенную ответственность за последствия глобальных процессов, хоть он считает последствия глобализации непреднамеренными и непредусмотренными, многие положения его теории указывают на наличие субъекта глобализации. Согласно 3. Бауману, международному капиталу необходимы территориально маленькие экономически несамостоятельные слабые государства, не объединенные ни в какие блоки, вступающие на путь либерализации, облегчения сделок на рынках и ослабления налогового бремени. Именно они получают финансовую помощь от мировых банков и валютных фондов и функционируют в качестве местных полицейских участков, обеспечивающих порядок для глобального бизнеса и не порождающих опасений, что они станут препятствием для свободы международных компаний. Государства становятся судебными приставами и полномочными представителями сил, которые они не могут контролировать. Государственные движения в сторону экономических решений могут встречаться с быстрыми и яростными санкциями со стороны банков, бирж и финансовых рынков, желающих отстранить государства от экономики. Политическая экономия неопределенности, выраженная в отмене всяких правил, навязывается территориальным (местным) политическим властям мощью экстерриториального капитала, который стремится ограничить возможности правительств сдерживать свободу передвижения финансов и расчищает дорогу для надгосударственной глобальной власти — намного более сильной, чем локальные политические структуры. Мобильность капитала ослабляет национальную власть, отрывает ее от социальных обязательств и рычагов экономической политики, а также обеспечивает отрыв от ответственности самого глобального капитала. Степень экстерриториальности — главное мерило могущества в современном мире. Подрываются экономический, военный и культурный суверенитеты государств, и государства не могут эффективно защищать свою территорию и население от угроз. Освобожденная от политических сдержек и политического контроля экономика порождает углубляющийся разрыв между бедностью и богатством, стремительно обогащает одних и не менее стремительно исключает широкие круги населения из экономической сферы. Капитал способен перетекать из места в место и освобожден от обязанности возмещать убытки от своей деятельности на той или иной территории, которые бывают весьма ощутимы для проживающих в этой местности: это депопуляция, голод, уничтожение местного хозяйства, отчуждение от экономики огромного количества людей. Города становятся свалками проблем, имеющих не локальные, а глобальные корни. Капитал равнодушен и даже враждебен к тем, кого он использует. Он свободен от социальных обязанностей, в том числе по отношению к собственным служащим, а они теряют возможность оказывать на него сдерживающее влияние; в ином случае капитал вместо переговоров с бастующими работниками просто перетечет туда, где рабочая силу будет более покладистой и менее требовательной. Снятие ответственности — главное преимущество мобильного капитала. Капитал, ранее готовый задействовать масштабные круги трудящихся, сегодня заинтересован не в борьбе с безработицей, а, наоборот, в расширении безработицы, и вознаграждает сокращающие персонал и рабочие места компании, а правительствам предлагает отказаться от борьбы с безработицей, чтобы, мол, не препятствовать «гибкости рынка труда». Нормы прежней трудовой этики теряют функциональность. Даже тюрьмы существуют не для исправления заключенных, не для их социализации и возвращения к трудовой деятельности, а для нейтрализации части населения, которая не нужна как производитель и для которой нет работы; поэтому в тюрьмах перестают занимать заключенных трудом и обрекают их на полную неподвижность, которая является клеймом отверженности для «текучей современности». В исторической перспективе нет ничего, даже отдаленно напоминающего глобальную демократию и равенство. Если глобализация подрывает эффективность действий политических институтов, массовый отход людей от «большой политики» к узким проблемам повседневности не позволяет: создать модели коллективных действий, которые соответствовали бы по своим масштабам глобальной сети зависимостей и могли бы ей противостоять. Политическая фрагментация (раздробленность) и экономическая глобализация (синтез) не соперники, а союзники, стороны одного процесса — процесса перераспределения суверенитета, бедности и богатства, привилегий и лишений, власти и безвластия, свободы действий и ограничений в мировом масштабе, катализатором которого стал радикальный скачок в развитии связанных со скоростью технологии[93].
Можно сказать, Бауман не пишет напрямую об экстерриториальной управляющей структуре вследствие некоей присущей ему осторожности, но эта структура все-таки просвечивает сквозь его повествование. Или же он специально отводит внимание читателя; недаром выпуск его книг финансируется фондом Сороса, книги издаются издательством «Весь Мир», которое является официальным дистрибьютером публикаций Всемирного банка и других международных организаций в РФ, а сам Бауман утверждает бесполезность действий, направленных на борьбу с происходящими глобальными тенденциями; эта медиа-инъекция является важной для делегитимации анти(альтер) — глобалистских мероприятий и самого движения в целом. Если деятельность социолога поддерживают организации глобального капитала, неудивительно, что социолог утверждает бессубъектность процессов той же поляризации в мире, голода, нищеты и т. д. Мол, оно само собой происходит, это веяние эпохи, никто здесь не виноват и вести борьбу не с кем. Бауман абсолютно прав при описании глобальных тенденций и стратегических целей экстерриториального капитала, он правомерно обвиняет экстерриториальный капитал в преступлениях. Но он проявляет абсолютное невежество, когда говорит о бессубъектной сущности капитала, о невозможности бороться с тем типом глобализации, который охватил мир, о возможности влиять только на некоторые локальные процессы, но не на глобальные. Работь: Баумана очень содержательны, в них дается хорошее описание устройства современных обществ и властных отношений, но нельзя сказать, что в них сосредоточена вся необходимая для адекватного осмысления мировых финансовых и властных процессов истина. В них опущена часть истины, которая вносит решающий вклад в объяснение сущностных особенностей глобального мира. Наполненной идео-логизмом, а не содержательностью, представляется не подкрепленная никакими аргументами фраза: «чем больше они [люди] «держатся друг друга», тем более «беззащитными перед глобальной бурей», но также и более беспомощными в решении локальных и, следовательно, своих собственных смыслов и идентичностей они обычно становятся — к вящей радости глобальных операторов, которым незачем опасаться беззащитных»[94]. Совершенно неясно, как именно коллективность, а не индивидуализация, усугубляет беспомощность. Трудно также согласиться с тем, что пишет Бауман в одном месте своей «Глобализации»: будто государства начинают бороться с внутренней преступностью и превращаются в полицейские ради того, чтобы убедить глобальный капитал вложить средства в благосостояние своих граждан. Скорее наоборот, усиление полицейских функций государств происходит с подачки самого капитала, а не по инициативе правительств, желающих привлечь к себе капитал, который с удовольствием разорит страну, а не обогатит ее граждан.
Вспоминается фраза Б. Березовского: «капитал нанимает на работу правительство». Если правительство той или иной страны зависит финансово от банкиров, именно последние осуществляют контроль над государством, приватизируют политику; рука, дающая деньги, сильнее руки, их принимающей. Финансы конвертируются во власть. Приведем знаменитые слова М. Ротшильда, кочующие сегодня из одного источника в другой: «дайте мне контроль над денежным запасом страны, и мне не важно, кто создает ее законы». Как экономика получает приоритет над политикой, так геоэкономика вершит геополитику. «…Можно даже говорить о своего рода ренессансе экономического детерминизма — когда исключительно или преимущественно экономическими обстоятельствами объясняются все мыслимые и немыслимые последствия для взаимоотношений на мировой арене»[95]. Политические решения сегодня принимают финансовые элиты и тем самым оттесняют в сторону главенство государства, которое было влиятельным актором при традиционном капитализме. В политике становится все меньше политики, она истощается, и на ее место приходит политически завуалированная власть финансов. Капитал, гипермобильный и свободный от территориальности, диктует правила для политиков, а не политики отдают приказы капиталу. Как национальные правительства, так и народы утрачивают способность оказывать влияние на капитал и сопротивляться ему. Номадичность, кочевнический характер капитала одерживает реванш над привычной оседлостью, а также теряет всякие обязательства перед огромной армией рабочих.
В середине XVIII века только из Индии, удушаемой налогами, Англия извлекала ежегодно огромнейшие доходы. Экономику Индии, прославившейся высоким качеством производимых тканей, просто уничтожили на корню, и тем самым вызвали в стране страшный голод. Англия хотела облегчить конкуренцию для своих хлопчатобумажных товаров, которые по своему качеству значительно уступали индийским, и ей это удалось. Ей, помимо этого, хотелось выжать все соки из поверженной Индии, и это тоже удалось ценою миллионных человеческих жертв. До разграбления Индии Англия подчинила себе некогда процветающую Ирландию, которая стала всего лишь источником дешевого сырья для Англии. В ней была разрушена вся промышленность, в первую очередь текстильная, вследствие чего голод сократил население страны в разы. Но английская паразитическая экономика на этом только крепла. «Чтобы создать современную относительно сытую Великобританию, нужно было столетиями грабить и грабить колонии, вывозя их них материальные ценности в огромных размерах»[96]. Когда-то англичане покупали у китайцев чай, но по требованию жителей Поднебесной расплачивались не деньгами, а серебром. В конце концов серебро стало заканчиваться, а потребность в чае только возрастать. При этом Китай не нуждался ни в каких товарах, произведенных в Англии. Тогда англичане «предложили» свой вариант «взаимовыгодного торгового обмена». Они создали наркотраффик в Китай и, поставляя выращенный в Индии опиум, смогли извлечь выгоду из раскачки китайской экономики, а также серьезно наркоманизировать китайское население. Стороны поменялись местами; теперь уже Англия выигрывала от взаимодействия, а не Китай. Китай из сильной автономной державы превратился в зависимую страну, а его народ — чуть ли не в нацию наркоманов. И это выгодное для Царицы Морей положение сохранялось очень долго, несмотря на противодействие со стороны китайских властей. После опиумной войны Китай проиграл и попал в еще более кабальное положение, так как ему пришлось снять запрет на ввоз опиума, выплатить огромную контрибуцию, отдать Гонконг под британскую юрисдикцию. За счет колоний и экономических удавок поддерживался уровень жизни англичан. За счет финансового колониализма поддерживается уровень жизни американцев. Не либерализм приводит к повышению потребительских благ в этих странах, а эксплуатация других стран.
Да, Россия в целях обеспечения экономического роста изымала народную собственность, как это было при Сталине, но она никогда не опускалась до колониализма, как страны «золотого миллиарда», обеспечивающие себе благосостояние за счет дикой эксплуатации и грабежа других этносов. Так, в Гаити транснациональные корпорации платят рабочим 11 центов в час, а в Индонезии в 1990 г. на обувном предприятии дети за 13 центов в час шили туфли, себестоимость которых составляла 2,6 доллара и которые продавали за 100 долларов. При этом США отказалась подписать международную конвенцию, запрещающую детский и принудительный труд[97].
Потребительской культуре трудно возникнуть и воплотиться в реальную практику в стране, где недостает производства, поскольку потребление следует за производством, а не наоборот. Этот тезис работает при условии, что данная страна не эксплуатирует никакие другие. При обостренном товарном дефиците потребительству просто не на чем сформироваться, так как именно товарный профицит способен стать твердой основой для формирования данного типа культуры. Однако потребительство, сформированное на товарном многообразии, неся в себе высокомерное отношение к производительному труду, бьет по национальной экономике нежеланием легиона консьюмеров быть вовлеченными в сферу производительного труда. Соответственно, используя производство, потребление борется с ним. Такая ситуация приводит не к ликвидации производства вследствие реализации принципа «если никто не хочет производить, то производить некому», а перенаправляет национальную ориентацию на иностранную продукцию; то есть сами предпочитают покупать, делегирую обязанность производить кому-то другому (самый яркий пример — США). Отсюда следует сделать вывод, что потребление паразитирует на производстве и на производящих субъектах.
Если раньше основной проблемой было производство, то сейчас — сбыт произведенного товара. Недопроизводство сменилось перепроизводством. Причем относительно действительно необходимых для человека качественных товаров о перепроизводстве говорить не приходится, так как перепроизводство наблюдается в основном в сфере низкокачественных товаров или просто гаджетов, польза и необходимость которых стоит под вопросом. Дефицит широко предлагаемого товара сменился дефицитом покупателя, и поэтому возникла необходимость в рекламе, пиаре и маркетинге как средствах стимуляции желаний. Эпоха недопроизводства потребительских благ практически не нуждалась в рекламе, поскольку рекламировать было нечего; почти все производимые товары были известны. Сейчас, во время конкуренции товаров и услуг, реклама является одним из двигателей потребительской культуры. Контроль над факторами производства уступает место контролю над покупательским спросом. Производительность труда многократно усилилась вследствие индустриализации, выраженной в массовой замене ручного труда машинным, что позволило значительно увеличить объемы выпускаемой продукции. Индустриальный принцип машинности стал работать настолько эффективно, что обогнал спрос. Спрос и предложение поменялись местами. Классическая формула «спрос рождает предложение» перевернулась. Массовое производство вкупе с засильем рекламы создало массовое потребление. В налаживании серийного производства проявила себя тенденция стирания границы между элитными и массовыми продуктами, равно как и культура в целом утратила свою прежнюю раз-деленность на массовую и элитарную.
Жители стран, отличающихся высоким производством потребительских гаджетов, гордо заявляют, что у них наблюдается рост ВВП, что улучшается экономика и т. д.; мол, потребление, постоянно стимулируемое у людей желание покупать вкупе с огромным массивом производимых товаров, дает экономике возможность развиваться. Соответственно, бесконечная и бессмысленная стратегия покупок не нужного, а рекламируемого, сопряженная с высокой покупательной способностью, заставляет экономику двигаться вперед. Но не является ли это движение, основанное на увеличении объемов производства и количества потребностей, таким же бессмысленным? Экономический рост трудно назвать самой главной ценностью, ради которой следует использовать любые средства. В эпоху, когда благодаря перепроизводству потребительская культура стала доминирующей культурной тенденцией, когда возросла актуальность экологического кризиса, связанного с перепроизводством и потреблением, едва ли стоит закрывать глаза на явные негативные факторы (нравственно-экологические) и акцентировать внимание на позитивные (экономические). Все-таки экономика, нравственность и экология развиваются за счет друг друга, а не параллельно. Поэтому при наблюдении позитивных подвижек в одной сфере вовсе необязательно возникнут такие же позитивные изменения в другой. Изобилие достигается дорогой ценой, и цель не оправдывает средства. ВВП растет за счет создания не только нужных товаров, но и фиктивных, за счет растущих свалок вследствие моды на смену товаров, за счет вырубки лесов, выкачивания нефти, ухудшения почвы и прочих экологически вредных антропогенных факторов. Поэтому растущий ВВП — не показатель здоровья нации. Экономический рост, устремленный в бесконечность, для планеты враждебен. К тому же он удовлетворяет те потребности, которые сам создает, и процесс удовлетворения не успевает за процессом создания. Поэтому он не делает людей более счастливыми.
Не мог эгоизм потребительства родиться в лоне общинного уклада. Его породила именно капиталистическая система со свойственными ей индивидуализмом, пропастью в доходах и жизненных благах. Основная цель капитализма — создание условий, благоприятствующих максимальному извлечению прибыли. А все декларируемые ценности — права человека, неприкосновенность частной собственности, толерантность — выступают всего лишь словесно-риторическими инструментами, служащими этой главной цели. Рынок разрушает формы человеческих объединений, ориентированные на духовность, взаимопомощь и этику. Страшно то, что, интериоризируя весь негатив с Запада, мы, научившись потребительски мыслить (руководствуясь в основном категориями утилитарности и выгодности), превращаемся в западоидов. Возможно, возросшая риторика толерантности в некоторых случаях является своеобразным ответом на распад традиционного общества, основанного на семейных и родственных связях, на «зове предков», на традициях и устоях. Сегодня, когда социум трансформировался в совокупность индивидов, каждый из которых стремится быть отличным от других и не видит смысла в связанности с другими, когда он не знает и не хочет знать ни своих соседей, ни дальних родственников, эти другие превращаются в чужих. Предположим, что для баланса, для недопущения роста некоей новой формы ксенофобии «работает» риторика толерантности.
Социологи приводят результаты эмпирического исследования, согласно которым потребительство и его идеалы со времен позднего СССР (1981–1982 гг.) стали проявлять себя значительно сильнее (2008 г.). Мы не будем приводить количественные данные, которые можно узнать в первоисточнике! Скажем только, что сильно снизилась уверенность в завтрашнем дне, стала больше проявляться неудовлетворенность работой и заработной платой. Ценность работы сменилась ценностью потребления, взаимопомощь уступила место эгоцентризму, стало более актуальным умение приспосабливаться (идеология продажности), что привело к деструкции социальных отношений. Советские социальноцентрированные (традиционные) ценности сегодня стали маргинальными, так как доля разделяющих их людей значительно уменьшилась[98]. В общем, потребительские ценности, вжившись в массовое сознание, оказали особое влияние на образ жизни современных людей, что совершенно не наблюдалось при «непотребительском» социалистическом обществе, обществе мобилизационного типа. Рынок и влияние Запада сыграли свою роль в общекультурной трансформации.
К счастью, индивидуализм и аморализм потребительства не смогли уничтожить все проявления глубокой души, воплощенные в таких формах социально ориентированной деятельности, как донорство, благотворительность (пусть даже в предельно мелких масштабах), самоорганизация по тушению пожаров и т. д. Стоит помнить, что все эти полезные инициативы есть, но они мало заметны за массивом своих противоположностей.
Глава 6. Культура потребления в области образования
Если раньше наш народ квалифицировался как «самый читающий», то теперь культура чтения освободила место развлечениям, многие из которых носят откровенно аддиктивный характер. У большинства молодежи восхищенно загораются глаза не от новой прочитанной книги, а от купленных гаджетов, приносящих сомнительную пользу. Сама аудио-визуальная интернет-культура сокращает чтение за счет увеличения смотрения. Если символами «галактики Гуттенберга» были печатное слово и текст, символами нынешней эпохи стали звук и видео. То, что следует за эпохой книгопечатания, хоть и знаменует собой значительный прорыв в области коммуникативистики, одновременно редуцирует способность к вниманию и сосредоточению (книга больше, чем телевидение, требует наличия этих способностей) и снижает способность к интеллектуальной мобилизации и пониманию, так как дает человеку привыкнуть к легкому, не требующему волевых усилий, способу восприятия информации. Само по себе упрощение восприятия информации следует считать благом, но негатив этой стороны прогресса проявляется в том, что сознание, интеллект и воля перестают напрягаться. По-настоящему адекватно воспринимать информацию способен тот, кто имеет «книжный» опыт, развивающий волю, интеллект, абстрактно-логическое мышление, воображение и т. д. При столкновении с когнитивным барьером «неначитанное» потребительское медиа-сознание впадает в ступор или просто бросается в поиски готового рецепта, вместо того чтобы внимательно и глубоко проанализировать сложившуюся ситуацию.
У консьюмеров нет свободного времени для осмысления чего-то серьезного, надповседневного. И неоткуда этому свободному времени появиться, если день занят работой, а вечер уходит на самовосстановление для завтрашнего трудового дня в виде просмотров всяких ток-шоу, а иногда распития спиртного. И все это засоряет сознание людей настолько, что интерес к действительно важным проблемам культуры и политики уже просто не может сформироваться.
Для облегчения потребления серьезной информации, для развлекаизации этого процесса, в США, а затем и в других странах, на смену жанру «жесткие новости» пришел такой жанр журналистики, как инфотейнмент (от слов information и entertainment — информация и развлечение), который предполагает преподнесение важной и серьезной информации в развлекательной форме с использованием игрового начала или театрализации. В жанре инфотейнмента могут по-постмодернистски сочетаться традиционно несочетаемые явления — драматическое содержание и игровая форма, — но основной акцент ставится на форму, структуру, архитектонику, а не на содержание; главный вопрос не «что преподносится?», а «как преподносится»[99]. Появление инфотейнмента как отдельного жанра указывает на сдвиг массового сознания в сторону развлекательности, на инициируемую им попытку найти искомое pleasure во всем, в том числе в дискурсе, который в содержательном смысле может предполагать иные формы проявления человеческого отношения, несовместимые с удовольствием и развлечением. Также данный жанр журналистики своим существованием подчеркивает стремление людей к редуцированной информации, максимально понятной, упрощенной и вызывающей положительные эмоции пусть даже не своим содержанием, а стилем ее преподнесения. Театрализация и игроизация оживляют информацию, что выступает эффективной стратегией привлечения внимания и удерживания интереса зрителя. Но если акцент делается не на содержании информации, а на методе ее подачи, и если данные формы развлекательности применяются в том числе при трансляции сообщений о трагедиях, катастрофах и т. д., эта методология не находит оправдания простым апеллированием к оживлению информации. Там, где присутствует грусть и скорбь, смех неуместен. В потребительском обществе стремление к удовольствию не просто занимает главенствующий статус, но также проникает в области, где ему нет места.
Согласно социологическим исследованиям[100], читающих людей среди школьников и студентов становится все меньше и меньше (они вместо этого погружены в виртуальный мир). Редко кто из школьников может дать адекватный ответ на вопрос «кто твой любимый книжный персонаж?». Называют в основном героев классики, которых помнят не потому, что они любимые, а потому, что школьная программа сформировала знание этих персонажей. Для сравнения приведем данные[101], согласно которым в Советском Союзе культура чтения была развита настолько, что практически вся молодежь — не только получающая высшее образование, но также рабочая и учащаяся в ПТУ — читала книги и журналы. Сегодня эта тенденция не наблюдается не только среди рабочих и учащихся ССУЗов, но и среди студентов вузов и выпускников, получивших высшее образование. Конечно, в СССР спектр развлечений для подростков и молодежи был намного меньше, чем сейчас, и этим объясняется склонность советской молодежи к чтению, но факт остается фактом; главное, что современное поколение (поколение «пепси» или поколение «30»), охваченное «адаптивным регрессом», в интеллектуально-культурном развитии уступает своему советскому предшественнику. Поэтому либеральные доводы о том, что при существовании СССР культура (в том числе культура чтения) была низка, не выдерживают критики. Сейчас она значительно ниже.
Инструментально-технический тип рациональности основан на принципе полезности, который вытесняет «неэффективную и невыгодную» духовность. В условиях господства данного типа рациональности и появления потребительского медиа-мышления наблюдается упадок культуры чтения, и ценность образования как такового тоже неуклонно падает. Студентам неинтересны базовые теоретические дисциплины (им больше интересна оценка на экзамене). Если чему-то и отдается предпочтение, то в основном «практичным» предметам, которые формируют практическую базу, необходимую для работы. Предпочтительное знание — это прагматичное, инструментальное и ведущее к выгодной работе самым коротким путем. Особенность такого интереса укладывается в формулу «главное — научиться зарабатывать деньги, а все остальное побоку». Недооценка базовых дисциплин, по нашему мнению, указывает на околопотребительский характер, поскольку редуцирует знание как таковое, а также пренебрегает фактом того, что данные дисциплины не только «забивают головы теоретичной, а потому бесполезной информацией», но расширяют профессиональный горизонт, повышают интеллектуальный уровень и развивают мыслительные способности. Сама общественная структура, основанная на рынке, можно сказать, диктует правила, которые выводят широту знаний и кругозора на периферию, а на передний план ставят узкую практичную специализацию. Соответственно, и научные исследования должны обязательно отвечать коммерческой выгоде, то есть быть нужными сугубо в инструментальном смысле. Формирование спроса только на коммерчески целесообразные навыки и умения создает соответствующий тип образования, в котором собственно образованию находится мало места по сравнению с обучением; вместо принципа развития реализуется принцип конкурентоспособности. Исследования и дисциплины, остающиеся общественно значимыми, но имеющие минимальную коммерческую ценность, вытесняются. При этом система массмедиа упорно внушает мысль о неправомерности старшего поколения участвовать в воспитании молодежи, что приводит к разрыву межпоколенческих связей и дегуманизации образования.
Университет — это не просто место сборки узкого специалиста с востребованным умением, но и место формирования мыслящего человека. Однако он таковым перестает быть с коммерциализацией образования. Именно студент, компетентный только в строгих рамках и не разбирающийся в смежных науках, выгоден как диктаторским правительствам, так и корпорациям. Не имея возможности работать по смежным профессиям и не обладая достаточным запасом знаний, он становится зависимым от работодателя.
Коммерциализация образования осуществилась в Британии по инициативе Т. Блэра, где, как и у нас, она повлекла за собой межвузовскую конкуренцию и падение качества образовательных услуг. Блэр заявил, что вследствие отсутствия у государства денег на высшее образование пусть за него платят сами студенты, после чего закрепил свою аргументацию тезисом о несправедливости облагать дополнительным налогом население, которое не училось в университетах. Интересно то, что малоимущим студентам позволяется заплатить за образование по окончанию университета, а во время периода обучения за них платить будет государство. То есть оно предоставит студентам беспроцентные кредиты. Но как, если, по Блэру, оно не располагает средствами? Если правительство будет брать кредиты у банков (которые не выдают беспроцентные кредиты), за образование все равно заплатит рядовой налогоплательщик — неважно, учился он в университете или нет. Занимающее статус должника государство, как и студенты, обретет зависимость от частного капитала, владелец которого сможет влиять на государственную политику, в том числе политику в области образования. Британское общество, с одной стороны, — станет более зависимым от корпораций, а с другой — из-за примитивизации образования станет интеллектуально и культурно ущербным.
Гуманитарные науки также пострадают из-за своей невписываемости в стратегию экономической конкурентоспособности[102]. Данные тенденции касаются не только Британии. Так, Л. Вебер высказывает опасения насчет коммерциализации французского образования, которая приводит к серьёзному социальному расслоению[103]. И все эти нововведения, реализуясь в странах Европы, наверняка в скором времени будут удачно экспортированы в другие страны, в том числе и в Россию. У современной Европы появилась потребность не в думающих людях, а в хороших исполнителях, поэтому система образования строится на создании этих исполнителей, которых наделяют калейдоскопично-фрагментарными знаниями. Они призваны знать вместо думать. Столпам коммерции не нужны образованные люди, поскольку они являются худшими потребителями. Образованные люди большее внимание отдают не модным гаджетам, а надматериальным ценностям. Они в меньшей степени подвержены влиянию моды и рекламы. У них иная структура мироощущения. Они не способствуют развитию коммерческой сферы, предлагающей обществу широту потребительского выбора и превращающей социум в совокупность консьюмеров. Поэтому считается, что большое количество образованных людей не соответствуют экономической целесообразности, хотя в данном случае более уместно говорить о финансовой целесообразности отдельных экономических акторов.
Наша система образования целенаправленно выхолащивается и переводится на западные стандарты. Она становится не более прогрессивной, как вещают с высоких трибун всякие реформаторы, а наоборот, более регрессивной, не способной рождать интеллектуалов, специалистов широкого профиля. Если слово «реформа» обычно подразумевает улучшение, изменение с прогрессивным результатом, его использование применительно к сегодняшним трансформативным тенденциям образования неуместно, поскольку наблюдается упадок, ухудшение той системы, которая осуществляет прогресс внутри иных социальных систем, которая выступает первичной сферой для поддержания других сфер, которая передает весь накопленный опыт и тем самым модернизирует общественное устройство, которая является мощным толчком для этического, научного, научно-технического, инфраструктурного и общекультурного социального развития. Нет прогресса в ней — нет прогресса в них — нет никакой модернизации, но есть бесконечные разговоры о модернизации и постоянное использование слова «реформы», которое скрывает за собой процесс не реформирования, а деформирования. То же самое следует сказать не только в отношении реформы образования, но и в отношении большинства так называемых реформ начиная с перестройки; они не привели и не приводят к улучшению жизни людей, интеллектуализации общества и суверенизации государства; следовательно, они не имеют права именоваться реформами.
Русский интеллектуал всегда был Интеллектуалом с большой буквы, а потому являлся костью в горле у недружественных по отношению к России мировых элит. Сейчас он стал костью в горле российской политической элиты. Не исключен вариант того, что в скором времени образование станет лоскутно-калейдоскопичным и принципиально бессистемным, а наука перейдет в руки класса господ и тем самым станет жреческой монополией. О достойном будущем России не может быть и речи, пока интеллектуальная сфера ее бытия ограничена и выхолощена западными стандартами, не обогащающими, а, наоборот, еще более выбраковывающими некогда великую вузовскую систему.
Современное образование трудно назвать по-настоящему современным (modem), так как в постиндустриальном мире идет такое стремительное развитие технологий и расширение информационной матрицы, что содержательные характеристики прежней образовательной модели с неизбежностью устаревают все больше и больше. Написанное сейчас может устареть уже в момент публикации. Сегодняшняя эпоха характеризуется не только лихорадочным ростом знания, но и быстрым отступлением прошлых истин на задний план. Жесткая нормированность, свойственная традиционным обществам, сменилась вариативностью, а накопленный образовательный опыт обесценивается при встрече с «текущей современностью» и перестает функционировать согласно принципу «сейчас ты учишься для роста профессионализма, а потом единожды полученный профессионализм будет работать на тебя». Однажды приобретенный профессионализм — уже не защита от неконкурентоспособности, не финансовое сбережение, приносящее с годами прибыль в виде процентов. Неудивительно, что особое распространение получают всяких краткосрочные курсы, проводящиеся вне академических стен, и эти курсы, как и академическое образование, устаревают, вследствие чего возникает необходимость проходить новые, обладающие такой же сиюминутной современностью.
Современному человеку трудно положиться на некую традиционную структуру быта, а потому он несет ответственность за выбор образа жизни и за проявляемую или не проявляемую им «ходьбу в ногу со временем». Значит, повседневность теряет связь с надежностью, стабильностью и укорененностью, и все больше связывается с нелинейностью, неизвестностью, тревогой, неуверенностью. Образование должно идти в ногу со временем, а не быть догматичным и ригидным, обращенным во вчерашний день. Его главная цель — умело схватывать полезные нововведения, использовать их и обучать им, а не, отрицая новшества, гордо поднимать голову, изрекая пафосные (и теперь уже бессмысленные) слова типа «у нас классическое образование, и оно должно оставаться таковым!». Оставаясь таковым, оно указывает на свою неадекватность современному миру. С его помощью не только невозможно решить актуальные проблемы, но зачастую оно не позволяет даже их увидеть. Студент обучается по одной технологии и парадигме, к моменту окончания вуза эта парадигма изнашивается, и ей на смену приходит новая система знаний — более совершенная и адаптированная к реалиям текущего дня. Выпускник оказывается неконкурентоспособным. И некоторые догматичные вузовские дисциплины, читаемые в течение нескольких десятков лет в первозданном виде, без нововведений, также неконкурентоспособны и отдалены от реальности. В глобализирующемся мире почти каждому человеку целесообразно, с одной стороны, идти в ногу со временем, а с другой — не забывать о своих национальных корнях.
Образование призвано не только фактуально нагружать голову студента, но и учить его мыслить, предоставлять помимо фактов (многие из них действительно бесполезные) методологию. Более того, образование должно удерживать баланс между фундаментальными знаниями, методологическим каркасом и практичными нововведениями в сфере науки и технологий, и не уклоняться в одну из сторон.
Возникает вопрос: на что рассчитан Болонский процесс? На улучшение качества образования, на его мобильность, на его осовременивание или же на создание пропасти между малочисленной элитой, достойной обучения, и многочисленными социальными низами, в образованности которых вершители сего процесса не особо заинтересованы? В этом же ключе достойно внимания новое изобретение — ЕГЭ, тесты которого, будучи не способными актуализировать творческое мышление выпускника, лишь проверяют его память, оставаясь малообъективным средством для оценки знаний. ЕГЭ разрывает связь «учитель-ученик» и не позволяет ученику проявить свою субъектность. Вместо развития самостоятельности и гибкости мышления утверждается система тестовой кодификации и формализации. Речь, творческие и коммуникативные способности, систему ценностных ориентаций ЕГЭ не развивает. «Механическая зубрежка, схоластический количественный набор фактов, приоритет фразы над мыслью, формы над содержанием — основные звенья подобной цепи. В конечном итоге, данное обучение формирует у детей отсутствие способности к суждению, к самостоятельной мысли»[104]. Тесты, конечно, следует считать весьма надежными способами проверки знаний, но традиционному методу собеседования они уступают. Тесты сводятся к определенной дрессуре, они загоняют обучаемого в рамки, не дают возможности самостоятельно ставить проблему и развивать мышление. Печально, что тестовая система сейчас получила широкое развитие и используется повсеместно. Я не предлагаю полностью отказываться от тестов, но предлагаю большее внимание уделять собеседованию, позволяющему студенту проявить творческие способности и аналитическое мышление, а тестам для педагогического разнообразия отводить небольшое место. Кроме того, ЕГЭ только на словах являлся элементом борьбы с коррупцией и бюрократизацией, а на деле он увеличил их уровень. Да и ориентация на Америку и Запад в образовании, мягко говоря, вряд ли оптимальна и современна, так как Америка с ее пониженными требованиями к студенту и образовательным техницизмом — не авторитет. Известно, что интеллектуальный уровень среднего американского выпускника вуза кое-как дотягивает до интеллектуального уровня среднего российского выпускника колледжа или техникума, что говорит о близости понятий американизации и олигофренизации. Прислушаемся к мнению А.И. Фурсова: «…ЕГЭизированные студенты — это демонстрация культурно-образовательной варваризации и информационной бедности. Если в последние 25–30 лет культурно-образовательный уровень выпускников школ снижался постепенно, то несколько ЕГЭшных лет не просто резко, а катастрофически ускорили этот процесс. Лучшее, чем ЕГЭ, средства перспективной дебилизации и культурнопсихологической примитивизации подрастающего поколения придумать трудно»[105]. А.И. Фурсов справедливо считает, что результатами образовательного реформирования, выраженного как в качественном, так и в количественном (снижение учебных часов) спаде образовательных стандартов, выступают дерационализация сознания и деформация исторической памяти, а также переход внимания от научной сферы к сфере мистики, астрологии, магии и т. д.
Я не вижу ничего прогрессивного в переходе от нашей самобытной модели специалитета к модели бакалавриата-магистратуры, и многие ученые со мной согласятся. Эта модель уничтожает российско-советский вуз как культурное явление, унифицирует его до уровня тех вузов, которые ранее не были способны с ним конкурировать. Нововведенные понятия типа «компетенции» просто подменяют собой настоящее знание. Также я не в состоянии узреть прогресса в решении нашего правительства от 2009 г. закрыть педагогические вузы, выпускники которых, работая в средних школах, спасают эти школы. Как и следовало ожидать, власть инициирует регрессивные реформы сама, не прислушиваясь к мнению людей, работающих в сфере образования. Пока наблюдается игнорирование с ее стороны тех, кому намного виднее образовательная проблематика, никакого модернизованного образования в России не будет. А оно, видимо, и не нужно. Нужны только понятия «качественное», «новое», «передовое», «прогресссивное» образование (ср. с экономикой) как штампы, транслируемые через СМИ, а не само явление, которое соответствовало бы данным понятиям.
Недаром отмечается, что современное глобализирующееся образование транслирует в большей степени ценности глобальной культуры, а не русской или советско-русской[106]. Глобальное образование — это проявление образовательного империализма, а глобальная культура — проявление культурного империализма, который безразличен к исторической памяти и национальному наследию. Точнее, он не безразличен, а враждебен, поскольку национальная культура тормозит экспансию глобальной культуры. Глобальной культуры вообще быть не может, поскольку нет никакой общей для всего человечества коллективной памяти, на которой можно было бы выстроить некое единое культурное поле. Однако представляется, что нынешние так называемые реформаторы об этом не знают. При всех своих минусах опыт СССР показал, что мы способны многое делать сами, что нет необходимости заимствовать иностранные модели, но. к сожалению, из истории далеко не всегда выносятся положительные уроки.
После введения этой «облегченной» (очень мягко выражаясь) модели образования, начнут сокращаться рабочие места профессоров, которые, вооружившись серьезными требованиями к студентам, действительно хотят дать своим подопечным полноценное образование; до примитивизма простые требования системы и справедливо-высокие индивидуальные требования окажутся несовместимыми, а система всегда побеждает проявления персонализма. Добавим, что Болонская система предполагает свободный выбор курсов (!), а студенты вряд ли захотят посещать курсы особо строгих и серьезных преподавателей. Соответственно, эти преподаватели рискуют превратиться в нефункциональные единицы, в маргиналов, помещенных на периферию образовательного пространства и на обочину конъюнктуры рынка. Они потеряют рентабельность. Таким образом, для поддержания собственной рентабельности преподаватели будут вынуждены упрощать требования, и это обеспечит упрощение подготовки студентов. При редукции преподавательской работы произойдет тотальная редукция системы образования, ибо лишь серьезные, требовательные и высоквалифицированные преподаватели способны осуществлять прогресс в системе. Нет их — нет прогресса. Студент платит за учебу, а в мире рынка кто платит, тот и заказывает музыку.
Потребитель образовательных услуг в основном стремится получить не качественное образование, а гарантию того, что диплом ему выдадут. Поэтому поступает не туда, где много задают, а туда, где требуют минимум. Легкость обучения — один из самых значимых факторов современного студенчества. Соответственно, многие вузы в своей деятельности ориентируются не на качество образовательных услуг и уровень требований, а на ценности потребителя. Такая ориентация ни в коей мере не воспитывает в студенте уважение к учебному процессу и не создает внутреннюю мотивацию, направленную на обучение. Поэтому можно смело заявить, что далеко не все вузы выполняют свою социальную роль, хотя в том числе они, а не только сами студенты, несут ответственность за качество подготовки и за то, кого именно они готовят — образованцев, квалифицированных потребителей или новое поколение интеллигенции. Если в коммерческих вузах студентов частично и заставляют делать то, что им не нравится, то есть хотя бы минимально создавать видимость учебной деятельности, это обычно происходит в обмен на гарантию сдачи экзамена.
С другой стороны, система платного образования в основном ориентируется не на степень подготовки абитуриента, а на социальный статус и доходы его родителей или тех близких ему людей, кто готов оплачивать его обучение; имущественный ценз доминирует над интеллектуальным. Об этом говорит постоянное сокращение бюджетных мест в государственных вузах и их естественное отсутствие в частных. Неудивительно, что впоследствии выпущенные профессионалы (хотел по старинке сказать «специалисты») не всегда оправдывают звание профессионала. По-хорошему, конечно, главным критерием допущения абитуриента к вузовской скамье должен быть не уровень материальной обеспеченности его опекунов, а его личный уровень подготовки. Обучающиеся на платных местах в государственных вузах студенты часто пользуются большими привилегиями, чем те, кто обучается на бюджетных местах; их обучение является статьей дохода в вузовском бюджете. В результате с повышением платности образования уровень девальвации самого образования растет.
Когда говорят, что конкуренция между вузами способствует повышению качества образования, кривят душой. Вузы, конкурируя друг с другом, гонятся за потребителем и, соответственно, желая иметь в своих стенах большее количество студентов, предлагают в качестве рекламы не то, что укладывается в парадигму качественного образования, а то, на что ориентированы эти потенциальные студенты. Пожалуй, идеальным вариантом рекламы являлся бы не лозунг «Мы даем качественное образование!», а лозунг «У нас не отчисляют!». Из-за такой подстройки под клиента учебное заведение приобретает черты института обслуживания, где «покупатель всегда прав». Известна практика в основном негосударственных вузов, которая заключается в принципиальном неотчислении студентов, оплачивающих обучение; студент может совсем не учиться, но обязан платить за «учебу», и рискует быть отчисленным только в результате неуплаты. В коммерческом секторе образования наблюдается символический обмен между потребительски мыслящими студентами и потребительски мыслящими преподавателями; первые платят деньги не за обучение, а за посещение, а вторые завышают им оценки, забывая про систему требований. Потом на рынок труда выходят профессионалы соответствующего уровня, проявляющие профессиональную некомпетентность, а иногда даже тотальную безграмотность. Их массовый выпуск структурами, имитирующими образовательный процесс, приводит не только к девальвации высшего образования, но и к снижению эффективности и производительности труда в самом широком смысле. Сейчас они неконкурентоспособны по сравнению с теми, кто закончил «нормальные» вузы, но в будущем, скорее всего, они станут вполне конкурентоспособными, так как сравнивать их станет не с кем, так как при сохранении имеющихся сегодня тенденций редукционизации образования все «образованные» люди будут соответствовать их статусу. Значит, иронично замечу, провозглашаемый принцип экономической конкурентоспособности, сместивший принцип личностного развития, образование будущего вполне сможет реализовывать. А интеллектуальная продвинутость единиц, соответствующих более высоким образовательным стандартам, будет обеспечена не благодаря такой системе образования, а вопреки ей.
Одним из показателей «высоты» современной культуры являются ценностные ориентации студенчества на халяву и ничегонеделание, не просто на примирение с низким качеством образования, а на желание снижения этого качества, выраженное в принципе «мое дело заплатить деньги, а ваше — поставить мне оценку». Образование «само по себе», его внутреннее наполнение утрачивает ценность, а вот бумажка, свидетельствующая о наличии образования, пока держится на плаву. Это говорит о растущем образовательном противоречии между позитивно окрашенной целью (получить диплом) и негативно окрашенными средствами (изнурительная учеба).
Группу психологов третьего курса я попросил назвать известных психоаналитиков. Они назвали только Фрейда и Юнга. После моего шутливого вопроса «Э. Фромм у вас преподавал?» они в задумчивости напрягли брови — вспоминали, преподавал у них Фромм или нет. Мне знаком случай, когда студентка коммерческого вуза на несколько вопросов преподавателя, касающихся ее реферата, ответила входящим в некий гносеологический стандарт «не знаю», после чего объяснила свое неведение словами «я писала сама, но не читала». Причем эта фраза была сказана со всей серьезностью, которая характеризует некую нормальность данного «оправдания» для студентки. Неоднократно в одном из подобных вузов студенты садились отвечать преподавателю на экзамене, с невозмутимой смелостью кладя перед собой совершенно «в открытую» листок с ответом, который, в силу его непотаенности, шпаргалкой назвать сложно. Это тоже один из вариантов того, что следует назвать студенческой нормой. Я удивлен, как такие студенты умудряются доучиться до третьего или четвертого курса. Видимо, стоит говорить не о студенческой норме, переходящей все границы дозволенного, а о студенческо-преподавательской норме; ведь преподаватели на многие из подобных действий просто закрывают глаза, ибо работают в частном коммерческом вузе, где взимаемые со студентов средства за «обучение» имеют несравнимо более привилегированное положение, чем уровень знаний студентов и вообще все принципы образовательной деятельности. Когда такие случаи приобретают статус не единичностей, а повседневностей, когда происходит сдвиг нормальности в сторону того, что всегда рассматривалось в качестве возведенных в куб наглости или глупости, пора задуматься над образовательной культурой как студентов, так преподавателей и системой в целом. Фарс, доходящий до трагедии. Больно и смешно смотреть на выпускника юридического факультета, который на банальный и одновременно фундаментальный для его специальности вопрос «сколько статей в Конституции РФ?», отвечает лаконичным «не знаю», да еще с таким видом, что, мол, ему это знать и необязательно. Является ли такой «специалист» юристом? Конечно, нет. Он является просто человеком, закончившим юридический факультет и получившим документ, где написано, что ему присуждена квалификация юриста. Получение документа хоть формально указывает на квалификацию выпускника, фактически же такое указание исчезло. Хочется спросить: если ЭТО называется высшим образованием, что тогда именовать средне-специальным?
Люди, потворствующие такой системе, в качестве оправдания говорят, что если выпускник не обладает никакими профессиональными знаниями и умениями, диплом ему не поможет. Мол, более продвинутый конкурент займет его рабочее место. И это говорится несмотря на известность практики кумовства, согласно которой дебил, являющийся «своим» (сын, брат и т. д. местного начальства), имеет значительно больше шансов получить работу, чем «чужой», но высококвалифицированный, специалист. Неудивительно, что восседающие в начальничьих креслах люди далеко не всегда соответствуют той должности, которую занимают.
Ценности личных достижений (прежде всего трудолюбие и высокая квалификация) давно уже не являются преобладающими в общественном сознании. Реальность показывает, что этих ценностей явно недостаточно для достижения высокого карьерного роста, обретения социального положения и материального достатка. Мало того, факторы связей и знакомств, а также раболепного послушания, обладают, как правило, большей функциональностью, чем трудолюбие и высокая квалификация. Укорененность неформальных отношений, выраженных в связях с «нужными» людьми и мелкой коррупции, которые помогают в решении жизненных проблем, выступает прямым показателем неэффективности формальных институтов. Можно сказать, что эти связи являются некоей компенсацией деградации и бюрократизации формальных социальных институтов, хотя их же целесообразно представить в качестве условий, усиливающих эту деградацию. Такая компенсация в виде использования связей для устройства на работу, подачек медицинским работникам или чиновникам, покупки экзаменов и зачетов сама по себе ломает нормальную систему и приводит ее к еще большей дисфункциональности. Давая возможность человеку решать свои личные проблемы, эта компенсация крайне негативным образом сказывается на социальной системе. В результате высокие должности и рабочие места занимают не те, кто их достоин, не компетентные люди, а те, у кого есть серьезные покровители. Факт того, что чиновничье кресло можно купить, россияне воспринимают вполне спокойно, что указывает на болезненность социума в делом. Чтобы сформировать у людей ценность высокого образования и квалификации, необходимо им доказать, что образование и квалификация, а не связи и раболепие, имеют неоспоримый вес. Нужно создать условия, при которых интеллектуально-профессиональный потенциал будет нарастать, а не деградировать. При таких условиях не стоит удивляться, что каждое новое поколение менее квалифицированно, профессионально и нравственно, чем предыдущее. Неоткуда при подобном падении как этических, так и профессиональных стандартов появиться модернизационным прорывам, о которых сегодня так много говорят. Неудивительно также, что вследствие вопиющего непрофессионализма сталкиваются транспортные средства, разбиваются самолеты, взрываются электростанции, гибнут пациенты. Конечно, эти трагедии не всегда происходят из-за недостатка профессиональной подготовки, но данный фактор не стоит сбрасывать со счетов. Если выпускник не обладает профессиональными знаниями и умениями, то выпускником он быть не должен. Он просто не заслуживает получения диплома. Эта мысль крайне банальна, но, несмотря на ее банальность, она остается декларируемой и нереализованной.
Не совсем объективно связывать между собой свободную конкуренцию и рост качества товара — любого товара, а не только образовательных услуг. Если одна компания выпускает ноутбуки, другой компании для победы над конкурентом нужно следовать одному из вариантов: 1) выпустить ноутбуки лучшего качества, но с такой же ценой; 2) выпустить ноутбуки качества чуть похуже, но немного дешевле; 3) затратить много денег не на улучшение качества ноутбуков, а на увеличение рекламы, что также повысит цену продаваемого продукта, но не отразится на его качестве. Реализация первого варианта обычно крайне сложна, и потому остается второй и третий. Но такая конкуренция не приводит к повышению качества товаров. Известен так называемый принцип ухудшающей конкуренции, который работает в соответствии со вторым вариантом. Так, фирма, чтобы переманить покупателей, производит ноутбуки хуже и дешевле тех, которые производят ее конкуренты. Впоследствии другая компания использует эту же стратегию, и стандарт качества снова падает.
Также не работает тезис о том, что рынок поставит все на свои места. В условиях рыночной экономики, да еще при отсутствии государственной поддержки институту образования настоящая ценность его услуг девальвируется. «Все страны мира, которые проводили модернизацию, наращивали вложения в образование, и ни одна не провела модернизацию при затратах ниже 7 % от ВВП»[107], ― пишет недовольный политикой государства в сфере образования О.Н. Смолин. В последнее время, по свидетельству И.Н. Сиземской, доля расходов на образование в России приблизилось к 4―4,5 % ВВП. «Трудность и искусство политиков состоит в определении, где можно дать свободу действиям рыночных отношений, а где поставить заслон, если ничем не ограниченные отношения свободного рынка начинают разрушать жизненные основы общества. Но, как говорит мировой опыт, эта задача решаема»[108].
Развитие науки также возможно при условии ее финансирования государством, а не частными лицами, которые заинтересованы в оплачивании технологий, приводящих к уже запланированному практическому результату, выраженному, например, в облегчении или усовершенствовании производства некоего реализуемого на рынке продукта. Частному сектору нужен точный и практикоориентированный результат. Если ученый заранее планирует получить благодаря своему исследовательскому проекту определенный результат для усовершенствования какого-либо средства производства, он занимается не фундаментальной наукой, а прикладной разработкой, которая представляет для бизнеса значительно больший интерес. Наука же, если говорить в первую очередь про фундаментальную науку, своей целью ставит не столько усовершенствование чего-либо, а поиск истины, перевод неизвестного в статус известного. Частному сектору такие цели по понятным причинам неинтересны. Государство призвано довольно щедро финансировать науку не только потому, что наука есть неотъемлемая часть культуры, но и потому, что многие фундаментальные исследования имеют большой потенциал и в будущем их результаты могут быть использованы в прикладных отраслях, необходимых в том числе и для производственной сферы.
То же самое происходит с культурой в целом, которую частному предпринимательству невыгодно повышать. Нерентабельно какому-нибудь бизнесмену вкладывать деньги, например, в высокохудожественный просветительский фильм, поскольку аудитория будет явно недостаточно широкой. А вот потакание массовому вкусу путем создания новых глупых блокбастеров или не менее глупых «мыльных» опер вполне рентабельно. Так что в результате выберет частный предприниматель? То, что люди уже готовы воспринимать, то, для восприятия чего людей не нужно дополнительно мотивировать. Он выберет то, что пипл хавает, и этот выбор будет вполне умным и рациональным.
В мире рыночных отношений культуру и искусство редуцирует сам рынок, они ставятся на конвейер и претерпевают унификацию. Если автор сдает в коммерческое издательство какой-нибудь высокоинтеллектуальный роман, издатели скорее всего вернут его обратно, сославшись на его непривлекательность для широких кругов, являющуюся прямым следствием его качества; а если он непривлекателен, то его издание коммерчески невыгодно, следовательно, высокое качество романа работает против самого романа. 3. Бауман пишет, будто рынок, наоборот, способствует культурному многообразию, будто он способен заарканить любую культурную идиосинкразию[109]. Да, рынку интересно разнообразие, но разнообразие усредненности, когда выпускается множество разных фильмов и книг, но ни один из них не выходит за невидимые и внегласные, но все же существующие рамки интеллектуальной нагруженности, высокая степень которой обычно не привлекает среднего покупателя, а отвращает его от себя и, соответственно, делает продукт некоммерческим, не приносящим дохода. Да, рынок способен любую культурную идиосинкразию заарканить, но он не желает этого делать. Или же, прежде чем выпускать ее в первоначальном виде, он долго работает над редуцированием ее содержания, выхолащиванием наличествующей интеллектуально-эстетической сложности, чтобы в конце концов придать ей товарный вид, не отягощенный и не обезображенный признаками утонченной высокой культуры. Этим объясняется тот факт, что, несмотря на наличие по-настоящему интеллектуальных научно-фантастических романов, их не слишком торопятся экранизировать в близком к оригиналу виде. Или же если некоторые из них и экранизируют, то с предельным выхолащиванием начального содержания; такая участь постигла произведения А. Азимова, по которым поставили фильмы «Двухсотлетний человек» и «Я робот», и подобных примеров можно привести массу. Так что рынок не пытается следовать принципу «пусть все цветочки цветут», поскольку некоторые из них, несмотря на действительную красоту, не принесут денег. Рынок потакает усредненным вкусам, тиражирует усредненность и оставляет мало места тому, что стоит выше. Таким образом, он не только отражает культурные тенденции, но и создает их, вовлекается в некий порочный круговорот.
Кроме как государству, больше некому финансировать культуру, науку и образование. Если оно перестает выделять на них средства, повышается вероятность антикультурного и одновременно антимодернизадионного поворота. Ведь образование — краеугольный камень культуры и цивилизации. Это сфера оказывает огромное влияние на другие сферы деятельности общества; без ее качественного функционирования и всеобщей доступности невозможен никакой прогресс. А пока происходит коммерчески выгодное самовоспроизводство китча. Рынок не любит реагировать на долгосрочные перспективы, полезные для общества в целом, а предпочитает следовать краткосрочным (личным) интересам, даже если они идут вразрез с общественными.
Как мы видим, культура потребления охватывает в том числе и систему образования, которая утрачивает свою автономность и превращается из социального служения в сегмент рыночных услуг. Образование и должно оставаться за пределами законов спроса и предложения. Становясь рыночной услугой, образование предлагает себя не только в том виде, какой ему надлежит иметь, но и в абсолютно уродском, привлекающим потребительски ориентированного клиента. Образование в той или иной степени решало задачу подготовки будущего работника, задачу воспитания гражданина и задачу многостороннего развития личности. Сейчас оно переориентировано с этих задач на формирование воспеваемого А. Фурсенко квалифицированного потребителя; как известно, А. Фурсенко в качестве порока советской системы образования увидел ее стремление создать человека-творца, а не пользующегося результатами труда других квалифицированного потребителя. А если все станут пользователями-потребителями, на чьи плечи ляжет создание новых результатов? Ведь как бы квалифицированно потребитель ни потреблял, создавать он ничего не будет. Наконец, трудно комментировать слова человека, узревшего в создании человека-творца порок, а в конституировании квалифицированного потребителя — благо.
Настоящее образование должно быть дискомфортным, оно призвано требовать, напрягать и мобилизовать, а не расслаблять. Оно призвано следовать русской пословице «что мучит — то учит», а также словам Эсхила о приходе познания через страдание. Поэтому нужно с осторожностью относиться к явлениям типа эдьютеймента (education — образование, entertainment — развлечение), которое представляет собой формат созданных для обучения развлекательных программ. Конечно, образование в идеальном смысле должно вызывать интерес и потому в него полезно привносить частицу «живого» общения. Но также целесообразно соблюдать необходимую грань, чтобы не наблюдалось превалирование развлекательности, в силу которого бы затмевалась, а не повышалась эффективность от образовательной деятельности.
Диплом — не то, что покупается в соответствии с принципами рыночной экономики, а то, что заслуживается упорным трудом. Объем продаж не указывает на высокое качество продаваемого товара или услуги. Эффективность и конкурентоспособность являются элементами рыночной идеологии, которые не должны распространяться на сферу образования, так как они выхолащивают ее, лишают как воспитательного, так и обучающего наполнения. Этот процесс приводит к неумолимой деградации интеллектуальных и нравственных общественных сил. Недаром И. Смирнов обучение на коммерческой основе назвал механизмом, «посредством которого студент, не имеющий знаний и способностей, получает официальную бумагу (с печатью) о том, что знания и способности у него имеются. Точно такую же, как у однокурсников, которые по-настоящему учились»[110]. Но что тут поделать, ведь вузам необходимо поддерживать самовоспроизводство и расширение своего присутствия на рынке образовательных услуг. А поскольку рынок образовательных услуг практически капитализирован (коммерциализирован), то и само образование становится таким же, коммерчески и потребительски направленным. Это сказывается как на содержательной, так и на структурно-институциональной стороне образования; одновременно деформируется качество предоставляемых услуг (глубина и полнота учебного материала) и методология контроля за этим качеством (требования к студентам). Содержание образования и способы организации и реализации образовательного процесса приходят в соответствие с ожиданиями типичного потребителя. При рыночном функционировании образования преподаватели будут заинтересованы не обучить студента, а обучать его, то есть находиться в действии, в процессе. Также врачу при рыночном функционировании медицины невыгодно вылечить пациента, а выгодно его лечить; когда между врачом и пациентом (преподавателем и студентом) встают деньги, финансовый интерес начинает преобладать над фундаментальной целью здравоохранения (образования). Основой функционирования находящихся на рыночных рельсах образования и медицины станут не их внутренние цели, а интересы рынка. Таким образом, образовательная сфера наполняется примитивизмом, удовлетворением поверхностного любопытства, попустительским отношением к учащимся и даже мистицизмом и откровенным эзотерическим мракобесием. Чего только стоят введенные в Волгоградском государственном университете курсы «Конструктивные особенности летающих тарелок» и «Практика общения с загробным миром». Интересно то, что эти курсы введены не в каком-то сомнительном коммерческом вузе, а именно в государственном! И с какой же целью было осуществлено такое нововведение?
Сейчас планомерно утверждаются законы, в соответствии с которыми вузы и медицинские учреждения переходят на частичное или полное самофинансирование. Руководители этих учреждений опасаются того, что данная политика приведет к экономическому ослаблению самих учреждений; они это объясняют низкой платежеспособностью населения, высоким уровнем конкуренции, неготовностью некоторых руководителей к ведению самостоятельной экономической деятельности и т. д. Однако не это выступает основной проблемой. Основная проблема заключена в том, что самофинансирование приведет к падению качества услуг, о чем уже было сказано выше. В образовательном контексте главную ценность следует усматривать не в сохранении учреждений, так как существование тех учреждений, которые недостаточно хорошо справляются со своей работой, нецелесообразно, поскольку некачественные услуги таят в себе минимальную общественную пользу. Главная ценность заключена в качестве услуг и их доступности.
В общем, образовательная культура не создает некую культурную доминанту в обществе, а, наоборот, обрастает зависимостью от доминирующего типа культуры. Эти две культурные парадигмы, если их рассматривать в чистом виде, противоречат друг другу, так как они кардинально отличаются своими ценностями и целями. Если культура образования ориентирует на формирование образованного, творческого и высоконравственного человека, то потребкульт ставит акцент на гедонизм, инфантилизм, эгоцентризм, нерефлексивность и высокомерие по отношению к труду и самообразованию. К сожалению, в их схватке все-таки одерживает верх последний. В результате «побеждают (по линии массовости распространения) образцы и модели систем обучения, не самые лучшие с позиций критериев методологической, научной и методической культуры, а следовательно, сложные и трудные для усвоения и внедрения в массовую практику, но те, которые отвечают критериям, сближающим их с продуктами массовой культуры (в силу широты и неоднозначности явления массовой культуры здесь более уместно использовать термин «потребительская культура». — А.И.): упрощенности, занимательности учебного материала, легкости усвоения учителями и учащимися, а также привычности и доступности для понимания руководителями школ, представителями органов управления образованием, родителями»[111].
Раньше концепт «высшее образование» был единым и в силу этого единства не вызывал сомнений. Сегодня высшее образование высшему образованию рознь; одно есть настоящее образование, а второе — самозванство, золотой блеск которого всего лишь иллюзия, созданная посредством мимикрии под золото. Два обладателя вузовских дипломов могут как небо и земля отличаться друг от друга уровнем своей культуры, компетентности и интеллектуального развития. Поэтому высшее образование, окунувшись в потребительскую идеологию, стало дискредитировать само себя. Превращаясь в услугу, оно утрачивает свою прежнюю целостность и монолитность. Система образования и уровень общественной образованности неразрывно связаны. Соответственно, что собой представляет образование сегодня, таковым будет общество завтра.
Следует добавить, что, помимо образования, науки и культуры, сфера медицинского обслуживания тоже должна быть изъята из коммерческого сектора. Если же она коммерциализирована, то вместо хотя бы примерно равного оказания помощи всем гражданам страны живет и здравствует «цивилизованный» неолиберальный принцип «плати или умирай», который также подчеркивает огромный разрыв между бедными и богатыми слоями общества: тот, кто способен платить, получает самое качественное медицинское обслуживание, а тот, у кого деньги отсутствуют, сам виноват. Банковскую систему тоже должна постигнуть участь национализации. В ином — современном коммерциализированном — случае она ориентируется не столько на национальные интересы и поддержку реального производственного сектора, сколько служит частому олигархическому капиталу и занимается позорным ростовщическим делом, спекулируя на процентных ставках и прочих денежных операциях. Соответственно, экономика непосредственным образом связана с той деятельностью, которая на протяжении многих веков презиралась — ростовщичеством. Деньги призваны рождаться в процессе производства, а не в процессе кредитования и прочих финансовых спекуляций. Сегодня же быть ростовщиком стало прибыльно и престижно. Здесь уже стоит говорить не только об экономической, но и о культурной инверсии. И в эту инверсивность вносят свой вклад либералы, когда ведут речь о непонятной необходимости брать кредиты у иностранных кредиторов, то есть брать чужие деньги на время, а свои отдавать навсегда. В общем, далеко не все сферы человеческой деятельности имеет смысл отдавать в частные руки и ставить на бизнес-поток.
Учитывая низкий уровень современного образования, оно не предоставляет необходимой широты кругозора и глубины знаний, что, в свою очередь, едва ли может актуализировать в человеке здоровый и зрелый критицизм. Выпускниками учебных заведений должны быть люди, обладающие прежде всего хорошо отточенным методологическим мышлением, а не фактуальными знаниями, которые мало поддаются практическому использованию, быстро устаревают (особенно в эпоху стремительного роста знания) и едва ли создают плацдарм для независимости мышления. Сегодняшняя эпоха характеризуется не только лихорадочным ростом знания, но и быстрым устареванием прошлых истин, которое происходит зачастую быстрее, чем процесс их усвоения во время обучения. Встречаются люди, которые имеют достаточно обширные знания, но у них отсутствует знание того, как эти знания применить, что говорит о недостатке соразмерности их компетентности и социальной адекватности. Так что в сегодняшнем образовании мы находим такие взаимосвязанные проблемы, как редукция знания, устаревание знания и его излишняя фактологичность в ущерб методологичности. Знание большого числа фактов вовсе необязательно сопряжено с хорошим умением их анализировать, с методологической глубиной.
Настоящее образование призвано не столько создавать узконаправленного специалиста (вспоминается шутка про двух специалистов — один по правой ноздре, а другой по левой), а способствовать формированию у учащегося строгого мышления, последовательности в умозаключениях, многостороннего и глубокого мировоззрения, осмысления сущности фундаментальных процессов и их взаимосвязей, а не разрозненных и бессвязных фрагментов. Его мышление должно не ограничиваться профессиональной областью, а быть более масштабным. Специалист узкого профиля создается обучением. Обучение просто нашпиговывает его знаниями и умениями осуществлять профессиональную деятельность. Описание аналогичной модели такого специалиста мы находим у Ортеги-и-Гассета. Испанский философ уподобляет его человеку массы, называя его невеждой во всем, что не входит в его узкую специальность; вместе с тем он хорошо знает свой крохотный уголок вселенной. Ему свойственны амбиции и авторитет, с которыми он ведет себя во всех незнакомых ему вопросах[112]. Нарисованный Ортегой портрет напоминает образ современного консьюмера. Системе образования непозволительно строиться на узкой области знаний, равно как и на «лоскутном одеяле» (сейчас много говорят про реформу ограничения образования предметами по выбору), ибо особой значимостью обладают не только внутренние содержания различных научных областей в отдельности, но и междисциплинарные стыки; именно на них совершается много современных научных открытий.
Образование же — более широкая категория, чем обучение. Оно не только способствует становлению высококлассного специалиста, но человека думающего и человека гуманного. А во всем мире, в том числе и в России, хороших специалистов много, достаточно людей обученных, но мало людей поистине образованных, умеющих думать, критически осмыслять действительность, руководствующихся не сиюминутными страстями и низкими помыслами, а высокими ценностями.
Я не говорю о том, что по-настоящему образованный человек должен обладать энциклопедическими знаниями. В информационную эпоху с присущими ей тенденциями стремительного накопления информации, роста научного знания, дифференциации наук и расширения специализаций интеллектуалов, по большому счету, не существует. Невозможно охватить необъятное, невозможно разбираться во всем; современный человек обнаруживают свою компетентность в основном в какой-то узкой области, а потому вынужден постоянно учиться. Чем дальше идет прогресс знаний, тем сильнее узкая специализированность. Соответственно, человек вынужден делегировать свое мнение профессионалам в тех областях, которые охватить не способен; это экономит личные усилия и время. И здесь как раз играет роль наукоемкая реклама и пропаганда от лиц, которые якобы разбираются в области пропагандируемого товара и которым поэтому необходимо верить.
Роль интеллектуала сегодня аморфна не только потому, что, по сути, вышла из почета, но и потому, что в век информатизации категория «интеллектуал» утратила значение. Если раньше, например в эпоху Нового времени, таким высоким словом можно было назвать человека, условно говоря, прочитавшего несколько сотен книг — единственных существовавших тогда книг — то теперь не хватит жизни на то, чтобы проштудировать всю имеющуюся литературу хотя бы по какому-то узкому вопросу. Но это не означает, что образованность человека измеряется сугубо количественными показателями. Равно как это не указывает на необходимость поставить крест на проблеме интеллектуального (и духовно-личностного, так как культура и нравственность есть неотъемлемые аспекты человеческой образованности) развития человека.
Имеет смысл в образовательной сфере создавать плацдарм для усвоения студентами не просто знаний, а знания о знаниях — того самого методологического базиса, выраженного в принципе «учись учиться» (или в более актуальном для современности варианте «учись дифференцировать знание и псевдознание, а также находить межпредметные связи»). Образование должно формировать методологию мыследеятельности, навык самостоятельного обучения и самостоятельного научного мышления, который позволит существовать в современном неопределенном мире, делать выбор и брать на себя ответственность за него, проявлять гражданственность и т. д. Именно благодаря возрастанию роли знания в социуме, а значит, и роли методологически грамотного образования, следует говорить и об огромной ответственности образовательного сектора. Сегодня качество образования зависит не от объема знаний, а от способности ориентироваться в глобальном информационном пространстве, от способности отделять зерна от плевел, от способности не тонуть в потоках информации и псевдоинформации, от способности целостно и систематично, а не фрагментарно, осмыслять действительность и адаптироваться к меняющемуся миру. «Укорененное» образование, данное раз и навсегда, не позволяет адаптироваться к рынку труда и быту в силу своего устаревания на фоне «убыстряющейся реальности» с ее текучими условиями и правилами, которые меняются непосредственно в процессе бытия. Согласно А. Менегетти, общества, «не обладавшие психической зрелостью, хотя и пытались контролировать ход вещей, оказались разрушены собственными «генераторами силы». Великие изобретения требуют превосходящих их потомков»[113]. Учиться приходится постоянно. Поэтому и возникает необходимость в постижении методологичности образования, которая дает возможность готовиться к будущему так, чтобы быть к нему готовым. Образование же как процесс представляется в виде эскизного и принципиально незавершаемого проекта, который простирается во всю жизнь и потому сопрягается с самообразованием и дает для его поддержания толчок.
Не стоит забывать, с одной стороны, о ценности универсальных, широкомасштабных знаний, а с другой — об узкопрофессиональной квалификации. Перекос в одну из сторон, дисбаланс фундаментального и профильного образования, игнорирующий упомянутый выше методологический базис, рождает интеллектуально-кастрированного субъекта. Именно перекос в сторону профильности скорее всего стоит ожидать от образования, руководимого рынком. Перед фундаментальными, а потому невостребованными специальностями забрезжит перспектива их закрытия. Однако многие невостребованные специальности (история, филология, философия) в силу своего фундаментального богатства вносят большую лепту вдело формирования методологического оснащения учащегося. На их место по законам рынка приходят специальности типа «туризм» и «менеджмент», которые ориентированы на узкий прагматизм и в намного меньшей степени формируют методологический интеллект. Соответственно, исчезает сам институциональный базис для качественного образования, а не просто обучения неким полезным практическим навыкам. Без фундаментальных знаний — студент просто функциональный винтик, не отличающийся мыслительной гибкостью, самостоятельностью, творческим мышлением и кругозором; специалист узкого профиля. Без узкой квалификации — он теоретик, распыляющийся во все стороны и сферы, много знающий, но почти ничего не умеющий. Принципы фундаментальности и практической направленности должны быть гармонично переплетены. Именно человека, вобравшего в себя таковую многосторонность, следует называть культурным, интеллектуально развитым, нравственным, творческим и компетентным.
Проблема знания, его накопления и прироста далеко не самая актуальная для современности. Она была актуальна тогда, когда знаний было мало. Сейчас же, в век глобального знания (и, соответственно, глобального псевдознания, мифа) в большей степени актуализируется проблема понимания. Понимание — это надстройка над знанием, более высокий уровень, который достигается, в первую очередь, не путем простого накопления и прироста знаний а путем методологического осмысления действительности, зачаток которого мы видим в декартовском императиве сомнения. Скептический дух сомнения служит вакциной от догматизации. Конечно, в информационную эпоху скепсис не является панацеей, но, в отличие от слепой веры, он позволяет хотя бы частично отделять зерна от плевел на когнитивном поле, приобретать не столько убеждения, сколько способ приобретения убеждений. И если Ф. Бэкон отождествлял знание с силой, то сегодня более справедливо отождествлять понимание с силой.
Оценивая качество современного высшего образования, несложно прийти к выводу о сомнительности этого качества. Что-то уж много среди выпускников узколобых схоластов, видя которых, трудно поверить в наличие у них диплома о высшем образовании. И «заслуга» в этом принадлежит не только некоторым преподавателям, слабо разбирающимся в своих предметах, и не только некоторым студентам, откровенно не желающим учиться, у кого на лбу написано «не знаю и знать не хочу», но и тем приближенным к власти фигурам, которые создают государственные образовательные стандарты, чем определяют содержание, методологию и вообще специфику вузовского обучения. Вузов много, студентов много, но количество не всегда перерастает в качество. Если переименовать какой-нибудь колледж в университет (как милицию в полицию), университетом он от этого не станет. Конвейерное производство выпускников путем упрощения требований и исключения из вузов только за неоплаченные семестры создаст много дипломированных людей, и некоторые из них, возможно, станут представителями среднего класса, а вот интеллигенцией станут единицы. Можно сказать, что при расширении дипломирования происходит инфляция квалификаций; настоящая ценность дипломов падает. Образование дорожает, а отдача от него снижается. Вместе с тем образование становится более доступным не в финансовом, а интеллектуальном смысле, поскольку смягчение требований приводит к редукциионизации самого образования. Оно перестает рождать интеллигенцию. Деинтеллектуализация образования имеет далеко идущие последствия. Поколения, которые учились по новой «усовершенствованной» методике, не просто пойдут работать, но и пойдут преподавать. И качество их научно-педагогической деятельности будет соответствующим, рождающим еще более деинтеллектуализированных выпускников, которые, в свою очередь, сменят своих преподавателей. Деинтеллектуализация передается из поколения в поколение, становясь подобием наследственной болезни нашего времени.
Видимо, так называемое высшее образование будущего станет не образовывать студента, а всего лишь адаптировать его к окружающей реальности, к которой раз и навсегда адаптироваться невозможно, поскольку в эпоху гиперсобытийности и гиперинформатизации время сжимается за счет ускоряющегося потока происходящих в мире изменений. Адаптируясь (обучившись) один раз, выпускник встанет перед вызовом времени, требующем дополнительного обучения из-за устаревания освоенных истин, и так далее. Следовательно, методологический базис, позволяющий самостоятельно обновлять знания, окажется архиважным. Но едва ли такая упрощенная система сможет его дать.
Культура, основным содержанием которой является проедание ресурсов, а идеологами которой выступают К. Собчак, Тимати и т. д., обречена на упадок. Если раньше научные издания были на виду, то сейчас прилавки книжных киосков и магазинов заполнены дорогими глянцевыми журналами, познавательная ценность которых сравнима с рулоном туалетной бумаги; как говорилось в одном близком к теме анекдоте, «по многочисленным просьбам читателей со следующего месяца наш журнал будет выходить без текста и в рулонах». Если раньше по телевидению показывали героев производительного труда, то теперь экран пестрит «героями» потребления. Кстати, постоянно смотрящий телевизор человек не только перенимает соответствующий тип транслируемой культуры, но и формирует у себя превратное мнение о среднестатистическом доходе его соотечественников; ведь по телевидению чаще всего показывают ухоженных хорошо одетых людей, что подчеркивает высокий уровень их дохода, а зритель обычно экстраполирует их на общество в целом, убеждаясь в том, что по телевидению демонстрируют представителей среднего класса. У него создается впечатление о большом количестве таких людей, о некоей социальной норме, а не исключительности. И это впечатление подстегивает высокие запросы, которые ему кажутся если и не приземленными, но вполне нормальными, и побуждает к большим растратам и меньшей бережливости. Ведь телезвезды, как коллеги, друзья и соседи, входят в референтную группу и выступают образцами для подражания.
Что бы ни говорили в качестве критики в адрес советского периода, необходимо принять к сведению следующее: тогда уровень образованности был значительно выше, образование и нравственные ценности являлись на самом деле ценностями, а не периферийными явлениями, которыми они представляются сейчас, и не наблюдалось явления «потерянного поколения». Детей увлекали бесплатными, а потому доступными каждому кружками и секциями, они не были предоставлены на «воспитание» улице, в детской среде не происходило процессов дегуманизации, декультуризации и варваризации, как это происходит сейчас. В советском обществе не просто уровень образования и нравственности были выше; само общество можно смело назвать обществом нравственности и образования, информационно богатым обществом. Сегодня информационное богатство вытесняется оттуда, где оно было, и в мир приходит псевдоинформационный профицит. Современный молодой человек стоит на эволюционной лестнице значительно ниже среднего представителя советской молодежи.
Современные потребкультовые неженки есть выродки своих предков, принадлежащих к поистине героическим эпохам. Геройство побед и великих открытий сменяется потребительством. Можно сказать, происходит своеобразный цивилизационный откат как крайне регрессивная тенденция. Причин ему много, и упрощение образования является одной из них. Каждое новое поколение отличается все меньшим интеллектуальным и нравственным потенциалом.
Недавно правительство проявило инициативу перевести на коммерческую основу в том числе школы. Кроме как к поддержанию растущего социального расслоения, ни к чему хорошему это не приведет. Платное образование в школе — это не просто нонсенс, а удар по населению. Такие проекты вполне указывают на незаинтересованность власти в общедоступности образования. Представители власти предложили реформировать школьную систему так, чтобы в результате бесплатными остались только четыре «основных» предмета: физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, история и гражданское воспитание. А куда денут математику, литературу, физику, химию и другие предметы? Видимо, они не нужны. Видимо, они приобрели статус избыточных дисциплин.
Русскую литературу, которой зачитывается весь мир, предложили удалить из ЕГЭ; мол, технарям литература не нужна. Ну, конечно, не нужна, если следовать логике Фурсенко о необходимости появления квалифицированного потребителя, который, добавлю от себя, будет лишен национальной культуры. Отказ от русской литературы равнозначен отдалению от русской культуры и потере отечества. Литературу, как и многие другие предметы, нельзя формализировать, доводя до тестового уровня, и сдача ЕГЭ по литературе извращает саму литературу, придает ей карикатурный вид. Но если уж приняли ЕГЭ, лучше литературу сдавать тестом, чем вообще не сдавать. Кажется, ни один нормальный человек не выдумает такой инверсивный проект образования и над крепнущими умами, и тем более не предложит публично его реализацию. Рожденная в лоне партии власти идея кастрации школьного образования, сведения его к четырем «самым нужным» предметам, а также многие другие одобренные в партии власти антиобразовательные проекты определенным образом характеризуют эту партию. И в обсуждении этих инициатив нет места «аргументированным» лингвистическим оборотам, которые так любят подлые проправительственные холуи-интеллектуалы, типа: «в любой проблеме можно найти не только минусы, но и плюсы», «давайте рассмотрим этот вопрос с другой стороны», «категоричность только мешает объективности» и т. п. У этой инициативы нет никаких других сторон и в ней нельзя найти никаких плюсов. Она совершенно однозначна, и объективность моей оценки построена на категоричности, а не на ее отсутствии.
Еще «реформаторы» призывали сократить школьную нагрузку на 40 %, так как, мол, дети усваивают учебный материал только на 60 %. Интересный подход, который совершенно не учитывает то, что проблема неуспеваемости будет актуальной всегда, хоть даже на 90 % сократить школьную программу. Предположим, что такое сокращение проведем, а что дальше? Дальше выяснится, что дети все равно не успевают. И тогда опять резать? Нельзя подстраивать учебную программу под интересы учащихся и нельзя скрывать свои предложения за мифом о том, что якобы дети не способны постигать учебный материал. Раньше были способны, а теперь, видите ли, нет. Так что проблема нашего образования заключается не только в его коммерциализации, но и в сознательной редукции. В США сознательную редукцию образования оправдывают феминизмом и пресловутой толерантностью. Поскольку большинство женщин и негров с трудом постигают точные науки, образовательные стандарты пришлось снижать, чтобы не допустить дискриминации по половому признаку; учебная успеваемость должна быть примерно одинаковой у всех, а для достижения такого равенства пришлось снижать требования. Хорошо, что в России толерантность, взращенная на почве декларируемой борьбы с расизмом и сексизмом, пока не зашла так далеко.
Если подобные решения будут приняты, они ознаменуют собой перечеркивание вековых традиций российского образования и снижение образовательного уровня школьников, что приведет к полной потере Россией былого конкурентного преимущества перед другими странами. Вместо сокращения учебной нагрузки, вместо еще большего оглупления итак не далеких школьников следует создавать условия, при которых образование приобретет ценность и российские мозги найдут достойное применение у себя на родине. Наконец, необходимо сделать так, чтобы не дети существовали для системы, а система для детей и чтобы они были не порождением культуры потребления, а будущая высокая культура, пришедшая на смену потребительству, стала порождением сегодняшнего образования.
Глава 7. Взаимосвязь культуры потребления и политического конформизма
Выше мы сказали о том, что культура потребления рождает огромное неравенство, причем как на социальном, так на экономическом и политическом уровнях. Меньшинство оказывается наверху, а большинство — на дне, и разрыв между верхом и дном становится все более и более значительным. В результате сильнее актуализируется проблема преступности, самоубийств, наркомании и алкоголизма. Хоть ни наркотики, ни алкоголь не входят в арсенал потребительства (пожалуй, только сверхдорогой алкоголь), тем не менее они являются следствием статусного разрыва. Молодежь, которой некуда себя деть, которая утратила условия для самореализации, которая осталась неконкурентоспособной на рынке труда, которая чувствует себя исключенной из якобы всеобщего благоденствия, находит в этих формах аддикции успокоение. Несмотря на то, что преступность и социальная апатия имели место в любые исторические эпохи и в той или иной степени проявляли себя в любых общественных формациях, неравенство, порожденное потребительскими тенденциями, создает для них благодатную почву и основу для их дальнейшего роста, а потому неравенство имеет смысл рассматривать как криминогенный фактор.
Социальная поляризация, появившаяся в результате рыночных реформ и засилья в ментальном пространстве потребительской идеологии, рождает и поддерживает теневую экономику, которая как система взаимосвязанных экономических отношений имеет место вне рамок действующих законов и оказывается недоступной контролю. Теневая экономика, сращиваясь с политикой, образует теневую действительность, невольной жертвой которой выступают не отдельные индивиды, а все общество в целом. Теневые политика и экономика угрожают стабильности правовой системы, конституционных основ государства, создают некое парагосударство, деятельность которого противоречит общественной морали и праву. Это парагосударство поддерживает коррупцию на самом высшем уровне, нивелирует систему разделения властей, уничтожает демократию, создает ангажированные суды и правоохранительные органы, защищающие данную форму власти от народа. Государство пусть не полностью, но частично трансформируется в свой эрзац.
Конечно, помимо распространившейся культуры потребления есть и другие причины далеко не благополучной экономико-политической ситуации в стране, ознаменовавшей собой небывалый рост коррупции, политических судебных процессов, подвластности СМИ и других социальных институтов. Сложившийся «порядок» сопряжен с отсутствием должного уровня правосознания в среде российского общества, которое вследствие этого назвать гражданским нельзя. Меркантилизм, индивидуализм без всякого интереса к общественным событиям, патернализм как склонность перекладывать ответственность на «царя-батюшку» — качества, которые, к сожалению, свойственны большинству российского народа. Именно они являются барьерами для роста правосознания. Эти качества вполне укладываются в потребительскую этику, а потому последнюю стоит считать одной из самых главных причин господства в России власти, далекой от демократичности, ущемляющей права людей, которые, несмотря на властный произвол, не спешат менять сложившуюся ситуацию, а вместо этого продолжают послушно к ней адаптироваться.
«…Человек как родовое существо, имея лишь одну нишу своего обитания — культуру, сегодня оказался во власти диктатуры рынка, превращающего все живое в товар, а чаще всего — симулякр товара. Но идея вещи, тем более как товара, каким бы полезным и эстетичным он не был, в любом случае не может быть основой человеческой жизни. Утверждение потребительского духа, особенно в мире культуры, рождает метафизику опустошения как идеологию уничтожительного по своей сути частного бытия»[114]. Это частное бытие и есть пристанище современного обывателя, конформиста, который в своей жизни видит только воплощенное в вещизме потребительское счастье.
Как отмечается, при низком культурном уровне социума рефлекс подражания создает условия для возникновения тоталитаризма; именно поэтому, понимая опасность, в республиканском Риме выбирали диктатора только в критических случаях и только на полгода[115]. Создается впечатление, что в некоторых (политических) аспектах античный полис был более продвинутым, чем современный постиндустриализм. Феномен добровольного принятия диктатуры заключен, естественно, не только в абстрактной культурной бедности людей, но и в их страхе перед одиночеством, перед свободой и ответственностью, которые воспринимаются уже не в качестве привилегии, а в качестве обузы. Массы не хотят делать выбор и нести за него ответственность, и жадные до власти политики с удовольствием потакают этой потребности масс, а вместе с тем и народ стараются лишить выбора и взять контроль над важными процессами в свои руки. Соответственно, по демократии бьют как политики, так и массы; народ, желающий демократических преобразований, при такой атаке ничего поделать не может. И когда его часть массифицируется, атака на демократию только усиливается, а контрудар — ослабевает.
Прежде всего во времена серьезных социальных потрясений недальновидные люди начинают требовать сильной руки, не подозревая, что это требование выражает желания фашизма как крайней формы подавления личных мнений и свобод[116]. Они не знают, как следует распорядиться своей свободой (и ответственностью, без которой свобода невозможна), и перекладывают право выбора на сильного лидера, после чего, беспрекословно ему подчиняясь, следуют за ним, руководствуясь примитивным рефлексом подражания; все это напоминает животное стадо, нежели цивилизованное общество. Мы жаждем наших цепей! — безмолвно кричат массы, и этот молчаливый крик слышен во всем громадном здании тоталитаризма, он раскатывается по всей цитадели закрытого общества, в котором нет места гражданским свободам. Их не пугают цепи и решетки, их пугает свобода, их привлекает безопасность и порядок, которые гарантирует власть. Поэтому неудивительно, что некоторые несвободные совсем не хотят избавиться от своих цепей; это наглядно показано в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» на примере душевнобольных, которые противились попыткам главного героя вывести их на свободу. Когда лошадь теряет свою привязь, она впадает в панику. Ибо привязь — это признак устойчивости, исчезновение которого приводит к пугающей неопределенности. Несвобода позволяет вернуть порядок и связанную с ним устойчивость. Неудивительно, что средний россиянин в соответствии с неким психологическим консерватизмом предпочитает неприязненно относиться к любым исходящим от оппозиционных групп призывам; статус-кво ему представляется намного меньшим злом, чем перемены.
Ценностный идеал человека может проецироваться на диктатора, редуцируя настоящие качества последнего и гипертрофируя те, которые совпадают с идеалом; это происходит в том числе в результате использования тираном методов не только принуждения, но и заигрывания. Вероятно, кое-где сохранившийся культ личности Сталина опирается на бытовавший тогда дисциплинарный порядок, практически лишенный коррупции, на индустриальный рывок, а также на то, что Иосиф Виссарионович стал символом победы в Великой Отечественной войне, его личность накрепко связана с грандиозным событием. Все общественные достижения той эпохи связаны с личностью Сталина, заслоняя собой его отрицательные качества. Сегодня, после прошествия более полувека, видится глубина происходящего в сталинскую эпоху на мировой арене, величие Сталина в деле индустриализации страны и победы над германским национал-капитализмом, его величие в выстраивании экономики, лишенной инфляции и дорожания продуктов. Но в феномене культа личности особо сильно проявлял себя иррационализм, до которого охлос был доведен тоталитарной политикой, наполненной множеством мифологем. Тоталитарным режимам свойственно создавать иллюзию общности власти и народа. Пропитанное иррационализмом подсознание масс актуализирует у его носителей веру в собственное бессмертие, так как частично их личности воплощены в вожде, слиты с ним. Правда, сегодняшний конформизм произрастает не из слияния человека с вождем, а, наоборот, из атомизации, отвращающей его от политической жизни.
Иными словами, массы сами ответственны за тот режим, который они имеют. Люди склоняют головы перед режимом, испытывают чуть ли не блаженство при возможности повиновения, после чего начинают обвинять в текущем положении дел кого угодно, но не себя. За Гитлером шли, его выбирали. И в последующих событиях следует обвинять не только Гитлера, его приближенных и иностранных «друзей», судя по всему, не поскупившихся на финансовую поддержку фюрера, но также и его электорат, который, голосуя за Гитлера и не выступив впоследствии против него, санкционировал гитлеровские преступления. Деморализованный народ с радостью приветствует великого человека, обещающего решить все проблемы и гарантирующего общественный порядок, не задумываясь о том, что порядок может обернуться диктатурой и репрессиями. А иногда диктатура и репрессии, к сожалению, выглядят не омерзительными, а притягательными.
Когда рушится тоталитарный режим, масса, представляющая совокупность одномерных функциональных винтиков, внутренне раздавленных, опустошенных и утерявших свой субъектный стержень, не знает, что делать дальше, и, ратуя за демократию, бессознательно стремится к воцарению тоталитаризма. Или же пускается во все тяжкие, а внутренняя аксиологически-этическая пустота запускает механизм все того же волюнтаризма, но уже не в сугубо политическом смысле, а в бытовом, криминальном. По сути ведь обычный преступник отличается от политика-тирана только масштабами деятельности, и любой преступник — тот же тиран, который навязывает свою волю жертве. И если у человека, находящегося под гнетом тирана, из-за этого давления заглушается личная ответственность и нивелируются моральные качества, потом — после окончания гнета — ступить на преступный путь ему будет не так уж сложно: гнета уже нет, но и внутренние нормы тоже отсутствуют. Недаром начало девяностых ознаменовало собой не столько рост демократических ценностей, сколько криминализацию России на уровне масс. Исчезло организованное государство, упали цепи, после чего вырвалась наружу необузданная сила. Однако нельзя сказать, что эта сила деморализации была присуща советскому народу. Наоборот, советская система взращивала в людях коллективизм, братство, доверие и другие социально необходимые качества. Но вместе с тем эта система была диктаторской. И после разрушения СССР народ, долгое время находившийся под диктатом, перенес огромное потрясение, связанное с делегитимацией этих качеств как ценностей и с незнанием того, что делать дальше, как жить и какими принципами руководствоваться в жизни. Тогда же в массы стала внедряться губительная для любого общества идеология либерализма и потребительского индивидуализма, сыгравшая особую роль в дегуманизации.
Масштабное социально-экономическое расслоение, поспособствовавшиее всплеску бедности и безработицы, стало благодатной почвой для повышения преступности. Реформы нового правительства умножили преступность. Демократия обратилась охлократией. Аппарат принуждения рухнул, дав волю точечному криминалу. Массы не знали, что делать со свободой, пусть и относительной.
Конформизм нельзя считать явлением, обязательно связанным с потребительской культурой. Он проявлял себя и раньше, но сегодня, в условиях постперестроечного социума, он принял несколько иную форму. Если ранее, в годы социализма, конформность была связана с коллективизмом, с подчинением своих личных интересов общественно-государственным (в первую очередь государственным), со страхом быть осужденным коллективом, то теперь она имеет в качестве своей основы, наоборот, потребительский индивидуализм, примат личного над общественным. Как тогда, так и сейчас гражданственность рассеивалась или в силу коллективистских обезличивающих тенденций или в силу индивидуалистических, но все также обезличивающих тенденций. В советское время конформизм конституировался репрессивным аппаратом, выраженном в пристальном взгляде Большого Брата, то есть НКВД, КГБ и других призванных обеспечивать социальный порядок структур. Сегодня такого тотального наблюдения нет, но есть иная форма конформизма. В предыдущую эпоху люди боялись власти и руководствовались ценностью общественной пользы, которую способна принести их деятельность. Сегодня страх собственно власти как фактора утраты свободы проявляется не так сильно, но на его место встал страх потерять должность, статус, рабочее место и т. д., что заставляет человека превращаться в обывателя, рафинированного конъюнктурщика, заботящегося только о личном благе и забывшего об общественно полезных ценностях. Ранее конформизм обеспечивал социальную консолидацию и индустриализацию, необходимую для общества модерна, а теперь, в эпоху постмодерна, его результатом выступает деконсолидация. В этом заключено отличие «общества потребления» от «общества идеи», «нового» (потребительского) конформизма от «прежнего» (непотребительского), наличие которого как социального феномена сближает эти общества, находит для них одну точку пересечения.
Конформизм рожден не сам по себе, как побочный продукт цивилизации, а интегрирован в цивилизацию, в сам уклад общественно-политической жизни. Основным производителем конформизма является власть, которая, стремясь выработать в людях политическую апатию посредством актуализации в медийном пространстве целой системы глупых ток-шоу, гламурных передач и прочего, отводит спектр внимания из публичной общественной сферы в приватную, вбрасывает в ментальное пространство ценности индивидуализма и аполитичности, учит людей некоей политической саморегуляции. Ей нужен человек экзогенный, ориентированный вовне, на модные тренды и потребительскую идеологию, которые заменяют внутренний мир и осуществляют сублимацию оппозиционных порывов, ибо с помощью произвола вещей углубляется господство человека над человеком.
Наш народ не только индивидуалистичен, политически пассивен, но и изворотлив. Правда, эта изворотливость проявляется со знаком «минус»: как бы его не давила идеология свыше, он умудряется подминаться под внешние обстоятельства и выживать независимо от их тяжести, но не подминать сами эти обстоятельства под себя, не адаптировать их под свои — народные — интересы. Он приспосабливается под обстоятельства, прогибается под них, следуя скорее принципу «выживает не сильный, а наиболее приспособленный». И он способен под них прогибаться почти бесконечно, так и не достигая роковой черты предела терпения. «Изворотливое самосохранение для верхов представляет собой борьбу за фашистскую власть, а для индивидов — приспособление к бесправию любой ценой»[117]. Самосохранение — это не борьба, которая обычно представляется, наоборот, как саморазрушение. Самосохранение приравнивается к приспособлению, социализации к нормам бесправия. «Ситуация с проблемой разрастания административной элиты в современной России является не разрешенной. Не вселяют какого-либо оптимизма и существующие тренды, демонстрирующие прирост численности чиновничьего класса. А это означает, что находчивость и изворотливость массы, на плечи которой ляжет бремя обеспечения этой огромной армии, будут только приобретать новые, совершенно удивительные и непостижимые формы»[118]. И вправду, в сегодняшней ситуации максимально приспособленные — терпеливые и угодливые, льстивые и раболепные — не только выживают, но и живут материально-статусно полноценной жизнью, не отягчаясь тем, что «приспособленчество деформирует гражданское сознание, способствует мимикрии»[119]. Приспособление, солидарное с идиомой «с волками жить — по-волчьи выть», — значительно более легкий и более безопасный путь, чем сопротивление. Благоденствует сильнейший — тот, кто смог подмять под себя всех прочих; вот и вся этика, по сути являющаяся социал-дарвинизмом. Можно сказать, что для укоренения демократических свобод полезной является не адаптация, а как раз дезадаптация людей к сложившейся социально-политической системе и к системе общественного сознания, сформированного политическими идеологемами. Иллюзорное сознание адаптивного к системе человека не приносит никакой пользы обществу, а приносит лишь не менее иллюзорное и зыбкое успокоение данному человеку.
И хоть большая часть населения автономизируется от власти, не верит ей, не инвестирует в нее свои надежды, тенденция автономизации «развивается не в направлении развития гражданского общества и укрепления связей на макросоциальном уровне, а скорее в укреплении микросоциальных сетей, опоры прежде всего на родственников и друзей»[120]. Согласно данным социологов, формирующиеся на основе родственных и дружеских связей социальные сети не доходят до уровня гражданских инициатив по защите общественных интересов. Поэтому если микросоциальные сети и оказывают посильную жизненную поддержку входящим в них людям, эта поддержка, естественно, не меняет существующий порядок, а лишь позволяет к нему приспосабливаться, в чем заключается ее принципиальная неполнота.
Настоящая же мысль — критическая, недовольная, смелая и чистая — опорочивается в индивидуализированном потребительском обществе, а ее носитель рассматривается не как гражданин, а чуть ли не как враг народа. Порицается не изобличение инакомыслия и оппозиционных гражданских инициатив, а, наоборот, изобличение конформизма, угодливости и послушности по отношению к тем, кто, управляя страной, паразитирует на ее населении. Критически мыслящего человека, который осмеливается говорить напрямую то, что видит, и то, что знает, который не боится изобличать и вытаскивать наружу запретное, который не приспосабливает свою мысль к сфере личного благополучия и безопасности, следует ставить рядом с человеком, героически сражающимся на поле боя. Настоящий гражданин должен быть героем, подвиг которого сопряжен с готовностью рискнуть своей карьерой и общественным положением ради отстаивания настоящих демократических прав и свобод, с готовностью изобличать недобросовестную власть в ее ошибках и сознательных преступлениях. Герой нашего времени — не чиновник, склоняющий голову перед чиновником более высокого ранга и закрывающий глаза на преступления начальства. Такой чиновник и есть предатель.
В обществе, в котором потребительская идеология становится доминирующей, много конформистов, забывших о какой бы то ни было идеологии и чувстве собственного достоинства, дрейфующих в пространстве смыслов, всегда переходящих в наиболее выгодное место, без угрызений совести готовых переметнуться к новому хозяину, ползающих на брюхе перед бросающим им кости хозяином и распевающих ему дифирамбы. Если совести нет, мучить она не будет. Максимально приспособленными становятся не несгибаемые стволы дубов, а травинки, послушно падающие под колеса событийности. Такие образчики конформизма, цинизма и двуличности становятся преобладающими в потребительском обществе. Занимающие относительно высокие посты, панически подобострастные при разговоре с начальством, высокомерно лицемерные при общении, они не страдают от острейшего дефицита совести, а упиваются им. Именно они, без сопротивления принимающие на себя давление сверху и пользующиеся санкционированной возможностью самим отправлять давить вниз, — хамелеоны, для которых беспринципность мимикрия всего лишь обычная рутина, просто дело «чести». Прикрываясь своей должностью, они компенсируют коленопреклонность перед вышестоящими. Если царь-батюшка повелел кланяться, они в неистовом порыве коленопреклонения лбы расшибут как себе, так и подвластному им народу. Они, принимающие решения по указке, не понимают, что можно делать какие-то вещи не за деньги и не за карьеру, а просто потому, что эти вещи благие и правильные. Им неведомо кантианское восхищение звездным небом над головой и моральным законом в сердце. Вспоминаются слова К. Чуковского: «Ослы ему славу по нотам поют, козлы бородою дорогу метут. Бараны, бараны стучат в барабаны…».
Благодаря социализации ребенок усваивает нормы, образцы и эталоны общества, что дает ему возможность быть адаптированным в социуме и занимать статус «нормального» общественного существа. Казалось бы, что в этом плохого, ведь это необходимый процесс? Да, необходимый для развития человека, так как человек — существо социальное и без окружения себе подобными развиваться не может. Но у социализации есть свои обратные, дисфункциональные, характеристики. Ни о каком личностно-субъектном развитии не может идти речь, если человек взращивается в какой-либо маргинальной общественной группе, если его формирует антигуманная культура, в которой принимаются не традиционные человекоцентрированные ценности, а их эрзацы. Именно о дисфункциональности социализации следует сказать, ведя разговор о потребительстве, которое абсолютизирует личное счастье и равнодушно к общественным процессам, а вместе с тем и к политико-экономическим тенденциям. Следует говорить о политизации со знаком «минус». «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас», — философично замечал А. Макаревич, чей принцип, к сожалению, не отличается особой практической популярностью.
Конечно, не стоит всерьез принимать тезис о демонизации социализирующих тенденций в самом широком их смысле, но стоит поставить вопрос «кто социализирует?». Если это современные СМИ и политические деятели, то в действительности массовое сознание отдалено от «доброго, разумного, вечного». Концепции, построенные на идеологии и господствующем типе культуры, эти назидательные импульсы к долженствованию, эти претендующие на истину в последней инстанции метанаррации задают правила и границы реализации процессуальности (векторности) должного, определяют горизонт действий. А то, что выходит за пределы этих правил и границ, воспринимается как маргинализм, достойный осуждения.
Современные консьюмеры не гнушаются идти в ногу со временем, меняя собственные ценности вслед за переоценкой ценностей авторитетным и влиятельным актором. Если раньше у власти стояли одни, то и массы были за них, а если впоследствии власть получили другие, то и массы переметнулись на их сторону. Такое перевертывание бывает следствием меркантильности и ментально-этической скудности человека, мысль и действие которого возникают вовне, а не внутри, исходят от авторитета, коему следует поклоняться, потому что «так надо». В других случаях причиной идеологического перевертывания является вполне осознанная политическая проституция, за счет которой держатся всякого рода этатисты.
Конформизм и подхалимство бесчестны, но выгодны тем, кто с их помощью извлекает довольно серьезные материальные дивиденды. Они могут в глубине души быть не согласны с политикой своих кормчих, но внешне демонстрируют полное согласие и одобрение. И стоит только лидерам споткнуться, как их внешне преданные подопечные перестанут быть таковыми и, воспользовавшись моментом, ополчатся против них же. Конформисты сидят и ждут, куда повеет ветер, приготовив парус для дальнейшего плавания. Так, потребительски ориентированные представители партии власти, у которых жажда к наживе доминирует над идеалами и принципами, в случае серьезного шатания трона под властным истеблишментом готовы будут перебежать на сторону, например, либерального крыла, которое сегодня с некоторой долей успешности оппонирует власти. Они и сейчас, после активизации митингующих либералов, начинают задумываться о возможных переменах в конъюнктуре и боятся допускать неосторожных шагов, лавируя согласно императиву «и нашим и вашим». Многие из них воздерживаются от жесткой критики либеральной оппозиции, дабы не сжечь мосты и не перегнуть палку; вдруг критикуемые займут власть, а ругать тех, кто в потенциальном смысле может получить серьезные политические преференции, стратегически неэффективно. Принципу «на том стою и не могу иначе» здесь нет места. «Люди вступают в сделку со своей совестью, и нравственная цена тем выше, чем больше общественные последствия нашего двуличия»[121], ― пишет А. А. Бодалев. Тем самым попираются настоящие общечеловеческие ценности. Античный философ Антисфен говорил: «Лучше достаться воронам, чем попасть к льстецам. Те пожирают мертвых, а эти — живых». А когда его хвалили плохие люди, он сказал: «Боюсь, не сделал ли я чего-нибудь дурного»[122].
Конформист следует идеологеме: для того, чтобы жить хорошей потребительской жизнью, нужно быть «современным» и прислуживать тому, кто управляет СЕГОДНЯ, а не ВЧЕРА. Ибо счастье забывшего о чести и достоинстве человека зависит от степени его гармонии с внешней средой. Конформист, хоть и демонстрирует преданность властному истеблишменту, в реальности никому преданности не проявляет, и когда власть меняется, он готов кланяться новым, пришедшим на смену прежним, политическим силам, забывая о своей преданности предыдущим. Рука, ранее поглаживавшая партбилет атеистической партии, теперь спокойно крестится, и эту беспринципность особо ярко проявил, например, Н. Михалков. Иные времена — иные идолы. Когда человек — неважно, чиновник ли это или заслуженный деятель культуры — всегда рядом с правительством, которое меняется, когда взлет его карьеры начался в годы Советского Союза, когда она успешно развивалась в ельцинский период и когда она не теряет себя сегодня, и при этом человек не отдалялся и не отдаляется от кремлевских коридоров, нужно говорить не столько о гениальной приспособленности данного субъекта к реалиям дня, сколько о гениальной беспринципности. Хватает обывателей, способных устроиться и сделать карьеру при любом идеологическом и политическом режиме, готовых произносить любые лозунги и мировоззренческие формулы, совершенно не заботясь об их содержании. Главное — не содержание слов, а их эффективность при построении карьеры и наполнении своей жизни потребительскими благами. Конформист не проявляет преданности душой и сердцем одному конкретному политическому актору, а готов служить любому актору, лишь бы тот имел самый высокий статус, лишь бы тот оставался сильнейшим. Приоритет силы для конформиста более значим, чем приоритет идеологии и системы действий. Даже если сильнейший стоит далеко от реализации социального блага, конформиста это не смущает. Поэтому важным для конформиста является не идейно-деятельностная направленность актора, а всего лишь его статус и сила. К государству и к отправляемой политике он относится как к сугубо инструментальной ценности, из которой можно извлечь определенную меркантильную выгоду.
Больно смотреть на профессуру, ранее прославляющую социалистическое мироустройство, а затем ударившуюся в «научное» обоснование необходимости рынка. Только саркастический смех вызывают журналисты, «в силу объективных обстоятельств» поменявшие политическую окраску. Что же они делали раньше, почему в 1970-х и 1980-х не ругали «совок», а в 1990-х внезапно обрушили на него всю свою злобу? Боялись, конечно. А потом испугались уже не «совка», а утвердившейся нормы, согласно которой ругать прежний режим стало хорошим тоном. Вот и поступали в соответствии с правилом, забывая о том, что слова человека чего-то стоят тогда, когда они произносятся в условиях, запрещающих эти слова. Критиковать советское руководство сейчас каждый мастак, попробовал бы он это сделать во время существования этого руководства. Е.Т. Гайдар ранее заведовал экономическим отделом журнала «Коммунист» и писал прославляющие социализм статьи, а потом вдруг, идя в ногу со временем и гармонизируя свое состояние с состоянием внешней среды, проявил качества политической проститутки, кардинально поменяв идеологию, и в итоге сделал головокружительную карьеру.
Безыдейные обыватели представляют собой серьезную проблему для общества и страны, так как своей конформностью только множат зло. Им неведомо элементарное чувство человеческого достоинства, гражданственность. Послушные, верноподданные приспешники системы живут в мире абсурда и, становясь еще большими «идейными» приспешниками, расширяют сферу абсурда. Они думают, что живут в реальности, а на самом деле это не так; утратив экзистенциальное существование, они упорствуют, обрекая себя на еще большее несуществование. Они продуцируют симулякры. Конформист ищет твердую опору, которую ему обеспечит конформизм, и он ее находит — твердую опору симулякра. Гражданин, не боящийся говорить о недостатках политического режима, находит зыбкую опору реальности; пусть зыбкую и шаткую, но принадлежащую реальности, а не симулякрам. И если нравственные силы вступают в сделку с безнравственными аспектами властных решений, они непременно превращаются в свою противоположность, в которой от первоначальной нравственности ничего не остается. Чувство собственного достоинства оказывается слабее чувства страха или соблазна перед более заманчивыми перспективами.
Высшим проявлением гражданского долга является не собачья преданность по отношению к власти, а, наоборот, стойкость перед ней. Власти выгодно культивировать конформизм, поощрять этот вид рабства, создавать в массах отвращение к Реальности, нежелание и неготовчость с ней встретиться лицом к лицу, выдержать ее пристальный взгляд. Культивирование потребительского конформизма приводит к моральной и интеллектуальной ограниченности, деградации сознательной сферы, примитивизации мышления, переориентации внимания от сложных и серьезных социальных проблем к сугубо личным, редукции ценностных ориентаций, развитию эгоизма, падению социально-политической активности.
«Чтобы сохранить в чистоте душу и совесть, лучше страдать от острого несогласия с несправедливостью, чем воспринимать ее равнодушно»[123], — замечает С.М. Пеунова. Древнегреческий философ, самый известный представитель кинической школы, Диоген Синопский, считал, что самым прекрасным у людей является свобода слова. Мы же, упомянув здесь Диогена, скажем, что не столько свобода слова как частный элемент свободы вообще, а сама свобода является наивысшей ценностью. Без нее человек утрачивает самого себя. И разве нет необходимости в свободе на более глобальном уровне, нежели персональный, — на общесоциальном? Уровень развития общества определяется количеством свобод, которой обладают его члены. Э. Фромм к путям так называемого бегства от свободы приписывает подчинение вождю и вынужденную конформизацию[124]. Д.А. Леонтьев вообще называет конформизм противоположностью свободы[125].
Маниакальная ориентация на выгоду, пресловутый меркантилизм и сугубо материальные потребности заставляют человека поступиться личными убеждениями. В наше бесчестное время мало кто руководствуется по-настоящему гуманистическими гражданскими интересами. Большинство, движимое сугубо личными потребительскими интересами, готово отдать свой голос кому угодно; в качестве единственной зримой ими ценности выступает только то, чем можно набить собственный карман. Беспринципных людей, которым чужда любая идеология, достаточно как среди простых рабочих, так и среди чиновников. На них и держится существующая социально-политическая система. Их благородство — в лицемерии, их благость — в коленопреклонении перед вышестоящим (таким же, как и они) идолом.
Любая форма конформизма граничит с безликостью, стадностью и подчинением авторитету. Причем авторитетом может выступать как конкретный человек — лидер, так и целая группа. «Власть чьего-то авторитета над нашим сознанием обычно прямо пропорциональна нашей простоте и впечатлительности и обратно пропорциональна интеллекту, — пишет И.А. Шаповал. — Эмоциональность, склонность к сильным переживаниям и аффектам при отсутствии критического мышления обусловливает большую подверженность влиянию авторитета и подчиняемость ему практически без обдумывания и выбора. Индивидуальность здесь выражается лишь в выборе кумира, а его смена сопровождается и сменой моральных норм»[126].
Полностью здорового общества не бывает, всегда и на всех этажах социальной пирамиды есть предатели, приспособленцы и прочие узники нечистой совести. Но общество должно уметь избавляться от шлаков. Неспособность освобождаться от шлаков отравляет весь организм. Единственное, чего нельзя отравить и парализовать — свободную волю (здорового) человека. Вот только здоровых слишком мало на общем фоне.
Д. Ольшанский наделяет индивида массы такими характеристиками, как анонимность и отсутствие сознательной личности, снижение рациональности и интеллектуальности, стремление к осуществлению внушенных идей, ориентация индивидуальных мыслей и чувств в направлении массовых, что уже есть гиперконформизм[127]. Человек по-настоящему живет не тогда, когда упивается благосклонным расположением начальства, не тогда, когда получает зарплату, не тогда, когда уделяет внимание своим дорогим игрушкам и различным гаджетам — не в эти моменты избытка жизни. Человек живет тогда, когда не только думает по совести и долгу, но и поступает соответствующим образом. Смелость, готовность взять на себя риск означает полноценную и полнокровную жизнь. Человек живет в пограничных ситуациях, когда его бытие встречается с ничто, с чистой аннигиляцией. А конформисты, ницшеанские «последние люди», комфортно чувствующие себя в условиях своей конформизации, ощущают избыток жизни, что парадоксальным образом указывает на ее отсутствие. Они наслаждаются собственным уничтожением. В. Франкл справедливо называл конформизм и тоталитаризм двумя следствиями экзистенциального вакуума, следствиями утраты смысла жизни и осмысленности бытия[128]. Таким образом, в конформизме вместо экспликации чего-то позитивного для развития личности усматривается лишь процесс слияния с мнением молчаливого большинства.
Потребительски мыслящий конформист не пытается стать выше себя, не принимает ценность личностного развития. Интеллектуально-духовный путь развития представляется ему тупиковым и совершенно ненужным, так как он не облегчает достижения желаемых ценностей. В этом заключается вульгарность конформно-потребительского сознания. Конформист может понимать свою косность и ограниченность, но это понимание не стимулирует его к самосовершенствованию, не придает ему мотивацию к этому благородному процессу. Единственное, к чему оно ведет, так это к пробуждению ненависти к «другим», отличающимся от масс (согласно X. Ортеге-и-Гассету, масса ненавидит все отличное от нее[129]). Представляется, что за этой ненавистью и озлобленностью зачастую скрывается обычная зависть к тому, кто лучше, благородней, умнее и утонченней. В итоге соприкосновение малообразованного и эстетически неразвитого человека с высокими культурными образцами, не являющимися на сегодняшний день культовыми, может вызвать реакцию отвержения, отвращения и непонимания. Р. Барт утонченным образом высмеивает критическую позицию невежд, где объектом критики является то, что они понять не могут. Такой критик, признаваясь в непонятливости, сомневается в ясности произведения, на которое обращен его взгляд. Он следует принципу «Я не понимаю — значит, вы дилетанты». «Вам не объяснить философов, а вот они вас объясняют»[130], — не без доли иронии пишет автор «Мифологий». От себя добавим, что презрительное отношение масс к той культуре, высот которой их мышление не достигает, совершенно необоснованно. Оно — это отношение — поддается сугубо психологическому описанию (чувство общности с себе подобными как «своими» с одновременной ненавистью к «другим» — результат некоего вытеснения осознания своей интеллектуально-эстетической неполноценности), но при этом лишено четких оснований, которые могли бы обеспечить ему право на существование.
Если феномен конформиста-потребителя становится широким и всепоглощающим, то закономерным образом общество массифицируется, а культура становится однообразной. Если же происходит демассификация индивидов, то на более масштабном уровне население тоже демассифицируется, что приводит к усложнению и многообразию культурного потенциала данной социальной среды. И лишь степень развития на данный момент (актуальный уровень) и стремление к саморазвитию в дальнейшем (потенциальный уровень) субъектных качеств — сущностная автономность, осознанный характер жизнедеятельности и целостность мировоззренческой позиции[131] — являются неким гарантом подлинности как отдельного субъекта, так и присущей ему общности, усиливающим возможность противостояния внешнему давлению и манипулятивным воздействиям. Данные качества в своей совокупности дают человеку возможность осознать себя в окружающем мире, определить свою сущность в качестве элемента мира и социальных систем, наделяют человека способностью к рефлексии, к формированию собственной картины мира и ценностных ориентаций. Человек, стремясь сохранить свою субъектность, старается противостоять слиянию с массами, то есть реализует негэнтропийный механизм своего развития, который характеризуется в синергетике так: сложная нелинейная система эффективно противостоит разрушительному действию хаоса только в том случае, когда она находится вдали от равновесия по отношению к окружающей среде, то есть не сливается с внешней массой. А состояние равновесия со средой, по замечанию Н.М. Калининой, равнозначно смерти[132]. Конечно, в случае изучаемого нами явления — конформной массы — смерть стоит понимать не в прямом (физическом) смысле, а скорее в психологическом, культурном и социальном.
Консьюмеры только думают, что поступают в соответствии со своей субъектной позицией, а на самом деле они детерминированы внешними обстоятельствами. Причем детерминировано не только их поведение, но и мышление. Субъектная позиция представлена в активноизбирательном, инициативно-ответственном, преобразовательном отношении личности к самой себе, к действительности, к миру и жизни в целом[133]. А. Назаретян с удивлением отмечает, что люди пост-советского времени, подвергшиеся принуждению проголосовать в поддержку какого-то кандидата, нисколько не возмущались сложившейся ситуацией, а скорее наоборот, радовались, что их избавили от ответственности выбирать и сделали все за них[134]. Ответственность обычно гнетет, и человек стремится избежать ее, а вместе с тем избежать свободы в принятии решения.
Как утверждают психологи, свобода требует внутренней упорядоченности, а жизнь в условиях несвободы приводит к когнитивным нарушениям. Нарушения когнитивной иерархии компенсируются несвободой. Незрелость, деформации и распад когнитивной иерархии вызывают состояние неопределенности, которое компенсируется опорой на внешние иерархически организованные структуры. Внутренний порядок заменяется внешним порядком, идентичность — преданностью, когнитивная иерархия — социальной иерархией, вера в мудрость начальства и любовь к многоуровневым бюрократическим структурам заменяют неопределенность, неуверенность и непонимание, вызываемые состоянием свободы[135]. Описанный здесь феномен безответственности и свойственную ему ориентацию на внешние (партия), а не на внутренние (Я сам) инстанции, авторы называют деиндивидуацией. Термин «субъект политической жизни» исчерпал себя, если говорить о конформно настроенных массах. Сознательность утрачивается под прессингом красивой рекламной манипулятивности, действующей на бессознательное. Индивидуальность утрачивается под прессингом рекламных апелляций к «грамотному и знающему» большинству и к атомизирующей личность культуре потребления. Да и ни о какой активности не может идти речь, когда, например, представители правящей партии, приходя в государственное учреждение, только успевают заявить о себе, как все сотрудники этого учреждения моментально становятся на их сторону. Активность есть, но бессубъектная, бессознательная и безизбирательная. А это уже не активность. Именно послушность как следствие отсутствия самостоятельного критического мышления, по свидетельствам многих авторов[136], — оплот тоталитаризма, его основание. А.А. Гусейнов справедливо замечает, что конформность, смирение и пассивность не оппонируют насилию, а только его дополняют и усиливают[137].
«Так называемое этическое поведение среднестатистического человека настолько конвенционально, что это скорее конвенциональное поведение, нежели по-настоящему этическое, такого рода поведение не основывается на внутренних убеждениях и принципах, это не более чем бездумное следование общепринятым нормам»[138]. Таким образом, гиперконформизм, безоценочное следование за сомнительным лидером присуще именно обывателю, среднестатистическому человеку. Самоактуализированный человек, в отличие от него, способен восстать против условностей и невежества, не скрывая своего недовольства, и тем самым проявить свое Я, свою субъектную позицию. Его контакты с внешним миром, предъявляющим свои конвенции и правила игры, «определяются прежде всего желаниями и планами самореализующейся личности, а не давлением окружения»[139]. А «среднестатистический человек зачастую не имеет ни малейшего представления о том, что он представляет собой на самом деле, чего он хочет, что он думает, какова его точка зрения»[140]. Человек, которому такое значение придает А. Маслоу, способен отстоять свою автономность и независимость, чем он и отличается от бездумного конформиста.
Пока народ, погруженный в свои идеалистические мечтания и потребительскую суету, предпочитает воздерживаться от общественно-политической активности, власть имущие будут продолжать пользоваться его пассивностью. Буквально пригвожденные к своей рубашке, дому, кошельку, эмигрировавшие глубоко в частную жизнь, капитулировавшие в дискурсивную практику потребительских удовольствий, консьюмеры не позволяют себе думать о более глобальных вещах. Они не умеют соизмерять собственные ценности с необходимыми аспектами сосуществования с природой и обществом. Погруженные в меркантилизм аутореферентности (замкнутость на себе), увлеченные собственной карьерой, плотскими развлечениями, техническими гаджетами, семейными проблемами, взаимоотношениями с друзьями, шопингом, они продолжают разводить в стороны понятия «личное» и «политическое», совершенно не задумываясь о том, что эти явления взаимосвязаны. В желании обеспечить себе индивидуальную стабильность путем непротивления злу, обывательские массы проявляют политическую индифферентность и впадают в самый настоящий солипсизм. Находясь в болоте примитивного обывательского счастья, они наивно полагают, что так оно и должно быть. Отдавая право какому-нибудь высокостоящему господину самолично наводить порядок в стране и освобождая этого господина от общественного контроля (путем невмешательства в политические дела), консьюмтариат отдает ему не только свои надежды и право на контроль за правительством, но и право на волюнтаризм, сопряженный с антинародными решениями. Общество становится гражданским только тогда, когда составляющие его люди коллективно отстаивают свои гражданские права.
Нельзя забывать, что человек становится именно тем, кем хочет стать. Ему дано право выбора, которым он все равно сознательно или бессознательно пользуется. Но можно отказаться от выбора (тем самым — отказом — его совершив) и обречь себя на безответственное существование, отдавшись внешним тенденциям — моде, квазиидеалам и т. д. Ведь «плыть по течению» — это тоже выбор, это принятие решения не принимать больше никаких решений. Человеку современности катастрофически не хватает воли к власти над самим собой которая позволяла бы ему сопротивляться чуждой воле к власти над другими. Пока проявляется эта нехватка, его жизнь остается основой не столько для созидательного становления себя самой, сколько для наращивания сил властной инстанции, превратившей жизнь конформиста в для-себя овеществленность. в ресурс. Человеку современности необходимо обрести не выбор (выбор есть всегда), а умение и решительность выбирать в соответствии с высокой нравственной культурой, а не в соответствии с низостью послушной толпы. Право достойно того, чтобы за него бороться, и в обязательном порядке требует не конформного послушания, а решительной борьбы, силы отстаивать себя. Только тот свободен духом и силен, кто позволяет себе провозглашать решительное «нет» там, где это «нет» опасно и где все остальные по-холуйски бормочут «да». Социальным низам жизненно необходимо консолидироваться в единую солидарную общность; именно консолидация позволяет низам численностью и единством компенсировать отсутствие в их руках ресурсов и, соответственно, возможностей социального влияния. Если верхи обладают этими возможностями, у низов должны быть основанные на «общем деле» (а не разрозненности индивидуальных проблем каждого) солидарность и гражданская решительность как орудия в борьбе за лучший мир. Быть может, когда гражданственность поднимется на достаточный уровень, из нашего уклада исчезнут подлые и рабские черты, укорененные в поговорках «чей хлеб ешь, того и обычай тешь», «мимо пройти и не украсть — люди дураком назовут», «молчи больше — проживешь дольше», «в какое стадо взлетел, так и гаркай», «меж волками вой по-волчьи, меж свинями хрюкай по-свинячьи», «закон что дышло — куда повернешь, туда и вышло», «судейский карман что поповское брюхо», «деньгам все повинуются», «деньги не пахнут», «стыд — не дым, глаза не выест», «казна — как корова, не доет ее ленивый», «рука руку моет, вор вора кроет», «конь любит овес, а воевода привоз» и т. д.
Проведенный социологический опрос интеллигенции показал следующие результаты: 52 % считают, что интеллигент должен сотрудничать с властью, а не оппонировать ей, в то время как всего 10 % настроены на несогласие. 55 % — носители пассивного осознания ответственности за судьбу общества, активное осознание присуще менее 20 %. 90 % не выражают публично свою точку зрения[141]. Несмотря на то, что в исследовании выборка была довольно мала — всего 100 человек, — результаты весьма показательны. Они говорят о неутешительном состоянии современной интеллигенции, которая утратила некоторые свои атрибутивные качества. Так, интеллигент должен не только иметь высшее образование, но и уметь критически осмыслять действительность. «…Когда носитель духа и мысли, интеллигент, мыслит несвободно, то тогда никакой он не интеллигент, а скорее вольный или невольный агент влияния»[142]. Свободная мысль, если она действительно свободна, рождает свободное слово или даже свободное действие; интеллигент — соискатель правды и заступник за правду. Его мысль и голос должны быть факелом свободы и гуманизма в пещере теней.
Определение интеллигенции только по критериям уровня образования и профессиональной принадлежности не дает полной картины, поскольку таковой (формальный) подход обращен в наибольшей степени к количественному аспекту, а не к качественному. Образование и специфика труда не указывают в обязательном порядке на интеллигентность, а выступают в роли условий, способствующих ее развитию в человеке. Поэтому согласимся, что определить интеллигенцию как социальный слой «можно, только исходя из его внутренних характеристик — особой роли в социальной жизни, ценностей и целей деятельности этого слоя»[143]. Интеллигенция — не та прослойка, каждый представитель которой обладает дипломом вуза. Интеллигенция — социальный слой людей, занимающихся высококвалифицированным умственным трудом, которым не чужд высокий интеллект и широкий кругозор, творческая культурообразующая активность, свободомыслие, честность, чувство ответственности за общество, смелость в высказывании собственного мнения, преданность гуманистическим и демократическим идеалам, следование долгу, поиск социальной правды, чувство справедливости, наконец, «безумство храбрых». Интеллигент отличается высоким интеллектом, сопряженным с духовно-нравственным началом. Он олицетворяет собой все лучшее, высокое и прогрессивное, из чего состоит общественно-культурный багаж. Интеллигент находится в постоянном гносеологическом поиске Истины как результата осмысления окружающей действительности и в постоянном нравственным поиске Правды как этического императива, означающего общественное благо и норматив социальной жизни для каждого человека. Нравственность — это не продукт внешних норм, не то, чему человека вынуждают следовать. Нравственность безусловна, непослушна и неуправляема. Ей не нужны кодексы, законы и санкции. Она просто есть не благодаря им и несмотря на них. Она — внутренний импульс нравственного человека, от которого он не может отделиться. Ей можно научить, ее можно привить воспитательными средствами, но ее нельзя навязать. Человек, своим поведением подчеркивающий почтение к закону и к высоким нормам антропного общежития, но делающий это в силу страха навлечь на себя порицания юридического или просто общественного характера, едва ли является нравственным, ибо по совести поступающий тот, кто действует сообразно совести, а не сообразно конвенции, согласно которой так поступать надо и опасно поступать по-другому. Наконец, нравственность — свойство не только интеллигента, но и любого гражданина в здоровом обществе.
Среди атрибутивных характеристик интеллигенции нет места таким потребительским качествам, как конформизм, мещанство и лицемерие. Интеллигент, центрированный только на собственном благополучии и совершенно утративший социально значимые ориентиры и интерес к будущему своей страны, вместе с тем утрачивает свою интеллигентскую сущность. В ориентации на себя и личный достаток ничего плохого нет, ибо каждый человек в первую очередь думает о личных нуждах; но если таковая ориентация затмевает собой социально необходимые проявления гражданственности, человек становится социально опасным. «…Русская интеллигенция всегда стремилась к абсолютной справедливости, а достичь ее на путях конформизма, увы, невозможно»[144]. Именно критерии нравственности и гражданской активности сокращают количественно ту социальную прослойку, которую именуем интеллигенцией. «Традиционно уповать (интеллигенции. — А.И.) на государственную поддержку бессмысленно, так как именно привязка к государству служит своеобразным родовым проклятием отечественной интеллигенции»[145]. Интеллигент обязан напоминать обществу о гуманистических ценностях во времена их забвения. В эпоху аксиологического упадка, в эпоху постмодерна, отрицающего моральные и гносеологические императивы, смеющегося над «наивностью» Истины и Правды и определяющего для интеллигента некую аморфно-факультативную роль, такое напоминание особо необходимо. Чем более оно маргинально в связи с глубокой девальвацией ценностей, тем выше его актуальность. Иногда необходимо искать ценное, существенное и первостепенное не в устоявшемся, а в маргинальном, и тем самым потрясать убеждения повседневной потребительской практики, призывать в условиях аксиологической безмерности искать и находить свою меру.
Если интеллигент переходит в бюрократические или правительственные круги, он теряет свою интеллигентность, так как становится представителем эксплуататорского слоя, противостоящего интересам общества и интеллигенции; высший класс и интеллигенция практически всегда находятся в антагонистических отношениях. Но это не значит, что интеллигент призван всегда и во что бы то ни стало бороться с государством. Правильнее было бы сказать, что ему надлежит активно оппонировать не самому государству, но тем властным решениям, которые выгодны представителям политического истеблишмента, а не народу. Принципиальная борьба с властью чревата серьезными социальными потрясениями, которые способны, вытягивая общество из ямы, ввергать его в пропасть. Так, известно, что интеллигенты в свое время выступали против монархизма, а потом и против социализма. Видный русский философ А. Зиновьев позже заявил, что не стал бы примыкать к диссидентам и писать антисоветские работы, если бы заранее знал, в какую пропасть упадет народ после развала ненавистной советской системы. Впоследствии выяснилось, что антисоветски настроенные интеллигенты вместе с представителями андерграудной культуры (рок-музыканты, театральные деятели) пилили сук, на котором сидели, а потом его допилила сама власть, инициировав перестроечную революцию сверху; в начале перестройки андерграудная культура вышла из подполья, и антисоветская пропаганда приобрела уже не точечный молекулярный характер, а массовый. Поэтому интеллигентское оппонирование власти должно строиться не столько на приятии сложившейся социально-политической ситуации, сколько на позитивном стремлении к желаемой социальной цели. Ей необходимо не только наличие отрицательной мотивации, соответствующее принципу «лишь бы свергнуть проклятый режим», а доминирование положительной мотивации, которая дает знание о желаемой социально-политической обстановке. Поддавшись гипнозу рыночной риторики в конце 1980-х, интеллигенция, как и другие слои советского народа, не понимала, что так называемый рынок только ухудшит ситуацию, создаст «новый демос», включающий в себя не весь народ, а около 10 % самых богатых и успешных, обогатившихся за счет настоящего народа и народной собственности, которых силовики, чье руководство само войдет в эту прослойку, будут защищать от народа, то есть от значительно большего количества бедняков. Народ, несмотря на его многочисленность, будет загнан на социальную периферию и самым парадоксальным образом получит внегласный статус меньшинства, пораженного в своих возможностях охлоса; сила социальной группы станет более значимой, чем ее численность. Таковой будет демократия — власть демоса, а не народа — в 1990-е годы, но интеллигенция, как и многие другие общественные слои, об этом даже не подозревала. Поэтому данному ответственному слою населения не пристало проявлять всеядность и молодежную революционную горячность и вооружаться аморфными новомодными идеями. Ей необходимо проявлять зрелость и подвижническую мудрость при оказываемом ею давлении на власть имущих.
Интеллигент — более широкое понятие, чем интеллектуал, характеристики которого сводятся в основном к наличию высшего образования и широкого кругозора. Вообще, эти термины обычно не разделяются; как интеллектуалом, так и интеллигентом нередко называют любого человека, имеющего высшее образование. Человек вполне может сочетать образованность и ученость с бескультурьем, хамством, аморализмом, мещанством, стремлением добиться карьеры любой ценой, принципиальным нежеланием связывать себя обязательствами по отношению к другим социальным слоям и с иными подобными «качествами»; его едва ли следует считать интеллигентным. Он может называться интеллектуалом, в том числе одомашненным и прирученным борцом за права корпоративной элиты, умным и послушным помощником, готовым подписаться под чем угодно, и при этом уверенным в чистоте своей совести. Интеллектуалу «позволительно» быть ангажированным не совестью и гражданственностью, а властью и личными карьеристскими амбициями. Вместо интеллигентского поиска смысла он осуществляет использование смыслов. Он даже может обладать самыми высокими титулами и почетными званиями и официально именоваться как-нибудь типа «главный интеллектуал страны» (ГлИСт), а на поверку вместо цвета нации представлять собой ее отброс. Такие «интеллектуалы обеспечивают легитимность строя, выступая своеобразными гарантами презентабельности власти в самых различных дискурсах, формирующих контуры общественного тела»[146]. Они создаются самой системой, что в обязательном порядке накладывает отпечаток на содержание их посылов широкой аудитории. Они занимаются «научным» обоснованием правильности и эффективности политического курса каким бы уродливым он ни был. Сообщество таких людей скорее заслуживает название «интеллигентщина». Хоть и считается, что потребительство стоит далеко от интеллектуализма, это не всегда так. Консьюмтариат и когнитариат встречаются в таком интеллектуале. Совестливый простолюдин гораздо более полезен для общества, чем бесчестный интеллектуал. Но высказанные максимы не означают, что интеллектуалам, в отличие от интеллигентов, чужды моральные, нравственные и этические качества.
Если говорить коротко, интеллигент призван совмещать в себе интеллект и духовность. Гражданин и интеллигент не синонимичные понятия, так как гражданственность отличается большей широтой, чем интеллигентность. Гражданином может быть не «духовный интеллектуал», то есть интеллигент, а человек со средним уровнем интеллекта, представитель неинтеллектуальной профессии, простой рабочий, которому не чужды нравственные чувства и глубокое осознание ответственности за свой народ и за политический режим. Здоровое, не-конформное и не-потребительское общество необязательно состоит только из интеллигенции, но оно обязательно состоит из граждан (в отличие от общества, состоящего из конформистов, потребителей, масс), а потому именуется гражданским. Несомненно, любая типологизация страдает высоким уровнем обобщенности и теоретичности. Потому границы, отделяющие интеллигенцию как социальный слой, весьма условны, и трудно эмпирически представить интеллигенцию как объект изучения, хотя нельзя говорить о ее отсутствии. Перечислив качества, присущие интеллигенции, мы описали некий идеальный тип. Конечно, не все интеллигенты интеллигентны в одинаковой степени, и не у каждого наличествуют все до последнего из приведенных качеств.
Умственные способности интеллектуалов используются как во благо, так и во вред — в зависимости от направления их воли или воли того, кому они служат. Ж. Делез вслед за Ф. Ницше критикует так называемого философа-послушника, хранителя общепринятых ценностей, «публичного профессора»[147]. Интеллигенция составляет необходимый потенциал для появления гражданского общества. Гражданское общество — то общество, где не только существует нормальная интеллигенция, где у нее есть жизненные перспективы, но и то, где она имеет право высказываться, не боясь ничего, где она проявляет социальную активность, где она чувствует свою ответственность за судьбу общества.
У нас в стране крайне узка по численности та прослойка общества, которую следует именовать интеллигенцией. Она не является ключевой группой, формирующей общественное сознание. В обществе, где рынок и культура потребления имеют настолько сильное влияние, нельзя говорить ни о качественном образовании, ни о проявлениях гражданственности. Потребительский индивидуализм является барьером для широкого распространения социально ориентированных качеств, вкупе составляющих концепт «гражданственность».
Как пишет А.Н. Севастьянов, для ельцинских преемников интеллигенция стала обузой, и они из буржуазно-демократической революции приняли и насадили буржуазную составляющую, а демократическую ограничили как только смогли, и тем самым противопоставили себя интеллигенции[148]. Учитывая то, что государство (особенно постсоветское) в большей степени занимается перераспределением и присвоением произведенной продукции, а не производством, и при этом купается в безразмерной роскоши, надо добавить, что революция была буржуазно-консьюмтаристской, а не просто буржуазной. Слой «новых русских», включающий в себя также новоявленную чиновничью когорту — это консьюмтариат, преимущественно коррумпированный, ликвидировавший производство и обогатившийся за счет народа. Получается, что культура потребления господствует, условно говоря, на двух уровнях социальной лестницы — на уровне народа, который, руководствуясь потребительской послушностью, проявляет политическую пассивность, и на уровне истеблишмента, который, пользуясь пассивностью народа, позволяет себе реализовывать потребительски-гедонистические интересы. Прошлые эпохи ознаменовали себя в том числе великими именами интеллигентов, талант которых позволил совершить прорыв в технике, науке, сфере художественного творчества. Сегодняшняя эпоха, отбросив интеллигенцию на периферию социального бытия, формулирует имена сверхбогачей, наделенных не талантами, а туманными биографиями происхождения своих богатств. Социально необходимые эталоны исчезли, и на привилегированный трон сели деятели шоу-бизнеса, чиновники и олигархи. Такая подмена эталонов и образцов является серьезным барьером для претворения в жизнь декларируемой модернизации, поскольку любой прорыв в любой области лежит прежде всего на плечах творческой интеллигенции.
Ведя речь о конформизме, целесообразно обратиться к знаменитой концепции Ф. Фукуямы, который, используя концепт «конец истории», предсказывает наступление либеральной демократии как окончательной формы правления в человеческом обществе и отсутствие альтернатив, которым бы уступала либеральная демократия. Объясняется эта претенциозная идея следующим образом. У каждого человека присутствует потребность в признании (тимос), каждому присуще чувство собственного достоинства. Данную потребность Фукуяма рассматривает ни много ни мало в качестве двигателя всей истории и виновником тирании, конфликтов и войн. Но вместе с тем она же предстает как психологический фундамент многих добродетелей: духа гражданственности, храбрости и справедливости. Конформное сдельничество со своей совестью рассматривается как явление, противоречащее признанию, так как оно стоит далеко от храбрости, самоотверженности и чувства справедливости; это проявление эгоистического желания материальной выгоды, которое имеет мало общего с признанием. Экономический человек, человек желания, предпочитает проявлять конформизм и работать внутри системы, желание у него затеняет признание. Человек признания, в отличие от него, ревнует за достоинство свое и своих сограждан. Экономический человек, потребитель, руководствуется расчетами и личными выгодами, а человек признания может встать перед танком или цепью. солдат ради утверждения себя и получения признания своей группы или класса. Так, благодаря потребности в признании люди испытывают негодование по поводу несправедливого отношения к ним самим или к представителям их референтной группы; с этой позиции объясняется в том числе расизм или антирасизм, феминизм и т. д. Но не все люди желают, чтобы их оценивали в качестве равных по отношению к другим, а хотят из-за раздутой самооценки быть выше других, что Фукуяма называет мегалотимией, темной стороной желания быть признанным. К формам мегалотимии относятся тирания, национализм, империализм и т. д. Национализм Фукуяма считает характерным для индустриального периода, так как в доиндустриальный период основополагающими были классовые различия между людьми одной нации, которые выступали непреодолимыми барьерами на пути взаимоотношений; так, русский дворянин по духу был ближе к французскому дворянину, а не к русскому крестьянину. Противоположность мегалотимии — желание получить признание в качестве равного другим — философ именует изотимией. Соревновательность и тщеславие человека, его желание господствовать представляются как источники социального творчества. Фукуяма в своих идеях опирается на диалектику Г.Ф. Гегеля, которого, в отличие от К. Поппера[149], не считает идеологом авторитаризма, а называет защитником гражданского общества, независимости частной экономики от государственного контроля. При известных исторических формациях потребность в признании не реализовывалась. Так, при рабовладении рабы, естественно, не чувствовали никакого признания со стороны хозяев, так как последние вообще не считали их людьми, но и господин не мог ощущать удовлетворение, поскольку раб, признающий его достоинство, не является в понимании господина полноценным человеком. Господа ищут признания от других господ, но этот поиск связан с попытками превратить других господ в рабов; господа, в отличие от рабов, более рискованны, этот риск позволяет им господствовать. Соответственно, до появления взаимного и рационального признания человек получает признание только от рабов, которые вместе с тем недостойны оказывать признание, а потому это трудно назвать признанием; люди хотят быть признанными каким-то авторитетом, а не рабом и не собственной кошкой и чтобы это признание было не выдавленным из человека, а искренним и свободным. Отсутствие признания со стороны господина сподвигает раба на осуществление перемен. Он трудится на господина из страха потерять заработок или даже жизнь. Поскольку работает именно раб, а не господин, он преобразовывает природу, использует орудия ради изготовления потребительских благ или более совершенных орудий и тем самым изобретает технологию. Соответственно, наука, техника и вместе с тем идея свободы — изобретения вынужденных трудиться рабов, а не господ. Исторический прогресс осуществляется рабами.
Как утверждает Фукуяма, при либеральной демократии — наилучшем из возможных вариантов правления, характеризующимся исчезновением фундаментальных противоречий — уважение и признание будет реализовано в виде всеобщности прав; неравные признания господ и рабов будут заменены признанием универсальным и взаимным, все граждане признают за каждым человеческое достоинство. Войн практически не будет, особенно между либерально-демократическими режимами. Следовательно, исходя из названной потребности человечество идет к концу истории, к либеральной демократии, которая «заменяет иррациональное желание быть признанным выше других рациональным желанием быть признанным равным другим»[150]. Саму же историю Фукуяма понимает как однонаправленное движение, направленность которого порождают открытия современной науки; поскольку полностью отказаться от научного метода невозможно и невозможно обратить вспять господство науки над цивилизацией, нет причин думать о перспективе исчезновения цивилизации, так как давление науки необратимо, необратима также направленная история и ее экономические, социальные и политические последствия.
Непонятно, вследствие чего философ утверждает, что сегодня на место мегалотимии встали два явления, которые удовлетворяемы либеральной демократией: 1) желание, выраженное в экономизации жизни, в поиске интеграции в экономическое сообщество, 2) изотимия. Конечно, Фукуяма прекрасно понимает, что доля мегалотимии все равно останется, что без нее невозможно общественно-культурное развитие, что она должна служить клапаном для сброса избыточной энергии, но слишком претенциозно утверждать ее принципиальное снижение в общественной жизни. По его мнению, конкуренцию как между людьми, так и между странами, заменит спорт (особенно рискованный, вытряхивающий спортсмена из привычного буржуазного комфорта) как главная отдушина для стремления захватить первенство. Или же вместе со спортом мегалотимическим проявлением будет война против того, что негативно влияет на человека — болезней и вирусов. Якобы иррационализм признания в виде честолюбия, религиозного фанатизма и т. д. сублимировался в желание накопления собственности, а некоторые оставшиеся явления национализма, религиозной нетерпимости и прочего объясняются не только атавистическими пережитками, но и недостатком сублимированности мегалотимии господ в экономическую деятельность.
Да, желание экономизации проявляется достаточно ярко, но оно, проявляясь как на микроуровне (индивидуальное обогащение любой ценой), так и на макроуровне (коллективное, корпоративное обогащение любой ценой), едва ли отменяет мегалотимию и в основном идет вразрез с изотимией. Желание экономизации — это все то же потребление, которое, характеризуясь мещанством, нейтрализует любые акции, призывающие к действиям ради чего-то глобального в ущерб жизненному комфорту. Создается впечатление, что Фукуяма (пусть даже неявно) оправдывает потребительские тенденции, когда говорит, что национализм теряет способность стимулировать людей рисковать своим частным уютом в имперских актах. Бесспорно, национализм следует рассматривать как явление иррационального желания, как вариант мегалотимии, и необходимо дать положительную оценку тому, что современный образ жизни потребительски ориентированных стран «съедает» призывы к каким-либо действиям, ограничивающим права других людей, групп или этносов. Однако данный образ жизни нейтрализует, подобно бодрийяровской массе[151], призывы к настоящему героизму, и это однозначно не стоит воспринимать как нечто позитивное. В эпоху потребительства нет великих идеологий, нет самоотверженных поступков, нет альтруизма. Само по себе мещанское потребительство — это конец истории самоотверженности и героизма. «Постисторический мир — это мир, в котором стремление к комфортному самосохранению победило желание рисковать жизнью в битве за престиж и в котором борьбу за господство сменило всеобщее и рациональное признание»[152]. Эти слова звучат красиво, но претендуют на двоякость толкования, а также содержат в себе утопический, а не футурологический заряд. Да и стремление к комфорту хоть и противоречит рискованным для жизни формам поведения, оно вряд ли способно победить в битве за престиж, поскольку потребительский комфорт обычно выступает инструментом демонстрации престижа, который является желаемым.
«Последний человек в конце истории знает, что незачем рисковать жизнью ради какой-то великой цели, поскольку считает историю полной бесполезных битв, где люди дрались друг с другом, решая, следует быть христианином или мусульманином, протестантом или католиком, немцем или французом. Верность флагу, которая вела людей на отчаянные акты храбрости и самопожертвования, последующей историей была квалифицирована как глупый предрассудок. Современный образованный человек вполне удовлетворен сидением дома и одобрением самого себя за широкие взгляды и отсутствие фанатизма»[153]. Далее Фукуяма утверждает, что в современных демократических обществах много молодых людей, которые хотят быть приверженцами более глубоких ценностей, но плюрализм мнений и наличие широкого выбора сбивает их с толку. Такое объяснение отличается поверхностностью. Да, информационная перенасыщенность масс-медиа расщепляет субъекта. Но и, учитывая описание Фукуямой конца истории как времени, лишенного серьезных конфликтов и войн, патриотическое воспитание станет атавизмом, равно как философская идея о лучшем обществе. Незачем будет воспитывать в умах молодых людей склонность к самопожертвованию и патриотизму, так как жертвовать будет не за что. Покончив с несправедливостью, человек превратится в животное, так как благодаря борьбе он способен развиваться. Борьба человека за нечто высокое и надповседневное характеризует его именно как человека с большой буквы. После фукуямовского конца истории останутся как раз люди-потребители. Человек будет жить почти как животное, находясь в гармонии со своим узким бытием, ограниченным домашними стенами или стенами офиса на работе. Общественная жизнь для него будет спаяна не с идеалом достижения социальной гармонии и справедливости (она итак будет достигнута), а с использованием общественных связей ради своих личных интересов. Самое страшное заключается в том, что такой сладострастный конец истории еще не наступил (и вряд ли наступит), а современный человек, превратившись в обычного потребителя, уже отказался от высоких духовных ценностей, отдав себя мещанству и индивидуализму. То есть обогнал время.
Фукуяма предусматривал упрек во взаимосвязи отсутствия войн и редукции человеческих качеств. «Либеральная демократия, которая способна в каждом поколении проводить короткую и решительную войну для защиты своей свободы и независимости, будет куда более здоровой и удовлетворенной, чем знающая лишь непрерывный мир»[154], — пишет он несмотря на свое утверждение о приходе мира в конце истории. Если людям будет не за что бороться, так как правое дело итак достигнуто, некоторые из них начнут бороться от скуки против этого правого дела, против демократии и либерализма, как предполагает философ. Но это нисколько не оправдывает человека конца истории, так как имеет смысл не просто борьба ради борьбы, к тому же исходящая от буржуазной скуки, а борьба во имя чего-то. И, естественно, она призвана осуществляться не во имя одних только личных интересов, реализуемых в ущерб интересам других людей, и уж не во имя фашизма. Поэтому данный аргумент нельзя воспринимать как аргумент против построения образа редуцированного человека фукуямовского конца истории. Обращаясь к нашей истории, мы можем вспомнить некоторые случаи борьбы представителей молодежных субкультур с советским режимом. Сначала были стиляги, потом появились хиппи, металлисты и панки. Дело в том, что они пытались противоречить режиму не столько потому, что он плох, а потому, что он надоел. В Советском Союзе почти ничего не происходило, он был статичен (не зря брежневский период называют эпохой застоя), и эта статичность шла вразрез с жаждой приключений, архетипической потребностью человека, человека-охотника. По сути-то потерявшие радость жизни представители субкультур не предлагали взамен существующему режиму какой-то принципиально новый и хорошо продуманный проект, потому что у них не было никакого строго обозначенного общественного идеала. Они предлагали «свободу, равенство и братство», свободу мысли, отмену однопартийности и т. д., но у них не было целостного социального проекта и они не ставили перед собой цель его сформировать. То есть они шли не к идеальному состоянию, а от наскучившего состояния; на языке психологии такой феномен называется отрицательной мотивацией. Конечно, были еще интеллектуалы-диссиденты, которые прекрасно осознавали и против чего они выступают и за что они выступают, но причиной их активности не являлась скука и жажда приключений, поэтому они не укладываются в рамки нашего примера. Так есть ли что-то, гарантирующее невозможность появления и стремительного наращивания потребности «убить скуку в надоедающем обществе конца истории»? Скорее всего, нет ничего, что давало бы такие гарантии.
Изотимия же, которая, согласно мысли Фукуямы, должна утвердиться вместо мегалотимии, почти никак не проявляет себя, поэтому утверждение о ее главенстве совершенно несостоятельно. Простительно утверждать, что изотимия — желательная основа взаимодействия между людьми, но совершенно непростительно говорить о том, что она уже сейчас выступает реалией на почти мировом уровне, что изотимия многих заменила мегалотимию немногих. Как говорят, единственное отличие капитализма от социализма заключается в том, что при капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме все наоборот. Несомненно, эта шутка имеет серьезную почву под ногами, поскольку социализм (или то, что принято так называть) совершенно не отменил эксплуатацию, но Фукуяма забывает о том, что капитализм сам по себе представляет собой поле борьбы всех против всех, где каждый за себя, где каждый ищет индивидуальной выгоды за счет других. Не используя доморощенного термина «капитализм с человеческим лицом», философ попытался описать нечто именно такое. И ему это описание удалось, но таковая удаль не указывает на возможность воплощения данной формы капитализма в настоящую реальность. Так же как тщательное описание анархического строя, приведенное в развернутом виде Прудоном, Бакуниным и Кропоткиным, не дает возможности реализовать анархию на практике. Так что, несмотря на заявление Фукуямы о либеральной демократии как самом совершенном социально-политическом варианте, я бы замолвил слово об анархии как наиболее совершенной форме существования общества.
Далеко не всегда и везде неполучение признания со стороны господина движет раба к осуществлению перемен; тотализация масс необязательно приводит к их расконформизации. Вообще, признание выступает у Фукуямы своего рода прокрустовым ложем, в которое он вмещает все явления человеческого фактора: от образования и труда до национализма и международной напряженности. При этом в его концепции нет места духовности, морали, нравственности; вместо них фигурируют экономические желания и жажда признания, которую он пытается как-то одухотворить путем расширения поля ее проявлений, но которая не представляется принадлежащей духовной сфере. То есть фукуямовский человек меркантилен, рационален, склонен сравнивать себя с другими и в целом бездуховен. Он соответствует потребительскому человеку, а не его по-настоящему человеческому оппоненту. Поэтому Фукуяма попадает в ловушку, сконструированную собственными руками; противопоставляя экономического человека человеку признания, он возвеличивает именно экономического (потребительски ориентированного) человека, а само противопоставление нивелируется.
Глава 8. К вопросу о сохранении культуры в эпоху глобализации
По утверждению П. Козловски, «развитие науки и техники должно иметь предпосылкой и следствием адекватное культурное развитие общества»[155]. Перефразируя данное высказывание, заметим, что уровень культуры общества имеет прямую связь с уровнем развития цивилизации в целом, а также и отдельного человека, составляющего данную цивилизацию. Более того, уровень культуры выступает всеобщим определяющим фактором качества жизни общества.
В научной литературе нет единой фиксации взаимосвязи между понятиями «культура» и «цивилизация». Одни авторы противопоставляют культуру цивилизации, наделяя культуру духовностью, а цивилизацию утилитаризмом. Другие отождествляют данные понятия, не замечая разницы между ними. Нам кажутся оба подхода несколько ошибочными, так как:
1) цивилизация — это форма общественного мироустройства, характеризующаяся достаточно высоким уровнем человеческих достижений. Но эти достижения действительно носят утилитарный характер, они могут быть далеки от эстетических (искусство) и этических аспектов социальной жизни. К ним в первую очередь относятся достижения техники, изобретения, выполняющую прикладные функции и ориентированные в основном на технические и социально-экономические ценности. Противопоставление культуры и цивилизации приводит к мысли, что духовность противопоставляется варварству, ценное — ненужному, высокое — низкому. Но это неверно, так как цивилизация не является синонимом варварства, низости и ненужности, а обладает многими ценными достижениями, которыми варвары не обладали. Потому подобное разграничение понятий не совсем оправдано;
2) отождествление культуры и цивилизации также не совсем уместно, поскольку у них есть качественные различия. Культурные достижения удовлетворяют одни потребности человека (преимущественно высшие, этико-эстетические), а цивилизационные — другие. Технологический прогресс сам по себе не обеспечивает гуманизацию, а потому он выпадает из процесса окультуривания и борьбы с антикультурными тенденциями.
Мы склонны, вслед за И.Д. Каландия[156], понимать под культурой форму и степень духовности, в которой выражены высшие достижения цивилизации. Цивилизация же — это материальный (вещный и предметный) базис культуры, характеризующийся своей полезностью, техницизмом, который культивирует ценности прежде всего не трансцендентного, а имманентного, не духовного, а бытового. Она не требует полноты духовного — прежде всего этического и эстетического — участия. У первобытного общества уже имелись образцы культуры, но образцов цивилизации не было. Напротив, некоторые современные общества, отличающиеся высотой развития техники и технологий, переживают упадок в области нравственного и прекрасного. Этические нормы и представления, учитывая их ментальный характер, следует относить к культуре, а материальные памятники (в том числе артефакты) как вещное воплощение культуры — скорее к цивилизации. То есть цивилизация — это материализованная культура или же материализованное бескультурье. Таким образом, мы прочерчиваем между двумя понятиями параллель, при этом не впадая ни в одну из двух крайностей: Сциллы их противопоставления и Харибды их отождествления.
Следует помнить, что взаимосвязь культуры и цивилизации познается в определенных рамках. Так, если мы говорим не о культуре в целом, а именно о том, что принято называть массовой культурой, появившейся (в том числе) благодаря многим именно цивилизационным процессам — распространение средств массовой информации и коммуникации, урбанизация и т. д., — то невозможно ее отделить от цивилизационного компонента. Однако, обращая свой взор не на масскульт, а на национальную культуру, ее следует во многом противопоставить цивилизации. Национальная (народная) культура характеризуется прежде всего наличием менталитета, национального наследия, в то время как цивилизация вполне может обходиться без национальных корней; она, в отличие от культуры, вовсе необязательно ограничена какими-либо (географическими, этническими и т. д.) рамками. Традиции, идеалы и духовные ценности национальной культуры локализуются в иной плоскости, нежели плоскость утилитаризма, и поэтому они не представляются ценными в цивилизационном смысле. Собственно, в Америке вряд ли мы обнаружим богатую национальную культуру (как из-за сравнительной молодости американской «нации», так и присущим ей изначально утилитарным настроениям типа знаменитого концепта «Американская мечта»), однако цивилизация там развита больше, чем где-либо. Недаром Г.Е. Васильев называет западного человека дряхлым и старым и говорит, что он держится только лишь с помощью своих технических «протезов»[157].
Принимая во внимание происходящие сейчас глобализационные процессы, можно с уверенностью заявить, что навязываемые в ходе глобализации ценности выхолащивают и уничтожают национальное наследие, а значит, и национальную культуру. «Бренды глобальных компаний потребляются как символы причастности к передовому и прогрессивному, но при этом через них в повседневную жизнь разных регионов мира вторгаются чужие стандарты, вытесняются привычные нормы, разрушающие веками складывающиеся хозяйственные и бытовые уклады, образ жизни»[158]. Американские идеалы, ярко выраженные в культуре потребления, наносят сокрушительный удар по национальным культурам. Здесь имеет значение сущностное ядро потребительства, в соответствии с которым возводится в культ идеология индивидуализма, отрицающая взаимопомощь и выражаемая в принципе «помоги себе сам», массовая кредитомания, низвержение духовности до уровня технических приобретений. Не менее важна и методология расширения потребительства, которая включает в себя убежденность в собственном превосходстве по сравнению с другими типами общественных укладов, а потому самолегитимирует насильственное навязывание Америкой этого типа «культуры» всему миру. Исходя из антиинтеллектуализма, бездуховности и безнравственности потребительской культуры, признаем, что словом «культура» она именуется весьма условно. Более целесообразно связывать консьюмеризм именно с цивилизацией, а конкретно с цивилизацией высокого развития, но лишенной культуры. Следовательно, в некоторых аспектах развитие цивилизации идет вразрез с развитием национальной культуры и, мало того, эти процессы могут быть не взаимодополняемыми, а, наоборот, взаимоисключающими.
Несомненно, в эпоху научно-технической революции, обернувшейся стремительным развитием потребительских гаджетов, а также информационной (и псевдоинформационной) насыщенностью, происходит культурная деградация. Она объясняется тем, что центральная нервная система человека как итог очень долгой эволюции не может адаптироваться к такому временному сжатию, которое наблюдается сейчас в качестве следствия развития цивилизации. Так, в прежние эпохи человек рождался в условиях определенной общественно-технической инфраструктуры и умирал в условиях все той же инфраструктуры; за его пусть даже длинную жизнь не происходило принципиальных инфраструктурных изменений. В наше (сжатое) время за одно поколение происходит такое количество изменений, в первую очередь в техносфере, какое нашим дальним предкам не снилось. Согласно экспертам, начиная с середины XX века объем имеющихся в распоряжении человечества знаний удваивается каждые 20 лет, а 90 % от всего объема знаний получены в последние 30 лет[159]. Может быть, эти данные несколько преувеличены, но неумолимо возрастающий объем когнитивно-информационной сферы заставляет нас принять их к сведению. Сегодня те культурные практики, которые недавно считались профессиональными, осмысливаемыми только узкой прослойкой общества, переходят (в редуцированном виде) в лоно повседневной общесоциальной культуры. Сюда относится практика использования компьютерной техники, операционных систем, программного обеспечения, а также различных некомпьютеризированных технических гаджетов. Темпы прироста информации огромны, а темпы перемещения информации бесконечно превышают возможности перемещения физических объектов. Интернет, осуществив вседоступность информации, обессмыслил понятие «перемещение информации», уничтожил для нее пространство и заявил о «конце географии». Кибернетическое пространство, лишенное пространственных измерений и координат, одержало верх над территориальным. Ранее быстрая связь осуществлялась только внутри сообщества, а для связи с другим сообществом требовалось время. Сейчас нет временных затрат ни для внутренней, ни для внешней коммуникации, а исходящие от разных объектов сообщения зачастую противоречат друг другу своим содержанием; возможно, все это является одной из причин деконсолидации на уровне сообществ и наций.
Человек не способен качественно обрабатывать огромное количество поступающей информации, в чем выражается диалектика количества и качества. Сверхвысокая частотность коммуникативных связей, информационная избыточность, свойственная современному постиндустриальному миру, не позволяют основательно и глубоко вникать в происходящее (в достояния культуры и искусства). Техническая и информационная стороны общественной жизни развиваются революционно, а центральная нервная система человека не способна к быстрому развитию, поэтому сознание расщепляется, внутренний мир теряет глубину, а заинтересованный взгляд в условиях гиперинформатизации скользит по поверхности информационного многообразия, не проникая внутрь и не осмысливая должным образом содержательное богатство (при условии наличия такового) получаемых сведений. Возникает скольжение сознания по продуктам культуры, а не углубление в их содержание, смотрение вместо созерцания, слушание вместо слышания, наконец, поверхностное потребление вместо углубленного осмысления. Возникает некое «следовое восприятие» в условиях профицита информации, создающего трудность для ее систематизации, осмысления и фильтрации. Значение традиционных образовательных учреждений снижается в условиях постоянной научно-технической революции, и углубляется различие между способными и неспособными адаптироваться к меняющейся среде и усваивать новшества.
В условиях эпохи гиперреальности информационные потоки позволяют человеку скользить по поверхности от одной новости к другой, не давая ему возможности включать критическое мышление и проникать вглубь. Парадоксально, но факт: прогресс информации приводит к снижению информированности. За счет увеличения количества информации падает качество и рождается псевдоинформационный спам, растет энтропия. Да еще и местами откровенно антикультурные идеалы современной цивилизации подливают масла в огонь.
Конечно, нет ничего плохого в доступности информации, но когда это изобилие трансформируется в переизбыток, стоит задуматься о состоянии субъекта, поглощенного этим информационным полем. Когда книг, фильмов и музыки становится очень много, субъект перестает в полной мере воспринимать их содержание, оно просто становится объектом массового безразличия. Кроме того, за счет увеличения информационных продуктов общее их качество (этическое, эстетическое, интеллектуальное) падает. «Социальное бытие, конституированное разнородными информационными потоками, находится в состоянии постоянной изменчивости и фрагментации»[160], - пишет А.Ю. Зенкова и отмечает отсутствие устойчивой структуры и сущности этого бытия. Данное утверждение имеет прямое отношение не только к социальному бытию, но и персональному, субъективному. Такое отношение к субъектным характеристикам описано Э. Тоффлером, убежденным в том, что СМИ кормят нас раскрошившимися образами, тем самым предлагая несколько видов идентичности на выбор; человек складывает из этих кусочков так называемое «конфигуративное или модульное Я», что объясняет кризис идентичности для многих людей[161]. В калейдоскопическом мире СМИ нет четких образов, устоявшихся фреймов или гештальтов. В нем не «все течет, все изменяется» (линейно-хронологическая модель), а «все накладывается на все» (антилинейная, хаотическая модель), в чем и воплощены принципы интертекстуальности, ризомности и гиперреальности масс-медиа, которые формируют соответствующего им субъекта.
Э. Тоффлер достаточно лояльно подходит к масскультурным процессам и оптимистически оценивает, перспективы будущего развития субъекта, что связывает с формированием у него способности к восприятию огромных массивов информации, которая отвечает требованиям новой культуры. Однако обилие информации, ее избыточность и фрагментарность неизбежно приводит к поверхностности как восприятия, так и мышления субъекта[162]. Субъект, воспринимая информационный поток, скорее руководствуется количественным критерием, нежели качественным. Реципиент сидит перед телевизором и постоянно щелкает пультом, переключая с канала на канал и тем самым сменяя внимательный просмотр на клиповый. Или же, вглядываясь в монитор компьютера, он переходит от одной ссылки к другой, не останавливаясь надолго ни на одной из открывшихся страниц. В результате зависимость между увеличением объема информации и возрастанием воспринятого смысла становится обратно пропорциональной. Подходящим в данном контексте будет следующий оксюморон: эрудит — не тот, кто проникает вовнутрь, а тот, кто движется вширь, чей нерефлексивный взгляд охватывает более широкую область текста, а точнее, гипертекста. Так чтение превращается в чтение-потребление.
«Неструктурированная, повторяющаяся и невостребованная информация обусловливает социальное противоречие между экспоненциальным ростом объемов информации и ограниченными возможностями человека ее воспринимать и обрабатывать»[163]. Возможности восприятия человека остаются неизменными, а информатизация и быстрая связь, как говорит 3. Бауман[164], затопляет и подавляет память. От себя добавлю, что они не только подавляют память как таковую и быстрой сменой сообщений мотивируют не менее быстрое забывание, но и подавляют национальную память, что сказывается на национально-культурной идентичности человека. Быть может, в качестве основного сегодняшнего противоречия следует считать противоречие между тотальной информатизацией и человеческой ригидностью. Посредством гиперинформатизации и стремительного роста технологий цивилизационные аспекты человеческого бытия становятся выше культурных. Неудивительны возникшие мечты о трансгуманизме как технологии развития человека таким образом, чтобы он не отставал от объективно происходящих процессов, не уставал от них, совершенствовал свое сознание и психические процессы, не терял свою идентичность и внутренний нравственный стержень. Правда, пока идеи трансгуманизма по созданию постчеловека как усовершенствованного последователя человека остаются утопичными. Как замечал еще Тойнби, человек намного лучше справляется с неживой природой, чем со своей собственной: он достиг успеха в сфере интеллекта и know how, но оказался неудачником в сфере духа[165]. Теперь, в условиях информатизации, он терпит неудачу также в сфере интеллекта и прочих способностей, которые не могут функционировать настолько эффективно, чтобы перерабатывать все многообразие информации.
Общество должно гармонично сочетать в себе культуру и цивилизацию, так как существование одного без другого не представляется возможным. Собственно, общественный прогресс — это культурноцивилизационный прогресс. При усилении технизации общественной жизни не стоит забывать о ее гуманитаризации. Если же какие-либо крайне консервативные обычаи потеряли свою актуальность и выступают барьером для дальнейшего общественного развития, они, будучи одним из проявлений культуры, могут уже не обогащать общество духовностью, а отравлять его пылью старых догм. «Культура и цивилизация — это как душа и тело: культура — душа цивилизации, цивилизация — тело культуры. Заботясь о теле, цивилизуя его, нельзя пренебрегать собственной душой, отрекаться от того, во что верили и на что надеялись лучшие умы России — те, кто создавал ее культуру»[166]. Когда цивилизация со свойственным ей утилитаризмом и механицизмом начинает преобладать над культурой, когда средства жизни господствуют над самой жизнью, ее смыслом и целью, когда духовность сменяется прагматикой и холодностью сердец, впору говорить о культурном кризисе. Кроме того, учитывая антиприродную основу цивилизации, следует заметить, что последняя, отдаляя человека от природы, ведет также к экологическому кризису. Как замечает В.А. Кутырев, культурное регулирование превалирует в демографиически развитых, но технически отсталых регионах, где инструментальные и целерациональные отношения между людьми пока недостаточно сформированы, а цивилизационное регулирование — в так называемых западных открытых обществах[167]. Вовсе необязательно цивилизационное развитие приводит к разрушению культуры, но сейчас, в условиях глобализации и тотального распространения консьюмеризма, этот процесс имеет место. Культура призвана облагораживать цивилизацию, обогащать ее эстетическими и этическими ценностями.
Но и цивилизационное развитие не должно вытеснять этику и духовность своим техницизмом и ориентацией на полезность. Самое лучшее для того или иного общества состояние — это еще культурное и уже цивилизованное. Причем «еще» здесь не означает прошлое, а «уже» — будущее, поэтому «еще» не призвано неумолимо и окончательно переходить в «уже».
Говоря о соотношении культуры и цивилизации, невозможно обойти вниманием вопрос взаимосвязи традиционализма и прогрессивизма. Что бы критического ни говорили в адрес традиционализма защитники так называемой инновационной культуры, традиции являются культурным каркасом, архитектоникой культуры, «и даже «посттрадиционная культура» выступает не чем иным, как полем реализации механизмов традиции в превращенных формах»[168]. Хотя от нее и до одномерной глобалистской культуры (точнее цивилизации) недалеко. В эпоху мобильности и вариативности ВСЕГО, аксиологической и эстетической децентрации и деконструкции, симулякризации, релятивистского постмодернистского поворота все сильнее и сильнее стираются демаркационные линии между ранее традиционными дихотомиями «свое-чужое», «центральное-периферийное», «высокое-низкое», «элитарное-массовое», «нормальное-патологическое», «мужское-женское», «реальное-виртуальное», «подлинное-поддельное», наконец, «традиционное-инновационное». Постмодерн реализует проект по стиранию различий, создает недифференцированный гипертекст, в котором неразличимы подлость и героизм, произведение искусства и три буквы на заборе. Постмодерн не предлагает какой-то новой модели культуры, а, погружаясь в негацию, стиранием различий уничтожает культуру.
Пусть современная культура, по большей части высокомерно относящаяся к проявлениям традиционализма и считающая его рудиментом, полностью не может от него дистанцироваться (дистанция подчеркивается сознательно, а бессознательный скреп продолжает существовать хотя бы в минимальной форме), одномерная глобалистская культура, грядущая посткультура знаменует собой полный разрыв с национально-созидающим потенциалом традиционализма и, соответственно, национальным наследием, чего допустить, естественно, нельзя. Единственное, что может оставить от традиционализма (а точнее от его действительно рудиментарной мифологической составляющей) глобализация, так это его внерациональную и загрязняющую сознание часть в виде новой архаики, которая выразит себя в мифологичности и эзотеричности (вспоминается насыщенная ими реклама и пропаганда), способствующих закабалению рациональных и волевых усилий человека, а значит, его подавлению. Интересно то, что в инновационных обществах в моменты отмирания старых ценностей и пока еще неустойчивости новых возникает ностальгия по прошлому, но она не является всеобщей.
Жесткий традиционализм страдает обычно фундаменталистским диктатом, неприятием прогресса и отчасти иррационализмом, а жесткий инновационализм страдает инфантилизмом и амнезией к мудрости предков. Например, кризис традиций приводит к расшатыванию семейных устоев, выраженных в увеличении количества разводов, числа неполных семей, распространении абортов, усилении ценности личной независимости в противовес таким ценностям, как долг, забота о родителях, ответственность за семью. Поэтому каждый из описываемых типов, представая в гиперболизированном облике, несовершенен в деле обеспечения культурной самодостаточности и глубины. И хоть некоторые ученые предпочитают не противопоставлять традиции и новации, а видеть в них если не единство, то взаимопроникновение, все-таки стоит отделять должное от сущего. Общество без традиций невозможно, так как оно перестанет быть обществом в культурно-историческом смысле; оно утратит чувство уважения к своей истории и культуре и, соответственно, способность к их сохранению. Общество без прогрессивных инноваций также не представляется жизнеспособным, поскольку инновации как результат проявляемого творчества необходимы для дальнейшего общественного развития. Правда, инновации бывают разными, так как концентрационные лагеря фашистов, приведшие к обеднению значительной части населения реформы Гайдара, ювенальные технологии и многие другие продукты деятельности, ориентированной на новизну, следует считать инновациями, но явно не прогрессивными в социальном, экономическом и т. д. смыслах. Поэтому под инновациями необходимо понимать не просто нововведения, а необходимые нововведения, и необходимые не узкой категории лиц (олигархам, чиновникам и т. д.), а большинству населения.
Традиции и новации, как культура и цивилизация, призваны дополнять друг друга, ибо утрата первого приведет к утрате культурного стабилизирующего ядра, а утрата второго — к утрате способности социума двигаться вперед. Консервативное ядро не должно сковывать инновационно-ориентированное творчество, но не заигрываться в углублении разрыва между старым и новым и тем самым в разбалансировке культурной конфигурации. Главное, чтобы новшества не стимулировали общественную амнезию к прошлому и высокомерное отношение к проявлениям традиционной свойскости (сущностности) данного общества, которая отличает его от других. То есть для сохранения баланса традиций и новаций необходимо не их взаимоотрицание, а взаимодействие, проявляющееся в последовательности наслоения новшества на традиционный компонент, за которым закрепляется контролирующий статус по отношению к инновационным преобразованиям[169]. Например, отмечаемые на протяжении веков обряды и празднества сегодня проводятся с привлечением новых выразительных средств, которых не было ранее, что позволяет говорить как о сохранении традиции, так и ее преображении.
Двигаясь в будущее, необходимо с уважением оглядываться в прошлое и нести его с собой, ибо прошлое далеко не всегда становится рудиментом, достойным ампутации вследствие своей ненадобности. Наследие предков зачастую трансформируется в безвременность, обретая статус ценного прошлого в настоящем и будущем. Прошлое наследие жизненно необходимо обществу, так как его трансляция есть передача в социокультурном времени знаний и опыта. Без наследия прошлого общество теряет историю и обрекает себя на бесцельное и бездыханное скольжение во времени. Цивилизация в своем стремлении достичь высот лишает себя корней. Само мегаполисное пространство своей цивилизационной насыщенностью отрывает человека от природы, семьи и предков, национальных корней и традиций, ориентирует в русло потребкульта. «В основе традиции — связь с вечностью <...> а разрушение традиции есть, напротив, отрыв временного от вечного»[170]. «Благодаря тому, что мы усваиваем прошлый опыт, ориентируясь на будущее, аутентичная современность сохраняется как почка, где продолжаются традиции и, главное, берут начало инновации, — одно невозможно без другого, и то и другое сливаются в объективность связи, характеризующей действенную историю»[171].
Но что следует считать «своими» традициями и как стоит относиться к заимствованиям? Русские философы давно твердят об особом пути развития России, об особом пути русского народа. Кто-то указывает на коллективизм русской психологии, хотя в реальности подтверждение идеи о взаимопомощи и любви к ближнему своему (по крови) не находится. Народам Кавказа, например, где каждый считает каждого братом, не чужда общинность, сплоченность и вытекающая отсюда взаимопомощь, чего особенно не хватает русским; хотя мы, равнодушно относясь друг к другу, всегда помогали выжить и подняться цивилизационно и культурно тем этносам, которые когда-либо проживали на территории России. Кто-то пишет о свободомыслии русского, что явно не соотносится со многими годами, проведенными в условиях освобождения от свободы, в ситуации искусственной коллективизации и конформизации; чтобы далеко не ходить за примерами, достаточно посмотреть на опыт прежде всего сталинского периода, когда равенство прав обернулось бесправием равенства. Кто-то настаивает на православной сущности русского сознания, забывая о том, что христианская (и православная) апологетика родилась совсем не на территории Руси, а была насаждена русскому народу агрессивными методами, насиловавшими национальную душу. Добавим, что, помимо христианизации, в нашей истории были еще три глубоких переломных момента, в результате которых произошло кардинальное, а потому далеко не безобидное отрицание прошлого. Это петровские реформы, революция 1917 г. и перестройка.
В петровских реформах была выражена искусственность и «ненашесть» создаваемых общественных структур, хоть Петр много сделал для расширения российской империи, усиления военной мощи России и ее геополитического значения. При разрушении прежних, традиционных структур бытия происходили социокультурные трансформации, основанные на некритичном заимствовании западных стандартов. В революционные годы происходила тотальная деконструкция царской формы жизнеустройства, прежний тип повседневности представлялся в качестве барьера для строительства желаемого социалистического мира, поэтому в каждом человеке будили чувство личного вклада в это строительство, а общество мобилизовывали для осуществления глобального проекта нового мира. Новая идеология и созданный на ее основе быт не находили преемственности со старыми формами жизнеустройства, не перенимали их опыт, так как изначально противопоставлялись им, отрицали дореволюционность. Во время перестройки произошла делегитимация советского жизнеустройства в целом — философии жизни и форм повседневности. Возникли новые — западноцентрированные — ценности, связанные с индивидуализацией, деколлективизацией, опорой на личные инициативы, нормализацией социально-экономического неравенства и т. д. Но даже весь совокупный исторический опыт человечества не даст ни нам, ни любой другой национальной культуре готовый рецепт, поэтому некритичное заимствование всегда деструктивно, особенно если оно происходит резко, революционно, легким и размашистым росчерком пера перечеркивает ценности уже достигнутого, десакрализирует богатство прошлых времен. Преемственность через разрыв едва ли несет в себе конструктивизм. Она превращает историю в дискретные куски событийности.
Нет оснований для серьезного разговора о некоей постоянной субстанции как явления вечного и неизменного в душе народа, которая, давая отпор любым воздействиям, целостно преодолевает историческое время. Национальный характер в процессе времени меняется; сегодня одни качества выступают социально преобладающими, а завтра — другие. Ведь постсоветский человек во многом отличен от своего советского предшественника, равно как так называемый homosoveticus отличается от человека царской эпохи. Может, именно поэтому — вследствие такой изменчивости — невозможно дать исчерпывающий ответ на вопрос «что такое национальный характер?», а потому и эмпирически подтвердить ту или иную концепцию «особого пути» русских. Реальность же указывает на то, что наша страна встает не на «особый путь», а, наоборот, на «унифицирующий путь». Посредством глобализаторских и потребительских тенденций душа русского человека (и не только русского) в общесоциальном смысле теряет какой бы то ни было потенциал разнокачественных проявлений и упрощается. Может быть, именно из-за отсутствия силы и яркой выраженности национального характера, который мог бы выступать фильтром для инокультурных инъекций, наше общество позволяет себе без особой придирчивости принимать те ценности и нормы, которые ему ранее не были присущи.
У нас есть богатая история, богатый опыт, которым, к сожалению, мы плохо умеем пользоваться, дабы не «наступить на те же грабли». Наша история не началась с революции 1917 года, после которой стоящие у власти казарменные социалисты принялись, строя новые социально необходимые культурные образцы, искажать историческую память, актуализируя амнезию на некоторые связанные с «проклятым царизмом» исторические события или просто заведомо неверно их толковать. Наша история не началась с Крещения Руси, после которого христиане под видом борьбы с «бескультурным и диким» язычеством уничтожили многие доказательства существования богатой культуры дохристианской эпохи и выставили себя этакими просвещенцами. Ими были переиначены русские мифы, да и письменность, согласно некоторым историкам, появилась ранее Кирилла и Мефодия на земле русской.
Мы теряем волю для сохранения своих лучших национальных качеств. Ранее христианизация, затем петровская вестернизация, потом советизация, а теперь глобализация с ее культом потребительства вполне успешно унифицирует наследие, которым некогда были полны наши сундуки. Да и, к величайшему сожалению, практически во все эпохи целесообразность политически ангажированной мифологии ставилась выше научно-исторической истины: христиане решительно отрицали ценности и культуру языческого периода, советы — христианской эпохи, а современность — советского периода. Зачастую это отрицание в силу своей гипертрофированности носило характер необъективной демонизации прошлого. Мы не пытаемся дать однозначно негативную оценку христианизации и советизации, а просто обращаем внимание на то, что они реализовывались методом революционного разрыва с устоявшимся культурным наследием, а значит, беспощадной ломкой существующих традиций и норм; такой резкий разрыв негативно сказывается на состоянии национальной культуры и психологии. Однако следует отдать должное: хоть исторические события, о которых идет речь, знаменовали собой точки культурного разлома, наносящие удар общественному сознанию, вместе с тем каждое несло с собой более или менее социально центрированную идеологию. В отличие от них, происходящая сейчас культурная глобализация, являя собой такую же точку разлома, не обогащает культуру новыми стандартами, а, наоборот, упрощает ее, редуцирует до уровня потребительских инстинктов. Этот вопрос можно назвать основополагающим и краеугольным для данной монографии.
Европейцы и американцы не желают признавать Россию в качестве европейской страны, тем более равной европейским странам. Россия для них — постоянный объект интенсивного очернения. «…Глубинное неприятие все же проявляется, начиная от визового порядка и кончая нежеланием европейских девушек и женщин выходить замуж за российских мужчин»[172]; россиянок европейцы в жены берут, но европейские женщины интересуются мужчинами из стран с более высоким или равным уровнем престижа, к которым Россия не относится. Только вот представление о престиже у европейцев и американцев обычно догматичное, сформированное через призму их же системы ценностей, которая фундирована цивилизационным утилитаризмом, а не духовностью, культурной глубиной. Европейцы в своем большинстве предпочитают рассматривать европеизм как точку отсчета, неоспоримый критерий и образец, на который следует равняться, и забывают о массе проблем, коренящихся в лоне западной культуры и либеральной экономики. Иностранцы преимущественно считают, что русская национальная идея — водка, а проявление русской ментальности — безудержное ее распитие. Одной моей знакомой сотруднице танкового института, в котором учатся в основном иностранцы, постоянно приходится слышать мнение учащихся об алкоголизме как главной проблемы россиян. Да, проблема алкоголизации сегодня проявляет себя довольно остро, но это не значит, что она всегда стояла на первом месте, равно как из этого нельзя сделать вывод о том, что иностранцы меньше пьют; для некоторых стран эта проблема, пожалуй, кажет себя в еще более остром ракурсе. В той же Германии местное народонаселение выпивало столько спиртного, что нашим богатырям даже и не снилось. Скорее всего, этот миф о русской ментальности был сознательно конституирован для дискредитации России и ее основного этноса; мы продолжаем оставаться геополитическими соперниками многих стран, которые теперь уже без всякой мимикрии, абсолютно открыто пытаются настроить мировое сообщество и подвластные ему СМИ против России, а потому продуцируют различные антирусские мифологемы. Если данный миф и не создан специально, то он, по крайней мере, хорошо работает на легитимацию русофобских настроений.
Действительно, русский мужик, которого уволили с работы и лишили льгот, вместо того чтобы отстаивать свои права, предпочтет утопить горе в вине, но это предпочтение скорее указывает на присущую нам терпимость и конформизм, нежели на «природный» алкоголизм. Хотя, возможно, и то и другое (терпимость и алкоголизм) было специально создано, целенаправленными усилиями некоей машины производства желаний выращено в душе современного русского человека, который во многом отличается от своего предшественника эпохи древней Руси с его храбростью, трудолюбием, готовностью помочь ближнему и другими индивидуально и национально ценными качествами. На Руси не было принято пить, не существовала так называемая «культура» потребления алкоголя, но СМИ говорят иное.
Если русский Ванька верит в то, что он всегда должен быть ленивым и пьяным, он именно таким и будет. И если русский народ верит, что он всегда должен быть ленивым и пьяным, он именно таким и будет. Лейтмотивом приведенной мысли не является фраза типа «мы все такие бедные, пьяные и голодные, потому что злобные иностранцы нас такими сделали». Естественно, обвинять других в собственных национальных несчастьях не очень хорошая стратегия, так как громадная доля ответственности за то, как мы живем, лежит именно на нас. Печально то, что некоторые негативные явления, создаваемые или поощряемые внешними силами в нашей культуре, в конце концов, перестают требовать дальнейшей подпитки, становясь на почву самоорганизации и самовозрастания. Сейчас уже необязательно специально подпитывать алкоголизм, наркоманию, потребительство, политическую апатию и прочие губительные тенденции. Дав им ход, теперь можно просто наблюдать за тем, как они сами по себе развиваются. Проблематично поработить народ, который не хочет быть порабощенным, который вооружен объединяющим культурным базисом, трудно столкнуть человека, который стоит далеко от обрыва, в пропасть. Недаром в последнее время участились разговоры о культурном империализме, в соответствии с которым некий новый тип культуры (потребительской) захватывает все больший ареал, рождая различные мифы, которые делегитимируют и десакрализируют достояния национальных культур.
Отношение к русским как к преисполненным диким нравом алкоголикам и лентяям обусловлено прежде всего интересами тех, кто данное отношение высказывает, а не объективными факторами. «Проявлением намеренного искажения образа России зарубежными авторами выступает не прямолинейная дезинформация, а субъективная расстановка акцентов, тенденциозность в отборе фактов либо умолчание о некоторых из них»[173], - пишет Е.И. Сильнова. Может быть, тенденциозность и умолчание, о которых говорится в этой цитате, выступают более мягкими проявлениями «намеренного искажения образа России», чем прямая дезинформация, но, главное, они имеют место, играя на руку тем, кто заинтересован в дискредитации нашей страны и нашего народа. И несмотря на то, что Е.И. Сильнова объясняет сложность восприятия России на Западе не враждебными происками, а неготовностью той аудитории к позитивной оценке русских, мы с ней частично согласимся. Западная аудитория и вправду не готова нас воспринимать в другом ракурсе, но такая неготовность не рождена на пустом месте; так же как нам во времена существования СССР вдалбливали в голову мысль о безнравственности и бескультурье гниющего Запада, тем же рядовым американцам говорили и говорят нечто похожее по отношению к нам. Если людям долго повторять одну и ту же идею, они, несмотря на отсутствие доказательств ее правоты, начнут в нее верить, считая идею своей, а не интериоризированной извне; об этом говорил еще печально известный министр пропаганды гитлеровской Германии Г. Геббельс. Люди зачастую не понимают, каким образом у них было сформировано то или иное убеждение, но почему-то стремятся его защищать как априори верное.
Россию на Западе давно демонизируют. Так, полагают, будто царская Россия была почти людоедской страной, где кровь лилась реками. Не только сохранявший целостность Руси, но и активно расширявший русские земли Иван Грозный стал фигурой номер один в «цивилизованном» западном антирейтинге русских царей. Возможно, он был жестоким тираном, но наши недоброжелатели обвиняют его в тирании не за тиранию, а за территориальное расширение Руси. Если бы он разрушил страну, они его принялись бы боготворить, как Горбачева, но уж никак не ругать. Однако за время царствования И. Грозного казнили около 4 тысяч человек, а за одну только Варфоломеевскую ночь во Франции было казнено гораздо больше. В то же время в Нидерландах казнили около 100 тысяч человек. В Европе — образце добродетели и справедливости — во времена Ивана Грозного не прекращались казни. Стоит только вспомнить Великую Святую инквизицию — позорную печать Европы, костры от которой закоптили все европейское небо. В Англии в XVI в. повесили за бродяжничество десятки тысяч человек. Католический полководец Иоганн Тилли, захватив Магдебург, уничтожил всех его жителей (30 тыс. человек) и полностью сжег город. Однако, несмотря на эти данные, империей зла выступает все-таки Россия, а демоническими фигурами — именно русские цари и советские генеральные секретари. Видимо, все эти исторические события «прогрессивного» мира являются нормальной частью его истории, о которых, правда, не принято вспоминать, а И. Грозный, И.В. Сталин и многие другие правители Руси, России и СССР — элементы ненормальности, безумия и жестокости. Сопровождаемые изощренными пытками и расстрелами перевороты Ф. Франко в Испании и А. Пиночета в Чили, количество погибших от голода во времена Великой депрессии в США обычно забывают, когда ругают Сталина, в отношении эпохи которого недопустимым образом завышают цифру репрессированных по принципу «кто больше даст». Кроме того, франкистскому и пиночетовскому режиму «прогрессивный» мир не торопился противостоять и предпочитал обходить вниманием тотальные нарушения прав человека. При этом в «демократической» Англии и поныне нет конституции — документа, призванного символизировать демократию. Однако критика «прогрессивного» Запада представляется неполиткорректной, а критика России и СССР — хорошим тоном.
Печально то, что русофобством проникнуты не только западные пропагандисты, но и современные российские либералы. У некоторых из них встречается позиция, согласно которой достижения нашей страны — это российские достижения, а недостатки (обычно количественно завышаемые и качественно гипертрофируемые) — это русские недостатки. То есть предпринимается попытка отделить российскость от русскости, представить принципиальное отличие одного от другого, и даже не просто отличие, а противоположность, которая, конечно, абсолютно нелегитимна.
США прославились бомбардировкой японских городов, попыткой навести «порядок» в социалистической Корее и интервенцией во Вьетнаме и Ираке. И это только самые известные деяния из всего списка захватнических (именно захватнических) войн и военных конфликтов, инициируемых США. Эти «демократизаторы» ранее отличились военными действиями против Колумбии, Марокко, Панамы, Гондураса, Мексики, Китая, Доминиканской республики, Уругвая, Филиппин, Лаоса, Камбоджи, Ливана, Ливии, Гренады, Сербии[174]. Помимо военных методов, США использовали экономические методы закабаления стран третьего мира. Так, американские корпорации привели к тотальному обеднению Аргентины, Либерии, Нигерии, Филиппин, Индонезии, Новой Гвинеи[175] и др. Позже они стали экспортировать рост нестабильности в Ливию, Египет, Йемен, Сирию, а также в западные страны. Как бы то ни было, Россия и СССР никогда не применяли такую изощренную методологию борьбы со своими конкурентами, поэтому западный суд над Россией абсолютно нелегитимен. К тому же Россия никогда не занималась намеренным и необъективным очернением тех или иных народов, не создавала никаких «этнофобий» и не пыталась никому навязать аутоненависть и чувство исторической неполноценности. В этом отношении, если геополитические конкуренты России более изобретательны в сфере ведения борьбы, Россия значительно более честна и ее совесть однозначно чище. Возможно, это является одной из причин того, что мы проиграли холодную войну и проигрываем информационную войну Западу.
«Для глобальной державы, такой же фундаменталистской, консервативной, как религиозная ортодоксия, все отличные от нее, сингулярные формы являются ересями. Поэтому они обречены либо на возвращение волей-неволей в глобальное устройство, либо должны исчезнуть. Миссия Запада (или скорее экс-Запада, поскольку он уже давно не имеет собственных ценностей) заключается в том, чтобы всеми средствами подчинить другие культуры хищническому закону равнозначности, эквивалентности»[176]. Недаром С. Жижек и Ж. Деррида называют США государством-мошенником за его односторонние действия в отношении тех (суверенных) государств, в политике которых США видит мошенничество, а именно противоречие их интересам[177]. Государственная суверенность — уже злоупотребление властью и нарушение интересов США — хранителя мирового порядка, гаранта международного права, чья гарантия сопряжена с силой. К сожалению, сегодня не только отдельные люди, но и целые государства выступают всего лишь в качестве средств достижения эгоистических целей мировой гегемонии, соблюдающей в точности до наоборот императив «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему как к средству». Если кто-то позволяет себе критиковать американскую империалистическую политику, его сразу тычут носом в некую политкорректность и ставят в угол за плохое поведение.
Сегодня (незападный) мир возмущен внешней политикой США, которые, разворачивая войны и прикрываясь демократизацией и помощью ущемляемым народам, на деле совершают абсолютно антигуманную экспансию. Идея демократии и общечеловеческих ценностей стала средством утверждения узких корпоративных интересов, а сама вербализация гуманистических идеалов приняла облик словесного террора. Интеллектуалы посвятили проблеме американского вероломства немало трудов. Так, в журнале «Логос» мы находим достаточно содержательные работы, в которых рассматриваются события, связанные прежде всего с геополитической деятельностью Соединенных Штатов. «…Невозможно оправдать угрозу создания мировой державы, не интересующейся миром, которого она не понимает, но готовой на решительное силовое вмешательство всякий раз, когда кто-то делает что-то, что не нравится Вашингтону»[178], - пишет Э. Хобсбаум, отмечая особую опасность империй, которые преследуют свои интересы, убежденные в том, что оказывают услугу человечеству. Борясь с терроризмом, необходимо понимать его причины и смысл, а не просто отвечать на террор террором. Кроме того, бороться нужно с действительным терроризмом (если он вообще есть), а не с теми, кто мне лично не нравится и потому я их объявляю террористами. Но мировой истеблишмент не борется с терроризмом, а создает видимость этой борьбы, под благовидным предлогом которой легитимирует перед собственным населением милитаризацию и экспансию «нецивилизованного мира». По справедливому замечанию 3. Баумана, слово «терроризм» стали упоминать всякий раз, когда флот или авиацию отправляют на выполнение нового задания, когда запускается в производство новый тип самонаводящихся ракет, когда кто-то в той или иной части мира оказывает сопротивление порожденному глобализацией угнетению, когда на самих американцев накладываются все большие ограничения. Борьба с насилием осуществляется ради достижения монополии на насилие, а так называемое присущее «цивилизованной» политике ненасилие представляет собой не отсутствие использования силы, а отсутствие ее нелегитимного использования[179]. Поэтому борьба с насилием приводит к легитимации использования силы одной стороной и делегитимации ее осуществления — другой, а не к победе над насилием. Легитимированное насилие, ставшее нормальным и привычным, перестает привлекать широкое внимание, которое направляется в сторону делегитимирующегося насилия. Так было на протяжении всей истории, которую обычно писали победители и предоставляли вниманию читателя нарратив о прогрессе цивилизации, росте культуры и уменьшении насилия в человеческих взаимоотношениях.
Поскольку существующий в США порядок представляется американцам легитимным, поскольку большинство СМИ работают на дальнейшую легитимацию порядка и на обвинение его противников, поскольку массы людей (в первую очередь военные) вовлекаются в инициируемые руководством страны военные акции, общественность не видит творимое данным порядком насилие, но преувеличивает, вслед за официальной риторикой масс-медиа, степень жестокости деяний, осуществляемых противниками данного порядка. «Террорист» — это ярлык, навешиваемый на объект не из-за характера его действий, а всего лишь из-за отношения к нему тех, кто владеет львиной долей мировых СМИ, а потому монополизирует право навешивать ярлыки террористов, диктаторов, нарушителей прав человека и т. д. Благодаря заярлычиванию понятий «террорист», «диктатор», «нарушитель человеческих прав» сами понятия выворачиваются наизнанку. Тот, кто обретает силу гегемона, берет на себя право игнорировать или делегитимировать исходящие из оппозиционных структур определения тех или иных понятий, даже если эти определения имели юридическую силу, и производить понятийную инверсию. С таким же успехом гитлеровским пропагандистам пристало именовать немецких солдат освободителями, а террористами называть партизан, с ними боровшихся. Если международный трибунал и прочие структуры объявляют террористами и преступниками Милошевича, Хусейна, Каддафи, Ахмадинежада, Кастро и др., они просто обязаны придать такой же статус Бушу, Клинтону, Обаме, Блэру, Саакашвили и многим-многим другим. В ином случае они тотально подменяют понятия и совершают вероломную стигматизацию, основанную на двойных стандартах. На фоне действий США против просто не желающих подчиниться их необоснованному диктату стран, на фоне глобальности инициируемых американцами разрухи и убийств мирного населения, бомбежек и экономического закабаления все лица, объявляемые ими вне закона, выглядят дилетантами. Но критерии заярлычивания не связаны со степенью жестокости и масштабом сотворенных деяний подпадающих под обвинения лиц. Они связаны всего лишь с тем, какую политику эти лица ведут в отношении welfare state. США за свои военные, экономические и другие действия заслуживают, пожалуй, самого серьезного обвинения, а не права обвинять.
Да и стоит ли мусульманские нападки именовать мировым терроризмом, учитывая их точечность по сравнению с деятельностью американской боевой машиной? Вряд ли. Понимает ли Америка ислам? Нет. Она не может ему простить то, что во многих отношениях он противоречит ей, вызывая непонимание. Исламский мир не приемлет гедонизма и потребительского легкомыслия, в нем культивируется ценность семьи и почитание младшими старших, мусульмане нетолерантны к сексуальным перверсиям и узакониванию однополых браков, они осуждают разводы и не приемлют аборты, они критически относятся к ростовщичеству. Это далеко не полный перечень «анахронистских» исламских ценностей, идущих вразрез с «современными» идеалами (прежде всего американской) потребительской культуры и глобалистской идеологии. Только инфантильный ребенок будет пытаться контролировать чужие дела. Мудрый и самодостаточный человек, в отличие от него, не станет помышлять об экспансии, да еще и такой зловредной. Только инфантильный ребенок выберет вместо биофилии погружение в комфортное гедонистическое легкожизненное вымирание. Под инфантильным ребенком подразумевается не столько всесильный инициатор глобальных проблем, сколько средний американец, эгоистичный, обладающий непреодолимой тягой к развлечениям, склонный к ожирению, постоянно смотрящий ток-шоу, доверяющий пропаганде и воспринимающий рекламу как голос авторитета.
Сами американцы склонны оправдывать политику своего правительства необходимостью обезопасить мир от терроризма и диктата и водрузить знамена демократии везде, где только можно; мир погряз в войне — войне всех против всех, — и потому необходим гегемон, гоббсовский Левиафан, гарант мира и справедливости, который вместе с тем стоит выше всяких прав, в том числе и международного права. Но Левиафану нужно показывать всем, что он, Левиафан, демонстрировать свою силу; он это и делает, устраивая то военную, то экономическую экспансию, и никакие угрызения совести здесь неуместны[180]. Это снова напоминает позицию инфантильного ребенка, который силой утверждает легитимность своей воли перед другими детьми, не зная о том, что сила не легитимирует, а делегитимирует его волю. Но что ему это знание, зачем ему мораль и право, если в руке есть разящий меч, а в душе — желание быть единственным и неповторимым. Именно спекуляции и войны, а не честный труд, обеспечивали рост американского благосостояния. Они же обеспечивают его и сейчас.
Америка уверена в своей «демократической» миссии как никогда. Янки считают, что не воюют, а насаждают справедливость (именно насаждают), не задумываясь о том, что в результате НАТОвских бомбежек умирают тысячи гражданских лиц, «освобождаемых» Америкой от «диктатур». Это не что иное как парадоксальная позиция «военного пацифизма», «гуманитарного милитаризма», «цивилизованной войны», «мирной агрессии» или «гуманистической интервенции» (оцените степень парадоксальности и абсурдности этих сформулированных американцами понятий), согласно которой война ведется ради мира и против угрозы войны. В гитлеровской Германии женам посаженных в концентрационные лагеря людей говорили, что их мужья находятся под охраной (от кого?). Абсурд что здесь, что там. Масса людских смертей и разрушений жилых домов, больниц, памятников, школ, примышленных объектов — вот такая «гуманитарная помощь» со стороны Штатов. Акции англосаксов осуществляются ради демократии, и армии мирового судьи теперь называются миротворческими силами, видимо, приносящими мир и умиротворение своими умиротворяющими томагавками и ракетами. Для мира и демократии бомбятся больницы, аэродромы, дома ни в чем не повинных граждан суверенных государств. Ради мира и демократии американцы убивают больше людей, чем тот «кровавый тиран», от которого американцы людей «спасают». На алтарь мира и демократии ложится все больше и больше жизней. Так какова же цена демократии?
Все делается ради всего хорошего против всего плохого. Нечто подобное говорили советским солдатам гитлеровцы: мы, мол, воюем не с вами, а с проклятым диктаторским советским режимом. На самом деле, конечно, война шла не против власти СССР, равно как сегодня США ведет борьбу не против диктатуры, а за природные ресурсы и сферы влияния. Недаром в среде антиамериканистов появилась следующая шутка: на северном полюсе были обнаружены месторождения нефти, следовательно, кровавому режиму пингвинов вскоре придет конец. Символом американского режима является не статуя свободы, а тюрьма Гуантанамо, где в ужасных условиях бессрочно содержатся граждане других стран, где применяются пытки, а заключенным не предоставляют официальные обвинения. Вот он подлинный символ американской «свободы».
Для тех же мира и демократии США устанавливают свои ПРО рядом с российскими границами. Объясняют это вероломство следующим образом: якобы у Ирана когда-нибудь появятся ракеты, которые полетят в разные стороны. С таким же успехом можно использовать объяснение о защите от инопланетной агрессии. Наконец, как можно сказать с уверенностью про то, что иранские ракеты полетят поражать другие страны, если отсутствуют доказательства существования в Иране ракет? И почему мы должны бояться именно иранского оружия, факт существования которого неизвестен, и не бояться американского, факт существования которого достоверен? До зубов милитаризованная империя не предлагает миру опасаться своего оружия, локализованного в том числе в европейских странах, говоря, что оно не создает для этих стран угрозы, а, наоборот, защищает их. От кого защищает? От «воинствующих» соседей? Парадокс. Ирак разбомбили, а оружия массового поражения так и не нашли. Хоть бы для приличия сами его туда завезли, чтобы сформировать дополнительное оправдание развязанной войне. Но, видимо, этого оправдания не понадобилось, так как рядовые американцы, узнав, что оружия у Хусейна не было, не сильно возмутились действиями собственного руководства. Наконец, с горькой иронией отмечу, они предотвратили возможную агрессию Ирака, которая могла проявиться после появления там оружия массового поражения. Также и борец за демократию и человеческие права Гитлер, напав на СССР, предотвратил возможную агрессию Советов, как полагают русофобствующие либералы.
США ради своих «демократичных» целей не жалеют денег на вооружение, следуя принципу «сила есть — международного права не надо». По приводимым Т.Н. Грачевой данным, общий военный бюджет США на 2008 г. составил 647,2 млрд долларов, что на 46 млрд больше, чем в 2007 г. Это самый высокий уровень военных расходов США, который превышает бюджет войны во Вьетнаме, войны с Кореей, военные приготовления эпохи Рейгана, взятые вместе расходы на энергетику, экономическое развитие, образование, транспорт, экологию, выплаты ветеранам, помощь на жилье, на правоохранную деятельность. Этот бюджет превышает совокупные расходы на оборону всех стран мира. Средства (141,7 млрд долларов), выделенные на войны только в Афганистане и Ираке, больше взятых вместе бюджетов обороны Китая и России. Военные расходы США в 10 раз превышают военные расходы Китая[181]. Зачем такие средства? На Бен-Ладена? Суммы, которые они тратят на оружие, можно было бы направить на решение экологических проблем или же проблем голода и болезней в третьем мире. Учитывая астрономические величины этих сумм, предполагается возможным воплотить в реальность практически любую социальную утопию. Но США предпочитают вместо помощи нуждающимся поддерживать свою военную мощь, и уже один только этот фактуально выраженный приоритет не позволяет верить в американский гуманизм. «…Не имея возможности политически воздействовать на периферийные страны на регулярной основе, американцы перешли к тактике избирательного и точечного вмешательства. Постепенно это вмешательство идентифицировалось с изощренной защитой интересов американских корпораций и становилось еще одним поводом для доказательства грабительского характера «новой глобализации»[182]. Право других, с точки зрения американского гегемона, кончается там, где начинается интерес сильных мира сего.
Даже если бы у Хусейна оружие было, США не имело никакого морального права на этом основании устраивать интервенцию в Ирак. У них ведь тоже есть оружие массового поражения, значит, они также заслуживают бомбежек. А учитывая до безумия масштабную милитаризацию США, они, исходя из их же однобокой логики, заслуживают не просто бомбежек, а сравнивания всей своей империи с землей. Однако если кто-нибудь осмелится осуществить хотя бы минимальную агрессию в их адрес, мировые СМИ сразу завопят об агрессоре всех времен и народов, который покусился на святую святых. Да и глупо скрываться за демократическими и антимилитаристскими лозунгами, нападая на слабые страны. Ирак, Ливию и другие страны США обвиняют в милитаризме, а более сильный Китай почему-то не торопятся осыпать обвинениями. Неужели китайцы не вооружены? Нет конечно, вооружены, и даже очень хорошо, а потому обвинений в их адрес не следует. Видимо, риторика США направлена против не тех стран, кто хорошо вооружен, а тех, кто вооружен слабо. Мол, минимальная милитаризация — это плохо, так как создает напряженную обстановку в мире, а максимальная — хорошо, поскольку такового напряжения не создает. Абсурд.
Американцы объясняют свои действия не только борьбой с диктатурой С. Хусейна, не только борьбой с милитаризмом (воплощая в себе дух диктаторства и милитаризма), но и религиозной борьбой со злом. Так, Буш, не имея уже никаких рациональных доводов в защиту своих деяний, стал использовать риторику этакого христианского фундаментализма, присвоив себе статус божественного суда. Н. Плотников пишет по этому поводу в несколько саркастичной манере: «Характерные особенности нового стиля проявились в преддверии военных действий в Ираке — религиозная риторика официальных выступлений становилась тем активнее, чем меньше оставалось у администрации рациональных доводов в пользу ее внешнеполитических акций на форуме международных институтов. Ни наличие оружия массового поражения, ни связь с Бен Ладеном, ни оправданность интервенции нормами международного права и резолюциями ООН доказать не удалось. В результате осталась лишь терминология борьбы со Злом, угрожающим Америке, и божественная миссия нести свободу народам как эффективная легитимация военных действий. Как в старой формуле, приписываемой Тертулиану, — «верую, ибо нелепо» — единственное оправдание находится в том, что все рациональные оправдания отсутствуют»[183].
США сохраняли расовую сегрегацию на законодательном уровне с 1876 по 1965 г. Она получила название «кроуизм». Д. Кроу создал законы, установившие расовую сегрегацию в публичных местах, что привело к предусмотрению разных мест в школах, общественном транспорте, ресторанах и т. д. для белых и черных[184]. На темнокожих распространялась масса запретов. В итоге выбором в США черного президента американцы якобы искупили свою вину, стерли из исторической памяти прошлые расистские грехи и предпочли более о них не вспоминать, однако продолжают при каждом удобном случае тыкать Россию в грязь за деяния, которые несоизмеримы с тяжестью деяний «цивилизованного» мира. Если принимать в расчет извинения американцев за рабство, то с таким же успехом стоит принимать в расчет извинения Хрущева за незаконно репрессированных в сталинские годы. Но мы не квиты, так как, забывая про свои преступления, они «помнят» про наши, завышают масштабы содеянного, фальсифицируют события, навязывают неприемлемые интерпретации и тем самым под флагом абстрактного гуманизма нарушают объективность исторического знания. Не укладывающейся ни в какую теорию права и справедливости внешнеполитической деятельности Штатов, а также манипулирующей легитимации этой деятельности следует посвятить отдельную монографию, поэтому мы не можем позволить себе привести здесь все имеющиеся сведения. Следовательно, ограничиваемся только некоторыми из них.
Недопустимо оправдывать творимое в нашей стране историческое насилие, сравнивая его с подобными явлениями в других странах. Необходимо путем этого сравнения показывать, что не только Россия и СССР заслуживают подобных обвинений, и нет никаких оснований для переосмысления национальной истории и культуры и формирования чувства вины за исторические преступления, которые в истории других стран тоже имели место. Крайне неприятно, что цивилизация, в которой угасает культура, в которой на место культуры пришло потребление, которая находится под протекторатом мирового полицейского в лице США, учит нас жизни и диктует правила «хорошего тона». Вся эта пропаганда идеологически бьет по национальной культуре, и возникает необходимость отводить от себя удар. У англосаксов мы могли бы кое-чему поучиться. Например, их знаменитая фраза «права или не права, но это моя страна», должна стать и у нас императивом в идеологическо-информационном противостоянии. Заимствование такой формы мышления будет вполне обосновано, в отличие от других заимствований, поскольку оно даст возможность не только избавиться от ярлыков и штампов, но и создаст положительное отношение к российской истории в общественном сознании. Необходимо акцентировать внимание на достоинствах своей истории и культуры, воспевать эти достоинства, даже если «цивилизованный» мир не подхватит нашего гимна, а он в любом случае его не подхватит. Конечно, здесь нет указания на необходимость рассматривать свою историю исключительно в позитивном плане каковой бы она не была, поскольку научная объективность должна сохраняться. В контексте не научного осмысления, а информационного геополитического противостояния данная форма мысли будет оправданной ответной реакцией на дискурс изобличающих чужую историю и не видящих позорные пятна в своей, так как нельзя позволять спекулировать в геополитических целях на трагичных моментах русской истории. Целесообразно избавляться и от навеянных извне антирусских мифов и от укоренившихся мифов о западных режимах как демократических и гуманных.
Хотелось бы верить в то, что русские обладают уникальным менталитетом, позволяющим им как нации в целом и как отдельному лицу не деградировать, а способствовать самосохранению и развитию. Хотелось бы верить в то, что существует краеугольная национально созидательная русская идея и особый путь, который сохранился, несмотря на многовековое внешнее влияние на русское народонаселение, и который, как факел, ведет общество к самосохранению. Хочется верить, что ментальность русского народа невозможно разрушить враждебными информационными матрицами, с которыми каждый из нас сталкивается в процессе жизнедеятельности и которые стараются навязать нам какую-то систему мышления (или, наоборот, бессистемность мышления). Но — в том-то все и дело — верить в это можно, а вот быть уверенным намного труднее.
Всяческие идеологемы о пути и ментальности русских — скорее философичные мифы, обильно сдобренные бесконечными наукоемкими теоретизированными рассуждениями, нежели реальность. Если бездумная развлекательность — скорее опиум для не отягченных раздумьями масс, то теоретически нагруженные рассуждения о проблемах особых путей, ментальности и прочие домыслы — опиум для интеллектуалов. Особый национальный путь необходим, но пока он не прослеживается на уровне социально-культурной практики.
То, что хорошо работает в одной системе, вовсе необязательно будет так же эффективно работать в другой. Любое заимствование должно соответствовать традициям и ценностям общества, которые дают социуму обязательную возможность поддерживать связь с прошлым, ощущать его в качестве присутствующего сейчас. Проблема в том, что российский социальный код долгое время претерпевает путь если не разрушения, то трансформации, и сегодня трудно сказать суверенностью, что он собой представляет. «И бритые лица, после показного отрубания бород, и просвещенные салоны, и рекламные бренды, и заимствования архитектуры, и внедрения систем качеств, и бакалавриаты — все русская культура способна «переделать» на свой лад»[185], - оптимистично замечает В.А. Жилина, но оптимизм, как говорится, во многом отличен от реализма. Для того чтобы успешно «переделывать» на свой лад заморские нововведения, необходимо иметь определенные коллективные качества и особенности, позволяющие не просто заимствовать чужие новшества в ущерб себе, а интегрировать их с пользой для себя, то есть реализовывать национально созидающую грань между традициями и новациями. В современной России, быт которой перенасыщен самыми разными заимствованиями, не совсем дальновидно говорить о том, что «все экспансии чужой культуры заранее обречены на неудачу» (Жилина).
Глава 9. Десоветизация — стратегия укоренения потребительской культуры
После противопоставления советской и потребительской культуры мы пришли к выводу, согласно которому советская культура, при всех ее несовершенствах, более гуманна и социально ориентирована, чем потребкульт. В последнее время советская культура терпит серьезную идеологическую атаку, призванную стереть из общественного сознания «рудименты» социализма. Эта атака началась еще в годы холодной войны и была инициирована нашими геополитическими конкурентами. Однако сегодня начался очередной виток антисоветской пропаганды, исходящий уже из лона российской агитационной машины.
Советский Союз западно-американская пропаганда называла тюрьмой народов, хотя ни один малый народ не сгинул во время Союза. В «демократических» США огромное количество индейцев было истреблено, да и в некоторых «демократических» западных странах представители малых народностей вообще людьми не считались и, соответственно, обладали минимумом прав. В Швеции с 1934 по 1976 г. функционировала принудительная стерилизация умственно отсталых, людей низкого социального статуса и представителей некоторых национальных меньшинств. Британский империализм истреблял всех, куда только приходил; индейцев и австралийских аборигенов массово убивали, негров обращали в рабство, а индийцев жестоко эксплуатировали. Россия (и СССР), напротив, расширяла свою империю, не отправляя политику истребления жителей присоединяемых территорий. Понятно, что присоединение далеко не всегда носило мирный характер, но цель уничтожения или геноцида завоеванного народа не преследовалась. В конечном счете, завоеванные народы пользовались равными правами с центральным народом. Некоторые из них, например таджики, до появления СССР идентифицировавшие себя абстрактно как мусульмане, только в период советской «колонизации» обрели письменность, национальный язык, национальное самосознание и культуру в целом. Как в России, так и в республиках уже с 1920-х гг. начали открываться школы и вузы, количество учащихся повышался, и уровень подготовки тоже рос; выпускались образованные люди, а не образованны, каких готовят сейчас во многих учебных заведениях РФ[186]. В царской России и СССР позволялась свобода развития этнокультур. Многие их представители наравне с русскими двигались по карьерной лестнице и даже занимали высокие посты в органах власти. Белоруссы, украинцы, латыши, азербайджанцы и другие не подвергались никакой специальной территориальной локализации, а расселялись по всей территории России, кровно смешивались и географически ассимилировали. Неоднократно малые народы вставали на защиту своих «захватчиков», а некоторые добровольно входили в состав империи, понимая, что без покровительства сильного им будет трудно выжить. Возможно, без российского империализма они вообще исчезли бы. В СССР дружба народов не только воспевалась и декларировалась, а реализовывалась. Так где же настоящая тюрьма народов? Западу выгодно очернять державу, которая не позволяла ему заниматься тем, за что он сам достоин порицания — эксплуатацией третьего мира. Ему также выгодно ослабить геополитического противника путем внедрения разобщающего мифа, который производит демонтаж народного общежития.
Создается впечатление, что наши оппоненты в идеологической войне просто ангелы, и уничтожение коренного населения Америки захватчиками, гордо провозгласившими себя американцами, бомбежка японских городов и многое другое глубоко закопано под землю и не поддается больше эксгумации; Америка и НАТО — просто спаситель всех народов и стран! Они насаждают гуманизм (буквально насаждают, насильственно причиняют добро и наносят пользу) и обвиняют в античеловечности в первую очередь не тех, кто действительно совершает преступления против человека, а тех, кто противится их эксплуататорской политике. Кто не разделяет «общечеловеческие ценности». Оценка степени демократичности тех или иных стран осуществляется по критерию их лояльности Штатам; важна не настоящая демократичность, а готовность играть по правилам американского истеблишмента, именно непротивление их военной или экономической экспансии. Такие двойные стандарты. Смертную казнь убийц-извращенцев они считают проявлением архаичного варварства, но при этом совершенно не стесняются бомбить целые города с ни в чем не повинным населением ради демократии.
Вместе с возникновением идеи об эксплуатации русскими малых народов внезапно появилась идея о том, что во время существования СССР «братские народы» эксплуатировали русских, и сейчас они должны понести наказание в виде всплеска русского национализма. Эта агитация переворачивала имперскость вверх дном, подчеркивала не нормальный имперский принцип управления центром периферии, а, наоборот, некий парадокс управления периферией центра. Мол, СССР был «империей наоборот», при которой метрополия в виде русского народа ущемлялась национальными меньшинствами; соответственно имперский принцип перевернули так, что метрополию, как и периферию, стали именовать формальными, но не реальными. Данная идея, казалось бы, не являющаяся русофобской, на самом деле не только сопутствовала физическому распаду былого Союза, но и служила психологическому отдалению одних народностей от других. Ведь в основе межнациональных конфликтов лежат территориальные претензии, предъявляемые одними союзными республиками другим; все тот же принцип «разделяй и властвуй». Чтобы ослабить СССР, необходимо отделить от него то, что делает его сильным, а сильным его делал не какой-то регион, не какая-то нация, а единство Союза. Нацизм и национализм всегда приводят к расколу внутри страны, а именно это и нужно внешним противникам. Объединяя и сплачивая под своим флагом одних, национализм отделяет их от других.
Не выдерживают никакой критики регионалистские идеи современных правых (преимущественно либералов) о ненужности «кормить» Кавказ и Дальний Восток. По сути, предлагается абсолютно преступный шаг — отделить российские регионы от страны, урезать страну в размерах, лишить ее «ненужной» территории. Такие настроения я именую урезающим национализмом (у С.Е. Кургиняна он называется уменьшительным), который, в отличие от, скажем так, имперского национализма, стремится не расширить горизонты нации или народа, а, наоборот, урезать их и превратить державу в несколько маленьких и беспомощных стран. Он является вирусным явлением, за неким благим для народа и страны лозунгом скрывающим свою истинную вредоносную сущность. В качестве примера приведем идеи либерального мыслителя Д. Фурмана, который каким-то безумным образом противопоставлял имперское мышление национальному самосознанию, а также указывал на несовместимость имперского мышления и правового демократического государства. Никаких оснований для такого противопоставления нет, однако либералов типа Фурмана это отсутствие не особо смущает, и они как по мановению волшебной палочки мистико-метафизическим спекулятивным путем из отсутствия делают присутствие. По его мнению, построить либеральное государство европейского типа могут только националисты, готовые окончательно разрушить наследие российской империи.
«Русское национальное самосознание в Российской империи так и не вырвалось из имперского плена, — пишет Фурман. — И компенсацией может быть только осознание того, что потеря миниимперии есть обретение «нормального» национального русского демократического государства»[187]. Только вот непонятно, зачем строить либеральное государство европейского типа. Либерал-националисты основывают свои умопостроения на априорной необходимости построения такого государства, хотя нет никаких собственно априорных императивных оснований для возведения либерального государства. Также безоснователен тезис о плененном имперскостью национальном сознании. Имперская культура и соответствующие ценности давно стали затухать в массовом сознании и к настоящему времени практически полностью затухли. Их место заняло конформное соглашательство в том числе с анти-имперскими решениями власти и вообще полностью аполитичное потребительство, которое слово-то «империя» не знает и область интереса которого сужается на гламурных журналах, маникюре, шопинге, солярии и т. д. Поэтому странно выглядит призыв в условиях падения имперскости разрушать имперское наследие. Именно воцарившийся потребительский эгоизм, а не национальное сознание и демократическое настроение, следует противопоставлять имперскости. Непонятна также однозначность изрыгаемого некоторыми сочувствующими уменьшительному национализму либералами призыва окончательно разрушить все имперское. Тому, кто агитирует за это, следует, чтобы его действия не расходились с призывами, ликвидировать не только архитектонику имперских ценностей, но и всю материальную инфраструктуру, созданную при советской империи. Да что там мелочиться, ему надлежит стереть с лица земли построенные во время имперскости города — он же хочет разрушить все имперское, а не просто какие-то элементы. Добавлю, что многие умело ориентирующиеся в кремлевских лабиринтах антисоветски настроенные идеологи склонны видеть в том наследии, которое мы успешно проедаем, не ресурс, а проклятие. Но если это проклятие, а не подарок прошлого, дающий возможность стране хоть как-то жить, непонятны разговоры о модернизации. Ведь почти вся ныне российская инфраструктура уходит корнями в страну советов, а если страна советов была плоха и возведенная ею инфраструктура тоже, эта инфраструктура недостойна быть модернизированной. Но вместо нее модернизировать нечего! Что в таком случае имеют в виду, когда произносят гипнотическое и сакральное слово «модернизация»?
Националисты, доведенные в свое время до состояния крайнего возбуждения идеей об эксплуатации одних республик другими, поддержали перестройку и тем самым поспособствовали не просто распаду СССР, а бросанию русских в пропасть бедности и безысходности и появлению так называемого «русского креста» — маркера, характеризующего депопуляцию русских, серьезный демографический сдвиг от рождаемости к смертности. Ухватившись за перестроечные реформы, националисты реализовывали не национально созидающий проект, а самый что ни на есть русофобско-депопуляционный.
Каждый неонационалист является сознательным или бессознательным орудием против России. Если даже он призывает не урезать территорию, а расширять национальное государство, делать его империей, он все равно направляет свою волю в антинациональное русло, поскольку национализм, каким бы он ни был, обязательно призывает к вражде между народами, в то время как сейчас, наоборот, необходима консолидация и борьба с внешним гегемоном и его внутренними агентами. Когда рабы начинают выяснять отношения друг с другом, руководствуясь национальным, религиозным или каким-то иным критерием, рабовладелец может быть спокоен. В мире капитализма с господством класса криминальной буржуазии, вышедшей из лона перестройки, в мире социально-экономической поляризации и угнетения классовое всегда актуальней, а потому и выше национального. Эта истина сохраняет свои позиции даже несмотря на то, что: 1) современное общество не поддается традиционному делению на два класса; 2) нет четкого инструмента, позволяющего с точностью дифференцировать существующие классы, ибо в условиях господства воровства над производством не работает классическое понимание класса через призму собственности на средства производства; 3) не наблюдается проявлений классового сознания. Так или иначе общество все такое же толпо-элитарное, состоящее из эксплуатируемых и эксплуатирующих и множества тех, кто соответствует одновременно обоим этим статусам. Протестным классом должно стать все обманутое и обманываемое властью большинство (а это именно большинство), а не узкая группка людей, которые, в отличие от многих других, уже дошли до состояния, когда «нечего терять». И уж тем более не национализм хочется видеть в качестве ведущей идеи.
После развала СССР среди московского люда проявила себя агитация за отделение от гастербайтерской периферии. В свою очередь, среди периферийного населения стала замечаться идея отделения от диктата Москвы. Москва действительно отчуждается от России, паразитирует на периферии и представляется периферии в качестве другой страны. Периферия по большей части завидует столице. Неудивительно, что по мере роста экономического разрыва между Москвой и периферией в последней возникают сепаратистские тенденции. Самозамкнутость Москвы или какого-то другого города или региона враждебна целостности страны. Москва должна находиться в единстве со всей страной, она призвана нуждаться в периферии, но и периферия, наоборот, призвана нуждаться в столице. Хоть зависть периферии вполне оправданна, стремление отделиться от Москвы убийственно и напоминает метод лечения головной боли посредством гильотины. Для того чтобы такие конфедеративные проекты не витали в воздухе и не стояли на пороге, Москве необходимо перестать отрываться по уровню жизни от иных городов. Москве необходимо перестать эксплуатировать периферию, как она это делает, например, строительством заводов в других городах, когда население этих городов получает вредные отбросы в атмосферу, а деньги от производства получает столица. Я не удивлюсь, если в скором будущем заговорят о национальности «сибиряк».
Ультра-правые, регионалистские и прочие ведущие к территориально-культурной атомизации настроения служат противникам России, несмотря на заверения об их национально созидающей роли. Никакие региональные обособления недопустимы! В условиях глобальных вызовов нам необходимо не региональное или, наборот, космополитичное, а национальное сознание. Именно оно позволяет сохранять национальные традиции и национальную культуру, но вместе с тем национальное сознание не должно стать питательной средой для возникновения разрушающей социальные скрепы ксенофобии и урезающего национализма. Это не значит, что мы должны принимать на свою территорию всех с распростертыми объятиями и поддерживать бесконтрольную миграцию. Как раз миграционные процессы следует контролировать и зачастую делать это достаточно жестко, но не скатываться в национализм (или регионализм), который разрушает интернациональное общество, отводит внимание от реального неприятеля на мнимого и создает основу для территориального распада страны. В условиях глобальной нестабильности намного лучше жить в крупной державе, а не в маленькой стране, могущей гордиться своим национальным сознанием и «чистотой» нации, но неконкурентоспособной и совершенно не имеющей геополитического влияния, а потому превращенной в «богатый» низким уровнем жизни сборочный цех для какой-нибудь одной транснациональной корпорации.
Еще один миф заключался в идее уклонения Советов от цивилизованного мира, в их неспособности пользоваться современными технологиями. Советская техника и производство сразу стали негодными и несовременными. В поддержку этого мифа спекулировали на катастрофе в Чернобыле. Да и сейчас в некоторых американских фильмах русские выступают как постоянно пьяные недочеловеки в валенках и шапках-ушанках, а русская техника представляется в виде агрегатов, по которым для починки нужно просто ударить. Если в годы перестройки подняли шум о некачественных самолетах, поездах и автомобилях, то сегодня нет и таких; остались те самые «некачественные» и добавились купленные за рубежом. Да, то же самое автомобилестроение в СССР можно рассматривать как пугалку для Германии и Японии, как их страшный сон, поскольку отечественное автомобильное производство не идет ни в какое сравнение с немецким или японским. Однако после перестройки околокриминальные круги, прибравшие к рукам средства производства, это автомобилестроение нисколько не подняли. Поэтому грешно говорить о плохом производстве этого режима при осознании, что с приходом другого режима все равно никто его усовершенствовать не будет.
Также в 1990-е гг. неплохо работал миф о низком уровне отечественной медицины и ее недостаточно качественном техническом оснащении; естественно, замалчивались сведения о многочисленных прецедентах медицинской халатности, которые имели место в системе «здравозахоронения» Запада и привели к летальным исходам.
Другой — самой главной — мифологемой являлась концепция преступности советского государства, его полного неуважения человеческих прав. Конечно, вряд ли стоит говорить об абсолютной гуманности режима, но дело в том, что данная идея была максимально раздута, преувеличена в массовом сознании. Для создания общесоциальной ненависти к «совку» специально завышали цифры репрессированных, расстрелянных, в том числе без суда и следствия. Кому-то понадобилось посчитать пострадавших таким образом, чтобы их число в конечном счете стало в десятки раз выше. Нашему народу было навязано мнение о том, будто его долгое время обманывали и эксплуатировали, будто «наших» притесняли. Формированием нового нарратива об общественном страдании разжигали межнациональную рознь, поощряли идеи исключительности каждого народа, а также антирусские настроения. Стоит добавить, ссылаясь на Т.В. Грачеву, что дефицит рождений за 9 лет ельцинизма (ель-цинизма) в 3 раза выше, чем за 14 лет сталинских репрессий, а общее количество демографических потерь режима Ельцина почти на 5 миллионов выше режима Сталина и суммарные ежегодные потери при ельцинизме практически в 2 раза выше, чем при сталинском режиме. Сегодня смертность превышает рождаемость в 1,7 раза[188]. Так что хуже для страны и ее населения — репрессии при Сталине или беспредел при Ельцине? Наконец, если трактовать репрессии как подавление одних слоев населения другими ради собственной выгоды, можно сказать, что при Ельцине репрессий было еще больше; они ведь могут проявлять себя не только на уровне физической расправы, но и на уровне экономического реформирования, приведшего к тотальному расширению бедности. Кстати, убогий и вечно пьяный первый президент РФ обещал положить голову на рельсы в случае неэффективности реформ, в случае, если реформы не приведут к всеобщему процветанию. Не положил. Или он изначально кривил душой, говоря это, или же просто счел проведенные реформы эффективными. Множество современных либералов отбивают поклон Ельцину и его реформам, не понимая их настоящей губительности для страны и ее населения.
Представители советской милиции стали выступать в образе душегубов и садистов. А вот про многочисленные случаи жесточайшего превышения полномочий со стороны американских и западных полицейских не говорилось ничего.
Чуть ли не настоящим психозом сопровождался «факт» того, что советское государство травит людей алкоголем, овощами с нитратами и другими продуктами питания. Как раз тогда мы питались нормально, а вот сейчас поедаем нитраты и всякую генно-модифицированную отраву. В 1992 г. Ельцин издал указ об отмене государственной монополии на водку, что дало право любому предпринимателю производить и закупать водку и торговать ей; в итоге на рынке появилось множество видов низкокачественной приводящей к отравлениям водки, распространилось самогоноварение, ухудшилось финансовое положение государства. Так что Советский Союз туг ни при чем.
О.А. Кармадонов, проведя контент-анализ газеты «Аргументы и Факты» за период с 1984 по 2008 г., сформулировал вывод, согласно которому в процессе перестроечного «реформирования» советского человека убедили в том, что он живет в социуме тотальной лжи. Родная армия стала преподноситься в образе сборища пьяниц и воров, врачи — в образе убийц и вредителей, учителя — как садисты, а рабочие и крестьяне — как пьяницы и лентяи[189]. Одновременно в ментальное пространство внедрялись две прямо противоположные идеи, которые возбуждали две разные, взаимнозаменяемые формы недовольства: это идея тупой уравниловки, и идея номенклатурных льгот и привилегий. Произошла тотальная не просто десоветизация, а декоммунизация общества в том числе и на ментальном уровне.
Советская номенклатура во время перестройки стала представляться массовому сознанию в виде погрязшей в роскоши черни, хотя такую картину создавала как раз новоявленная номенклатура, а Ельцин ездой на «Москвиче» отводил от себя удар. Номенклатура сформировала образ общественного врага в виде «другой» номенклатуры и, натравив на нее массы, сама выступила во вполне приглядном свете. Интересно то, что имеющий «Волгу» секретарь райкома воспринимался как буржуа, а на ездящего на такой же «Волге» банкира внимания не обращали. Разрыв менее чем в десять раз между зарплатами старшего научного сотрудника и министра СССР многих смущал, а в конце 1990-х гг. мало кого «трогал» разрыв в сотню раз. Стереотип работал следующим образом; советская номенклатура все равно зажралась больше, чем новые хозяева. Естественно, этот стереотип в корне противоречил фактам.
В годы реформ люди внезапно «узнали», что отсутствие собственности на средства производства убило в советском человеке архетип хозяина и пробудило склонность к воровству. Эта изощренная либеральная мифологема абсолютно противоречит действительности. Во-первых, лучше уж пусть будет убитым архетип хозяина, чем являет себя в том виде, в каком явил среди новых собственников на средства производства, хозяйственность которых сделала многое для деиндустриализации страны и для личного обогащения за счет некогда коллективной собственности. Во-вторых, определенно нивелирование данного архетипа никак не связано с воровством, поскольку уровень преступности в СССР был намного ниже, чем в постсоветской России. Да и вообще, данную мифологему следует представлять в точности до наоборот, так как именно переход средств производства в частные «хозяйские» руки уместно связывать с воровством в особо крупных размерах.
Во время реализации программы очернения советского прошлого и русской культуры на телевидении не давали никакого эфира тем специалистам, которые желали развенчать эти мифы, необходимость реформирования страны, а также саму программу манипуляции. Так что эфир был предоставлен далеко не каждому. Когда эти и многие другие антисоветские и антирусские стереотипы сыграли свою роль, когда была достигнута точка невозврата, после которой возвращение в социалистический режим было уже невозможно, резко сократилось количество печатных изданий. Газет и журналов стало выходить в разы меньше.
Интеллигенция деклассировалась благодаря быстрому обнищанию, читателей стало мало, спрос на прежние огромные тиражи упал. Да и сама программа манипуляции была завершена, и уже не требовалось продолжать так интенсивно внедрять мифы в массовое сознание. При этом запад позировался как потребительский рай на земле, образ которого вызывал у советского гражданина недовольство собой и отвращение к себе как представителю незападной, а потому нерайской цивилизации. То есть дискредитация запада сменилась его апологетикой. Так началась волна потребительства. Советские идеалы поменялись на потребительские в умах далеко не всех людей; плоды длительного воспитательного воздействия остаются надолго. Прежние идеалы равенства и солидарности вступили в конфликт с новыми культами индивидуализма и гедонизма, и такое противоречие символизировало серьезный общественный раскол.
Мы не сохранили целостность Советского Союза тогда. Сейчас необходимо устремить свой взор в будущее и сделать все возможное для сохранения того, что имеем сегодня — нашей страны. Сохранение целостности России заслуживает статуса главного приоритета. Кто не поддерживает свою империю, автоматически расписывается в поддержке чужой, ибо на геополитическом пространстве нет никаких свободных лакун, как на шахматной доске нет не имеющих отношения к игре клеток. Может быть, люди больше не хотят чувствовать себя пушечным мясом, погибать за некие имперские химеры, и это нежелание можно понять. Однако сегодня, когда империя необходима более чем ранее, когда только империя способна защитить людей от нападок другой империи, химер никаких нет, а есть вполне прагматичная потребность выстоять, отстоять свою независимость и жизнь, а вместе с тем жизнь своих потомков.
Начавший обороты процесс переписывания нашей истории на новый лад, ее очернения и фальсификации — яркий пример космополитизации и декультуризации[190]. Скоро выяснится, что Вторую мировую выиграли американцы, а Советский Союз вообще не приложил к достижению победы никаких усилий; американские школьники и студенты давно уже убеждены в таковой «истине». Уместно вспомнить В. Резуна, выпускающего книги под псевдонимом «Суворов», который проповедует идею, что в 1941 г. агрессором являлась не Германия, а СССР. Суворов — всего лишь один пример из всего множества «историков», оправдывающих политику Гитлера и оскорбляющих память тех, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны. На западе, можно сказать, стало правилом хорошего тона переводить и тиражировать труды тех русских деятелей, которые ругают Россию (СССР), и не давать дорогу тем печатным работам, в которых представлен положительный (и объективный) облик России.
В некоторых бывших советских республиках существует сильное антироссийское лобби. К сожалению, Западная Украина проникнута русофобством. Украинцы представляют советские войска в качестве оккупантов, а русских считают своими врагами, и эта точка зрения не является на Украине маргинальной. Русофобские настроения на Украине проявляют себя довольно давно, однако они подогревались риторикой В. Ющенко, который неправомерно утверждал о вине России за недостаточно высокий уровень жизни украинцев, об обворовывании Россией Украины, о голодоморе как целенаправленном геноциде украинцев. Украинцам проамериканские лоббисты в период революционного Майдана говорили о необходимости не улучшения производства страны, а проведения оранжевой революции, интеграции в содружество богатых стран ЕС (которая якобы спасет их экономику) и разрыва с «предосудительным» советским прошлым путем акцентации внимания на своих особых украинских корнях и подавления всего русского[191]. То есть им совершенно открыто навязывалась деиндустриализация, отход от связи с братским народом и националистические настроения по отношению к нему. Поэтому неудивителен антисоветизм и русофобия электората Ющенко, а также трагичные случаи нападения антирусски настроенных националистов на ветеранов Великой Отечественной войны и попыток сорвать празднование 9 мая.
В России вместе с фронтовиками уходит сакральность Великой победы, вся ее глубина. Сегодня День победы многими, особенно молодыми людьми, представляется в качестве рядового праздника. Изменилась ценностная система, которая сейчас сакрализирует иное — то, что лежит в совершенно другой плоскости, нежели победа. Величие победы затмевается величием повседневного — того, что не заслуживает сакрализации.
Среди русских либералов находится достаточное количество персон, проникнутых идиосинкразией ко всему советскому и русскому, которые солидаризируются с Резуном и ему подобными, а страну называют уничижительными словами типа «рашка» или «эрэфия». Выглядит крайне убогой, например, либеральная претензия к Сталину за то, что он первым не осуществил нападение и тем самым не предотвратил немецкую агрессию. Если бы он это сделал, против СССР встала бы вся Европа, и тогда война была бы в разы ожесточенней, а дальнейшую «славу» агрессора Союз не смог бы никак замазать. Некоторые русофобствующие либералы идут еще дальше, отрицая напрочь явление, называемое Великой Отечественной войной. Мол, была Вторая мировая, начавшаяся в 1939 г., но не Великая Отечественная, которая является патриотически-пропагандистским фантомом, искусственно разделяющим одну войну на две части.
Особенно циничным выглядит следующее убеждение: в случае триумфа Гитлера русское население жило бы лучше, чем при победе Сталина, потому победа Советского Союза не отвечала интересам самого Союза, а советский режим необходимо было уничтожить, объединившись с национал-капиталистической Германией. Апологеты такой позиции вспоминают потери в войне и, зачастую их завышая, говорят о том, что СССР заплатил за победу слишком большую цену, которой не стоила победа, было целесообразно сдаться Гитлеру, чтобы уберечься от этих потерь. Война — это не продукт на полке, который поддается ценовому измерению. Интересно знать, на каких основаниях возник вывод о том, что при сдаче Германии советские люди зажили бы лучше. Может, наоборот, немцы большую часть населения СССР истребили бы, а меньшую — поработили. Эта позиция выглядит более обоснованной хотя бы в силу следующих аргументов. Во-первых, идеология нацистов рассматривала русских и многих других как недостойных жизни недочеловеков. Во-вторых, немцы успели не только на идеологическом, но и на практическом уровне показать миру свой «концентрационный гуманизм» с газовыми камерами, пытками и расстрелами, что делает рассуждения о хорошей жизни советских людей под немецким протекторатом не в меру отвлеченными от реальности в своем романтическом утопизме. Среди апологетов десоветизации слышны возгласы о высокой цене сталинской индустриализации, но не слышны разговоры о высокой цене индустриализации в других странах; если бы СССР не был индустриализирован, вряд ли он одолел бы военную мощь Германии, а если и одолел, то ценой еще больших потерь.
Советский народ одержал победу над немцами не благодаря системе, а вопреки ей — еще одно ревизионистское убеждение, требующее своего развенчания. Советский народ не мог одолеть немцев вопреки системе, так как без управления он превратился бы в неорганизованную толпу без дисциплины и грамотной стратегии. Любая армия, лишенная руководства, становится дезорганизованной массой.
Ревизионистски настроенные авторы ругают пакт Молотова-Риббентропа, возмущенно крича «как это Сталин подписал с этим мерзавцем Гитлером договор, какая низость!», хотя данный документ являлся показателем высокого уровня советской дипломатии. Его следует рассматривать не как шаг агрессивной солидаризации Сталина и Гитлера против западных держав, а как попытку сдерживания войны между Германией и СССР. Я уверен, что если бы пакт никогда не был заключен, эти либералы обвинили бы Сталина в отсутствии дипломатических попыток сдержать гитлеровскую агрессию. То есть и в этом, и в ином случае Сталин выступил бы в их глазах виновным. В своей логике они не столько аналитически подходят к Сталину, сколько заведомо критически, а потому в упор не видят достижений, или же то, что принято считать достижениями, переворачивают вверх дном в попытке найти любой дополнительный повод не для научного осмысления действий вождя, а для его принципиальной дискредитации.
Дело дошло до того, что стали специально пробуждать симпатии к тем, кто во время Великой Отечественной войны воевал на стороне гитлеровцев против СССР. Так, предатель Власов в некоторых источниках теперь уже фигурирует не как предатель, а как смелый борец с большевизмом и сталинизмом. В 2005 г. перед юбилеем Победы «по суворовским училищам и кадетским корпусам с помпой и почетом ездил капитан власовской армии Г1. Бутков, который рассказывал учащимся как он вместе с гитлеровцами уничтожал «проклятых большевиков»[192]. А. Тарасов отмечает появление новых школьных учебников, ориентированных не на достоверное изложение истории, а на «борьбу с коммунизмом», которые фактически реабилитировали фашизм, провозглашая Сталина главным виновником 11 Мировой войны, а Гитлера — «невинной жертвой сталинской агрессии». Книги перебежчика Резуна, пропагандирующие эту точку зрения, издавались миллионными тиражами, а фильмы, пропагандирующие книги Резуна, транслировались в самое выгодное время («прайм-тайм») на ведущих телеканалах. Бригада кинодокументалистов во главе с Татианой Донской, сделавшая правдивый фильм об обороне Москвы, была за это изгнана с телеканала ТВЦ. Когда фильм показали по ТВ-6, он подвергся форменной травле со стороны некоторых изданий, в частности газеты «Известия»[193]. В результате былое единодушие в оценке значения Великой Отечественной войны сменилось каким-то нездоровым плюрализмом, который отодвинул в сторону статус Великой Отчественной войны как одного из основных символов национального сознания, десакрализировал этот символ. Значительная часть современной молодежи, к сожалению, почти ничего не знает ни о войне, ни о ее героях. Неудивительно, что люди стали стесняться своей родины, родины своих дедов, отцов и матерей. Как писал С. Кара-Мурза, когда русские утратят образ Великой Отечественной войны как важную часть «мира символов», их устойчивость против манипуляции сознанием снизится еще больше[194]. Так что помимо вопроса о том, что нас ждет в будущем, не менее актуален вопрос: «какое прошлое нас ждет в будущем?».
Образ Великой Отечественной войны и символ победы выступают необходимыми общественными скрепами. Ни при каких условиях нельзя допускать ревизию истории Великой Отечественной войны и культа Великой победы, так как исчезнет скреп, хоть каким-то образом объединяющий общество на основе общей судьбы, общего героического прошлого. Ревизия победы, ее десакрализация, отрицание ее ценности, выведение СССР из списка победителей зла крайне губительны не для СССР, а для современной России. Чувство вины, связанное с войной, призваны испытывать явно не мы, а немцы за выполнение безумного кровопролитного плана, который был выгоден даже не столько Гитлеру, сколько англосаксам, желающим руками немецких солдат разбить своего геополитического конкурента — Советский Союз[195]. Чувством вины должны быть наполнены сердца французов, трусливо сдавшихся Рейху. Нам же пристало не бичевать себя, а гордиться тем, что наши деды проявили героизм и победили врага, ибо подрыв нашего уважения к победе, его деконструкция до собственной противоположности — это подрыв уважения к своему народу, демонтаж социально-культурной идентичности.
В сфере художественного творчества много идеологем, дискредитирующих наше настоящее или прошлое. Например, рекламный ролик следующего содержания. Иванушка-дурачок сидит, как обычно, на печи и пьет… «кока-колу». Здесь наблюдается не просто безобидный синтез элемента русского фольклора с несовместимым ему американским коммерческим образом. Это абсурдное соединение уничтожает исконно русский архетип, элемент исторической памяти, которая, в свою очередь, является опорой общественного сознания. Фальсификация народного эпоса — мощная диверсия, а не безобидная шутка. Ни у кого ранее герой многочисленных сказок не ассоциировался с «чудодейственным» напитком под названием «кока-кола». После таких рекламных роликов в массовом сознании создаются «неправильные» ассоциации, которые уже не имеют связи с подлинным архетипическим содержанием, а это содержание теперь извращено и трансформировано на американский (в данном случае) манер, национальная фольклорная ценность заменяется символом американской культуры (или бескультурья). Не менее наглядным примером выступает фильм «Сволочи», показавший то, чего на самом деле не было в истории второй мировой войны и Советского Союза. В этом фильме не только искажаются события, но они искажаются явно не в угоду теплым чувствам к нашей родине. Такое искажение извращает высокое чувство патриотизма, закладывает идеологический фундамент для убежденности в том, что на фронт якобы отправляли детей, и не просто отправляли, а использовали, как пушечное мясо, как приманку. Другой пример из кинематографии (только на этот раз не российской, а американской) — фильм К. Тарантино «Бесславные ублюдки», где демонстрируется альтернативная версия окончания войны, только вот в фильме она преподносится не как альтернативная, а как реальная. «Ну и что в этом особенного, — скажет какой-нибудь обыватель, — режиссерская версия не претендует на истинность, а сценарий представляет собой не работу, основанную на исторической науке, а безобидную фантасмагорию, цель которой заключена только в развлечении зрителя». Безобидную лишь для тех, кто знает историю и понимает, что этот фильм — всего лишь продукт фантазии, имеющий мало общего с действительностью. Однако он и ему подобные «творения» могут послужить своеобразным учебником по истории для подрастающих неокрепших умов, не знающих реальных событий. Такие фильмы — это не проявления вкуса, «о котором не спорят», и не материал, о котором можно подискутировать в академичном духе типа «режиссер, как мне кажется, не совсем понял…». Он как раз все понял правильно, но плод его деятельности просто не согласуется с верным пониманием действительности. Чем большую популярность и широту тиражирования будут приобретать фильмы, ориентированные на фальсификацию исторических событий, тем в большей степени они будут получать статус продуктов, из которых начнут черпать «знание», а не только эмоции, связанные с развлечением. Если фильмы, наполненные насилием, обвиняются в жестоком натурализме, то медиатексты типа «Бесславных ублюдков» заслуживают обвинения в жестоком лженатурализме, эффект от которого намного хуже. Заложенный в таких фильмах вымысел получит статус истины, вымышленная природа которой будет предана анафеме.
Кстати, такие фильмы, как «Рэмбо», тоже едва ли были сняты просто в коммерческих целях. Америка, проиграв войну с Вьетнамом в реальности, опозорившись на весь мир тем, что какой-то там Вьетнам утер ей нос, с помощью подобных фильмов выиграла ее в медиапространстве. В фильме Оливера Стоуна «Спасите рядового Райана» продемонстрировано такое уважение государства к своей армии, что в случае, если несколько братьев воюют и в живых остается только один, его возвращают с фронта к семье до окончания войны. Подобные фильмы сакрализируют американский гуманизм, которого на самом деле нет. Они создают гуманную видимость, виртуалию, не имеющую ничего общего с реальностью.
Риторика предпринимаемого сегодня на правительственном уровне курса по декоммунизации и десоветизации вытесняет из коллективной памяти все советское и играет важную роль в оболванивании масс, в замене трудового пролетарского сознания (которое итак выхолощено) политически пассивным потребительством и развлекаловкой. Чувства солидарности и товарищества представляются неадекватными современности, архаичными и рудиментарными, а на их место возводится принцип индивидуализма. В итоге десоветизация как стратегема забвения части народного культурного наследия, как насильственная трансформация общественного сознания, как молот социальных смыслов, как новый манипулятивный проект, переходит в декультурацию и дерусификацию, вызывая к жизни глупое самооплевывание и неоправданное чувство вины. Ведь согласно ей советский проект следует считать одним большим преступлением, а последние почти сто лет целесообразно представлять как период глубокого позора России, как черную дыру истории, достойную не гордости, а покаяния. А как же победа в войне, полет в космос, индустриализация и создание гигантского промышленного комплекса, бесплатное образование и медицина, социальные программы, великая наука и культура? Именно достижениями советского периода нужно гордиться а не курсом на десоветизацию, предпринятую теми, кто, не совершив никаких принципиальных достижений, проедает богатое советское наследие. Очерняя советскую экономику и производство, постсоветские лоббисты очерняют то, чем сами активно пользовались, то, на чем набили себе карманы. Десоветизация искореняет нормальный здоровый патриотизм. Думается, под знаменами десоветизации и десталинизации создается легитимность объявления вне закона, как сталинских, любых исходящих из общественных низов попыток внедрения необходимых для современного общества тех или иных социалистических преобразований, пересмотра результатов приватизации, раскулачивания олигархата и т. д. В условиях, когда капитализм показал свою несостоятельность, поворот в сторону социалистических преобразовании архиважен, но если власть инициирует десоветизацию, она обрубает концы для реализации не просто важного и нужного, а НЕОБХОДИМОГО.
На Сталина современные либералы навешали столько ярлыков, что живого места не осталось. Они его обвиняют во всем плохом — в том числе в нападении Гитлера. А все хорошее, что было в СССР — индустриализация, экономический рост, победа в войне — они приписывают некоей фатальной событийности, которая произошла якобы не благодаря Сталину, а несмотря на него. Впрочем, большинству либералов эти положительные сдвиги положительными не представляются. Не было ведь ни общества потребления, ни спасительного кредита и кредитомании, ни красивого гламура, ни отхода власти от регулирования экономикой, ни интеграции в цивилизованный западно-американский мир. Следовательно, ничего хорошего не было. Современный режим не идет ни в какое сравнение с советским. Те цели, которые декларировались в перестроечное время, выполнены не были. Мы не достигли ни экономического роста, ни совершенствования качества производства, ни внедрения новых технологии. Двадцать лет попыток идти по пути построения капитализма показали полную несостоятельность этого пути, его тотальную ошибочность. Советский проект преобразовал аграрную страну в индустриальную и одержал победу в Великой Отечественной войне. Современный проект привел к деградации почти всего, чем был богат СССР и что он нажил непосильным трудом. В упадок пришла не только материальная сфера, связанная с производством, но также идеальная, поскольку статус добродетели получили самые негативные человеческие качества. Современный проект расписался в собственной политической, экономической и культурной импотенции, о чем можно утверждать совершенно объективно, отбросив в сторону всякую идеологическую предвзятость.
Скрываясь за здравым и необходимым стремлением отдать дань жертвам сталинских репрессий, проводят не десталинизацию (которая была начата еще Н.С. Хрущевым в проекте по развенчанию культа личности Сталина), а десоветизацию. Десталинизация и десоветизация — разные проекты, и не стоит подменять одно другим, как это делают либералы и заокеанские лоббисты, пытаясь экстраполяцией имени Сталина на весь советский период делегитимировать этот период. Проявление уважения к репрессированным в сталинские годы необходимо, но оно совершенно не требует принятия программы десоветизации. К Сталину можно относиться по-разному: как к человеку, проведшему индустриализацию, выигравшему Великую Отечественную войну, сохранившему и расширившему целостность Советского Союза, и в то же время как к монстру, совершившему ужасные преступления перед своим народом. Однако Сталин не олицетворяет собой СССР и всю хронологию существования Советского Союза. Поэтому нельзя допускать подмену понятий, согласно которой, говоря о скорби по отношению к репрессированным в сталинское время, по сути развенчивают культ всего советского. Скорее всего, как память о репрессированных, так и сталинская тирания выступают всего лишь ширмой, отговоркой, служащей легитимации внедрения крайне вредной программы. Сама же личность Сталина, как и судьбы подвергшихся незаслуженным репрессиям, мало волнуют современное либеральное пропагандистское лобби. Десоветизация произошла еще во времена перестройки. Собственно, перестройка и есть десоветизация. Однако сегодня потребовалась новая десоветизация, поскольку тогда окончательно и бесповоротно добить СССР не на бытийственном, а на ментальном уровне не удалось, не удалось ликвидировать оставшиеся островки советских (нравственных, коллективистских) ценностей, мешающих интегрировать Россию в глобальную систему. Целясь в СССР, разрушают даже не советскую, а просто высоконравственную культуру.
СССР отличался нормальной стратификацией общества, отсутствовал разрыв между бедными и богатыми, квалифицированные сотрудники получали больше неквалифицированных, не было паразитической предельно огламуренной прослойки, которая сегодня называет себя прогрессивным и креативным классом, занимается сомнительным искусством шоу-бизнеса и торговыми спекуляциями. В СССР и представить себе не могли, что какой-нибудь бездарный деятель типа Билана или Тимати будет получать в десятки раз больше вузовского преподавателя. СССР родил множество великих ученых и деятелей искусства. В СССР у любого человека была возможность получить бесплатные качественное образование и медицинскую помощь. Наконец, советский народ победил в 1941 г. Но в 1991 г. победу удержать не удалось: это был уже другой народ, одурманенный американской мечтой, и борьба велась уже другими, более хитрыми и подлыми способами. Так заслуживает ли советский народ и советский режим тотального очернения? Конечно, нет. Жаль только, что этого не понимают отчаянно критикующие все советское российские компрадоры, некоторые из которых занимают очень высокие государственные должности. Видимо, их критическая позиция — суть проявление вытесненного комплекса неполноценности, связанного с осознанием недостатка сил, интеллекта и воли создать такой грандиозный проект, как Советский Союз с его инфраструктурой и культурой. Переполняющие их неблагодарность к прошлым поколениям, зависть и невежество, отсутствие долга и обязанностей, сродни качествам описанной Ортегой-и-Гассетом массы[196], которая также ненавидит все новое и ценное, имеют непосредственную связь с их идеологической позицией.
Если достоверно неизвестны виновные в тех или иных исторических событиях типа массового убийства польских офицеров в Катынском лесу, ничто не дает право категоричным образом обвинять в них кого-то конкретного. Но этим категоризмом любят пользоваться те. кому интересна не истина, а дискредитация истории России. Особенно неприятно то, что российская власть признала вину Советского Союза за убийство этих поляков и просила у Польши прощения. Зачем Кремль признал вину советского руководства, да еще после того, как в антисоветской теории были найдены грубые фальсификации? Ведь признание антисоветской (антироссийской) теории, недоказанной основательно, есть очередной вклад в «великое» дело масштабирования русофобии. Западу именно это и надо, он заинтересован в заполнении исторического пробела тем материалом, который выгоден именно ему, но не России.
Добавлю, что признание власть имущими ответственности советского руководства за катынское дело ставит крест на дальнейшем расследовании. После того, как данная версия была признана Кремлем, никакой следователь не станет с ней спорить. В ином случае неангажиро-ванному следователю, который придерживается противоположной точки зрения, просто не дадут принять «неудобного» решения. Катынское дело, как и многие другие, имеет статус не научно-исторический, а сугубо политический. В польских лагерях погибали красноармейцы, но Польша не спешит признавать за собой преступления перед Россией. Так почему же нам надлежит каяться, а значит, признавать вину за то, в чем скорее всего мы невиновны?
Часть описаний исторических фактов выглядит весьма сомнительно, даже несмотря на то, что эти факты приводятся не в продуктах китчевой культуры и не в книгах новоявленных историков, которых официальная наука не приемлет, а именно в традиционных учебниках по истории. Мы до сих пор не знаем многого о тех или иных исторических деятелях и событиях, мы до сих пор не знаем настоящих причин войн и революций. В лоне не только исторической науки, но и исторического дискурса появляется огромное разнообразие противоречащих друг другу концепций, рост которого указывает на методологическую смерть истории, а вместе с тем и исторического сознания.
В годы перестройки парадигму былого величия сменила парадигма социального уродства. И эта парадигма продолжает существовать, на что указывает все тот же экран телевизора. Видимо, создавая атмосферу «никуда не годного совка», манипуляторы надеются вызвать большую благосклонность к нынешним ошибкам (мягко сказано), легитимировать их путем очернения прошлого — очернения не только ошибок прошлого, но и достижений. Фильм «Адмирал» представляет Колчака этаким героем, несмотря на то, что он проводил массовые расстрелы мирного населения. Данный фильм также направлен на декоммунизацию, которая поддерживается созданием положительного образа врага большевиков.
В передаче «Суть времени»[197] С.Е. Кургинян говорит, что, согласно результатам общероссийского социологического опроса, охватившего почти 35 тысяч человек, подавляющее большинство респондентов не поддерживает курс на десоветизацию. 69 % дают отрицательную оценку программе десоветизации; не хотят признавать СССР преступным государством, осуществляющим геноцид своего народа и виновным в развязывании Великой Отечественной войны 89,7 %; из относящихся к программе нейтрально 85,1 % не хотят ее реализации на практике; из поддерживающих программу 40,6 % не поддерживают ее реализации; 90,3 % горожан и 87,4 % сельчан против программы, что противоречит мифу о либеральной прогрессивности города и архаичности села (мол, только в селах люди не желают десоветизации); среди верующих и неверующих людей примерно соразмерны как количество оппонентов десоветизации, так и градус ее неприятия по десятибалльной шкале, хотя часто слышны отождествления атеистов с коммунистами; даже 80 % людей 15–19 лет не поддерживают программу; отрицают программу 84,7 % людей с неполным средним образованием, 89 % — с незаконченным высшим, 86,5 % — со средним, 85 % — с незаконченным высшим и 92,1 % — с высшим, что противоречит либеральным мифам о настроенности только темных необразованных людей против данного курса; национальный критерий особого значения не имеет, так как среди представителей каждой национальности наблюдается большой отрыв в пользу непринятия программы и по количеству респондентов и по степени отношения к программе по шкале; не поддерживают программу десоветизации 88,9 % безработных, 87,5 % предпринимателей, 85 % учащихся и студентов, 84 % наемных рабочих, 90,7 % пенсионеров, 91,1 % военных и МВДшников, 91,9 % работников крупных компаний; 90,7 % сотрудников госпредприятий; региональный фактор также не является показательным, поскольку в каждом регионе число оппонентов значительно выше числа симпатизирующих программе десоветизации. В другом выпуске этой же передачи[198] С.Е. Кургинян приводит результаты другого не менее масштабного социологического опроса: 53 % предпочитают доведению до конца начатых в 1990-е гг. реформ, возвращение к советскому порядку, 91 % предпочел национальному развитию за счет ограбления колоний и подавления других развитие за счет собственных ресурсов и национальных ценностей (настоящий антиамериканизм!), 50 % назвали следствием происходящей сейчас десоветизации возможный распад страны, только 21 % увидел в десоветизации средство для модернизации, признали величие СССР и советского народа 86 % (и лишь 7 % признали преступность Советов), всего лишь 19 % считают падение СССР естественным процессом (все другие согласились с предательством руководства страны, с подрывной работой зарубежных спецслужб, с доверием народа антисоветской пропаганде), 60 % в случае развала РФ стали бы протестовать, 52,9 % говорят о существующей ностальгии по СССР среди более половины их знакомых, 71 % считают ностальгию оправданной, 62 % не согласились променять целостность РФ на западный уровень благосостояния, свободы и безопасности. Я перечислил не все результаты, так как опрос был достаточно широким, и я решил привести самые главные результаты. Добавлю только, что, согласно проведенному опросу, значительное большинство говорит о самых разных потерях, именно потерях, которые понесли люди после падения Советского Союза. Отрадно, что ментальное пространство российского населения не проел либеральный червь десоветизации. Ведь колокол, бьющий по Советам, автоматически бьет по нам. Однако, несмотря на общественное мнение, курс на десоветизацию выбирается нашей властью самовольно.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла возмутительную резолюцию, согласно которой сталинизм и гитлеризм приравниваются как одинаково нелегитимные режимы, осуществившие геноцид, нарушение прав и свобод человека, военные преступления и преступления против человечества. По данной резолюции, ответственность за начало Второй мировой войны разделяется между обоими режимами. Было предложено объявить день подписания 70 лет назад пакта «Риббентроп-Молотов» (23 августа) общеевропейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней. Эта резолюция, очень близкая своим содержанием к принятой правительством РФ программе десоветизации, вызвала справедливую волну возмущения. Получается, население страны, победившей агрессора, должно вместе с агрессором каяться за «развязывание войны» и тем самым признать свою преступность. Созданное при КПРФ молодежное движение «Поколение победы» подало на парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе иск в европейский суд по правам человека на сумму 27 триллионов евро — по миллиону евро на каждого гражданина СССР, погибшего на войне. Правда, этот иск обладает нулевой степенью эффективности, поскольку европейский суд по правам человека связан со структурами, заинтересованными в подавлении России. Однако, несмотря на бесперспективность поданного иска, решение обратиться в суд следует оценивать положительно. Ведь оно знаменует нежелание части российской общественности проглатывать резолюции европейских лоббистов и в каком-то смысле сопротивление их действиям. Последователи тех, кто поддерживал германский национализм и те, кто сейчас поддерживают американский неофашизм, завопили о правах человека, извращая в очередной раз российскую историю. Сейчас они облили нас грязью, а завтра, возможно, сами подадут на Россию иск за «преступления сталинского режима против граждан европейских стран».
Очернение советской (и досоветской) культуры, нарратив десоветизации, вызывает у русского люда комплекс вины, чувство исторической неполноценности и ненависть к своей истории за совершенные перед собственным и другими народами преступления, за насаждение «красной чумы», за лагеря ГУЛАГа и прочее. Представление русской истории в виде сплошной полосы внутреннего и внешнего насилия, где не было ни единого просвета человечности, формирует русофобские настроения не только в других странах, но и у нас, заставляя россиян ставить под сомнение ценность своей национально-культурной идентичности, инициируя кризис этой идентичности. В том числе благодаря взращенным в СССР русофобским, западноцентрированным настроениям Запад победил в холодной войне. Причем машинерия нового мифотворчества опирается на идею ненужности традиций и национальных особенностей, на идею их атавистичности и несовременности. Мало того, сегодня во всем «прогрессивном» мире актуализируется убежденность в необходимости преодоления не только каких-то отдельных национальных традиций, но и национальных культур. Мол, человеческий прогресс дошел до полной интеграции всех и каждого в некое единое культурное пространство. Потребительство, ставящее крест на национальных корнях и инаковостях, является немаловажной тенденцией современной мировой культуры. Чем сильнее проявляет себя провес изгнания всего советского из национального ментального пространства, тем в большей степени появившийся ментальный вакуум завоевывают либерально-потребительские идеологемы. Этот процесс происходит автоматически, ибо пока не наблюдается никакой третьей культурной сипы, этически самодостаточной, социально созидающей и при этом противопоставляющей себя как остаткам советского, так и новоприобретениям потребительского. В условиях отсутствия такой силы ослабление советских ценностей неминуемо ведет к упрочению потребительских антиценностей. Процесс приобретает основанный на взаимоисключении характер «или-или».
Да. нам есть чего стыдиться, есть что вменять себе в вину. Но виновны мы не в своем «бесчеловечном» советском прошлом, а в своем мещанском настоящем. Обывательщина, индивидуализм и конформизм должны формировать не гордость за личные успехи и достижения, а гпубокое чувство вины, которое, возможно, станет условием рождения подлинной, мыслящей и действующей гражданственности. Некоторые патриотично настроенные молодые люди спрашивают у своих родителей о том, где те были во время развала СССР и почему не смогли противостоять силам зла. Не смогли противостоять или даже не пытались? Наверное, каждому из нас будет неприятно слушать укоры от своих детей за бездействие не в период горбачевской перестройки, а в период подхода к той точке невозврата, которая может наступить уже в самое ближайшее время. Если среди наших соотечественников находятся люди, которые поддержкой десоветизации и требованием национального покаяния решили излечить общество от «осквернения историей», пусть они, эти сванидзе, карагановы, млечины и т. д. (сделавшие карьеру в советское время, а сейчас его проклинающие), начинают покаяние с себя.
Особенно отличился антисоветской риторикой председатель президиума общественного Совета по внешней и оборонной политике С.А. Караганов, предложивший программу «десталинизации общества» в 2011 г. на Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Согласно Караганову, «народу России после последних 100 лет почти не за что себя уважать»; советский период — одно большое преступление, а Советский Союз — преступное государство, «вся Россия — большая Катынь» (массовые захоронения в Катыни осуществил НКВД); советское государство осознанно истребляло свой народ; СССР такое же тоталитарное государство, как гитлеровская Германия; ответственность за Вторую мировую войну налагается как на гитлеровскую Германией, так и на СССР; необходимо переписать учебники истории, чтобы в них делегитимировался СССР; необходимо запретить быть госслужащими тем, кто сомневается в преступности СССР; необходимо исключить или переименовать все связанные с историей СССР памятные даты. Как говорится, комментарии излишни.
Для жизнеспособности нации необходимы свои национально созидающие особенности, проявляемые как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Иначе нация продолжит прогибание под диктаты, стремящиеся окончательно атрофировать национально-освободительные характерологические свойства и на их место водрузить те качества, которые необходимо любой диктатуре взрастить в народе, чтобы сделать его еще более подвластным. Чтобы сделать его номадическим в психологическом смысле народом, лишенным истории, национальной психологии и не помнящим своего родства. Народ, лишенный своей истории и связи между поколениями, деконсолидируется, десолидаризируется и вынуждается заимствовать чужие ценности. Трудно согласиться с заявлением аплодирующих перестроечным реформам либералов, будто после исчезновения с карты мира СССР и появления на его обломках России родилось новое государство и новый народ. Они с гордостью говорят, что живут в новой стране — России. Получается, что Россия и ее народ насчитывает не многовековую (а может даже, и многотысячелетнюю) историю, а всего лишь двадцатилетнюю. Целесообразно причислять к своим соотечественникам не только тех людей, которые вошли в постсоветскую историю, но и Дмитрия Донского, Александра Невского, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, С. Есенина, Ю. Гагарина и др.
Фальсификация истории предполагает искажение одних событий и замалчивание других. Результатом фальсификации становится вызов раскаяния с чувством вины, комплекса исторической неполноценности и убежденности в историческом поражении. Все это бьет по национальной культуре, и данный удар производится как извне, так изнутри. Все эти взращиваемые в национальном сознании народа самоненавистнические стереотипы делегитимируют систему, которая его защищала, и легитимируют систему, которая, вооружившись гайдаровскими реформами, его ограбила, перенесла значительную часть народа за черту бедности и развалила инфраструктуру страны. Наконец, десоветизация подпитывает напряженность на постсоветском пространстве и способствует еще большему отдалению братских народов.
Чем дальше заходит процесс ментального опустошения этноса, тем труднее этносу разогнуть плечи, встать на ноги и сбросить тяжелую ношу, тяжесть которой ощущается скрытно и неявно. Мифологемы, с помощью которых переписывается история, — инструменты создания трещины в монолите культурного базиса того или иного этноса. История — одна из областей культуры, и при ее ревизии ревизионируется культура. Для разрушения коллективного сознания необходимо разрушение истории путем внедрения в нее абсурдных эпизодов. Вообще, русская история — это поле сражений, на котором героев перевоплощают в антигероев. А вместе с тем деконструируется и культурно-историческая (национальная) память как основа национального самосознания. Там, где расшатывается общий нарратив истории, культурная память тоже расшатывается и общество становится мнительным, аморфным и пластилиноподобным в самоидентификационном, культурном, когнитивноволевом и других смыслах, оно теряет защиту перед враждебными влияниями, в том числе атомизирующими социум. Историческое сознание является структурирующим элементом национальной культуры; общность, у которой отсутствует история, не имеет также и национальной культуры. Прислушаемся к Ф. Ницше: «…Только благодаря способности использовать прошедшее для жизни и бывшее вновь превращать в историю человек делается человеком»[199]. Как писал К. Ясперс, «исторический процесс может прерваться, если мы забудем о том, чего достигли, или если достигнутое нами на протяжении истории исчезнет из нашей жизни»[200]. Тезис о том, что история сама все расставит на свои места, неверен. Без усилий человека она ничего не расставит. Просто некому будет расставлять. С потерей прошлого теряется настоящее и будущее. История становится политикой, спекулирующей на прошлом, тогда, когда заинтересованные структуры создают невыгодные для нас интерпретации российских и советских исторических событий. Национальная история и культура должны остаться в нестертой людской памяти, несожженных музеях и не уничтоженных архивах. Их существование зависит от нашей преданности им, а наше духовное существование — от их сохранности. Инициированный настоящим судебный процесс над прошлым в конечном итоге ведет к осуждению не только проииюго, но настоящего и будущего. Недаром говорят: кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому оба.
Закончим главу словами поэта Н.К. Доризо:
«Каждый народ по-своему велик. Бесценен вклад его в наследство вековое. Так сбережем культуру и родной язык, Как самое на свете дорогое…»Заключение
Мы видим, что потребительство предлагает разрушающие человека, сообщество людей и даже целые общества, антиценности. Социум превращается в совокупность психологически и нравственно отдаленных друг от друга людей, между которыми исчезают собственно человеческие скрепы, в общество институционализированного меркантилизма. Потребительская культура хранит в себе множество вредоносных тенденций, и когда совершается переход потребительских идеалов и норм в соответствующие формы поведения, данные тенденции перестают локализовываться сугубо в ментальном пространстве адептов потребления, а воплощаются в их поведении, что влечет за собой социально и индивидуально ощущаемые последствия. Развитие цивилизации привело к рождению консьюмеризма, который, приводя, в свою очередь, к культурному, аксиологическому, экономическому, интеллектуальному, экологическому вырождению, заслуживает пристального рассмотрения как проблемы, с которой по степени актуальности, пожалуй, не способна конкурировать практически не одна другая научная проблема.
На место общественно-созидающим ценностям добра, социальной справедчивости, свободы развития, гражданственности, семьи, ответственности, благородства, дружбы, экологической безопасности, интеллектуального и культурного просвещения, солидарности и взаимопомощи ставится вещизм, подминающий под себя эти ценности, ведущий борьбу с ними. Эта борьба априори нелегитимна, поскольку названные ценности, как бы абстрактно некоторые из них ни звучали, всегда являлись социально созидающими и всегда таковыми будут. Поэтому, в силу своей самодостаточности, они совершенно не поддаются никакому пересмотру, никакой ревизии и деконструкции. Нельзя поставить никакого императива, возвышающегося над ними и позволяющего себе отменять их или пересматривать, заменяя на другие, особенно противоположные. Основа человеческого существования, придающая ему глубокий смысл, выражена в выходе человека из себя-мимолетного, себя-для-себя в сферу себя-нравственного, себя-для-себя-и-других. Это выход в сферу ценностей, нерушимых текучестью бытия, подобно воплощающему в себе героизм флагу, развевающемуся на ветру времен. Этот флаг служит одновременно образцом для подражания и ориентиром на жизненном пути как для отдельно взятой личности, так и для общества.
У потребительской индивидуалистической культуры атрофирована способность задавать правильные вопросы относительно того, к чему движется человечество. Отказ от этой способности таит в себе значительную опасность. Консьюмеризм — тупиковый путь, от которого необходимо отказаться. Он представляет собой бессознательную волю к социальной смерти. В зависимости от того, как человечество поведет себя в дальнейшем, в зависимости от того, повернет ли оно на более человеко- и природосозидающий путь или продолжит играть в потребительские игры, сложится отношение к нам наших потомков. Или они останутся нам благодарны или же они отбросят нас на периферию истории, сказав, что общество и культура начала XXI в. попали в ловушку собственного производства, увязли в болоте аутореферентности и, перечеркнув возможности спасения, потянули за собой своих наследников. Мы должны и обязаны оставить неизгладимый след в жизни наших потомков сделать ее счастливой.
Подвергнув современную потребительскую культуру тотальной критике, обрушившись на потребительские тенденции, мы показали глубину и широту социально-культурного кризиса, который создан консьюмеризмом. Все-таки лучшие для человека вещи — это совсем не вещи. М. Ганди заметил, что нечто, ранее являвшееся грехом, сегодня стало объектом поклонения. Закончим книгу его словами, отлично характеризующими современную эпоху:
Политика, лишенная принципов, Коммерция, лишенная морали. Богатство, лишенное труда. Образование, лишенное качества, Наука, лишенная человечности, Удовольствие, лишенное совести, Поклонение, лишенное жертвенности.Публикации автора
1. Субъектная позиция студента в контексте профессионализации в вузе // Проблемы социальной работы: теория и практика: материалы II заочной Междунар. науч.-практ. конференции. - Омск: Изд-во Ом. гос.ун-та, 2008. - С. 45-55.
2. Субъект эпохи постмодернизма: соотношение философского и психологического взглядов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия «Психология». - 2008. - Т. 2. - Вып. 1. - С. 76-82.
3. Субъектность внутри массовой культуры // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». -2008-№4. Культурология,- URL:http://zpu-joumal.ni/e-zpu/2008/4/Ilyin/.
4. Характеристика субъект-субъектного взаимодействия в образовательном процессе // Проблемы качества подготовки специалистов в системе высшего педагогического образования: сб. науч. тр. преподавателей и аспирантов ОмГПУ / под общ. ред. И.П. Геращенко. - Омск, Изд-воОмГПУ, 2008. -С. 171-182.
5. Проблема понятийной репрезентации массовой культуры // Реальность. Человек. Культура: религия и культура. Материалы Всероссийской науч. конф., Омск, 11 декабря 2008 г. - Омск: Изд-во ОмГПУ,2008.-С. 227-231.
6. Ильин А.Н., Барханов П.В. Формы понимания категории «субъект» в гуманитарных исследованиях // Гуманитарное знание. Серия «Преемственность»: сб. науч. тр. Ежегодник. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2008. -Вып. 11.-С. 145-147.
7. Массовая культура и невротизм // Гуманитарное знание. Серия«Преемственность»: сб. науч. тр. Ежегодник. - Омск: Изд-во ОмГПУ,2008.-Вып. 11.-С. 185-187.
8. Проблема влияния средств массовой коммуникации на субъектные характеристики человека // Языки культуры: историко-культурных,философско-антропологический и лингвистический аспекты: материалы региональной науч.-практ. конф. с международным участием. 6 февраля 2009 г. / сост. О.П. Фесенко; под ред. А.И. Барановского. - Омск: Изд-воАНО ВПО «Омский экономический институт», 2009. - С. 57-66.
9. Массовая культура современной России как совокупность субкультур // Среднерусский вестник общественных наук. - Орел: Изд-во«Араке», 2009.-№ 1. С. 21-26.
10. Борьба идеи в интерпретации явления массовой культуры //Омский научный вестник. - 2009. - № 1(75). - С. 102-104.
11. Место понятия «субъектная позиция» в структуре психологического знания // Сопровождение и социализация человека в меняющемся мире: материалы XI Междунар. студенческой науч.-практ. конф.факультета психологии и педагогики ОмГПУ (21 апреля 2008 г.). -Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. - С. 109-113.
12. Массовая культура и подходы к ее осмыслению // Материалы XLVII Междунар. науч. студенческой конф. «Студент и научно-технический прогресс»: Философия / Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск,2009.-С. 106-108.
13. Проблема подлинности субъекта: между модерном и постмодерном // Омский научный вестник. - 2009. - № 2(76). - С. 114-116.
14. Иерархическая модель массовой культуры И Среднерусский вестник общественных наук. - Орел: Изд-во «Араке», 2009. - № 2. -С. 67-75.
15. Мода как тенденция массовой культуры и ее влияние на человеческую субъектность // Вестник омского университета. - 2009. - № 2. -С. 21-29.
16. Проявление субъектности на различных уровнях массовой культуры // Вопросы культурологи. - 2009. -№ 8. - С. 74-77.
17. Проблема фиксации семантических различий между уровнями массовой культуры статья Омский научный вестник. -2009. -№4 (79). -С. 110-112.
18. Панк как явление китч-культуры // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». - 2009. - № 4. Культурология. - URL:-joiimal.rU/e-zpii/2009/4/llyin/
19. Сущность категории «субъект» и ее атрибутивные характеристики // Технологии социальной работы: теория и практика реализации:материалы 111 заочной Междунар. науч.-практ. конф. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2009.-С. 382-396.
20 Ильин А.Н., Барханов П.В. Категория «субъект» как предикат //Технологии социальной работы: теория и практика реализации: материалы III заочной Междунар. науч.-практ. конф. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. -С. 396-407.
21. Специфика мид-культуры и характер ее влияния на субъекта //Книга и мировая культура: сб. науч.-практ. трудов / отв. ред. В.И. Хомяков; Н.В. Огурцова. - Омск: Вариант-Омск, 2009. - С. 93-97.
22. Фиктивность и знаковость культуры потребления // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». - 2009. - № 4. Культурология.- URL: - joumal.rU/e-zpu/2009/4/llym_Coiisumer_ Culture/
23. Иерархический конструкт массовой культуры и характер еговлияния на субъект // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия «Психология». - 2009. - Т. 3. — Вып. 2. - С. 116-122.
24. Аскетизм и гедонизм массовой культуры // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2009. - № 4 (39). - С. 59-63.
25. Массовый человек - его сущность и условия возникновения //Вестник омского университета. - 2009. - № 4. - С. 51-58.
26. Бессубъектность массы как потребителя китч-культуры //Среднерусский вестник общественных наук. - Орел: Изд-во «Араке»,2009.-№4.-С. 21-31.
27. Проблема адаптации субъекта к массовой культуре // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». -2010. -№ 1. Культурология. — URL: -joumal.rU/e-zpii/2010/4/Ilyin/.
28. Корпорация власти: критический анализ // Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб». - URL:
29. Трехкомпонентная модель влияния массовой культуры на субъекта // Социология. - 2010. - № 30. - С. 27-42.
30. Функциональность и дисфункциональность массовой культуры // Вопросы культурологии. - 2010. - № 2. - С. 99-102.
31. Массовая культура и субкультура: общее и особенное // Социологические исследования. - 2010. - № 2. - С. 69-75. - URL: -2/Ilin.pdf.
32. Антропология субъекта // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». - 2010. - № 1. Философия. Политология. - URL:-joumal.rU/e-zpu/2010/l/Ilyin/
33. Китч-культура или антикультура? // Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России: сб. материалов Всероссийской науч.-теоретической конф. / под ред. Жилиной В.А. - Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ»,2010.-С. 132-137.
34. Широкое поле массмедиа китча // Deja vu - энциклопедия культур. - URL: http://ec-dejavu.ru/k/Kitsch-4.html
35. Субъект в пространстве философии постмодернизма // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». -2010. - № 1. Философия. Политология. - URL: -journal.ru/e-zpu/2010/ 1/Ilyin Subject/
36. Китч-культура, ее идеалы и псевдоидеалы // Интеллигенция и идеалы российского общества: сб. статей / под общей редакцией Ж.Т. Тощенко. - М.: РГГУ, 2010. - С. 660-671.
37. Предчувствие глобализации... // Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб». - URL: ru/publications/3 559/4310/#_ednref4
38. Политическая ангажированность масс-медиа // Автономное действие. - URL: -angazhirovannost-mass-media
39. Фиктивность, знаковость и символизм культуры потребления //Вопросы культурологи. - 2010. - Міг 10. - С. 41 -47.
40. Амбивалентность влияния массовой культуры на субъекта // Книга и мировая культура: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. -Омск: Вариант-Омск, 2010. - С. 315-318.
41. Политика и статус интеллектуала в современной России //Электронный информационный портал «Русский интеллектуальныйклуб». - URL: /
42. Общий взгляд на социальную политику или на то, что так называют// Автономное действие. - URL:
43. Субъект в массовой культуре современного общества потребления (на материале китч-культуры): монография: Омск - Амфора, 2010.- 376 с. - URL: http://ec-dejavu.ru/m-2/Mass_culture-3.html).
44. Специфика влияния рекламы на субъективные качества человека // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия«Психология». -2010. - Т. 4. - Вып. 2. - С. 105-115.
45. Дискурс новостей и его мифотворчество // Социологические исследования. - 2010. - № 12. - С. 115-122. - URL: ІО-12/llin.pdf.
46. Экстремизм и политкорректность: извращенное понимание слов //Автономное действие. - URL:
47. Угодные массы и бесчестность политической системы // Объективная газета. - URL:
48. Потребление и опасности, связанные с ним // Вопросы культурологии. - 2011. - № 4. - С. 86-91.
49. Экстремизм, политкорректность и толерантность - играс двойными стандартами // Объективная газета. - URL:
50. Потребление как причина природного и социального кризиса //Зеленая жизнь. - URL: -pkppsk.html
51. В послушной стране должна быть послушная оппозиция //Объективная газета. - URL:
52. Негативная интервенция в психологическую науку (на примере книги С. Пеуновой «Все мы — только половинки») // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». - 2011. - № 3. - URL:-iournal.ru/e-zpu/2011/3/llyin_Negative_ Intervention/
53. Идеологическое мифотворчество современной власти // Антиглобализм. Сопротивление «новому мировому порядку». - URL:-gIob.ru/nauka/ailin.htm
54. Власть и знание: проблема взаимоотношения // Полигнозис. -2011. - № 2. - С. 71-81. - URL: ? num=6&num2=552.
55. Статус интеллектуала и интеллигента в условиях авторитаризма современной политики // Научный вестник Уральской академии государственной службы: политология, экономика, социология, право. -2011. - № 2( 15). - С. 40-50. - URL: / 2011 /02/06/
56. Массовая культура и субкультуры современного общества:специфика соотношения // Общественные науки и современность. -2011.-№4.-С. 167-176.
57. Власть и знание: проблема взаимоотношений // Национальные интересы. - 2011. - №3(73). - С. 44-52. - URL: -journal.ru/archive/2f64ca2c/n3_2011/fO Ifl f21/152fe4c4/
58. Власть и знание: проблема взаимоотношения // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Философия». — 2011. —№ 1(5).-С. 22-36.
59. Субъект. Культура. Политика: сб. статей. - М.: Изд-во «LAPLAMBERT Academic Publishing», 2011. - 318 с.
60. Мифологичность новостей // Сибирский научный журнал. Серия «Гуманитарные и социально-экономические проблемы развития современного общества» / под общей ред. д-ра филос. наук, проф.В.П. Плосконосовой. - 2011. - № 2. - С. 26-30.
61. Мифотворчество дискурса новостей как социальная реальность// Социология науки и технологий. - 2011. - Т. 2. - № 3. - С. 88-95.
62. Культура потребления и образование // Вопросы культурологии.-2011.-№ 10.-С. 58-62.
63. Толерантность в постмодернистском обществе: искажение смысла // Полигнозис. 2011. - №3-4. С. 85-92. - URL: http://www. polyg-nozis. ru/default.asp?num=6&num2=570.
64. Культура потребления и образование // Ректор вуза. - 2011. -№ 11.-С. 64-68.
65. Погружение во мрак // Объективная газета. - URL: . com.ua/filosofJ3.php
66. Поддерживает ли партийный курс глобализацию // Объективная газета. - URL:
67. Статус интеллектуала и интеллигента в условиях авторитаризма современной политики // Мир и политика. - 2011. - № 11(62). - URL:http://mir-politika.ru/themes/polit_niodernizaciya/141-status-intellek tuala-i-intelligenta-v-usloviyah-avtoritarizma-sovreniennoy-politiki.html
68. Васильчук E.O., Авілова О.P., Ільін А.Н. Особливості формування доктринальных засад ідейного базису радянської панк-субкультури (на прикладі творчості Е. Летова) // Вісник національного технічного університету Украіни «Київський політехнічний інститут»:політологія, соціологія, право. - 2011. - №4( 12). - С. 32-36.
69. Субъект, закованный в цепи - постмодернистская парадигма //Гуманитарное знание. Серия «Преемственность»: сб. науч. тр. Ежегодник. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2011. - Вып. 12.-С. 96-100.
70. С больной головы на здоровую // Объективная газета. - URL:
71. Ильин А.Н., Авилова Е.Р., Васильчук Е.О. Панк как форма противостояния потребительской и конформной цивилизации // Научный вестник Уральской академии государственной службы: политология, экономика, социология, право. -2012. -№ 1(18). - С. 27-33.
72. Концепт безудержного потребления (структурный анализ) //Общественные науки и современность. - 2012. - № 2. - С. 161-169.
73. Конформно-потребительская направленность интеллектуалов //«Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное / под общей ред.Ж.Т. Тощенко; ред.-сост. М.С. Цапко. - М.: РГГУ, 2012. - С. 281-289.
74. Чуждость потребительства для российской культуры // Вопросы культурологи,- 2012. - № 6. - С. 48-53.
75. Трагичные плоды перестройки // Мир и политика. - 2012. -№6(69). - С. 125-135. - URL: http://mir-politika.ru/ themes/polit_istoriya/374-tragichnye_plody_ perestroyki.html
76. Интернет как альтернатива политически ангажированным СМИ // Политические исследования. - 2012. -№ 4. - С. 126-136.
77. Возможен ли конец истории по Ф. Фукуяме? // Информацион-но-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». - 2012. - № 3(май - июнь). - URL: -journal.rU/e-zpu/2012/3/Ilyin_ End-of-History-Fukuyama/
78 Сфальсифицированная история одного конфликта // Информационно-аналитический альманах «Киевская Русь». - URL: = 17&subrazdel=9 l&art_id=2 l&lang=rus
79. Вступление в ВТО - экономическое закабаление, а не конкуренция // ВТО-ИНФОРМ. Аналитический центр - URL: http://wto-mform.ru/experts/aIeksey_ilin_vstuplenie_v_vto_ekonomicheskoe_zakabalenie_a_ne_konkurentsiya/
80. Противодействие глобализации или всего лишь легитимация властной системы: в чем ошибается Н. Стариков // Объективная газета. -URL:
81. Миф о свободной экономике // ВТО-ИНФОРМ. Аналитический центр. - URL: http://wto-inform.ru/experts/aleksey_ilin_mif_o_svobodn oy_ekonom ike/
Примечания
1
Бодрийяр Ж. Система вещей: пер. с фр. / вступ. ст. С. Зенкиыа. — М.: Рудомино, 1999. — С. 213.
(обратно)2
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — М.: Добросвет, 2000. — С. 63.
(обратно)3
Ванн Д., Нэйлор Т., Грааф Д. де. Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру: — Екатеринбург. Ультра.: Культура, 2005. — 392 с.
(обратно)4
См.: Приепа А. Производство теории потребления // Логос. — 2000. — № 4(25). — С. 57—62.
(обратно)5
Маркузе Г. Одномерный человек. — М.: Ермак, 2003. — 342 с.
(обратно)6
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры: пер. с фр. / послесл. и примеч. Е. А. Самарской. — М.: Культурная революция: Республика, 2006. — 269 с.
(обратно)7
Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. — М., 1989.
(обратно)8
См.: Кшошкина О. Воля к игре: исследование игроков казино // Логос. — 2000. — № 4(25). — С. 99—111.
(обратно)9
Доведов С.Н., Луков Вал. А. Типология владельцев мобильных телефонов: тезаурусный анализ // Знание. Понимание. Умение. — 2008. — № 3. Социология. — URL: -joumal.iu/e-zpu/2008/3/Dovedov&Lukov/
(обратно)10
Более подробно об этом см.: Богачев Ф. Русская модель эффективного соблазнения. Самоучитель для подготовки успешных мужчин. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 608 с.
(обратно)11
Далакишвили Л. Человек и нация в информационном обществе // Россия и Грузия: диалог и родство культур: сб. материалов симпозиума / под ред. В.В. Парцвания. — СПб.: С.-Петерб. философское об-во, 2003. — Вып. 1. — С. 86–92.
(обратно)12
См.: Кендюхов А. Философия маркетинга и общество потребления: начало новой цивилизации или начало конца? // Интернет-издание «Остров». — URL: -70222/
(обратно)13
См.: Шушарин Д. Апология действительности // Логос. — 2000. — № 4(25). — С. 94—98.
(обратно)14
Об этом см.: Бодрийяр Ж. Система вещей. — 224 с.
(обратно)15
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры.
(обратно)16
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — С. 312.
(обратно)17
Фромм Э. Иметь или быть. — М.: Прогресс, 1990. — 336 с.
(обратно)18
Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. — М.: Эксмо, 2009. — 864 с.
(обратно)19
Орлов Д.У. Судьба вещей в эпоху глобализма // Глобализация в социально-философском измерении: сб. материалов конф. — СПб.: С-Петерб. философское об-во. 2003. — С. 56–60.
(обратно)20
Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Издат. группа «Прогресс», «Универе». 1994. — С. 424–461.
(обратно)21
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. — С. 162.
(обратно)22
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М.: АСТ: Ермак, 2005. — 588, [4] с.
(обратно)23
Бетто Ф. Неолиберализм: новая фаза капитализма // Научно-просветительский журнал «Скепсис». — 2008. — № 5. — URL:
(обратно)24
Никонов А. П. Управление выбором, искусство стрижки народных масс. — СПб.: Питер, 2008. — 304 с.
(обратно)25
Цит. по:. Луков Вал. А. Тезаурусный подход в социологии и зиновьевская идея человейника // Русский интеллектуальный клуб. — URL: /
(обратно)26
См.: Софронов-Антомони В. Индустрия наслаждения // Логос. — 2000. — № 4(25). — С. 85—93.
(обратно)27
Елютина М.Э., Филиппова С.В. Ритуальные похоронные практики: содержательные изменения // Социс. — 2010.- № 9. — С. 86–94.
(обратно)28
Об этом см.: Фромм Э. Иметь или быть; Бодрийяр Ж. Система вещей.
(обратно)29
Бодрийяр Ж. Система вещей. — С. 75.
(обратно)30
Цит. по: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: пер. с нем. — М.: Весь Мир, 2003. —. С. 236.
(обратно)31
Жижек С. Добро пожаловать в пустыню реального. — М.: Фонд «Прагматика культуры». 2002. — 160 с.
(обратно)32
Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / пер. с нем. Е. Герцык и др. — М.: Культурная революция, 2005. — 880 с.
(обратно)33
См.: Хагуров Т.А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе // Социс. — 2010. — № 11. — С. 93—104; Быкова Д.Ю., Зотов В.В. Социокультурный подход к формированию молодежной политики инновационного общества // Вопросы культурологии. — 2011. — № 4, — С. 68—73.
(обратно)34
Запесоцкий А.С. Метаморфозы СМИ: новое качество или новые болезни // Социс. — 2010. — № 7. — С. 9.
(обратно)35
Петухов В.В. Поколение «нулевых»: социальные настроения, идеологические установки и политическое участие // Полис. — 2012. — № 4. — С. 58.
(обратно)36
Бауман 3. Индивидуализированное общество: пер. с англ. / под ред. В.Л. Иноземцева. — М.: Логос. 2005. — 390 с.
(обратно)37
См.: Бабинцев В.П., Реутов Е.В. Самоорганизация и «атомизация» молодежи как актуальные формы социокультурной рефлексии // Социс. — 2010. — № 1. — С. 109—115.
(обратно)38
Бауман 3. Индивидуализированное общество.
(обратно)39
См.: Запесоцкий Ю.А. Бренд как фактор эволюции современной массовой культуры // Вопросы культурологии. — 2009. — № 11. — С. 56—58.
(обратно)40
См. об этом: Фурсов А.И. Накануне «бури тысячелетия» // Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб». — URL: /. Об опасности исламизации см.: Ситнянский Г.Ю. Россия в ответе за тех, кого приняла. Ответственность России за ситуацию на постсоветском пространстве // Век глобализации. — 2009. — Вып. 1. — URL: /#_ftn25
(обратно)41
См.: Фомин Н.Н. Специфика трудовой миграции в московском регионе // Социс. — 2010. — № 4. — С. 130—133.
(обратно)42
Никонов А.П. Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. — 352 с.
(обратно)43
Ванн Д., Нэйлор Т., Грааф Д. де. Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру.
(обратно)44
См.: Радаев В.В. Социология потребления: основные подходы // Социс. — 2005, — № 1, — С. 3—20.
(обратно)45
Барт Р. Разделение языков // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — С. 519—534.
(обратно)46
Гаман-Голутвина О.В. Метафизика элитных трансформаций в России // Полис. — 2012. — № 4. — С. 24.
(обратно)47
Бауман 3. Возвышение и упадок труда // Социс. — 2004. - № 5. — С. 77—86; Он же. Индивидуализированное общество. — 390 с.
(обратно)48
Bauman Z. From Pilgrim to Tourist — or a Short History of Identity // Questions of Cultural Identity. — London, 2000. — P. 18—35.
(обратно)49
Ванн Д., Нэйлор Т., Грааф Д. де. Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру.
(обратно)50
Чинакова Л.И. Онтология потребностей: монография. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 2008. — 96 с.
(обратно)51
Данилов-Данильян В.И. Глобальная проблема дефицита пресной воды // Век глобализации. — 2008. — Вып. № 1. — URL: /
(обратно)52
О многообразии функций почвы см.: Добровольский Г.В. Деградация почв — угроза глобального экологического кризиса // Век глобализации. — 2008. — Вып. № 2. — URL: /
(обратно)53
Ванн Д., Нэйлор Т., Грааф Д де. Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру.
(обратно)54
Никонов А. Верхом на бомбе. Судьба планеты Земля и её обитателей. — СПб.: Питер. НЦ ЭНАС. 2008. — 320 с.
(обратно)55
Бодрийяр Ж. В Тени Тысячелетия, или Приостановка Года 2000. — URL:
(обратно)56
См.: Объективная газета. — URL:
(обратно)57
См.: Голубицкий С. Как зовут вашего бога? Великие аферы XX века — М.: Бестселлер, 2004. — Т. 1. — 336 с.
(обратно)58
Яницкий О.Н. Пожары 2010 г. в России: экосоциологический анализ // Социс. — 2011. — № 3. — С. 3—12.
(обратно)59
Новожилова Е.О. Социоэкологическая антропология // Социс. — 2011. — № 3. — С. 13—22.
(обратно)60
Дёжкин В.В., Снакин В.В., Попова Л.В. Восстановительное природопользование — основа устойчивого развития // Век глобализации. — 2008. — Вып. № 2. — URL: /
(обратно)61
Фролова И. В. Современный человек и экология: на пути к новой этике // Вестник Башкирского университета. — 2008. — Т. 13, — № 4. — С. 1050—1052.
(обратно)62
Никонов А. История отмороженных в контексте глобального потепления. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС. 2007. — 296 с.
(обратно)63
См.: Николаевский Д.А. Демография и ресурсы: факторы цивилизационных перемен // Социс. — 2010. — № 5. — С. 111–117.
(обратно)64
См.: Ванн Д., Нэйлор Т., Грааф Д. де. Потреблятство. Болезнь, угрожающая миру.
(обратно)65
См. Барлыбаев Х.А. Глобализация: вопросы теории и практики // Век глобализации. — 2008. — Вып. № 2. — URL: /
(обратно)66
Паршев А.П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается здесь. — М.: Крымский мост, 2005. — 416 с.
(обратно)67
См.: Цаголов Г.Н. Бразильский набат // Теоретический и общественно-политический журнал Альтернативы. — 2011. — № 4. — С. 112—120.
(обратно)68
См.: Магаршак Ю.Б. Постэнергозависимое будущее. Сланцевый газ и электрический транспорт — две технологии, которые потрясут мир // Независимая газета. — URL: -11-10/12_future.html
(обратно)69
Никонов А.П. Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности. — М.: Изд-во ИЦ ЭНАС, 2005. — 352 с.; Он же. Верхом на бомбе…
(обратно)70
Батчиков С.А. Глобализация — управляемый хаос // Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб». — URL: /
(обратно)71
Горелов А. А. Глобализация как объективная тенденция мирового развития // Век глобализации. — 2009. — Вып. № 1. — URL: /
(обратно)72
Гринин Л.Е. Глобализация и процессы трансформации национального суверенитета // Век глобализации. — 2008. — Вып. № 1. — URL: /
(обратно)73
Титаренко Л.Г. Экологический образ жизни минчан // Социс. — 2011. — № 3. — С. 35.
(обратно)74
Матвеева А.И. Духовная природа личной ответственности: социально-онтологический и антропологический аспекты // Вопросы культурологии. — 2011. — № 12. — С. 20.
(обратно)75
Цит. по: Зарубина Н.Н. Повседневность в контексте социокультурных трансформаций российского общества // Общественные науки и современность. — 2011. — № 4. — С. 55.
(обратно)76
Цит. по: Кравченко С.А. Динамика современных социальных реалий: инновационные подходы // Социс. — 2010. — № 10. — С. 25.
(обратно)77
Бызов Л.Г. Социокультурные и социально-политические аспекты формирования современной российской нации // Полис. — 2012. — № 4. — С. 47.
(обратно)78
См. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием.
(обратно)79
Цит. по: Бразевич С.С. Американская действительность глазами М.М. Ковалевского // Социс. — 2010. — № 11. — С. 117.
(обратно)80
Бзежинский 3. Великая шахматная доска (господство Америки и его геостратегические императивы) / пер с англ. О.Ю. Уральская. — М.: Международные отношения, 2009. — 280 с.
(обратно)81
Привалов Н.Г. О возможной катастрофе 2030–2050 гг. // Век глобализации. — 2009. — Вып. № 1. — URL: /
(обратно)82
Лукьяненко В.И., Хабаров М.В., Лукьяненко А.В. Homo consumens — человек потребляющий // Век глобализации. — 2009. — Вып. № 2(4). — URL: /
(обратно)83
См.: Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием.
(обратно)84
См.: Перкинс Д. Исповедь экономического убийцы. — М.: Pretext, 2005. — 319 с.
(обратно)85
Бауман 3. Индивидуализированное общество.
(обратно)86
Бекетов Н.В. Глобализация как процесс формирования информационно-экономического пространства: социальные аспекты развития мировой и национальной экономических систем // Век глобализации. — 2009. — Вып. № 1. — URL: /
(обратно)87
См.: Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием.
(обратно)88
Об этом см.: Стариков Н. Кризис. Как это делается? — М.: Питер, 2011. — 304 с.; Хинштейн А., Мединский В. Кризис. — М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2009. — 464 с.
(обратно)89
См.: Хинштейн А., Мединский В. Кризис.
(обратно)90
См.: Сперанский А. Забытые Россией. Очередь на тот свет // Объективная газета. — URL:
(обратно)91
Хасбулатов Р.И. Глобальный финансовый кризис: причины и последствия // Век глобализации. — 2008. — Вып. № 2. — URL: /
(обратно)92
См.: Стариков Н. Кризис. Как это делается?
(обратно)93
Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества: пер. с англ. — М.: Весь Мир. 2004. — 188 с.; Он же. Индивидуализированное общество / пер. с англ, под ред. В.Л. Иноземцева. — М.: Логос, 2005. — 390 с.
(обратно)94
Бауман 3. Город страхов, город надежд // Логос. — 2008. — № 3. — С. 37.
(обратно)95
Барановский В.Г. Основные параметры современной системы международных отношений. Ч. II. Качественные параметры // Полис. — 2012. — № 4. — С. 66.
(обратно)96
Тарасов А. Г-н Фергюсон, пламенный фальсификатор // Научно-просветительский журнал «Скепсис». — 2008. — № 5. — URL: /lіbrary/id2289.html
(обратно)97
См.: Прибыткова Л. МВФ — обыкновенная экономическая удавка // Объективная газета. — URL:
(обратно)98
См.: Возьмитель А.А., Осадчая Г.И. Образ жизни в России: динамика изменений // Социс. — 2010. — № 1. — С. 17—27.
(обратно)99
См.: Богданова Е.М. Феномен инфотейнмента в развитии культуры постмодернизма // Вопросы культурологии. — 2012. — № 6. — С. 76—80.
(обратно)100
См.: Хагуров Т.А. Образование в стиле «пепси» (полемические заметки) // Социс. — 2010. — № 7. — С. 96—103.
(обратно)101
См.: Сидорова Г.П. Массовая литература и читательские предпочтения 1960-х — начала 1980-х гг. // Социс. — 2011. — № 2. — С. 128—136.
(обратно)102
См:. Тарасов А. Another Brick in the Wall // Научно-просветительский журнал «Скепсис». — 2005. — № 3/4. — URL:
(обратно)103
Вебер Л. Проблемы образовательной системы во Франции // Научно-просветительский журнал «Скепсис». — 2005. — № 3/4. — URL:
(обратно)104
Черняков С. Современная школа: система управления изнутри // Теоретический и общественно-политический журнал «Альтернативы». — 2011.— № 4. — С. 144.
(обратно)105
Фурсов А.И. «Реформа» образования в России сквозь социальную и геополитическую призму // Русская народная линия: информационно-аналитическая служба. Православие. Самодержавие. Народность. — URL: http://rusk.line.ru/analitilca/2011/11/07/reforma_obrazovaniya_v_rossii_skvoz_socialnuyu_i_geopoliticheskuyu_prizmu/
(обратно)106
Варнакова М.А. Соотношение общечеловеческих и глобальных ценностей в процессе культурного воспроизводства в современном российском обществе // Вопросы культурологии. — 2011. — № 5. — С. 79—82.
(обратно)107
Смолин О. Чтобы цвела страна. Доклад на Конгрессе российского образовательного сообщества // Теоретический и общественно-политический журнал Альтернативы. — 2011. ― № 4. — С. 122.
(обратно)108
Сиземская И.Н. Социокультурное пространство России: реалии и перспективы // Общественные науки и современность. — 2011. ― № 4. — С. 27.
(обратно)109
Бауман 3. Законодатели и толкователи. Культура как идеология интеллектуалов // Неприкосновенный запас. — 2003. ― № 1 (27). — С. 5―20.
(обратно)110
Смирнов И. Реформаторий. Толковый словарь по образовательным реформам // Научно-просветительский журнал «Скепсис». ― 2005. ― № 3/4. ― URL:
(обратно)111
Агапов Ю.В. Массовая и немассовая культура в образовании // Вопросы культурологии. — 2011. — № 9. — С. 62.
(обратно)112
Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. — М: Весь Мир, 2000. — С. 43—163.
(обратно)113
Цит. по: Петров Д.С. Самооценка «новой» интеллигенции (анализ трансформации самооценки молодежи в системе социокультурной адаптации) // «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное / под общей ред. Ж.Т. Тощенко: ред. — сост. М.С. Цапко. — М.: РГГУ, 2012. — С. 149.
(обратно)114
Булавка Л. Пролетарская культура: культура для пролетариата? // Теоретический и общественно-политический журнал «Альтернативы». — 2011. — № 4. — С. 54.
(обратно)115
См.: Штеренберг М.И. Культура и образование // Вопросы культурологии. — 2010. — № 3. — С. 40—47.
(обратно)116
См.: Райх В. Психология масс и фашизм. — СПб., 1997. — 380 с.
(обратно)117
Хоркхаймер М., Адорно Т. Экскурс II. Жюльетта или просвещение и мораль // Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения / пер. с нем. М. Кузнецова. — М.: Медиум, 1997. — С. 115.
(обратно)118
Скилерских А.В. Дискурс политической власти в сказочном тексте: приглашение к медленному чтению. Герменевтические этюды. — Елец: МУП «Типография» г. Ельца. 2011. — С. 143.
(обратно)119
Тощенко Ж.Т. «Старая» и «новая» интеллигенция: современные реалии // «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное / под общей ред. Ж.Т. Тощенко; ред. — сост. М.С. Цапко. — М.: РГГУ, 2012. — С. 20.
(обратно)120
Реутов Е.В., Коллина Л.В., Реутова М.Н. и др. Эффективность социальных сетей в региональном сообществе // Социс. — 2011. — № 1. — С. 83.
(обратно)121
Бодалев А.А. О взаимосвязи общения и отношения // Вопросы психологии. — 1994. — № 1. — С. 124.
(обратно)122
См.: Антология кинизма. — М.: Наука, 1984. — С. 54.
(обратно)123
Пеунова С.М. «Вся власть — народу?» (Исповедь современника). — Самара: Издат. дом Светланы Пеуновой, 2007: — С. 182.
(обратно)124
Фромм Э. Бегство от свободы. — М.: Прогресс, 1990. — 272 с.
(обратно)125
Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности / Психологический журнал. — 2000. — Т. 21. — № 1.
(обратно)126
Шаповал И.А. Мифология и идеология созависимости в российской постсовременности // Интеллигенция и идеалы российского общества: сб. статей / под общей ред. Ж.Т. Гощенко. — М.: РГГУ, 2010. — С. 141.
(обратно)127
Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. — Екатеринбург: Деловая книга, 2001. — 496 с.
(обратно)128
Франкл В. Человек в поисках смысла — М.: Прогресс, 1990. — 368 с.
(обратно)129
Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. — С. 43—163.
(обратно)130
Барт Р. Слепонемая критика // Барт Р. Мифологии / пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С.Н. Зенкина. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. — С. 82.
(обратно)131
См.: Ильин А.И. Субъект в массовой культуре современного общества потребления (на материале китч-культуры): монография. — Омск: Амфора, 2010. — 376 с. — URL: http://ec-dejavu.ru/m-2/Mass_culture-3.html
(обратно)132
Калинина Н.М. Проблемы глобального мира: утрата и обретение смысла // Вызовы современности и ответственность философа: материалы «круглого стола», посвященного всемирному Дню философии / Кыргызско-Российский Славянский университет: под общ. ред. И.И. Ивановой. — Бишкек, 2003. — С. 20—32.
(обратно)133
Блиева Ф.Б. Формирование профессиональной субъектной позиции у будущих специалистов по физической культуре и спорту: автореф. дис. ... канд. пед. наук. — Майкоп, 2007.
(обратно)134
Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения: Толпа, слухи, политические и рекламные кампании. — М., 2005. — 160 с.
(обратно)135
Каган М.С., Эткинд А.М. Индивидуальность как объективная и субъективная реальность // Вопросы психологии. — 1989. — № 4. — С. 5—15.
(обратно)136
См. например: Поппер К. Открытое общество и его враги. — Т. 1. Чары Платона. — М.: Феникс: Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. — 448 с.
(обратно)137
Гусейнов А.А. Этика ненасилия // Вопросы философии. — 1992. — № 3. — С. 72—81.
(обратно)138
Маслоу А. Мотивация и личность // Психология личности в трудах зарубежных психологов / сост. и общая ред. А.А. Реана — СПб.: Питер, 2000. — С. 191.
(обратно)139
Маслоу А. Психология бытия // Психология личности в трудах зарубежных психологов. — С. 216.
(обратно)140
Там же. — С. 192.
(обратно)141
Клюева Т.В. Социальные позиции современной интеллигенции в условиях формирования гражданского общества // Вопросы культурологии. — 2010. — № 6. — С. 10—14.
(обратно)142
Щелкин А.Г. От дефиниции к сущности и миссии «идеалов» и «интеллигентов» // Интеллигенция и идеалы российского общества: сб. статей / под общей редакцией Ж.Т. Тощенко. — М.: РГГУ, 2010. — С. 42—43.
(обратно)143
Матвеева Н.Ю. Феномен русской интеллигенции: смысловой анализ // «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное. — С. 74.
(обратно)144
Савчук В. Инакомыслие или конформизм: нравственный выбор интеллигенции в России // Логос. — 2005. — № 6 (51). — С. 242.
(обратно)145
Матецкая А.В. Российская интеллигенция и проблема модернизации общественного сознания // Интеллигенция и идеалы российского общества: сб. статей / под общей ред. Ж.Г. Тощенко. — М.: РГГУ, 2010. — С. 403.
(обратно)146
Скиперских А.В. Дискурс политической власти в сказочном тексте: приглашение к медленному чтению. Герменевтические этюды. — Елец: МУП «Типография» г. Ельца, 2011. — С. 32.
(обратно)147
Делез Ж. Ницше. — СПб.: Ахюта, 2001. — 186 с.
(обратно)148
Севастьянов А.Н. Миф о среднем классе // Социс. — 2010. — № 1. — С. 146—150.
(обратно)149
См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. — Т. 2. Время лжепророков: Гегель. Маркс и другие оракулы. — М.: Феникс: Междунар. фонд «Культурная инициатива», 1992. — 528 с.
(обратно)150
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М.: АСТ: Ермак, 2005. — С. 21.
(обратно)151
См.: Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. — 96 с.
(обратно)152
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — С. 427.
(обратно)153
Там же. — С. 460.
(обратно)154
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — С. 491.
(обратно)155
Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития. — М.: Республика, 1997. — С. 17.
(обратно)156
Каландия И.Д. Система общечеловеческих ценностей в динамике и диалоге цивилизаций в условиях глобализации // Человек: соотношение национального и общечеловеческого: сб. материалов международного симпозиума (г. Зугдиди, Грузия, 19—20 мая 2004 г.) / под ред. В.В. Парцвания. — СПб.: С-Петерб. философское общество. 2004. — Вып. 2. — С. 111—123.
(обратно)157
Васильев Г.Е. Причины упадка современной культуры // Вопросы культурологи. — 2011. — № 5. — С. 4—11.
(обратно)158
Зарубина Н.Н. Повседневность в контексте социокультурных трансформаций российского общества // Общественные науки и современность. — 2011. — № 4. — С. 61.
(обратно)159
См.: Черников М.В. Проблема интеллигенции в обществе постмодерна// «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное. — С. 90—95.
(обратно)160
Зенкова А.Ю. Дискурсивный анализ массовой коммуникации: проблема самопрезентацин общества: автореф. дис… канд. филос. наук. — Екатеринбург, 2000. — С. 4.
(обратно)161
Тоффлер Э. Третья волна. — М.: ООО «Фирма "Изд-во АСТ"», 1999. — 781 с.
(обратно)162
См.: Костина А.В. Тенденции развития культуры информацион-ного общества: анализ современных информационных и постиндуст-риальных концепций // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2009. — № 4. Культурология. — URL: -joumal.ru/e-zpu/2009/4/KostinaInformationSociety/
(обратно)163
Корытникова H.B. Интернет-зависимость и депривация в результате виртуальных взаимодействий // Социс. — 2010. — № 6. — С. 74.
(обратно)164
Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества: пер. с англ. — М.: Весь Мир, 2004. — 188 с.
(обратно)165
Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: сб.: пер. с англ. — М.: Рольф, 2002. — 592 с.
(обратно)166
Межуев В.М. Выступление на юбилее А. А. Зиновьева (2002 г.) // Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб». — URL: /
(обратно)167
Кутырев В.А. Столкновение культур с цивилизацией как причина и почва международного терроризма // Век глобализации. — 2009. — Вып. № 2(4). — URL: /
(обратно)168
Дробышева Е.Э. Традиции и контекст как элементы архитектоники культуры // Вопросы культурологии. — 2011. — № 10. — С. 6.
(обратно)169
Подобную мысль высказывает Ю.М. Паршин. См.: Паршин Ю.М. Теоретико-методологические проблемы взаимодействия традиций и инноваций в народной праздничной культуре // Вопросы культурологии. — 2011. — № 11. — С. 57—61.
(обратно)170
Кудрина С.А. К вопросу о старом и новом содержании понятия интеллигенции // «Новая» и «старая» интеллигенция: общее и особенное. — С. 70, 72.
(обратно)171
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: пер. с нем. — М.: Весь Мир, 2003. — С. 24.
(обратно)172
Розов Н.С. Геополитика, геоэкономика и геокультура: взаимосвязь динамических сфер в истории России // Общественые науки и современность. — 2011. — № 4. — С. 117.
(обратно)173
Сильнова Е.И. Образ России на Западе: ракурсы преломления и стратегии интерпретации // Вопросы культурологии. — 2010. — № 9. — С. 95.
(обратно)174
См.: Прибыткова Л. США — «международная полицейская держава» // Объективная газета. — URL: http://wvvvv.og.corn.ua/pribytkova_USA.php
(обратно)175
См.: Голубицкий С. Как зовут вашего бога? Великие аферы XX века — М.: Бестселлер, 2004. — Т 1. — 336 с.: Игры экономических убийц / под ред. С. Хайата: предисл. Д. Перкинс. — М.: Претекст, 2008. — 448 с.; Перкинс Д. Исповедь экономического убийцы. — М.: Pretext, 2005. — 319 с.
(обратно)176
Бодрийяр Ж. Насилие глобализации // Логос. — 2003. — № 1(36). — С. 21.
(обратно)177
Деррида Ж. Существуют ли государства-мошенники? Довод того, кто сильней // Логос. — 2003. — № 1(36). — С. 24—28; Жижек С. Война в Ираке: в чем заключается подлинная опасность? // Логос. — 2003. — № 1(36). — С. 75—88.
(обратно)178
Хобсбаум Э. После победы в войне. Соединенные Штаты: Все шире и шире // Логос. — 2003. — № 1 (36). — С. 102.
(обратно)179
Бауман 3. Индивидуализированное общество / пер. с англ., под ред. В.Л. Иноземцева. — М.: Логос. 2005. — 390 с.
(обратно)180
См.: Меггле Г. Мысли об иракской войне // Логос. — 2003. — № 1(36). — С. 52—69.
(обратно)181
Грачева Т.В. Невидимая Хазария. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы. — Рязань: Зёрна, 2009. — 400 с.
(обратно)182
Яскевич Я.С. Экономический кризис и ценностное переосмысление современного мироустройства: философская рефлексия // Век глобализации. — 2009. — Вып. № I. — URL: /
(обратно)183
Плотников Н. Политическая теология Дж. Буша-младшего // Логос. — 2003. — № 1(36). — С. 71.
(обратно)184
См.: Бернейс Э. Манипуляция общественным мнением: как и почему // Полис. — 2012. — № 4. — С. 149—159.
(обратно)185
Жилина В.А. Проблемы идеологической детерминации содержания теорий «месторазвития» в западной и отечественной мысли // Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России: сб. материалов Всерос. науч. — теоретич. конф. / под ред. В.А. Жилиной. — Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. — С. 92.
(обратно)186
См., например: Кара-Мурза С.Г. «Совок» вспоминает свою жизнь. — М.: Алгоритм, 2002. — 256 с.
(обратно)187
Цит. по: Бызов Л.Г. Социокультурные и социально-политические аспекты формирования современной российской нации // Полис. — 2012. — № 4. — С.45.
(обратно)188
Грачева Т.В. Когда власть не от Бога. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы. — Рязань: Зёрна-Слово, 2010. — 320 с.
(обратно)189
Кармадонов О.А. Социальная стратификация в дискурсивно-символическом аспекте // Социс. — 2010. — № 6, — С. 3—13.
(обратно)190
См.: Ильинский И.М. Великая победа: наследие и наследники // Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб». — URL: /; Смирнов И. Коричневый слюнявчик для мальчика-мажора // Научно-просветительский журнал «Скепсис». — 2008. — № 5. — URL:
(обратно)191
См.: Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили… / С.Г. Кара-Мурза, А.А. Александров. М.А. Мурашкин и др. — М.: Алгоритм, 2005. - 525 с.; Кара-Мурза С.Г., Александров А.А., Мурашкин М.А. и др. Технологии «перехвата» власти. Современная практика (аудиокнига). — М.: МедиаКнига, 2009.
(обратно)192
Цит. по: Тавокин Е.П., Табатадзе И.А. К вопросу об исторической памяти о Великой Отечественной войне // Социс. — 2010. — № 5. — С. 65.
(обратно)193
Тарасов А. Экстремисты по вызову // Научно-просветительский: журнал «Скепсис». — URL:
(обратно)194
Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием.
(обратно)195
О том, что Гитлер был специально взращен англосаксами, см.: Стариков Н.В. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина? Роковая ошибка Гитлера — СПб.: Питер, 2010. — 368 с.
(обратно)196
См.: Ортега-и-Гассет X. Восстание масс // Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. — М. Весь Мир. 2000. — С. 43—163; Он же. Musicalia // Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991. — С. 163—175.
(обратно)197
Кургинян С.Е. «Суть времени». Вып. 14. — URL: http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=4&id=130
(обратно)198
Кургинян С.Е. «Суть времени». Выпуск 26. — URL: http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=4&id=195
(обратно)199
Ницше Ф. Несвоевременные размышления: «О пользе и вреде истории для жизни». — URL: -0-polze%20-i-vrede.html
(обратно)200
Цит. по: Горюнов А.В. Современная модель социальных изменений. Опыт экспликации // Социс. — 2011. — № 2. — С. 8—9.
(обратно)


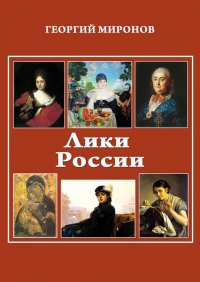

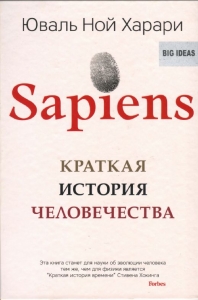
Комментарии к книге «Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций», Алексей Николаевич Ильин
Всего 0 комментариев