Вячеслав Лукьянов Русская религиозная аксиология
Предисловие
Пожиная сегодня горькие плоды бездуховности, нынешние поколения россиян обращаются к наследию нашего недалекого прошлого, возвращающегося к нам после долгих лет забвения. Осмысление и современное прочтение трудов наших выдающихся соотечественников – необходимый этап выработки новой духовной парадигмы для современной России. Действительно, радикальные преобразования общественной и государственной жизни нашей страны возможны лишь при опоре на твердые духовно-ценностные основания, что становится все более очевидным по мере продвижения по пути реформ. Недооценка роли и значимости духовной культуры в реформировании общества обернулась серьезными нравственными издержками, ставящими под вопрос сам смысл и необходимость преобразований. Поэтому преодоление существовавшего духовно-идеологического вакуума, утверждение в российском обществе новой духовной парадигмы (способной противопоставить негативным процессам размывания духовно-ценностных оснований социальной жизни ясные и общезначимые ценностные ориентиры) – актуальная задача отечественного социогуманитарного знания и институтов власти. Важной при этом оказывается опора на ценности, связанные с национальной самобытностью россиян.
Выработка новой духовной парадигмы для современной России не может не опираться на всестороннее изучение опыта преодоления подобного рода кризисных состояний общества, имеющегося в истории Отечества, его осмысление в истории отечественного социогуманитарного знания. В этом плане заслуживают глубокого изучения идеи и концепции русских религиозных философов, которые являлись выразителями национального самосознания русского народа, его самопознания и самонаблюдения. Современные поиски национальной идеи, обращение к специфике русского национального характера предполагают внимательное и бережное отношение к философско-культурологическим трудам религиозных философов, их современное прочтение, поскольку и поныне идеи отечественных мыслителей не потеряли эвристическую ценность и актуальность.
Русская религиозная философия – уникальное явление в отечественном и мировом социогуманитарном знании. Возникнув в 30-е-40-е годы XIX века (А. С. Хомяков и И. В. Киреевский заложили ее основы и определили программу), она, начиная с последней четверти XIX века, получила мощный импульс развития в трудах Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева, Ф. М. Достоевского и др. В конце XIX-начале XX вв., в эпоху русского духовно-культурного ренессанса, она стала доминировать над всеми остальными философскими течениями и была связана с именами выдающихся философов и деятелей культуры бр. Е. Н.и С. Н. Трубецких, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, Д. С. Мережковского, Н. А. Бердяева, В. В. Розанова и др. Развитие русской религиозной философии продолжалось и после 1917 года и связано с именами многих из тех наших соотечественников, кто оказался в эмиграции (Н. О. Лосского, И. А. Ильина, С. Л. Франка, А. К. Горского, Н. А. Сетницкого, В. В. Зеньковского и др.). В рамках данного философского направления оказались представители разных школ и течений: философии всеединства, символизма, интуитивизма, персонализма и т. д. Однако их всех объединяла религиозная направленность исканий. Как отмечал С. Л. Франк, «все глубочайшие русские мыслители и философы были одновременно религиозными философами и богословами»[1].
Русская философская мысль оказалась связанной со своей религиозной почвой, что в значительной степени и определило ее своеобразие как явления национального духа, определило способ ее мировидения, ее картину мира. В центре духовных исканий русских религиозных философов был человек, смысл его жизни, его судьба в контексте современной цивилизации. Это в значительной степени предопределило гуманистический пафос данного философского направления.
Русская философия (в том числе и религиозная) являлась и является предметом специального исследования как отечественных, так и зарубежных ученых[2]. В этой связи отметим, что в последние десятилетия в нашей стране были опубликованы фундаментальные труды историков русской философии, оказавшихся в эмиграции: Н. А. Бердяева, В. В. Зеньковского, Н. О. Лосского, Г. В. Флоровского[3]. Предметом изучения являются и отдельные концепции (в том числе и эстетические) религиозных философов[4].
Вместе с тем представляется, что, наряду с анализом русской религиозной философии как направления и изучением отдельных концепций, важным является обращение к отдельным проблемам, которые разрабатывались мыслителями, и в связи с этим – реконструкция, анализ и оценка их взглядов. Одной из таких проблем, узловой для их философско-культурологических поисков, является проблематика ценности. Анализ трактовки этой проблематики представителями данного направления является важным, поскольку проясняет особенности миросозерцания русских религиозных философов, специфику их картины мира, в которой и через которую выражается их национально-этническое своеобразие. Внутри аксиосферы культуры особую роль, по мысли религиозных мыслителей, занимает Красота. Данное понятие, стало центральным, с помощью которого русские религиозные философы пытались раскрыть эсхатологическую перспективу. К выдвижению красоты в качестве цели мирового процесса привела сама нацеленность русского миросозерцания на «улучшение мира», «мировое благо» (С. Л. Франк), а не только лишь на понимание мира.
В представляемой читателю работе автор попытался показать и обосновать существование в рамках русской философской традиции особого направления мысли – русской религиозной аксиологии. Понятие «русская религиозная аксиология» введено автором в научный обиход в 2002 г., когда отрицалось само существование теории ценностей в русской философии[5]. К настоящему времени стало ясно, что русские мыслители сумели разработать (правда, на принципиально иных основаниях, нежели их европейские коллеги) оригинальную теорию ценностей[6]. Разработка проблематики ценностей проводилась русскими мыслителями в тесной связи со всем спектром связанных с ней общефилософских проблем: роль идеалов и ценностей в духовном мире личности, кризис современной цивилизации и его последствия для человека, утрата человеком духовно-ценностной опоры в жизни и пути ее обретения вновь и др.
Трактовка религиозными философами Красоты как ценности выявила ее значение не только в сугубо эстетическом, но и во внеэстетическом планах как необходимого и важнейшего элемента духовной жизни, без которого немыслима полноценная личность как субъект общения, поведения и деятельности. Интерпретация представителями рассматриваемого направления специфики красоты в природе и искусстве и сегодня остается значимой для современного социогуманитарного знания, поскольку раскрывает проблематику в ее реальной многоаспектности и глубине, во взаимосвязи с процессами развития общества и культуры. На наш взгляд, еще не до конца современной наукой раскрыт смысл концепции теургии (разрабатывавшейся русскими религиозными философами), обладающей значительным эвристическим потенциалом и ценностью.
Следует отметить, что русская религиозная аксиология до настоящего времени не стала предметом специального всестороннего анализа. Поэтому предлагаемая читателю работа – первая попытка анализа русской религиозной аксиологии, охватывающая разные грани теоретических поисков отечественных мыслителей. В книге представлены работы автора, ранее опубликованные в научных сборниках (см. примечания). Отсюда – неизбежная неполнота охвата материала. Утешением в какой-то мере может быть лишь понимание того, что это – начало работы по освоению и тем самым возвращению в лоно современного социогуманитарного знания непреходящих ценностей отечественной духовной культуры.
Вместо введения О понятии «русская религиозная аксиология»
Разработка аксиологической проблематики в отечественной философии в огромной мере опиралась на все предшествовавшее развитие философской мысли и была связана с особенностями мировосприятия, мироощущения и миропонимания русского человека, складывавшихся на протяжении столетий[7]. Именно в этой связи теоретико-ценностные концепции, возникшие в России в конце XIX – начале XX века, обладали чаще всего национальным своеобразием и отнюдь не были простым повтором идей западноевропейской мысли. Более того, опора на истоки ценностного миропонимания русского человека позволила на рубеже веков в ряде случаев предвосхитить идеи, возникшие в рамках западноевропейской философии и культурологии лишь значительно позднее. Поэтому анализ особенностей собственно аксиологического этапа развития русской философии необходимо предварить хотя бы кратким обращением к его истокам.
Истоки ценностного миропонимания русского человека могут быть обнаружены как в мифологии и фольклоре Древней Руси, так и в памятниках древнерусской письменности, в летописях и житиях, в архитектуре храмов, в иконах и т. д. Большую роль в формировании ценностного миропонимания сыграло знакомство с культурой античности, а также с культурой Византии.
В развитии ценностного миропонимания русского человека обнаруживаются закономерности, общие для разных стран и народов: движение от ценностного синкретизма на первом этапе, к вычленению на втором этапе ценностей нравственных, эстетических, религиозных и др., а затем на третьем – к новому их синтезу в таких философских понятиях как «ценность» и «благо». Важнейшую роль в становлении ценностного миропонимания русского человека сыграло святоотеческое учение и связанная с ним исихастская традиция (в букв. пер. с греч. исихия – молчание, тишина, безмолвие, покой). Освоение святоотеческого наследия было призвано способствовать личностному совершенствованию монахов. Исихастская практика рассматривалась ее адептами как благодатное искусство, «художество из художеств», задача которого – «сочетать ум с сердцем», найти путь к единению человека с Богом. Первыми представителями этого движения на Руси были исихасты-нестяжатели во главе с Нилом Сорским (1433–1508). Главная цель исихастской практики, «умного делания» – сохранение ума и глубин сердца «без дурных помыслов», «в целомудрии и чистоте». Есть все основания согласиться с А. Ф. Замалеевым в том, что для исихастов-нестяжателей дуализм земного и божественного обрел характер аксиологической антиномии – все самое возвышенное и светлое, с одной стороны, и все самое враждебное и низменное, с другой – оказалось на разных полюсах. При этом «Нил Сорский совершенно исключал возможность соравной оценки Творца и твари, разводя их в разные сущностные и аксиологические ниши»[8]. Исихазм как практика сочетания ума с сердцем, как путь внутреннего духовного перерождения личности через «оптинское» движение в православии XIX века оказал глубокое воздействие на творчество русских писателей и религиозных философов. Многое в их аксиологических построениях восходит к воззрениям «заволжского старца» Нила Сорского.
Важнейшей особенностью ценностного миропонимания стала опора на религиозный онтологизм. Уже византийская философия, сложившись на почве платонизма и придав ему еще более сакральное звучание, связала представление о подлинном бытии с бытием единого Бога; уподобление Богу обрело ценностную окраску[9]. Поскольку в теории и практике исихазма «умное делание» (т. е. жизнь «в духе Господне») дается исключительно верой, то здесь и не остается места гносеологии в чистом виде.
Религиозная онтологизация идеи ценности оказала воздействие на все дальнейшее развитие русской философской мысли. Первым в русской философии позицию онтологизма в гносеологии выразил А. С. Хомяков (1804–1860). Свое обоснование она получила у И. В. Киреевского (1806–1856), который, пытаясь обнаружить собственный, оригинальный путь развития русской философии, противопоставил западный (связанный с наследием Аристотеля и схоластики) и восточный (опиравшийся на Платона и святоотеческое учение) способы мышления. По его словам, на Западе полагают, что достижение полной истины возможно и для «разделившихся сил ума», действующих в своей «одинокой отдельности». Одним чувством понимается при этом нравственное, другим – изящное, третьим – полезное; истинное понимается отвлеченным рассудком, и ни одна способность не знает, что делает другая, пока ее действие совершается. Отсюда – «раздробленность духа», «отсутствие центра духовного бытия» западного человека. Отсюда же – «языческое поклонение отвлеченной красоте». С точки зрения Киреевского, «вместо того, чтобы смысл красоты и правды хранить в той неразрывной связи, которая, конечно, может мешать быстроте их отдельного развития, но которая бережет общую цельность человеческого духа и сохраняет истину его проявлений, западный мир, напротив того, основал красоту свою на обмане воображения, на заведомо ложной мечте или на крайнем напряжении одностороннего чувства, рождающегося из умышленного раздвоения ума»[10].
В отличие от этого, по мнению православного философа, для русского человека характерны (уже начиная с древней Руси) «внутренняя цельность самосознания», «стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного»[11]. Он связывает это с наследием св. отцов православной церкви, под руководством которых «сложился и воспитался коренной русский ум, лежащий в основе русского быта». Христианство только в православном мире сохранило внутреннюю цельность духа (благодаря самому характеру этого учения). Только «живое, цельное умозрение святых отцов церкви», по его мнению, даст возможность найти «самые полные ответы именно на те вопросы ума и сердца, которые всего более тревожат душу, обманутую последними результатами западного самосознания»[12].
Исходя из того, что характер господствующей философии зависит от характера господствующей веры, Киреевский полагал, что русская мысль, укорененная в христианстве иначе, чем западная, способна выдвинуть «новые начала» в философии. Так же как и Хомяков, Киреевский видел основную болезнь западной философии в ее идеализме, в потере живой связи с реальностью: раздробив цельность духа на части и предоставив отделенному логическому мышлению высшее сознание истины, человек в глубине своего самосознания оторвался от всякой связи с действительностью. Свою задачу философ видел в том, чтобы освободиться от идеализма, от односторонности западного способа мышления. Причем путь русской философии Киреевский полагал не в отрицании западной мысли, а в восполнении ее тем, что раскрывается в «высшем духовном зрении», когда все «отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума»[13]. У православного философа основная идея онтологизма в познании связана с утверждением, что познание представляет собой часть и функцию нашего «бытийственного» вхождения в реальность, что к реальности мы приобщаемся всем своим существом, а не одной только мыслью. Только для цельной личности, такой личности, которая обладает «внутреннею цельностию бытия», может открыться «смысл существенности». Поэтому приобщение к реальности, как функция личности, дано «верующему мышлению»; только православно верующий знает, что «для цельной истины нужна цельность разума», искание этой цельности и составляет постоянную задачу его мышления.
Таким образом, возможность «овладения» реальностью, «сила» познания определяется не познанием как таковым, а свечением смысла, его осуществлением во «внутреннем средоточии» человека: «главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство и таким образом восстанавливается существенная личность человека в ее первозданной неделимости»[14]. Поэтому, по его мысли, над логическим знанием и надстраивается «знание гиперлогическое», которое, (как и вера) соединяет нас с действительностью. Познание истины есть пребывание, жизнь в истине.
Обоснованный Киреевским онтологизм в истолковании познания оказал значительное воздействие на пути дальнейшего развития русской философии, прежде всего на развитие русской религиозной философии. Религиозный онтологизм стал методологическим фундаментом анализа теоретико-ценностной проблематики такими ее представителями как С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, Н. О. Лосский и др.
Следует отметить, что онтологизм – характерная особенность русской философии. Как справедливо отмечал В. В. Зеньковский, в русской философии есть некоторые особенности, которые отодвигают теорию познания на второй план. За исключением небольшой группы «правоверных кантианцев», русские философы очень склонны к онтологизму при разрешении вопросов теории познания, т. е. к признанию того, что познание не является первичным и определяющим началом в человеке[15]. По мысли Зеньковскиго, русский онтологизм выражает не примат «реальности» над познанием, а включенность познания в наше отношение к миру, в наше «действование» в нем. Таким образом, онтологизм как характерная черта русской философии противостоит гносеологизму западноевропейской философии.
Важнейшей особенностью ценностного миропонимания русского человека является его моральная установка. Как отмечает С. Л. Франк, во всем строе русской мысли (от народного мышления до творческого гения) большую роль играет непереводимое слово «правда», которое одновременно означает и «истину» и «моральное и естественное право». Русский дух «всегда искал ту истину, которая ему, с одной стороны, объяснит и осветит жизнь, а с другой – станет основой «подлинной», т. е. справедливой жизни, благодаря чему жизнь может быть освящена и спасена. Это, собственно, и есть истина как «свет…который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоанн, 1,9), истина как Логос, в котором – жизнь, позволяющая преодолевать разрыв между теорией и практикой, между познанием и формой существования»[16]. Русская философия стала восприемницей этой моральной установки. Например, Я. П. Козельский (приблизительно 1728–1793) на первое место среди ценностей выдвинул ценности нравственные: «добродетельного человека должно почитать больше, нежели умного, сильного и красавца.»[17]. Моральная установка стала своеобразной доминантой русской философии, определяя ее национальное своеобразие.
Для нашего последующего анализа оказывается существенным то, что русская философская мысль никогда не являлась «чистым познанием», но всегда – поиском пути улучшения мира, поиском мирового блага. Как отмечал Н. А. Бердяев, «в русской мысли преобладает моральный элемент над метафизическим, и за ней скрыта жажда преображения мира»[18]. Вот почему выдвижение идеалов, возвышающих человека (в том числе идеалов, возвышающих человека до его соотнесенности с Богом), стало органической стороной русской философии. И для нерелигиозного и для религиозного направлений русской философии оказалась характерной опора на идеалы красоты, добра и истины в их неразрывном единстве. Моральная установка получила свое выражение в идее религиозного поиска спасения. Причем, как подчеркивает С. Л. Франк, «когда речь идет о русских поисках «блага», имеются в виду не ценности, приносящие личное спасение или исцеление, но принцип или порядок, т. е. в конечном счете религиозно-метафизический опорный пункт, или основа, на которой должна зиждиться вся человеческая жизнь, да и все космическое мироздание, и через которую человечество и мир спасаются и преображаются»[19]. Именно поэтому для русской религиозной этики характерно то, что «благо» проявляется не как «моральная проповедь или нравственная заповедь, не как долженствование и норма, а как истина, как живая онтологическая сущность, которую человек должен постичь и отдать ей всего себя»[20]. И в этом смысле «религиозная этика есть одновременно религиозная онтология», поскольку «бытие в Боге» составляет суть религиозного онтологизма.
Данные черты ценностного миропонимания русского человека были порождены всей отечественной духовной историей, что и нашло свое выражение в русской философии, особенно на этапе выдвижения теоретико-ценностных концепций (т. е. с конца XIX века).
Представляется, что все это дает основание ввести в современный научный обиход термин «русская религиозная аксиология», а также доказать необходимость и обоснованность такого введения – что и является нашей задачей.
В современной литературе, посвященной теоретико-ценностной проблематике, существует два различных подхода к вопросу о том, разрабатывала ли русская философия теорию ценности. Согласно первому, например, с точки зрения М. С. Кагана, «русская философия не знала теории ценности»[21]. В отличие от этого сторонники второго подхода полагают, что «русская философия содержит четкие ценностные ориентиры, основанные на методологии религиозного онтологизма»[22]. Подход к данному вопросу А. Ф. Замалеева представляется нам эвристически ценным и продуктивным, поскольку демонстрирует, что теоретико-ценностные концепции могут опираться на разные основания, в том числе и на религиозные. Онтологизация ценностей характерна не только для средневековых мыслителей, но и для философов XX века, например для представителей теологической аксиологии (Г. Марселя, Ж. Маритена и др.). На наш взгляд, онтологизация ценностей отнюдь не выводит теоретико-ценностные концепции религиозных мыслителей за пределы аксиологии. Эти концепции следует рассматривать как один из реально существующих подходов к пониманию природы ценностей.
При обосновании своей позиции М. С. Каган исходит из того, что если нет никакого сущностного отличия ценности от истины, так же как красоты от добра, то не возникают и самостоятельные эстетическая и этическая, гносеологическая и аксиологическая теории. То есть речь фактически идет о том, что в русской религиозной философии именно по этой причине отсутствуют теория познания, эстетика, этика, аксиология. Такая позиция выглядит достаточно убедительно, если исходить из опыта западноевропейской философии. Однако при этом вольно или невольно на предмет нашего анализа – русскую философию – переносятся критерии, относящиеся к философии западноевропейской.
Следует подчеркнуть, что в отечественной философской литературе существует иная традиция, связанная с истолкованием специфики русской, и в особенности, русской религиозной философии. Согласно этой традиции онтологизм русской философии накладывает неизгладимый отпечаток на сам стиль философствования, внутренне ей присущий. Как отмечает А. Ф. Замалеев, «русская философия идет к гносеологии через онтологию, через внутреннюю органическую сопричастность бытию»; «завершением онтологии в русской философии выступает антропология, включающая социологию и этику»[23]. Несомненно, русская религиозная философия включает в себя, например, гносеологию. Только это иная гносеология, не подпадающая под критерии западноевропейской традиции. В этой связи, размышляя об основном духовном качестве русского мировоззрения, С. Л. Франк писал: «На этой основе, следуя традиции Ивана Киреевского и Вл. Соловьева, развивалась в России научно-систематическая теория познания, которая, как можно утверждать, содержит некоторые весьма оригинальные и западной философии малознакомые мысли»[24]. Франк обозначает ее термином «онтологическая теория познания»[25].
В этой связи представляется, что русская религиозная философия включает в себя также и аксиологию. Причем также как и в случае с гносеологией, к аксиологии она шла через онтологию, через внутреннюю органическую сопричастность бытию. Известный исследователь русской философии, В. В. Зеньковский отмечал, что «для религиозной установки (и только для нее) характерна внутренняя неотделимость теоретического и аксиологического момента в понимании бытия»[26]. В этом смысле можно достаточно обоснованно утверждать, что русская религиозная философия буквально пронизана аксиологической проблематикой, содержит ее как свой сущностный момент. Понятие «ценность» наряду с понятием «достоинство» использовалось уже B. C. Соловьевым, который рассматривал ценность как «безусловное значение», связанное с образом и подобием Божьим[27]. С. Н. Булгаков утверждал, что Бог есть «высшая, абсолютная ценность, источник всяких ценностей производных»[28]. К теоретико-ценностной проблематике обращались также Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и др. Например, Б. П. Вышеславцев не только использует понятие «ценность», но и выдвигает целый ряд аксиологических идей: «существуют различные системы ценностей у различных народов и культур»; «последним их основанием являются великие религии, в которых ценности открываются, как, например, в десяти заповедях Моисея»; «христианская аксиология» вырастает и раскрывается в «противопоставлении» двух систем ценностей – «старой системы ценностей» (которая «объемлется понятием закона») и «новой системы ценностей» (выраженной в едином символе «Царства Божия»); «существует иерархия ценностей и, следовательно, абсолютно высшая ценность, вершина иерархических ступеней»[29].
Возникает также вопрос, означает ли постановка проблемы ценности и рассуждение на эту тему собственно разработку теории ценности, аксиологии? Сами религиозные философы, например Н. О. Лосский (создавший и общую теорию ценности, и эстетическую теорию красоты как ценности) отвечали на этот вопрос однозначно: «Лосский разрабатывает проблемы эстетики в той же самой плоскости, как и проблемы аксиологии и этики, т. е. исходя из концепции Царства Божиего»[30]. Н. О. Лосский обозначает этот раздел своего учения термином «онтологическая теория ценностей»[31](как и в случае с теорией познания, которую С. Л. Франк обозначил термином «онтологическая теория познания»). Таким образом, и гносеология, и аксиология в русской религиозной философии имеют онтологическую основу – и в этом специфика русского стиля философствования.
Итак, представленная здесь позиция опирается на длительную традицию в отечественной философской литературе. Это, на наш взгляд, дает основание для введения в научный обиход термина «русская религиозная аксиология». Наряду с введением данного термина следует раскрыть также характерные особенности этого направления отечественной философской мысли. Подчеркнем, что задачу создания целостной аксиологической концепции поставил перед собой Н. О. Лосский, который наряду с общей теорией ценности, разработал и эстетическую теорию красоты как ценности. Поэтому остановимся подробнее именно на его концепции.
Для Лосского несомненно, что при построении аксиологической концепции необходимо найти некое «первичное начало», некое «первичное абсолютно совершенное и всеобъемлющее добро» (добро не в смысле только нравственного добра, а в смысле всякого совершенства, в том числе и эстетического). Только такое первичное начало могло бы стать масштабом и основой любых оценок. Для религиозного философа такое высшее добро есть Бог. Поэтому «ценности существуют не иначе как в соотношении с абсолютной полнотою бытия», иначе говоря, малейшее приобщение к Богу в религиозном опыте открывает нам его как само Добро и как абсолютную полноту бытия. С точки зрения Лосского, Бог представляет собой «само Добро во всеобъемлющем значении этого слова: Он есть сама Истина, сама Красота, Нравственное Добро, Жизнь и т. д.»[32]. Именно поэтому во главу теории ценностей (аксиологии) Лосский ставит всеобъемлющую полноту бытия как абсолютное совершенство.
Вместе с тем, религиозный философ утверждает наличие «глубокой онтологической пропасти», отделяющей Божественное сверхбытие от тварного бытия. Разделение бытия на Царство Божие и тварное, («психо-материальное царство») оказывается основополагающим в аксиологии Лосского, поскольку его задача – «защита абсолютизма и объективизма в аксиологии». Решение этой задачи он считает возможным путем создания, «онтологической теории ценностей». Бог и Царство Божие оказываются в этой связи источником и абсолютным мерилом ценностей: «Ценность есть нечто выходящее за пределы противоположности субъекта и объекта, так как обусловливается отношением субъекта к тому, что выше всякого субъективного бытия, именно к Абсолютной полноте бытия»[33].
Несомненно, что само стремление Лосского найти в ценностях моменты объективного и абсолютного заслуживает внимания и поддержки. Вместе с тем, апелляция религиозного философа к «абсолютному Добру», к Богу оказывается значима лишь в рамках собственно религиозной философии. В своих суждениях Лосский опирается на христианское откровение, когда различает «триединство Лиц» – Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. С его точки зрения, каждое Лицо Пресвятой Троицы есть Всеобъемлющая абсолютная самоценность, которая едина в трех Лицах. Один Бог обладает и возможностью, и действительностью бытия, все остальное – только действительностью. Поэтому между религиозным и нерелигиозным направлениями философского знания и возникает, выражаясь словами А. И. Герцена, «церковная стена»[34].
Вслед за Достоевским Лосский связывает зло, безобразное и другие виды несовершенства с утратой большинством людей «в культурных странах» веры в Бога и бессмертие, и тем самым – с потерей веры в «христианский идеал». С его точки зрения, только «Бог и все индивидуальные личности суть высшие всеобъемлющие абсолютные ценности», в то время как все другие ценности, даже абсолютные (например, красота, нравственное добро, истина) суть «ценности частичные», имеющие смысл только и в связи с жизнью личности[35]. В отрыве от личности эти ценности могут стать «бесчеловечными», особенно у тех людей, кто «утратил Бога и потерял способность к индивидуальной любви». У таких людей вся система ценностей распадается на отдельные элементы, такие люди теряют «сознание ранга ценностей» и, следовательно, утрачивают способность различать добро и зло, для них все ценности становятся «внечеловеческими и даже бесчеловечными»: как Нерон, такой человек может спокойно любоваться красотой пожара, в котором гибнут люди, и даже может зажечь пожар.
Такому распаду системы ценностей в душе человека Лосский противопоставляет христианский идеал, который «ставит человека безмерно высоко и требует от него осуществления божественного добра в царстве Божием, где единодушие основано не на муравьиной необходимости, а на свободной общей любви к абсолютным ценностям красоты, истины и нравственного добра»[36]. Философ подчеркивает, что совесть человека, даже если ее усыпляют «преходящими благами», рано или поздно заговорит в защиту христианского идеала и потому человек в земных условиях никогда не успокоится и всегда будет бунтовать против того, что препятствует или кажется препятствующим достижению идеала.
Лосский разделяет мысль Достоевского о том, что в каждом человеке имеет место существование «возможности совершенного добра». При этом совершенное добро осуществляется лишь тем, кто подлинно сам живет его ценностью, точно так, как поэт живет ценностью творимой им красоты; творение такого добра есть полнота жизни, сама в себе заключающая такое удовлетворение, что иной награды, кроме счастья самой этой жизни, не требуется. Аналогично этому, по его мысли, все существа имеют в себе аспект красоты, или первозданной, или связанной с движением к совершенству, или, по крайней мере, с обнаружением «мирового смысла». Поэтому во всем мире можно обнаружить красоту и «полюбить мир».
Итак, для Лосского триединство Красоты, Добра и Истины представляет собой неотъемлемое качество христианского идеала; каждый из элементов этого триединства имеет смысл только в связи с жизнью личности, обладающей сознанием «ранга ценностей». Лосский подчеркивает особую роль ценностей в духовной жизни личности. С его точки зрения, действительная личная жизнь начинается там, где есть сознание абсолютных ценностей и долженствование осуществлять их в своем поведении. Абсолютные ценности принадлежат к области духовного бытия. Поэтому действительная личность есть существо, способное к духовной деятельности. Таким образом, именно ценности определяют действительность «духовного бытия» личности, характер ее мировоззрения.
С точки зрения религиозных философов, Бог как абсолютная высшая ценность, а также Красота, Добро и Истина выступают фундаментом мировоззрения и мироощущения личности, образуют ее ценностный стержень и тем самым обеспечивают цельность человеческой души. Несомненно, что такое представление связано с методологией религиозного онтологизма. Как подчеркивал С. Л. Франк, «совершенное позитивное содержание личности» происходит только от одного Бога, причем принимается личностью «не только как внешний дар, а усваивается внутренне». При этом «как индивидуализм субъективного внутреннего, так и внешне надындивидуальный объективизм преодолены здесь через абсолютный всеобъемлющий онтологизм… не стремление к Богу, а бытие в Боге составляет суть этого религиозного онтологизма»[37].
Таким образом, проведенный анализ показал, что:
– религиозная онтологизация идеи ценности оказала воздействие на все развитие русской философской мысли; первым в русской философии позицию онтологизма в гносеологии выразил А. С. Хомяков; свое обоснование она получила у И. В. Киреевского, который оказал значительное воздействие на пути дальнейшего развития русской философии, прежде всего на развитие русской религиозной философии; онтологизм был противопоставлен гносеологизму западноевропейской философии;
– при построении аксиологической теории религиозные мыслители исходили из необходимости найти некое «первичное начало», некое «первичное абсолютно совершенное и всеобъемлющее добро»; таким первичным началом оказывается «высшее добро» – Бог, который рассматривается как «высшая, абсолютная ценность, источник всяких ценностей производных» (С. Н. Булгаков); при этом фиксируется «глубокая онтологическая пропасть», отделяющая «Божественное сверхбытие от тварного бытия»; такое разделение оказывается основополагающим, например, в теории ценностей Н. О. Лосского;
– неотделимость теоретического и аксиологического момента в понимании бытия, характерная для русской религиозной философии (В. В. Зеньковский), дает основание ввести термин «русская религиозная аксиология», обозначающий одновременно и сам стиль философствования и особый раздел русской религиозно-философской мысли; Н. О. Лосский прямо называл свою концепцию «онтологической теорией ценностей»;
– ценности, с точки зрения религиозных философов, определяют действительность «духовного бытия» личности, характер ее мировоззрения (Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, С. Л. Франк, и др.); поэтому русская религиозная философия буквально пронизана аксиологической проблематикой, содержит ее как свой сущностный момент; моральная установка стала своеобразной доминантой русской философии, определяя ее национальное своеобразие;
– личная духовная жизнь начинается лишь тогда, когда возникает осознание абсолютных ценностей и долженствование осуществлять их в своем поведении (Н. О. Лосский); распаду системы ценностей в душе современного человека Лосский противопоставляет «христианский идеал», неотъемлемым качеством которого выступает «триединство Красоты, Добра и Истины»;
– Бог как абсолютная высшая ценность, а также Красота, Добро и Истина, с точки зрения религиозных мыслителей, выступают фундаментом мировоззрения и мироощущения личности, образуют ее своеобразный ценностный стержень и тем самым обеспечивают цельность человеческой души.
Раздел 1 Ценности как ядро культуры и духовной жизни человека
1.1. Роль духовного начала в исторической жизни народа: из наследия отечественной религиозной философии
В противовес экономическому детерминизму представители русской религиозной философии утверждали непреходящее значение духовного фактора в развитии общества. При этом использовался целый ряд понятий: «мировоззрение» (В. С. Соловьев, С. Л. Франк), «духовная жизнь» (С. Л. Франк), «духовная культура» (И. А. Ильин), «народный дух» (В. С. Соловьев), «душа народа» (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин), «национальный дух» (С. Л. Франк), «национальное сознание» (В. С. Соловьев, Г. П. Федотов), «национальное самосознание» (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов) и др.
Для русских религиозных философов было несомненно, что «историческая жизнь народов определяется прежде всего их основными убеждениями, их общим мировоззрением»[38]. Согласно Соловьеву, в определенные эпохи и в конкретных общественных слоях могут появляться люди, совершенно освободившиеся от всяких убеждений, лишённые внутреннего содержания, т. е. «люди пустые, одним словом; но пустых народов не знает история»[39]. Да и для отдельного человека, с его точки зрения, неестественно существовать «без высших духовных начал, жить в умственной и нравственной пустоте»; это слишком убедительно доказывается некоторыми явлениями как прошедшей, так и современной истории.
Актуальными для нашей современной жизни являются его слова о том, что с исчезновением глубоких убеждений, всеобщих, безусловных идей, «пустеет мир внутренний и теряет свою красоту мир внешний».
Для характеристики особой направленности национального духа, ментальности народа он выдвигает понятие «национальный идеал»: «Обыкновенно народ, желая похвалить свою национальность, в самой этой похвале выражает свой национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего он более всего желает. Так, француз говорит о прекрасной Франции и о французской славе…англичанин с любовью говорит: старая Англия. немец поднимается выше и, придавая этический характер своему национальному идеалу, с гордостью говорит: die deutsche Treue (немецкая верность). Что же в подобных случаях говорит русский народ, чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или старой, говорит ли о русской славе или о русской честности и верности? Вы знаете, что ничего такого он не говорит, и, желая выразить свои лучшие чувства к родине, говорит только о «святой Руси». Вот идеал: не консервативный и не либеральный, не политический, не эстетический, даже не формально-этический, а идеал нравственно-религиозный»[40]. По Соловьеву, замысел Божий может быть реализован двояко: либо как закон жизни (если народ следует ему), либо как закон смерти (если народ отходит от него). Исходя из этого, идеалы – это непреходящий «интегральный момент коллективной человеческой жизни» (С. Н. Булгаков); вместе с тем, историческая жизнь народа определяется идеалами не в меньшей мере, чем отпадением от них.
Соловьев был убежден в том, что прогресс общества возможен лишь тогда, когда народ повернется лицом к «преданию» отцов, т. е. к ценностям национальной культуры. Этот религиозно-нравственный идеал, по Соловьеву, предполагает воспитание в каждом русском человеке чувство священного благоговения перед Родиной, ее прошлым, настоящим и будущим. При этом, как он подчеркивал, «наш национальный дух осуществляет свое достоинство лишь в открытом общении со всем человечеством, а не в отчуждении от него»[41].
Следует отметить, что высшие духовные ценности-идеалы действительно определяют изнутри всю духовную жизнь человека, духовную жизнь общества. Сама же «духовная жизнь» дается нам, по словам С. Л. Франка, «в форме реальности, присутствующей в нас самих, изнутри с нами сращенной и нам раскрывающейся», а общественное бытие и есть «внешнее выражение и воплощение» этой духовной жизни. А потому, заключает он, «общественная жизнь по самому существу своему духовна, а не материальна… История есть великий драматический процесс воплощения, развертывания во времени и во внешней среде духовной жизни человечества, выступления наружу, и формирующего действия сверхчеловеческих сил и начал, лежащих в глубине человеческого существа»; поэтому «общественное бытие есть именно двуединство этой внутренней духовной жизни с ее внешним воплощением»[42].
Франк также как и Соловьев подчеркивал непреходящую роль ценностей-идеалов в жизни общества: «История общества в качестве истории духовной жизни есть драматическая судьба Бога в сердце человека». Общественное бытие есть всегда нечто большее, нежели имманентное выражение чисто человеческих страстей и субъективных стремлений: «человек на всех стадиях своего бытия, во всех исторических формах своего существования есть как бы медиум, проводник высших начал и ценностей, которым он служит и которые он воплощает, – правда, медиум не пассивный, а активно соучаствующий в творческом осуществлении этих начал»[43].
Каковы же эти «высшие начала и ценности»? Для нас не подлежит сомнению, что Франк имеет в виду именно ценности-идеалы, определяющие цели жизнедеятельности человека, поскольку он связывает их с «категорией должного». По Франку, «должное есть первичная категория». Она «выражает подчиненность человеческой воли высшему, идеальному, абсолютно обязывающему началу». Это «абсолютно обязывающее начало» и есть идеал. Этот идеал есть «образцовая идея», «идея-образец», смысл которой заключается в том, что она есть цель человеческой воли. Как «идеальное начало», как «образцовая идея» она «телеологически определяет человеческое поведение в качестве идеала или «должного», осуществляемого в общении»[44].
История, с точки зрения С. Л. Франка, есть драматический процесс смены отдельных отвлеченных идеалов, из которых каждый в своем осуществлении обнаруживает свою односторонность (тем самым свою несостоятельность) и поэтому уступает место другому. Человечество увлекается каким-либо одним идеалом (который выдвигается либо эмпирическими нуждами жизни, либо духовным состоянием времени), отдает его осуществлению все свои силы, но, осуществив его, неизбежно в нем разочаровывается и начинает искать что-либо новое, часто прямо противоположное предыдущему его верованию. На самом деле, по Франку, «общественная жизнь, будучи в качестве духовной жизни жизнью в Боге, имеет своим единственным конечным назначением осуществление своей истинной онтологической природы во всей ее конкретной полноте, т. е. "обожение" человека, возможно более полное воплощение в совместной человеческой жизни всей полноты божественной правды»[45].
Конечно, духовные ценности оказывают воздействие не сами по себе, а воздействуя на духовный мир личности и социальных общностей, формируя их картину мира и тем самым определяя поведение и деятельность. Однако при этом сама духовная жизнь, высшие духовные ценности, их неповторимая для каждого народа совокупность во многом предопределяют судьбу данного народа, судьбу страны.
Высокие духовные ценности, святыни русского человека – вот та духовная сила, которая не раз спасала наше Отечество. Выражением этой силы в свое время стала русская икона. В своих размышлениях о древнерусской иконописи Е. Н. Трубецкой показывает, что икона была фактически «выстрадана» поколениями наших предков, она стала явлением «той самой благодатной силы, которая некогда спасла Россию»[46]. Так, в дни великой разрухи и опасности преподобный Сергий собрал Россию вокруг воздвигнутого им в пустыне собора св. Троицы. В похвалу святому Андрей Рублев «огненными штрихами начертал образ триединства, вокруг которого должна собраться и объединиться вселенная». С этих пор данный образ не переставал «служить хоругвью», вокруг которой собирается Россия в дни великих потрясений и опасностей. И не только в одной рублевской иконе, во всей иконе XV века звучит этот призыв. Однако есть в этой иконописи, отмечает Трубецкой, и нечто другое, что преисполняет душу бесконечной радостью – это образ России обновленной, воскресшей и прославленной. Все в ней говорит о нашей народной надежде, о том высоком духовном подвиге, который вернул русскому человеку родину. Мы и сейчас живем этой надеждой, писал Е. Н. Трубецкой в начале 1918 г.
При этом не следует забывать, что совокупность духовных ценностей, в целом самосознание народа изменяются во времени. Этот аспект специально отмечает Г. П. Федотов: духовная жизнь не есть «нечто неподвижное, пребывающее в глубине изменчивого потока истории»; «национальное самосознание есть непрерывно раскрывающийся духовный акт, смысл которого, говоря словами В. С. Соловьева, есть постижение в судьбе и духе народа того, "что Бог думает о нем в вечности". Мы всегда неполно и отрывочно созерцаем отдельные стороны этой таинственной личности. Самые устойчивые национальные характеристики приходится пересматривать, перестраивать, потому что мы имеем дело с подвижным объектом, с меняющимся образом. Самосознание народа непосредственно совпадает с его актуализацией. Новый подвиг, новая жертва – и новый грех – влекут за собой новую установку национального сознания»[47].
В этой связи отметим, что и православие особым образом легло на славянскую душу, определив на целое тысячелетие жизнь и судьбу России. Эту мысль по существу и утверждали религиозные философы. Например, Н. А. Бердяев, отмечал, что «русская душа останется навеки славянской душой, принявшей прививку православия»[48]. Как отмечает Н. О. Лосский, «люди, признающие религиозный опыт, не станут оспаривать того факта, что православие в его русской форме содержит исключительно высокие ценности»[49]. Какие же это ценности?
И. А. Ильин, касаясь данной проблематики, полагал, что религиозным источником русской идеи была «идея православного христианства» – «Россия восприняла свое национальное задание тысячу лет тому назад от христианства: осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую христианским духом любви и созерцания, свободы и предметности»[50]. Исходя из того, что «духовная культура совсем не исчерпывается культурой рассудочной», Ильин считал, что Россия «строилась и держалась» культурой иной: «есть еще культура сердца, совести и чувства, есть культура созерцания, видения; есть культура служения, самоотречения и жертвенности; есть культура веры и молитвы; есть культура храбрости и подвижничества»[51]. По его словам, «русская идея есть идея сердца» – она утверждает, что главное в жизни есть любовь, и что именно любовью строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа. Эту идею «русско-славянская душа» (издревле и органически предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте), восприняла исторически от христианства: «она отозвалась сердцем на Божие благовестие, на главную заповедь Божию», и уверовала, что «Бог есть Любовь». Из глубины православия, по его мнению, родился у нас этот «верный опыт», уверенность в том, что «священное есть главное в жизни и что без священного жизнь становится унижением и пошлостью…»[52].
Подчеркнем, что сегодня даже люди неверующие признают, что русская культура, образно говоря, «замешана на православии», имеет в своей основе именно православие. Об это свидетельствуют и социологические опросы населения России, согласно которым около 80 % граждан поддерживают или разделяют православие.
Отстаивая свою национальную независимость, Россия боролась за свою веру и религию. Этим Россия, как полагает Ильин, служила не только всем православным народам и не только всем народам европо-азиатского территориального массива, но и всем народам мира, поскольку православная вера есть «особое, самостоятельное и великое слово в истории и в системе Христианства».
Православие сохранило в себе и бережно растило то, что утратили все другие (западные) исповедания и что наложило свою печать на все ответвления христианства, магометанства, иудейства и язычества в России. И при всем том, отмечает религиозный философ, русская православная церковь никогда не обращала иноверных в свою веру мечом или страхом, открыто осуждая это и запрещая уже в ранние века своего распространения[53].
По Ильину, русское православие есть христианство «не столько от Павла, сколько от Иоанна, Иакова и Петра». Русское православие воспринимает Бога не воображением (которому нужны страхи и чудеса для того, чтобы испугаться и преклониться перед «силой» – первобытные религии); не жадной и властной земной волей (которая в лучшем случае догматически принимает моральное правило, повинуется закону и сама требует повиновения от других – иудаизм и католицизм); не мыслью (которая ищет понимания и толкования и затем склонна отвергать то, что ей кажется непонятным – протестантство). Русское православие воспринимает Бога любовью, «воссылает Ему молитву любви и обращается с любовью к миру и к людям». Этот дух и определил акт православной веры, православное богослужение, наши церковные песнопения и церковную архитектуру. Русский народ, как подчеркивал Ильин, принял христианство не от меча, не по расчету, не страхом и не умственностью, а чувством, добротою, совестью и сердечным созерцанием: когда русский человек верует, то он верует не волею и не умом, а огнем сердца. Когда его вера созерцает, то она «не предается соблазнительным галлюцинациям, а стремится увидеть подлинное совершенство». Когда его вера желает, то она «желает не власти над вселенною (под предлогом своего правоверия), а совершенного качества. В этом корень русской идеи. В этом ее творческая сила на века»[54].
По Ильину, о доброте, ласковости и гостеприимстве, а также и о свободолюбии русских славян свидетельствуют, единогласно древние источники – и византийские, и арабские. В этой связи он отмечает, что русская народная сказка вся проникнута «певучим добродушием»; русская песня есть прямое излияние «сердечного чувства во всех его видоизменениях»; русский танец есть импровизация, проистекающая из переполненного чувства. Первые исторические русские князья суть герои «сердца и совести» (Владимир, Ярослав, Мономах). Первый русский святой (Феодосий) – есть явление «сущей доброты». Духом «сердечного и совестного созерцания» проникнуты русские летописи и наставительные сочинения. Этот дух живет в русской поэзии и литературе, в русской живописи и в русской музыке. История русского правосознания свидетельствует о постепенном проникновении его этим духом, духом «братского сочувствия и индивидуализирующей справедливости».
Таким образом, любовь и является, с точки зрения религиозного философа, основной духовно-творческой силой русской души: без любви русский человек есть неудавшееся существо; цивилизующие суррогаты любви (долг, дисциплина, формальная лояльность, гипноз внешней законопослушности) сами по себе ему мало свойственны; без любви он или лениво прозябает, или склоняется ко вседозволенности; ни во что, не веруя, русский человек становится «пустым существом без идеала и без цели». Ум и воля русского человека «приводятся в духовно-творческое движение именно любовью и верою»[55].
Сегодня как никогда ранее стало очевидно: мерилом уровня развития отдельного общества и человечества в целом является не столько материальный прогресс, сколько духовное совершенствование человека. Пафос русской религиозной философия, акцент русских мыслителей на значимости духовной составляющей в жизни личности и общества – оказываются весьма актуальными. Сегодня, на наш взгляд, оказались востребованы идеи отечественных мыслителей, которые ясно показали – свобода, демократия, рынок отнюдь не являются той панацеей, с помощью которой можно возродить Россию.
Концепции религиозных философов демонстрируют фундаментальную роль духовности, полноценной и здоровой духовной жизни общества как единственного животворного источника социального прогресса. Отсутствие понимание этого (что было продемонстрировано политическим руководством нашей страны в 90-е гг. XX в.), попытка «построить капитализм» при забвении значимости высоких духовных ценностей в жизни общества и человека, не могли не обернуться бедами для народа и страны.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– в противовес экономическому детерминизму представители русской религиозной философии утверждали непреходящее значение духовного фактора в развитии общества; историческая жизнь народов определяется их высшими духовными началами, основными убеждениями, общим мировоззрением; человек на всех стадиях своего бытия, во всех исторических формах своего существования выступает как проводник высших начал и ценностей (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, С. Л. Франк и др.);
– идеалы – это непреходящий «интегральный момент коллективной человеческой жизни» (С. Н. Булгаков); высшие духовные ценности-идеалы определяют изнутри всю духовную жизнь человека, духовную жизнь общества; историческая жизнь народа определяется идеалами не в меньшей мере, чем отпадением от них;
– религиозно-нравственный идеал предполагает воспитание в каждом русском человеке чувство священного благоговения перед Родиной, ее прошлым, настоящим и будущим (В. С. Соловьев);
– высокие духовные ценности, святыни русского человека – вот та духовная сила, которая не раз спасала наше Отечество; выражением этой силы в свое время стала русская икона (Е. Н. Трубецкой);
– совокупность духовных ценностей, в целом самосознание народа изменяются во времени; православие особым образом легло на славянскую душу, определив на целое тысячелетие жизнь и судьбу России (Г. П. Федотов, Н. А. Бердяев);
– православие определило формирование особой аксиосферы русской культуры, для которой характерны ценности любви, веры, «сердечного и совестного созерцания», «братского сочувствия и индивидуализирующей справедливости», «сущей доброты» (И. А. Ильин) и др.
1.2. Своеобразие русской духовности в контексте диалога культур
Своеобразие русской духовности, русского сознания и самосознания было в центре теоретических поисков религиозных мыслителей, ибо, как отмечал И. А. Ильин, «отказывающийся от своего индивидуального духовного лица (все равно – будет это человек или народ) – не восходит на какую-то «высшую» ступень «всеобщего», а нисходит в духовное небытие: ему предстоит не «братание» и не братство, а исчезновение с арены истории»[56].
На наш взгляд, условно можно выделить два аспекта рассмотрения проблематики своеобразия русской духовности религиозными мыслителями: внутренний и внешний.
Внутренний аспект связан с осмыслением истории взаимодействия культур в рамках нашего общества. При этом И. А. Ильин, например, разграничивал «духовно ведущие народы» и «духовно ведомые народы». Он полагал, что не всякому народу удается «выносить самостоятельный духовный акт и создать самобытную духовную культуру». Народы, которым это удалось, по его мнению, – «духовно ведущие народы» (в отличие от тех, которым это не удалось – «духовно ведомых народов»). Задача ведущего народа заключается в том, чтобы дать возможность «приобщиться к духовному акту и к духовной культуре» народам ведомым, которые получают от него «творческое оплодотворение и оживление». В этом случае ведомый народ «находит свою родину в лоне ведущего народа и, не теряя своей исторической и биологической «национальности», вливается духовно в национальность ведущего». И это означает, что «ведущему народу удалось выработать национальный акт такой ширины и гибкости, а может быть и глубины, что он образует для ведомых народов как бы родовое духовное лоно, которое они могут видоизменять по-своему, оплодотворяя и оживляя из него свою духовную жизнь»[57].
Данная концепция Ильина оказывается чрезвычайно актуальна для нашей многонациональной страны, объединяющей более ста наций и народностей. Действительно, на протяжении столетий российская культура была «духовным лоном» для диалога многочисленных народов и культур, принимавших участие в формировании единой российской культуры. Специально подчеркнем, что религиозные мыслители пытались осмыслить особенности диалога культур не только в истории нашей страны, но и в будущей России, в России посткоммунистической. Важнейшей задачей будущей России Г. П. Федотов считал работу над «новым национальным сознанием», необходимость формирования нового «национального самосознания». По Г. П. Федотову, именно на долю интеллигенции выпадает по преимуществу «духовная сторона» работы: «будить в себе, растить и осмыслять, „возгревать“ национальное сознание». Не ограничиваясь постановкой этой задачи, Федотов пытался определить особенности национального сознания, исходя из специфики России: «наше национальное сознание должно быть сложным, в соответствии со сложной проблемой новой России (примитив губителен). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российским». Такая постановка вопроса («от русского – к российскому») связана с тем, что «Россия – не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси». Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов, «не под гнетом, а под водительством великой нации». Задача политиков – найти гибкие, но твердые формы этой связи, обеспечивающие каждой народности свободу развития в меру сил и зрелости. Задача культурных работников, каждого русского в том, чтобы «расширить свое русское сознание (без ущерба его „русскости“) в сознание российское». Это значит воскресить в нем в какой-то мере духовный облик всех народов России (новое сознание должно вобрать в себя все то, что «в них ценно, что вечно, что может найти свое место в системе вселенской культуры»). Всякое дело, творимое малым народом, как бы скромно оно ни было, всякое малое слово «должны вложиться в русскую славу, в дело России».
Таким образом, Г. П. Федотов вскрывает взаимосвязь национальной проблемы России и проблемы культурной. Ключ к решению этих проблем, по его мнению, лежит в «дальнейшем развитии русского национального сознания и зависит от того, сумеет ли оно расшириться в сознание российское и углубиться в великорусское, оставшись русским»[58]. По его мнению, стимулировать дремлющее до сих пор национальное самосознание, участвовать в деле национального возрождения призваны культура, государство и церковь.
Вместе с тем, диалог культур внутри России следует рассматривать в тесной связи с диалогом культур в контексте Запад-Россия– Восток (внешний аспект рассмотрения). Поэтому при определении самобытности русской культуры, ее своеобразия отечественные религиозные философы не могли обойти стороной проблематику, поставленную западниками и славянофилами.
В этой связи Н. А. Бердяев, например, отмечал, что само «русское национальное самосознание и самосознание всеславянское рождалось у нас в распрях славянофильства и западничества»[59]. По словам Бердяева, Россия может осознать себя и свое призвание в мире «лишь в свете проблемы Востока и Запада. Она стоит в центре восточного и западного миров и может быть определена, как Востоко-Запад»[60]. Хотя, по мнению Бердяева, в самих идеологиях славянофильства и западничества имели место ограниченность и незрелость, сама эта тема русских размышлений «была глубокой и для России основной». Вместе с тем, русское самосознание не может быть ни славянофильским, ни западническим, так как обе эти формы означают «несовершеннолетие русского народа, его незрелость для жизни мировой, для мировой роли». Россия должна сознавать себя «Востоко-Западом, соединителем двух миров, а не разделителем»[61].
Г. П. Федотов, касаясь этой проблемы, отмечал, что Русь возникла на периферии двух культурных миров: Востока и Запада. Ее отношения с Востоком и Западом складывались весьма сложно: в борьбе на оба фронта, против «латинства» и против «поганства» («Русь знала Восток в двух обличиях: «поганом» – языческом – и православном»), и она искала союзников то в том, то в другом. Русь утверждала свое своеобразие, чаще подразумевая под ним свое православно-византийское наследие (последнее тоже было сложным). Византийское православие было, конечно, «ориентализированным христианством», однако, прежде всего, оно было христианством. Кроме того, это христианство опиралось на значительную долю греко-римской традиции. Поэтому и религия, и эта традиция «роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве»[62]. Кроме того, необычайный расцвет русской культуры в Новое время оказался возможным лишь благодаря творческому освоению культуры Запада. Правда, при этом «уродств и деформаций было немало». Однако из галлицизмов XVIII века вырос А. С. Пушкин; из варварства 60-х годов – Л. Н. Толстой, М. П. Мусоргский и В. О. Ключевский. Значит, «за ориентализмом московского типа лежали нетронутыми древние пласты Киево-Новгородской Руси, и в них легко и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским Западом»[63].
По Федотову, в тысячелетней истории России явственно различаются «четыре формы развития основной русской темы: Запад – Восток». Вначале в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть «время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда)». Москва представляется государством и обществом «существенно восточного типа», который, однако же, скоро (в XVII веке) «начинает искать сближения с Западом». Новая эпоха – от Петра до Ленина – представляет собой, разумеется, «торжество западной цивилизации на территории Российской Империи»[64].
Полная драматизма и трагедий, история нашего Отечества («одна из самых мучительных историй», по Бердяеву) наложила неизгладимый отпечаток на русское самосознание. Бердяев различает не четыре, а пять периодов русской истории, которые дают «разные образы»: Россия киевская (она «не была замкнута от Запада, была восприимчивее и свободнее, чем Московское царство, в удушливой атмосфере которого угасла даже святость»); Россия времен татарского ига («общепринято мнение, что татарское иго имело роковое влияние на русскую историю и отбросило русский народ назад»); Россия московская («московский период был самым плохим периодом в русской истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу…»); Россия петровская («был лучше и значительнее дуалистический, раскольничий петербургский период, в котором наиболее раскрылся творческий гений русского народа») и Россия советская. И возможно, пишет он, что «будет еще новая Россия»[65]. Данный прогноз Бердяева оказался верным.
Вместе с тем, новая эпоха, новые реалии вызвали к жизни новые ответы на старые вопросы. По мысли Бердяева, «мы уже не славянофилы и не западники, ибо мы живем в небывалом мировом круговороте и от нас требуется неизмеримо больше, чем от наших отцов и дедов»; «мы уже вступаем в тот возраст нашего бытия, когда время нам уже выйти из детского западничества и детского славянофильства, когда мы должны перейти к более зрелым формам национального самосознания»[66]. Западничество – заблуждение детского возраста, и оно находится в противоречии с мировыми задачами России. Шаблоны западнической мысли так же непригодны для постижения смысла мировых событий, как и шаблоны старославянской мысли. Историческая эпоха, в которую мы вступаем, требует «органического соединения национального сознания с сознанием универсальным, т. е. определения мирового призвания национальностей»[67].
В этой же связи В. В. Зеньковский подчеркивал, что сама постановка проблемы «Россия-Запад» означает «историческую и духовную неотрывность нашу от Запада». Поэтому радикальное антизападничество «неверно и неосуществимо», с одной стороны, а с другой – невозможно и исторически бесплодно «элементаризующее западничество». С его точки зрения, «ни отделить Россию от Запада, ни просто включить ее в систему западной культуры и истории одинаково не удается… видимо, не готова к этому ни историческая почва, ни внутреннее состояние русского духа, в котором не умножают, а скорее ярче и резче звучат диссонансы»[68]. Кроме того, как отмечал Федотов, «худо мерить Европу на русский аршин, еще хуже мерить Россию на аршин Европы. Думается, что из смешения этих мерок оценки возникают все наши внутренние недоразумения»[69].
Вместе с тем, например, С. Л. Франк отмечал сильное, глубокое и плодотворное воздействие на «русский дух» немецкой мистики, метафизики и философской поэзии. Это связано, по его словам, с тем, что русская и западноевропейская культуры «чувствуют свое духовное родство», которое основано на их общем происхождении: «обе культуры, как западноевропейская, так и русская, в конце концов, происходят из сплава христианства с духом античности и являются лишь различными ответвлениями этого общего ствола»[70].
Г. П. Федотов указывал на ту поразительную легкость, с которой русские усваивали «чуждое им просвещение», усваивали «не только пассивно, но и активно-творчески»: на Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли – Захаровым, Воронихиным; через полтораста лет после петровского переворота – срок небольшой – блестящим развитием русской науки. Поразительно то, отмечает он, что в искусстве слова, в самом глубоком и интимном из созданий национального гения (впрочем, также как и в музыке), Россия «дала всю свою меру лишь в XIX веке». Если бы Россия погибла как нация еще в эпоху наполеоновских войн, то «мир никогда бы не узнал, что он потерял с Россией». Этот необычайный расцвет отечественной культуры в Новое время оказался возможным лишь благодаря «прививке к русскому дичку западной культуры». Но это само по себе показывает, что «между Россией и Западом было известное сродство: иначе чуждая стихия искалечила бы и погубила национальную жизнь»[71].
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– народ, отказывающийся от «своего индивидуального духовного лица» «нисходит в духовное небытие»: «ему предстоит не „братание“ и не братство, а исчезновение с арены истории» (И. А. Ильин);
– следует различать два аспекта рассмотрения религиозными мыслителями своеобразия русской духовности: внутренний (связан с осмыслением истории взаимодействия культур в рамках нашего общества) и внешний (связан с диалогом культур в контексте Запад-Россия-Восток);
– на протяжении столетий российская культура была «духовным лоном» для диалога многочисленных народов и культур, принимавших участие в формировании единой российской культуры; будущая посткоммунистическая Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов, «не под гнетом, а под водительством великой нации»; наше национальное сознание должно быть «одновременно великорусским, русским и российским»; новое российское сознание должно вобрать в себя все то, что характерно для духовного облика всех народов России, вобрать все то, что в их духовной культуре «ценно, что вечно, что может найти свое место в системе вселенской культуры»» (Г. П. Федотов);
– диалог культур внутри России следует рассматривать в тесной связи с диалогом культур в контексте Запад-Россия-Восток; полная драматизма и трагедий, история нашего Отечества («одна из самых мучительных историй», по Бердяеву) наложила неизгладимый отпечаток на русское самосознание;
– русское самосознание не может быть ни славянофильским, ни западническим, так как обе эти формы означают «несовершеннолетие русского народа, его незрелость для жизни мировой, для мировой роли»; Россия должна сознавать себя «Востоко-Западом, соединителем двух миров, а не разделителем» (Н. А. Бердяев);
– нельзя «мерить Европу на русский аршин», в то же время «еще хуже мерить Россию на аршин Европы»; представляется, что именно «из смешения этих мерок оценки возникают все наши внутренние недоразумения» (Г. П. Федотов).
1.3. Проблема иерархии ценностей в аксиологии культуры Б. П. Вышеславцева
Сложные и противоречивые процессы, происходящие в мире, привели к тому, что духовные идеалы и ценности оказались на периферии общественного сознания. Возникшие в этой связи негативные явления в сфере культуры стали предметом анализа как зарубежных, так и отечественных мыслителей, пытавшихся раскрыть сущность происходящих процессов и определить пути возрождения человеческой духовности. В настоящее время данная проблематика обретает еще большую актуальность в связи с возникающими на планете линиями «цивилизационных разломов» (С. Хантингтон), а также «экологическим императивом» и необходимостью выработки единой «стратегии человечества» (Н. Моисеев), духовно-нравственная составляющая которой связана с глубокой моральной перестройкой самого духа и смысла человеческой культуры.
В этом плане являются актуальными и заслуживают глубокого изучения аксиологические идеи и концепции русских религиозных философов конца XIX – первой половины XX века, для которых одной из важнейших задач было сохранение и развитие духовных идеалов. Важное место в русской религиозной аксиологии занимает концепция Б. П. Вышеславцева (1877–1954), в рамках которой дан аксиологический анализ причин кризиса современной культуры. Следует отметить, что аксиологические идеи Б. П. Вышеславцева уже стали предметом изучения в ряде опубликованных работ[72]. Наша задача – раскрыть особенности его подхода к изучению проблемы иерархии ценностей, не получившей до настоящего времени своего специального анализа.
Вышеславцев обращается к теоретико-ценностной проблематике в целом ряде работ[73], используя при этом понятия «теория ценностей», «аксиология», «христианская аксиология», «аксиологическая очевидность» и т. д.[74]. В отличие от Н. О. Лосского (который даже терминологически обозначил свою концепцию как «онтологическую теорию ценностей»[75]), Вышеславцев не претендовал на создание собственной аксиологической теории: скорее он пытался раскрыть ценностную природу христианского учения (отсюда и использованный им термин «христианская аксиология»). Однако при этом ему удалось представить достаточно стройное учение о ценностях жизни и культуры, о роли ценностей в жизнедеятельности человека и общества.
Обращаясь к истории возникновения ценностной теории, он отмечал, что именно Паскалю принадлежит заслуга в самой постановке проблемы ценностей[76]. Можно лишь удивляться, подчеркивал он, что французская философия (которая исследовала и истолковывала каждую строчку в сочинениях Паскаля), не заметила у выдающего французского мыслителя этого поразительного открытия – логики сердца и основанных на ней суждений о ценностях, не заметила «его теории ценностей». По словам Вышеславцева, перед Паскалем встала задача отделить «прекрасное от отвратительного, высокое от низменного, наконец, добро от зла». Все это потребовало суждений, причем суждений «не теоретических, как в науке, но суждений о ценностях». Анализируя взгляды Паскаля, Вышеславцев выдвигает важные, на наш взгляд, аксиологические идеи: «Существуют различные системы ценностей у различных народов и культур. Последним их основанием являются великие религии, в которых ценности открываются, как например, в десяти заповедях Моисея. Иерархия ценностей всегда завершается признанием ценности высочайшей, ощущаемой как высшая святость, как высшее совершенство»[77]. Представление о том, что каждое общество и культура вырабатывают определенные системы ценностей, с присущей им иерархией («и каждая нация, и каждая культура имеет свою систему ценностей, которую она „культивирует“, и свою высшую ценность и „святыню“, которую она религиозно почитает»), не вызывает сомнений и более того, стало сегодня общепринятым. Вышеславцев говорит о существовании ценностей моральных, эстетических, политических, правовых и т. д.
Как религиозный мыслитель, Вышеславцев обращается, прежде всего, к анализу взаимосвязи систем ценностей с религией. С его точки зрения, «всякая великая религия содержит в себе и открывает некоторую систему ценностей; иначе говоря, устанавливает некоторое этическое учение. И совершенно неверно, будто все религии открывают одни и те же ценности и совпадают в своих этических учениях»[78].
Несомненно, что религия на протяжении тысячелетий выступала как доминирующий социальный институт, в рамках которого утверждались одни ценностные системы и отторгались другие. Почему это было возможно? Как подчеркивает Вышеславцев, «только религия открывает святыни и ценности», «только религия может знать, что внушать», «она учит о том, какие внушения ценны и неценны, какие суть плевелы и какие – пшеница». Вместе с тем, религии различаются в аксиологическом плане: «совсем иное внушает Будда, совсем иное внушает Христос. Жизнь, культура, история, развитие индивидуальности – получают совершенно иное направление под влиянием этих внушений». Он отмечал, что дело идет о выборе пути для всей жизни, как индивидуальной, так и соборной. И это – «вопрос жизни и смерти». Практически все «зависит от того, какую систему ценностей мы признаем своей абсолютной "святыней": "где сокровище ваше, там и сердце ваше"»[79].
Проблема нетождественности систем ценностей разных религий стала предметом специального анализа Вышеславцева. В частности в работе «Значение сердца в религии» он подчеркивает, что глубокая противоположность между христианством и индуизмом заключается в том, что «там любовь не есть высшая и последняя ценность; там высший центр личности есть холодное око, отрешенное от всяких влечений; там любовь есть нечто преходящее, что должно быть оставлено позади. Совсем иначе в христианстве: здесь любовь не только "сильна, как смерть" (ветхозаветное выражение), но даже сильнее смерти; любовь есть источник и залог бессмертия… она есть стремление к совершенному, к абсолютному, к вечному; она есть само переживание вечного совершенства. Все преходящее может упраздниться, но вечное и совершенное упраздниться не может»[80].
Для нас несомненно, что религиозные системы ценностей сыграли выдающуюся роль в становлении человека и цивилизации.
Более того, различия между современными цивилизациями во многом связаны с особенностями религий, ценностные системы которых своеобразным образом определяли формирование цивилизационного облика конкретных обществ. Вместе с тем, связь между религиозными системами ценностей и цивилизациями, не является односторонней, а скорее – двусторонней. Как справедливо утверждает Б. С. Ерасов, религии как целостные системы – это «сложные многовариантные и динамичные образования, формируемые в значительной степени в соответствии с теми принципами, которые несет в себе данная цивилизация». Накладывая на каждую мировую цивилизацию свой неизгладимый отпечаток, составляя ядро каждой из них, «та или иная религия претерпевает в ходе своего формирования изменения, отвечающие ее месту в общей системе цивилизационной регуляции»[81]. Проведя анализ ряда аксиологических концепций (М. Шелера, Н. Гартмана и др.), Вышеславцев не без основания утверждает идею иерархичности ценностных систем: «ценности образуют иерархическую систему соподчинения»; «существует иерархия ценностей и, следовательно, абсолютно высшая ценность, вершина иерархических ступеней»[82]. С его точки зрения, «Бог есть вершина иерархии, ее нельзя отрицать и зависимость от нее нельзя уничтожить»[83]. Он отмечает, что «иерархия ценностей, иерархия ступеней бытия не может отрицаться никакой этикой, никаким мировоззрением, – ни религиозным, ни безрелигиозным». Утверждая это, Вышеславцев ставит вопрос о существовании «атеистической иерархии ценностей»[84]. Однако, по его мнению, «последовательный атеизм невозможен: человек не может обойтись без высшей ценности и высшей святыни. Так рождается „безрелигиозная религия“ человекобожества»[85].
Религиозный философ пытался понять и раскрыть диалектику развития человеческого сознания, связанную с возникновением атеизма: «Все диалектические моменты имеют ценность, даже низшие и преодолеваемые. Диалектический момент атеизма ценен, как уничтожение ложных богов (идолов) и ложной зависимости, ценен, как момент апофатический. Диалектический момент самообожествления – ценен, как открытие духовности Я и его самоценности, как открытие "единственности" и иерархического преимущества ego. Но все диалектические моменты ценны только в движении, они должны быть "aufgehoben" (сняты – нем.), остановка есть смерть и падение»[86].
В чем же отличие «безрелигиозной религии» от традиционных религий?
Различие заключается в том, что «религиозная этика и религиозная культура считает Бога высшей святыней, высшим совершенством, а культура и этика безрелигиозная такой высшей иерархической ступени не признает и хочет обойтись без нее. Однако уничтожить высшую иерархическую ступень в иерархии ценностей вообще нельзя: отрубив вершину, мы получаем другую вершину; можно только заменить высшую ценность другой, подчиненной ценностью. Так совершается обычная замена высшей ценности Бога, как носителя святости и совершенства – ценностью человека, или человечества, или просто моего Я: «будете, как боги!» (религия человечества, Иван Карамазов, Макс Штирнер, Ницше)»[87].
Прежде всего, следует осмыслить саму проблему существования вершины, «высшей иерархической ступени в иерархии ценностей». Может быть, человек в рамках секулярного общества и культуры может обойтись без нее? Так ли уж она обязательна для человека и человечества? Данные вопросы не получили своего однозначного ответа в современной аксиологии и поэтому являются весьма актуальными. По Вышеславцеву, поиск и «предчувствие Абсолютного» характерны для каждого человека. Как он подчеркивает, «переживание трансцендентной зависимости, как последнее и глубочайшее мистическое переживание, нельзя отрицать и нельзя ложно истолковывать. Мы испытываем его везде на высотах нашей духовной жизни: так, искусство переживается, как вдохновение, наука – как открытие, нравственное действие, как призвание, религия, как откровение. Везде и всегда подобные переживания ощущаются нами как внушение свыше. Я не замкнут в моей самости, я выхожу за ее пределы и открываю высшую тайну Абсолютного, свою основную причину и беспричинность, в которых укоренено мое существо. Я есмь, и я есмь сам, но не "через себя" и не по моей собственной воле»[88]. С такой постановкой вопроса следует согласиться. Человек не может не иметь «высшей иерархической ступени в иерархии ценностей», «ибо вдохновляться только человеческим нельзя. Во имя только человеческого можно устраивать гигиену, комфорт, удобства, вообще строить цивилизацию, но не творить культуру. Культура есть культ божественного, культ сверхчеловеческого, культ всяческого «сверх»»[89].
В этой связи следует отметить, что процесс секуляризации, начавшийся в европейской культуре с XV–XVI вв., был связан с низвержением Бога с вершины иерархии ценностей (т. е. была отринута теоцентрическая система ценностей). Однако – и это весьма симптоматично – эта вершина не оказалась незанятой («отрубив вершину, мы получаем другую вершину»). Возникли новые (правда, не столь общезначимые, и не столь отчетливо проявленные) иерархии ценностей. Прежде всего – натуроцентрическая (на вершине иерархии – природа). В XVII–XVIII вв. природа становится ценностным понятием, будучи нормой правильного, совершенного, здорового, являясь мерилом всех проявлений человеческого бытия (отметим, что Бог не сразу перестал быть «высшей иерархической ступенью»; возникали и компромиссные мировоззренческие формы – пантеизм, деизм). Как подчеркивает Р. Гвардини, природа «принимает таинственный характер первопричины и конечной цели», становится предметом «религиозного поклонения… так "естественное" становится одновременно и святым, и благочестивым»[90].
Однако, вслед за Богом, постепенно меняется отношение человека и к природе. Человек не только осознает свое особое место в мире, но и возвышает себя до уровня Бога. Новое время «возвышает человека – за счет Бога, против Бога»[91]. Возникает антропоцентрическая иерархия ценностей. Именно эта иерархия не без основания подвергается Вышеславцевым критике. Однако на этом «перемена вершин» в иерархии ценностей не заканчивается. Следует отметить, что если XIX в. лишает человека статуса «венца мироздания» (человек предстает как «животное», «работник», он лишается своего духовного измерения и др.), то в XX в. на этой основе возникает социоцентрическая иерархия ценностей (на вершине иерархии – общество), в рамках которой человек низводится до уровня «винтика» в социальной «машине» (идеология тоталитарного общества).
Таким образом, действительно человеку не дано иметь или не иметь определенную ценностную иерархию («существует иерархия ценностей и, следовательно, абсолютно высшая ценность, вершина иерархических ступеней»). Вопрос лишь заключается в том, что выдвигается на место «высшей иерархической ступени в иерархии ценностей», чем заменяется «высшая ценность Бога, как носителя святости и совершенства»?
Не без основания Вышеславцев подчеркивает: «Всякое сознание абсолютирует и без этого не может релятивировать; важно только, чтобы абсолютирование было доведено до истинного конца, до подлинного Абсолюта.
Мудрец отличен от глупца Тем, что он мыслит до конца,т. е. до предела мыслимого и познаваемого, за которым скрывается трансцендентное Абсолютное, Deus absconditus. Если абсолютирование не доходит до Абсолютного, то оно абсолютирует какую-либо конечную ценность или конечное бытие. На место Абсолютного воздвигается идол, или кумир, который есть мнимый Абсолют. Атеизм повинен не в том, что он сокрушает кумиры: в этом его заслуга, в этом – исполнение заповеди: «не сотвори себе кумира», но на самом деле атеизм повинен в обратном: в сотворении себе кумира! Атеизм повинен не в неверии, а, напротив, в легковерии и суеверии. Иными словами, не существует последовательного атеизма, существует только идолизм (в форме различных «измов»: материализм, натурализм, эгоизм, гедонизм, гуманизм, как религия человечества и проч.)»[92].
Представляется, что постановка данной проблемы является весьма важной не столько для религиозных направлений аксиологической мысли, сколько – в большей степени – для светских направлений аксиологии. Действительно, Вышеславцев затронул самую чувствительную «струну»: вопрос об основаниях светской системы ценностей. Насколько прочными являются эти основания, а если более остро поставить вопрос – существует ли в светской системе ценностей вершина ценностной иерархии?
На наш взгляд, ответ на этот вопрос предполагает выдвижение двух взаимосвязанных тезисов: (1) таким основанием могут быть и должны стать ценности и идеалы гуманитарной культуры; именно культуры, а не «ценность человека, или человечества, или просто моего Я» – и в этом с Вышеславцевым необходимо согласиться; (2) сами ценности гуманитарной культуры опираются и будут опираться на религиозные основания – хотят этого или нет атеистически настроенные представители светских направлений социально-философского знания.
Что касается первого тезиса, то в рамках светской системы ценностей мы обнаруживаем разные иерархии ценностей, например, натуроцентрическую, антропоцентрическую, социоцентрическую (соответственно вершинами иерархии выступают природа, человек и общество). Пафос критики Вышеславцева нацелен на антропоцентрическую иерархию ценностей: «Отрубление вершины иерархии ведет к величайшему замешательству, к извращению иерархического порядка, падению и разрушению. Человек не может поставить себя на вершине иерархии, ибо он нуждается в некотором самоперерастании, в выходе за пределы человеческого, в поднятии над человеком. Человек захочет стать "сверхчеловеком". Но "сверхчеловек" уже не есть только человек»[93].
Мы можем и должны согласиться с его аргументацией, поскольку данная иерархия действительно возвеличивает человека до уровня Бога и способствует появлению нового «идолизма» (термин Вышеславцева). На наш взгляд, светским ответом на высказывания религиозного философа («культура и этика безрелигиозная такой высшей иерархической ступени не признает и хочет обойтись без нее») может быть утверждение культуроцентрической иерархии ценностей, в рамках которой вершиной иерархии становится не человек, а некое сверхличностное начало, точнее – ценностносмысловой мир гуманитарной культуры. Это такой тип культуры, который может прийти (а в некотором смысле и должен – иначе современная культура окажется в состоянии «коллапса» и подвергнется в будущем саморазрушению) на смену существующей ныне культуре Постмодерна. Именно такой тип культуры может стать основой «стратегии человечества» (Н. Моисеев), основой формирования светского типа личности, выводя индивида за рамки индивидуальной биографии. В этом случае развитие личности будет определяться освоением накопленных человечеством духовных ценностей и идеалов. Надличностные ценностно-смысловые поля – эти «сгустки» духовного опыта поколений – станут выступать как определенная система координат личности, как духовный абсолют, вершина ценностной иерархии, говоря словами Вышеславцева, как «высшая иерархическая ступень».
Подчеркнем, что культуры с такой иерархией ценностей еще не существует. Однако, в эпоху глобализации формирование такой культуры, на наш взгляд, уже не является делом и целью лишь одного общества и государства, а скорее – глобального сообщества. В условиях обостряющихся глобальных проблем, возможного столкновения цивилизаций, духовного кризиса человека формирование культуры данного типа может стать для мирового сообщества единственным способом обеспечения собственного выживания, может фактически стать культурным императивом.
Второй тезис также требует своего обоснования. Светская система ценностей (в ее различных вариантах) возникла, так или иначе, в связи с ценностями религиозными. Как справедливо отмечает Т. А. Кузьмина, европейская секулярная культура живет за счет ценностей, выкованных христианством. Более того, «религиозно нейтральная (автономная, агностическая, атеистическая и т. п.) культура не может сохранить ни те ценности, которые она позаимствовала из христианского источника, ни сама себя в целом. Как только срезается верхний религиозно-метафизический этаж культуры (или ее духовные корни, что одно и то же, ибо корни наши "на небесах"), как только "закрывается небо", былые ценности, лишенные своей духовно-онтологической подпитки, перерождаются»[94].
Представляется поэтому, что невозможно построить теоретическую концепцию светской культуры при полном игнорировании места и роли религии в секулярном обществе. И в этом плане следует прислушаться к резкой критике со стороны представителей религиозной философии и богословия, выступающих против такого рода попыток. Действительно, и сегодня религия выполняет важнейшую функцию сакрализации ценностей, территории, власти и т. д. Эта функция религии, связанная с определенными потребностями человека и общества, опирается на механизмы сознания и бессознательного (индивидуального и коллективного), формировавшиеся на протяжении тысячелетий. Ни один из других институтов общества оказывается неспособен взять на себя функцию сакрализации, «перехватить» ее, поскольку не обладает соответствующими возможностями. В этом отношении роль религии в обществе является незаменимой. Фактически религия в секулярном обществе становится (а в каком-то смысле и остается) своеобразным фундаментом культуры, ее «религиозной скрепой». Вот почему, признавая основанием системы ценностей (или же ее вершиной) ценностно-смысловой мир гуманитарной культуры, нам одновременно необходимо признать, что сами ценности и идеалы гуманитарной культуры опираются и будут опираться, в конечном счете, на религиозные основания.
Что же происходит с культурой, которая отвергает религию и Бога, в которой происходит «замена высшей ценности Бога, как носителя святости и совершенства – ценностью человека, или человечества, или просто моего Я»? Вышеславцев, размышляя о судьбе современной западной цивилизации, отмечает, что «вся наша цивилизация, ведущая происхождение от Ренессанса, вся эта безрелигиозная цивилизация хочет лишить сердце его центрального положения и дать это центральное положение уму, науке, познанию». Однако, как он подчеркивает, «потеря культуры сердца» есть потеря жизненной силы (поскольку человек «без сердца» – есть «человек полуживой»). Поэтому наше существование превращается в «постоянное умирание, засыхание, какой-то склероз сердца, которым поражена вся современная цивилизация». Чувство пустоты, чувство ничтожества происходит от того, что «иссякла центральная сила личности, засохла ее сердцевина и тогда не поможет никакой временный расцвет периферических и внешних сил» (ни чудеса техники, ни чудеса социального распределения, ни чудеса науки). Вот это «напоминание о потере личности, о потере сердца, о «ничто», есть самое сильное, что может сказать Евангелие современному человечеству»[95].
Что скрывается за словами «потеря культуры сердца»? Фактически речь идет об атрофии ценностного сознания человека, т. е. о неспособности современного человека различать добро и зло: «Относительно каждой вещи можно спросить, имеет ли она какой-нибудь смысл или какую-нибудь ценность? Различение положительной и отрицательной ценности добра и зла есть особый род суждений – не суждения разума, но суждения сердца… Сердце имеет свою логику, которая не известна рассудку. Сердце имеет свой собственный порядок идей, отличный от рассудочного порядка»[96]. Именно сердцем мы воспринимаем «ценности и сокровища духа»: «Интуиция „сердца“ („орган“ для восприятия ценностей) открывает и усматривает ценности, как они даны в идеальном мире»[97].
На наш взгляд, Б. П. Вышеславцев своей концепцией показал, что вопрос об иерархии ценностей не является сугубо теоретическим, а представляет собой вопрос о духовно-ценностных основаниях культуры. Эрозия, кризис или даже утрата какой-либо части этого основания рано или поздно становится прямой угрозой самому существованию общества. Ситуация духовного «вакуума» становится питательной средой для проявлений экстремизма, насилия, национальной и религиозной нетерпимости. Вот почему утверждение в общественном и индивидуальном сознании высоких ценностей и идеалов, светской и религиозной духовности – единственно возможная основа преобразования и подлинного возрождения современной России.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– в отличие от Н. О. Лосского (который даже терминологически обозначил свою концепцию как «онтологическую теорию ценностей»), Вышеславцев не претендовал на создание собственной аксиологической теории; он пытался раскрыть ценностную природу христианского учения, употребляя при этом разные понятия («теория ценностей», «аксиология», «христианская аксиология»);
– с точки зрения философа, всякая великая религия содержит в себе и обнаруживает (например, в десяти заповедях Моисея) определенную систему ценностей; системы ценностей разных религий нетождественны; именно на системы ценностей великих религий, в конечном счете, опираются ценности культуры разных народов;
– иерархия религиозных ценностей всегда связана с признанием существования «ценности высочайшей, ощущаемой как высшая святость, как высшее совершенство» (Бог);
– Вышеславцев поставил важную для современного социогуманитарного знания проблему: невозможно уничтожить высшую ступень в иерархии ценностей, поскольку отрубив одну вершину, мы получаем вершину другую; «можно только заменить высшую ценность другой, подчиненной ценностью»; попытки такого рода, предпринимавшиеся в европейской культуре с XV–XVI вв. и связанные с процессом секуляризации, приводили к формированию новых вершин; сначала такой вершиной стала природа (натуроцентризм), затем – человек (Новое время «возвышает человека – за счет Бога, против Бога» – Р. Гвардини); затем возникает социоцентрическая иерархия ценностей (на вершине иерархии – общество), в рамках которой человек низводится до уровня «винтика» в социальной «машине» (идеология тоталитарного общества);
– пафос критики Вышеславцева нацелен на антропоцентрическую иерархию ценностей: «на место Абсолютного воздвигается идол, или кумир, который есть мнимый Абсолют»; таким кумиром оказывается для самого себя человек, он возвеличивается до уровня Бога, возникает новый «идолизм» (термин Вышеславцева);
– своей концепцией Вышеславцев показал, что вопрос об иерархии ценностей не является сугубо теоретическим, а представляет собой вопрос о духовно-ценностных основаниях каждой культуры; эрозия, кризис или даже утрата какой-либо части этого основания рано или поздно может стать прямой угрозой самому существованию общества.
1.4. Формирование ценностного сознания личности как предмет аксиологии культуры Б. П. Вышеславцева
Развивая идеи «христианской аксиологии», Б. П. Вышеславцев в большой степени учитывал разработку проблематики ценностей в трудах Б. Паскаля, М. Шелера, Н. Гартмана и др. Именно поэтому ему удалось представить достаточно стройное учение о ценностях жизни и культуры, о роли ценностей в жизнедеятельности человека и общества, сохраняющее актуальность вплоть до настоящего времени.
В своем анализе аксиологии культуры Вышеславцева (см. 1.3.) мы подошли к центральному понятию его концепции – понятию ценности. В отличие от Н. О. Лосского, Вышеславцев не стремился раскрыть сущность и структуру ценности, дать ее определение. Наряду с анализом иерархии ценностей религиозный мыслитель обращается к рассмотрению механизмов освоения ценностей личностью. Данная проблематика и станет предметом нашего анализа.
Вышеславцев исходит из того, что личность есть «высшее единство познающего, оценивающего и действующего субъекта». При этом сама личность (индивидуальная и соборная, народ, нация, но отнюдь не класс) – это «драгоценнейшее явление культуры». Многообразные действия, которые наполняют жизнь личности, не представляют собой «бессистемного хаоса», но «образуют некоторую систему», некоторый «образ действия». Этот «образ действия» определяется системой ценностей, которую данная личность признала и усвоила в жизни («это то, что она, в конце концов, любит и ценит»).
Но можно ли утверждать, что сама по себе система ценностей определяет, «детерминирует» поведение личности? Вышеславцев не без основания утверждает, что существует две системы детерминаций. Во-первых «детерминируют» ценности: «ценности „детерминируют“, но лишь в том смысле, что дают возможность ориентироваться в направлении, найти, где должное и недолжное». По его словам, ценности «„определяют направление", но не «дают направления“, они действуют как компас, но не как руль». И в этом он видит сущность «идеальной детерминации должного», поскольку «она не имеет сама по себе никакой реальной онтологической силы». Однако, во-вторых, требуется волевое усилие личности, чтобы «повернуть руль в направлении к ценностям, чтобы „дать направление“, после того как удалось „определить направление“. Такая сила и есть свобода личности, свобода воли. Автономия компаса и автономия руля – вот символ, верно выражающий нераздельную связь и неслиянную самостоятельность двух детерминаций»[98]. По его словам, «свободная личность, „действующее лицо“ истории и личной биографии есть особая категория: это не только сознание цели и мышление средств (этим самым познание причин), это прежде всего познание системы ценностей и энергия воли, направленной на их осуществление. Без этого нет свободной личности. Личность есть высшее единство познающего, оценивающего и действующего субъекта»[99].
Анализируя концепции М. Шелера и Н. Гартмана, Вышеславцев весьма тонко разграничивает эти две системы детерминаций, разрешая достаточно сложную антиномию, сформулированную им следующим образом: «Ценности ненарушимы в своем идеальном бытии; и ценности весьма нарушимы в реальных актах воли»[100]. Вслед за Н. Гартманом, он показывает, что в конкретной жизненной ситуации личность сталкивается с таким «конфликтом ценностей», который не может быть разрешен собственно «таблицей ценностей», ибо «таблица ценностей» совсем не представляет собой «гармонической системы»: сами «ценности вступают в конфликт, между ними существует антиномическое отношение», «ценности указывают в противоположные стороны; они, следовательно, даже не „дают направления“, а лишь дают возможность сознательно выбрать направление. Все творчество жизни, творчество истории состоит в непрестанном разрешении конфликта ценностей; мы всегда стоим перед альтернативой противоположных решений»[101].
Действительно, ценности существуют не только в форме ценностей-идеалов, вырабатываемых общественным, коллективным сознанием, но и в форме ценностного сознания личности. Личность, опираясь на свой жизненный опыт, исходя из собственных потребностей и интересов, самостоятельно творит собственную систему ценностей, объективация (опредмечивание) которых находит свое выражение в поступке, поведении и деятельности. Несомненно, что только в этом процессе личность и утверждает себя, происходит ее самореализация как «субъекта поступания» (М. М. Бахтин). Несомненно также, что в каждой конкретной ситуации человек вынужден совершать волевое усилие, выбирая между той или иной системой ценностей, утверждая одну из них и отторгая другую самим своим поступком (или системой поступков).
Вышеславцев подчеркивает, что «все творчество жизни, творчество истории состоит в непрестанном разрешении конфликта ценностей». Наиболее полно проблематику конфликта ценностей он раскрыл на примере антитезы ценностных систем Закона и Благодати: «христианская аксиология, вырастает и раскрывается не иначе как в противопоставлении закона – и Царства Божия, закона – и благодати, закона – и Духа, закона – и веры, закона – и любви, закона – и свободного творчества»[102]. В чем же состоит «конфликт ценностей»?
По словам религиозного мыслителя, Христос открывает миру совершенно новую систему ценностей, выраженную в едином символе «Царствия Божия». Эта новая система ценностей (представленная в Новом завете) противополагается старой системе ценностей (Закон Моисеев). Закон Моисеев (как, в сущности, и любой закон) касается всех сфер человеческого поведения и деятельности – религиозно-ритуальной, моральной и правовой. Закон выражается во множестве внешних правил, которые регулируют все поведение человека (принятие пищи и питья, совершение омовения и обрядов, жертвоприношения «тельцов» и «козлов», «окропление кровью» и др.). Самое ценное в нем, отмечает Вышеславцев, – это борьба со злом и запрещение преступления («не убий», «не укради», «не прелюбо сотвори» и др.). Таким образом, Закон Моисеев и для Иисуса и для ап. Павла – «символ нормативной системы ценностей».
Вышеславцев подробно анализирует принцип Закона у евреев, у греков и римлян, идею естественного закона позднего античного мира и т. д. Однако религиозный философ одновременно раскрывает и «трагедию Закона», которая заключается в том, что Закон «достигает прямо противоположного тому, к чему стремится». Вот почему «ошибаются те, кто думает, что справедливое устроение человечества («оправдание») разрешается системой справедливых законов, идеальным государством – монархией, или республикой, или коммунизмом, как думал античный мир и как думает современное внехристианское человечество; ошибаются и те, которые хотят устроить человеческую душу и сделать ее праведной, связав своеволие страстей сетью моральных императивов и запретов. Ни усовершенствование законов, ни организации властей, ни постоянное моральное суждение и осуждение (любимое занятие толпы) не устраняют и даже не уменьшают количества зла и преступления на протяжении исторического пути. По– прежнему «мир весь во зле лежит», и порою кажется, что он становится еще злее. Трагедия «закона» в том, что он хочет и не может, требует и не выполняет, обещает и не дает.»[103].
В чем же проблема? Почему закон «хочет и не может, требует и не выполняет, обещает и не дает»? Вышеславцев справедливо связывает «бессилие закона» с тем, что «человек именно не есть автомат, а есть свободная личность», которая может воспользоваться правом «по своей глупой воле пожить» (Ф. М. Достоевский). Вот почему его дальнейший анализ связан с обращением к анализу внутреннего мира человека (где, собственно, и решается вопрос о том, готова ли личность к послушанию или преступлению, к подчинению или борьбе). Решая поставленную задачу, Вышеславцев выдвигает систему понятий (среди них – «подсознание», «сублимация», «воображение»), опора на которую позволяет ему раскрыть внутренние механизмы освоения личностью той или иной системы ценностей (фактически он ведет речь об особенностях процесса интериоризации индивидом ценностей культуры). При этом религиозный мыслитель опирался на некоторые положения психоанализа и аналитической психологии, творчески развивая их и обогащая новым содержанием. Подчеркнем, что данный компонент аксиологии культуры Вышеславцева оказывается сегодня весьма актуальным, поскольку проблематика формирования ценностного сознания личности до сих пор является мало разработанной.
Первое из этих понятий – «подсознание». Религиозный философ органично вводит данное понятие в систему «христианской аксиологии», показывая, что внутренний мир человека «во всей его неисчерпаемой глубине» («внутренний человек» по ап. Павлу) чаще всего называется в Ветхом Завете «сердцем». Одновременно «Библия, при своем глубоком знании человеческого „сердца“, чувствует присутствие того, что современная психология называет подсознанием, и указывает на эту сферу при помощи своей собственной терминологии». Во внутреннем мире человека далеко не все ясно усматривается и сознается даже самим его носителем. По словам Вышеславцева, «во „внутреннем человеке“ существует таинственная и сокровенная сфера, не озаряемая его собственным сознанием… Постоянно повторяющийся термин «сердца и утробы» как раз намечает то, что теперь называется подсознанием, с его чувственно– пожелательной, эротической природой. Самое выражение «утробы» как бы указывает на то, что лежит под сердцем, ниже сердца; и если «сердце» чаще всего означает «сознание», то «утроба» должна означать «подсознание»»[104]. Подсознание представляет собой такую «сферу бесконечных возможностей», из которой может возникнуть и порок, и добродетель, могут проистекать как добрые, так и злые деяния. В этом плане подсознание – это «материя» (в греческом смысле), которая может принять и прекрасную, и безобразную форму. Это – некий «хаос», который «шевелится» (Тютчев) под порогом сознательной жизни с ее рациональными нормами.
Вышеславцев не без основания подчеркивает, что неудача императивной нормы связана с тем, что Закон обращается к разумной воле и действует в сфере «освещенной сознанием». Подсознание же «остается для него закрытым». Поэтому нужно найти способы «проникать в подсознание, угадывать, что в нем происходит, и влиять на него»[105]. Прямым путем это сделать невозможно, но возможно – «обходным путем», т. е. с помощью психоанализа. В этом он видит несомненную заслугу Фрейда, который открыл эротическую природу подсознания. Однако религиозный мыслитель считает необходимым значительно расширить представления об Эросе, полагая, что «гениальным предвосхищением и вместе с тем существеннейшей поправкой Фрейда является Платоново учение об Эросе. Эрос бесконечно большее объемлет, нежели libido sexualis, нежели даже эротическая влюбленность. Это его корни и цветы, но не его всеобъемлющее древо жизни». Эрос Платона объемлет все: он «означает существенную и несводимую функцию души, функцию стремления, уходящую в бесконечность и многообразную по содержанию, но всегда направленную на возрастание бытия, на его «валоризацию» [от фр. valorisation – повышение, увеличение – В. Л.]»[106].
Второе из системы его понятий – «сублимация». Религиозный мыслитель переосмысливает фрейдовское представление о сублимации. Он утверждает, что на самом деле с точки зрения мировоззрения Фрейда «сублимация невозможна»: «Сублимация есть возведение (αναγωγή) низшего к высшему; чтобы понять это возведение нужно иметь систему категорий бытия, нужно иметь иерархию ценностей. Об этом Фрейд и его школа не имеет никакого понятия»[107].
Что же, по Вышеславцеву, представляет собой сублимация? В самом широком смысле «все творчество, вся культура и вся религия есть "сублимация", берущая направление на то, что открывается (в "откровении") как высшая ценность: "где сокровище ваше, там и сердце ваше", где ваша высшая ценность, там и ваш Эрос»[108]. В более узком смысле Вышеславцев трактует сублимацию, опираясь на тексты Дионисия Ареопагита и его ученика Максима Исповедника: «Порок создан из того же материала, как и добродетель. Нет природных сил души и тела, которые были бы плохи сами по себе, они становятся злом лишь тогда, когда принимают особую форму, именно форму извращения. Основной идеей всей греко-восточной аскетики и мистики была идея обожения (θειωσις). Обожение есть настоящая сублимация всего существа человека, всех сил его тела и души, ибо тело человека – Храм Духа Божия (1 Кор. 6:19) и, как и душа его, подлежит преображению и прославлению. Великой заслугой Оригена является то, что он дал учение об «обожении» как о таинственном «воображении» Христа в сердце верующего. В душе человека как бы снова рождается Христос. Вселяясь в душу, и обитая в ней, Он преобразует ее по образу своему. Такое «преображение» души сохраняет все ее силы и возводит их к высшему, т. е. сублимирует. Вся христианская мистика и аскетика так или иначе принимает этот классический образ сублимации»[109].
С точки зрения религиозного философа, сублимация «есть общехристианский принцип». В этом плане «западная аскетика и мистика не расходятся с восточной». Поэтому и сублимацию Вышеславцев трактует как «восстановление первоначально-божественной и к Богу устремленной формы». Он подчеркивает, что «весь хаос подсознательного мира нуждается в такой форме». Восстановление этой формы религиозный мыслитель связывает с деятельностью воображения.
Мы не можем согласиться с той трактовкой сублимации, которую предлагает Вышеславцев. Вместе с тем, полагаем, что сама идея, заложенная в этой трактовке, может и должна быть принята. Имеется в виду идея преображения души человека под воздействием его устремленности к вершине иерархии ценностей: «сублимация, как выражение Платонова Эроса, обозначает проблему возведения бытия по ступеням иерархии ценностей снизу вверх»[110]. Фактически, на наш взгляд, Вышеславцев ведет речь о внутреннем механизме процесса сакрализации. Сущность сакрализации как раз и состоит в том, что некую вещь, территорию и.т.д. люди невольно соединяют с глубокими жизненными ценностями. На уровнях сознания и бессознательного происходит благотворное воздействие на духовный мир человека, происходит его возвышение до уровня тех значений и смыслов, которые связаны с вершиной ценностной иерархии. На наш взгляд, механизм сублимации несомненно оказывает благотворное воздействие на весь духовный мир человека в этом, нерелигиозном смысле. Вместе с тем, мы отдаем себе отчет в том, что данный механизм возник и существует в секулярной культуре при своеобразной «опоре» на процессы сакрализации, возникшие в рамках религиозной традиции. Вот почему анализ данного аспекта формирования ценностного сознания оказывается весьма значимым для современных светских направлений аксиологической мысли.
По Вышеславцеву, сублимация имеет три момента, или три ступени: 1) сублимация аффектов и стремлений, вырастающих из подсознания, сублимация Эроса; 2) свобода выбора, формирующая эти аффекты; 3) сублимация «призыва», формирующая свободу выбора. На всех этих ступенях сублимация трактуется им как «возведение низшего к высшему», как творчество по созданию «совершенно новой, ранее не бывшей ступени бытия». Поэтому сублимация «имеет два конца»: высшую ценность, существующую в идеальном мире, – и низшие аффекты и подсознательные стремления, существующие в реальном мире. Вышеславцев отмечает, что ложная ценность «не сублимирует, она не воплощается, не преображает и не спасает, и не воскрешает. С другой стороны, то, что воплощается, преображает действительность и становится реальностью, даже эмпирической, Mundus fabulosus может преобразить душу и жизнь, ибо миф, «басня» может содержать в себе высшую мудрость, ценность, святость, аксиологическую правду»[111].
По Вышеславцеву, в процессах возведения низшего к высшему важную «сублимирующую роль» играет «положительный образ»: «мощь» положительного образа в душе «есть нечто изумительное». Этот образ становится «настоящим чудом и источником настоящих чудес», когда он проникает в подсознание – это и есть механизм, благодаря которому только и возможно преображение человеческой души. Религиозный мыслитель конкретизирует данное представление, обращаясь к особенностям русского религиозного сознания, особенно «чувствительного к "видению умной красоты"». Для русского человека «образ Христа воскресшего и образ Града Китежа всегда имел особое значение. Если чем можно сублимировать хаос русского подсознания – то прежде всего этим. Для русского человека "добротолюбие" есть всегда «красотолюбие» (φιλοκαλία), а если вникнуть в основную тему этого «красотолюбия», то она откроется нам как основная тема аскетики, которая есть искусство сублимации. Сублимировать, т. е. преображать душу, можно только на путях истинного «красотолюбия»[112].
Третье из системы его понятий – «воображение». Вышеславцев считает, что нужно заново понять психологическую сущность, метафизическое, этическое и мистическое значение воображения. С его точки зрения, «всякая идея и всякая ценность содержит в себе постулат реализации. Она должна воображаться и воплощаться – это лежит в ее существе. Воображение можно рассматривать, как движение идеи сверху вниз, как формирование материи при помощи идеи, как воплощение. Но воображение можно рассматривать также и как движение снизу вверх, как стремление эмоций подняться к идеальному миру, и тогда это будет сублимацией»[113].
Опираясь на понятия «подсознание», «сублимация» и «воображение», Вышеславцев раскрывает сущность конфликта ценностных систем Закона и Благодати. Он отмечает, что рационально-императивная норма закона обращается всегда к сознанию, к сознательной воле, и «не умеет обращаться с подсознанием, которое ей не повинуется и противоборствует». Напротив, воображение обладает особым даром проникновения в подсознание, поскольку обладает «особым органическим сродством с Эросом»: «Подсознание повинуется только воображению, но норму нельзя вообразить, она не имеет образа, ее можно только мыслить. Не существует Эроса закона, и Кант это знал: нельзя любить закон, закон можно только «уважать»; любить же можно только конкретный образ, и если идею, идеал, то только воплощенный в живом лице»[114]. Истинная «благодатная» этика есть та, которая способна «преображать и сублимировать». Нормативная этика закона, долга, обязанности этого не достигает. Сублимирует лишь «живая полнота прекрасного образа». Именно поэтому «могучая сублимация Эроса у Данте показывает нам, куда ведет живая красота. Когда Достоевский говорит: „Красота спасет мир“, – он разумеет ее преображающую и сублимирующую силу»[115].
Представляется, что разграничение Вышеславцевым двух систем ценностей, попытка выявить сущность конфликта ценностных систем Закона и Благодати имеет глубокие основания и является весьма актуальной. И сегодня многие авторы не разграничивают ценности-нормы и ценности-идеалы. И это несмотря на то, что механизмы воздействия этих двух систем ценностей на поведение человека принципиально различаются. Кроме того, как справедливо утверждает М. С. Каган, в современном обществе резко изменилось соотношение нормативного и ценностного механизмов регуляции поведения членов общества: «от доминирования нормативного к безусловному преобладанию ценностного»[116].
Вышеславцев справедливо разграничивает «нормативную систему ценностей» (в рамках которой ценности-нормы являются сугубо рациональным и формализованным регулятором поведения людей, «сетью моральных императивов и запретов») и ценности– идеалы (опирающиеся на «мощь положительного образа в душе», на «сублимирующую силу прекрасного образа»). Религиозный мыслитель не без основания утверждает, что рациональная норма закона обращается «к средней сфере разумного сознания» и вызывает «сопротивление подсознательных аффектов и сверхсознательной свободы». В отличие от этого «таинственный зов благодати» воспринимается личностью как некий «образ, видение, голос», который обладает свойством «непроизвольно приковывать внимание, пробуждать подсознательную работу воображения и, вместе с тем, – вызывать ответное "да" (да будет!) в глубине свободного богоподобного я». Как показывает Вышеславцев, «только призыв благодати обладает силой проникать в "сердца и утробы", в предельную глубину сокровенного я, и оттуда преображать, сублимировать, обоживать весь микрокосмос, все существо человека – плоть, душу и дух. Сублимируется вся природа человека, все, что дано нашему свободному духу, как материал»[117]. Именно так побеждается дух противоречия: не законом, не приказом, не угрозой. Если повеление «возбуждает бунт раба, закон возбуждает противление свободного произвола», то «зов, „любезное приглашение“, обращение к свободе – не может вызвать бунта, возмущения, противления гордости. Скорее может вызвать свободное ответное движение любви»[118].
Таким образом, Вышеславцев находит обоснование фундаментальной проблемы: формирование личности не может не опираться на свободный выбор ценностей и идеалов, «мощь положительного образа в душе», который способен преображать саму человеческую душу. Такая постановка вопроса весьма актуальна для современной России. Фактически она показывает непреходящую роль воспитания как фактора формирования личности. Именно воспитание выступает как процесс формирования ценностного сознания личности, опирающийся на свободный выбор ценностей и идеалов, «мощь положительного образа в душе». В этой связи становится очевидным, что отказ российских политических элит в начале 90-х гг. XX века от системы воспитания как таковой (а не только от системы коммунистического воспитания) является неправомерным и губительным для будущего нашей страны.
Но существует ли «абсолютная гарантия сублимации»? Иначе говоря, возможно ли использование воображения в дурных целях, возможно ли «порочное воображение»? Вышеславцев разграничивает два процесса: есть сублимация, но также существует и профанация (это то, что бесчестит, а не возвышает). Да, существует «извращенный Эрос»: «Эрос ненависти, Эрос злой радости, или „злорадства“, в противоположность Эросу любви. Если Эрос любви есть „рождение в красоте“, то извращенный Эрос есть умерщвление в уродливом (садизм), наслаждение в низком. Существует Эрос сублимации, но существует и Эрос деградации, Эрос падения… Извращенный Эрос есть стремление к негативным ценностям и отвращение к позитивным»[119].
Данное представление оказывается весьма актуальным с точки зрения анализа роли СМИ в современном российском обществе. Фактически многие теле– и радиоканалы проводят (осознанно или неосознанно) политику, направленную на «дебилизацию населения страны» (термин С. Б. Иванова). Фактически «дебилизация» и представляет собой «формирование стремления к негативным ценностям и отвращение к позитивным», представляет собой, выражаясь языком Вышеславцева, «профанацию» воспитания. Последствия «дебилизации» (как антипода воспитания) дают о себе знать в росте преступности, наркозависимости, алкоголизации и т. п. Вот почему призыв С. Б. Иванова[120] «прекратить дебилизацию населения страны» не может не вызывать всяческой поддержки.
В этой связи весьма значимым в духовной жизни личности оказывается воля и стремление к ориентации на высокие ценности и идеалы. Однако, не каждый оказывается готов к свободному выбору возвышающих человека ценностей и идеалов. Вышеславцев специально обращается к анализу ситуации, возникающей у человека, стоящего перед выбором.
Прежде всего, он раскрывает диалектику взаимосвязи свободы и альтернативы. Да, человек всегда стоит перед альтернативой свободного выбора. При этом «чем глубже его рефлексия, тем труднее для него разрешение альтернативы "быть или не быть?", тем дальше откладывается решение, как у Гамлета». Но «альтернатива» имеет смысл лишь как обращение к свободе, равно как свобода в смысле выбора возможна лишь там, где есть «альтернатива». По словам Вышеславцева, свобода произвола, свобода абсолютного выбора «вовсе не исчерпывается выбором между да и нет, между утверждением и отрицанием свыше данной иерархии ценностей, между добром и злом; существует свобода выбора между различными и противоположными да, между различными комбинациями ценностей, между различными решениями их конфликтов, между различными комбинациями средств – одним словом, между различными творческими возможностями»[121].
Но какую ценность выбрать и на каком основании? Именно в этой ситуации решающим аргументом становятся воля и стремление. По его словам, неразрешимость нравственного конфликта рождает «нерешительность». Однако ритм жизни требует немедленного решения. Поэтому приходится рисковать, «брать на себя ответственность возможного греха и ошибки»: «решение воли всегда разрубает узел и не может ждать, пока он будет распутан. Рефлексия ума, рефлексия совести всегда и неизбежно отстает от актов выбора. Свободная воля в своих решениях всегда в конце концов необоснованна, и не потому, что она никогда не находит «достаточного основания», ибо обоснование уходит в бесконечность»[122]. Это значит, что человек в своих действиях «никогда не бывает рационально детерминирован, он «решается» именно тогда, когда не находит рационального «разрешения», он действует на свой риск и страх, не зная до конца, что есть и что быть должно. Даже такие «ценности», как воля и разум, – конфликтны: воля требует уверенности и решительности; разум требует сомнения и, следовательно, нерешительности. И здесь последнее слово произносит суверенная инстанция свободы: она решает, когда и сколько нужно медлить с решением и взвешивать основания и когда наконец приходится сказать: «Жребий брошен!»»[123].
Поэтому несовместимость закона и благодати совсем не есть только теоретическая антиномия, философская, этическая и нравственно-богословская. Фактически, по Вышеславцеву, – это жизненный трагизм, развертывающийся в истории и, быть может, повторяющийся в жизни каждого из нас. Столкновение несовместимых ценностей есть трагизм. Каждая великая система ценностей имеет своих поклонников и они вступают в борьбу друг с другом. Конфликт ценностей превращается в трагическое столкновение их носителей. Так, трагическое столкновение религии закона и сверхзаконной религии благодати повторилось в душе, в жизни, в судьбе ап. Павла: «Распятие Христа было "жизненной драмой" ап. Павла, тем более трагичной, что он сам продолжал Его распинать ("Савл! что ты гонишь Меня?"). Столкновение Савла и Павла в единой душе человеческой есть одна из мощнейших трагедий. Она разрешается принципиальным преодолением "законничества" во всех его видах, сублимацией души, ее поднятием на новую, высшую ступень благодати, открытием новых святынь и ценностей»[124].
Представляется, что Вышеславцев поставил актуальную для современной России проблему – реальной роли и значимости ценностей в жизни личности и общества. Предложенная им концепция аксиологии культуры раскрывает внутренний механизм формирования ценностных ориентаций личности и зависимости этих ориентаций от иерархии ценностей общества. С нашей точки зрения, принципиально важной в рассмотренной концепции является идея «сублимации», возвышения человеческого духа. Интерпретация этой идеи в русле светской аксиологии культуры предполагает, на наш взгляд, выдвижение в центр внимания отечественного обществознания и институтов власти проблемы формирования духовной культуры личности.
Своей концепцией Вышеславцев сумел показать ограниченность сферы действия ценностей-норм, с одной стороны, а с другой – реальной роли ценностей-идеалов в формировании внутреннего мира личности, которую трудно переоценить. «Положительный образ» (будь то образ Христа, образ литературного героя и т. п.) оказывается – особенно для подрастающих поколений – необходимым для формирования внутреннего духовного мира личности как воздух для поддержания жизнедеятельности организма. Отсутствие в микро– и макросреде положительных образцов для подражания, и более того – навязывание подрастающим поколениям «негативных образов», не может не привести к духовной деградации, к духовному обнищанию личности. Это подводит к мысли о необходимости внесения коренных изменений в культурную политику государства на современном этапе развития, изменения самой парадигмы культурной политики. И речь должна идти не только об институте образования (хотя, несомненно, и о его новых задачах). Необходимо сформировать принципиально иную духовно-нравственную атмосферу в обществе. При этом в центре внимания должна оказаться проблема формирования социальных механизмов, способствующих возвышению человеческой души, формированию духовной культуры личности.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– для Вышеславцева личность – «высшее единство познающего, оценивающего и действующего субъекта», «драгоценнейшее явление культуры»; «образ действия» личности определяется системой ценностей, которую данная личность признала и усвоила в жизни;
– существует две системы детерминаций поведения личности: во-первых, сами ценности (которые «"определяют направление", они действуют как компас, но не как руль»); во-вторых, требуется волевое усилие личности (чтобы «дать направление», после того как удалось его определить); такая сила и есть свобода личности, свобода воли;
– в конкретной жизненной ситуации личность сталкивается с таким «конфликтом ценностей», который не может быть разрешен собственно «таблицей ценностей», ибо «таблица ценностей» совсем не представляет собой «гармонической системы» – в каждой конкретной ситуации человек вынужден совершать волевое усилие, выбирая между той или иной системой ценностей, утверждая одну из них и отторгая другую самим своим поступком (или системой поступков); конфликт ценностей зачастую превращается в трагическое столкновение их носителей;
– наиболее полно проблематику конфликта ценностей Вышеславцев раскрыл на примере антитезы ценностных систем Закона и Благодати; Закон («символ нормативной системы ценностей») выражается во множестве внешних правил, которые регулируют все поведение человека (самое ценное в нем, – это борьба со злом и запрещение преступления, однако Закон «достигает прямо противоположного тому, к чему стремится»); Благодать (символ ценностного механизма регуляции поведения) опирается на «мощь положительного образа в душе», на «сублимирующую силу прекрасного образа»;
– несовместимость Закона и Благодати не является исключительно теоретической антиномией; это – жизненный трагизм, развертывающийся в истории и, возможно, повторяющийся в жизни каждого из нас;
– Вышеславцев находит обоснование фундаментальной проблемы: формирование личности не может не опираться на свободный выбор ценностей и идеалов, «мощь положительного образа в душе», который оказывается способен преображать саму человеческую душу; своей концепцией Вышеславцев сумел показать ограниченность сферы действия ценностей-норм, с одной стороны, а с другой – реальную значимость ценностей-идеалов в формировании внутреннего мира личности.
1.5. Аксиологическая концепция И. А. Ильина: законы и аксиомы духовной жизни личности
Возникшие в современном российском обществе негативные явления (духовная деградация групп населения, девальвация традиционных российских ценностей, некритичное заимствование ценностей западной культуры и образа жизни, переориентация значительной части общества с ценностей духовных на ценности материальные и др.) во многом обусловлены как снижением влияния на духовное развитие наших соотечественников системы отечественного гуманитарного образования, так и активным проникновением в Россию продукции массовой культуры. Именно поэтому в современной ситуации оказывается важным не только осознание реальной роли и значимости духовных идеалов и ценностей в жизни общества и личности, но также и выдвижение в центр внимания отечественного обществознания и институтов власти, проблемы формирования духовной культуры личности.
В этом плане являются актуальными и заслуживают глубокого изучения аксиологические идеи И. А. Ильина, не получившие до настоящего времени своего специального анализа в современной теоретической литературе. Следует отметить, что в отличие от Н. О. Лосского (который даже терминологически обозначил свою концепцию как «онтологическую теорию ценностей»[125]), Ильин не употреблял в отношении своих теоретических построений термина «аксиологическая теория», хотя по существу все его работы опираются на аксиологический подход. Предмет его анализа – душа современного человека, его ценностное сознание. Как подчеркивал Ильин, обращение к проблематике духовности – важнейшая задача именно русской философии. С его точки зрения, если русская философия «хочет еще сказать что-нибудь значительное, верное и глубокое русскому народу и человечеству вообще», «она должна стать убедительным и драгоценным исследованием духа и духовности», т. е. «начать свое русское национальное дело сначала, из глубины русского национального духовного опыта…»[126].
В своих трудах Ильин разработал целостную и всестороннюю концепцию духовной культуры личности[127]. Эта концепция имеет, на наш взгляд, непреходящее значение, поскольку выявляет некий инвариант духовности, т. е. то, без чего не может состояться духовный мир личности (будь то светский или религиозный его разновидности). Видимо, именно поэтому свою задачу религиозный философ видел в том, чтобы обнаружить «законы» духовной жизни человека. Например, раскрывая сущность «закона духовного отождествления через веру», он писал: «Есть некий духовный закон, владеющий человеческой жизнью. Согласно этому закону, человек неизбежно уподобляется тому, к чему он прилепляется любовью, верою и помыслами. Чем сильнее и цельнее его прилепленность, тем явственнее и убедительнее обнаруживается этот закон»[128]. Ильин специально отмечает, что этот закон имеет место, как в жизни верующих, так и в жизни неверующих людей. К мысли о существовании определенных законов духовной жизни человека философ обращается неоднократно: «человеческий дух есть дух инстинкта; а человеческий инстинкт есть инстинкт духа. И может быть приблизится время, когда люди поймут этот закон, примут эту истину и пойдут по этому пути. От этого зависит все будущее нашей культуры»; «Таков духовный закон: несопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым» и др.[129].
Представляется, что выдвижение в центр внимания данной проблемы, не является для Ильина случайным. Религиозный мыслитель обращается к этой проблематике, исходя из потребности осмыслить негативные процессы, происходящие в современном мире, связанные с тем, что вся современная культура и «социалистическая», и «несоциалистическая», потрясена в своих основаниях, ей грозят разложение и гибель: «То, что совершается в мире за последние полвека, есть крушение нашей культуры, которая не справляется с внутренне глубокими, а внешне – грандиозными задачами наших дней. Крушение это выражается, во-первых, в том, что она предоставила в своих собственных недрах сложиться, окрепнуть и победоносно выступить новому духовному варварству; во-вторых, в том, что она сумела противопоставить этому духовному варварству только формальную цивилизацию, чувственное разложение и хозяйственную жадность. Нам нельзя отвертываться от этого печального зрелища и замалчивать его; напротив, мы обязаны поставить честный диагноз, выговорить правду и приступить к отысканию новых жизненных путей…»[130].
Причины «крушения нашей культуры» он не без оснований связывает с теми процессами, которые происходят в душе современного человека, ибо современный культурный кризис – это «кризис нецельного духа, расколотого, расщепленного человека». Мы живем в «эпоху великой духовной смуты», поскольку в душе современного человека «или не остается ничего священного, или же ничтожное приобретает значение главного и руководящего». По его словам, люди в своей массе оторвались «от духовной почвы» и потеряли органическую связь с «корнем духовной жизни»[131]. Чтобы преодолеть этот кризис, необходимо, прежде всего, осознать его существование и глубину. Причем чем раньше люди постигнут это, тем лучше: «Чем мужественнее, чем отчетливее и строже это будет формулировано, принято во внимание и продумано до последних выводов, тем скорее начнется преодоление кризиса»[132].
Именно поэтому сегодня представляется весьма актуальным само выдвижение Ильиным идеи о существовании законов духовной жизни, нарушение которых чревато «крушением нашей культуры». Представляется, что признание того, что существуют определенные законы человеческого духа не только в рамках гуманитарного знания, но и шире – в рамках современного научного знания – требование времени. Особенно это актуально для современной России. Если власть имущим сегодня совершенно ясно, что невозможно игнорировать в своей практической деятельности, например, законы экономической жизни, то, поскольку сфера духовной жизни, многие полагают, не имеет каких-либо общепризнанных законов развития, можно и должно творить в этой сфере «как Бог на душу положит». Возможно, в этой связи и имеет место в духовной жизни современной России ситуация, которая, на наш взгляд, может быть охарактеризована словами Ильина: «мнимая культура», «лжекультура», «дурная цивилизация». Однако, как справедливо отмечал Ильин, «душа имеет свою природу; природа эта имеет свои законы; душа не творит сама этих законов, а подчиняется им и не может изменять их по произволению»[133].
Действительно, на протяжении многих тысячелетий людям открывались не только законы физического мира, но и законы духовной жизни, которые находили свое оформление в священных книгах (так, практически во всех религиозных системах утверждается, например, закон духовного воздаяния за грехи). Жизненный опыт многих поколений показал необходимость безусловного соблюдения духовных законов, что становилось гарантом выживания и конкретной общины, и нации в целом. Так, высокие духовные ценности, святыни русского народа стали той духовной силой, которая не раз спасала наше Отечество. Сегодня как-то не принято обсуждать эту проблематику с высоких трибун. Казалось бы, перед страной в настоящее время стоят другие задачи. Но следует помнить, что решение любых задач и в прошлом, и в настоящем не может не опираться на духовный потенциал людей, их духовную жизнь, особенно, если речь идет о России.
В этой связи представляется, что задача современного отечественного социогуманитарного знания заключается в открытии и обосновании законов человеческого духа, которые, несомненно, действуют в сфере духовной жизни общества, социальных групп и личности, и которые нельзя игнорировать при осуществлении культурной политики. Иначе страна будет обречена на духовную деградацию, которая рано или поздно может привести к неисчислимым бедствиям. Ильин сделал попытку формулировки этих законов. Поэтому осмысление его концепции и является сегодня своевременной и актуальной задачей.
С чего начинается духовность? Как формируется человеческая духовность? Отвечая на эти вопросы, религиозный философ пишет: «Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, что он несет; нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо выбирать: отказываться от очень многого ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь: это она «предпочитает», «приемлет», «прилепляется», ценит, бережет, домогается и блюдет верность. А воля есть лишь орудие любви в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, безразлична к добру и злу»[134]. Духовная жизнь и состоит в том, что «человек утверждает в себе известные, объективно-ценные жизненные содержания, и утверждает себя ими». Человек принимает их как свободно избранные, признанные, исповедуемые, любимые. Он «наполняет ими свою жизнь и исполняет их своим сочувствием, присутствием, поддержкою и служением. Он строит себя ими и строит их осуществление собою. Нет этого – нет и духовной жизни»[135].
Однако на основе чего происходит выбор «жизненных содержаний»? Этот вопрос является основополагающим и многое проясняет в самой концепции Ильина, поскольку с его точки зрения, выбор осуществляется в связи с ориентацией на «некую высшую, всё определяющую ценность»: у человека «должна быть в жизни некая высшая, всё определяющая ценность, которую он действительно больше всего любит и которая на самом деле заслуживает этой любви. Это и есть то, чем он живет и за что он борется; то, что освещает его жизнь и направляет его творческую силу; то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план…»[136].
Фактически каждый человек постоянно оказывается в ситуации выбора. И именно ценности, точнее, ориентация на определенные ценности дает основания для такого выбора. Понимая это, Ильин неоднократно подчеркивал в своих работах значимость ценностей для духовного мира человека и его жизнедеятельности: «Жить на свете значит выбирать и стремиться; кто выбирает и стремится, тот служит некоторой ценности, в которую он верит»; «Нельзя человеку не иметь определенной жизненной цели и жизненной ценности, в которые он верит и которым он служит»[137].
Важнейшим духовным механизмом, связанным с ориентацией на ценность, он не без основания называл веру. По его словам, «вера ставит каждого из нас перед высшей ценностью жизни, перед последним вопросом бытия, перед нашим существованием в целом: когда смерть вопрошает душу, то душа отвечает верою»[138]. Человек верит в то, что ощущает и воспринимает как «самое главное» в жизни, что и воспринимается всей «глубиной нашей души».
Он отмечал, что одни осознают, что они верят, а другие верят, не осознавая этого. Но всегда именно вера остается «первичной силой человеческой жизни» независимо от того, понимают люди это или нет. Именно «вера указует человеку его жизненный путь; она определяет его отношение к себе, к людям, к природе и ко всему священному в жизни человека»[139]. Значимость веры для человека такова, по словам Ильина, что сколько бы мы ни искали, мы не найдем такого человека, который ни во что не верил бы: «Чем глубже заглянем мы в человеческую душу, тем скорее убедимся, что человек без веры вообще не может жить; ибо вера есть не что иное, как главное и ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, его воззрения, его стремления и поступки»[140].
Ильин полагал, что, хотя человек и не может жить без веры, он может заблуждаться в своей вере и идти «по ложным путям». Он может разочаровываться в своей прежней вере и отходить от нее. Более того, он «может изменять своей вере по расчету и «продавать» ее. Но в одном человеку отказано, одного он не может: именно – жить без веры»[141].
Вместе с тем, религиозный мыслитель справедливо отмечал, что сам выбор «высшей, всё определяющей ценности» не предопределен. И многое здесь зависит от того, что становится предметом веры. В этой связи он подчеркивает, что «человеку надлежит строить свою веру, а не предоставлять ей расти наподобие полевой травы»: «есть люди, у которых эта „высшая“ и „главная“ жизненная ценность такова, что для них выгоднее умалчивать о ней и замалчивать ее до конца… Если бы удалось однажды пронизать все человеческие сердца без исключения таинственным лучом света, гак чтобы у всех выступила и въяве обнаружилась главная ценность жизни, составляющая предмет веры, то очень возможно, что мы все просто ужаснулись бы… Потому что, вероятно, оказалось бы, что большинство людей верит в нечто такое, что не только не обещает им ни блага, ни спасения, но что прямо ведет их к погибели. Люди живут и верят очень часто в слепоте и беспомощности; и не знают, и не догадываются о том, что человеку надлежит строить свою веру, а не предоставлять ей расти наподобие полевой травы; и вследствие этого люди очень часто верят, т. е. прилепляются не только своим «правдоподобным» мнением, а сердцем, волею и делами, служением и жертвенностью к таким жизненным содержаниям, служить которым и идти на жертвы ради которых поистине нет никакого смысла…»[142].
Поэтому «далеко не всякое жизненное содержание заслуживает веры». Слепо и неумно «прилепляться к чисто земным обстояниям», т. е. к чувственно-единичным вещам так таковым, превращать их в центр своей жизни, принимать их как свое любимое и, главное, «поклоняться им как высшей ценности», видеть в них высшую цель жизни, служить им и жертвовать ради них всем остальным. Из этого, подчеркивал Ильин, могут возникнуть только «внутренние противоречия, измена и бессмыслица». Чем сильнее и цельнее вера человека, тем явственнее и убедительнее обнаруживается «закон духовного отождествления через веру» (например, если человек верит только в чувственные наслаждения, принимая их за главнейшее в жизни, «их любя, им служа и предаваясь», – то он сам превращается постепенно в «чувственное существо, в искателя земных удовольствий, в наслаждающееся животное», и это будет управлять его поступками). Фактически вера «указует человеку его жизненный путь; она определяет его отношение к себе, к людям, к природе и ко всему священному в жизни человека. И потому совсем не безразлично, верит ли человек в пошлое, разъединяющее, уродливое, и погрязает вследствие этого в животности и злобе, или он верует в духовно-значительное, соединяющее и прекрасное, и вследствие этого парит наподобие ангела в благом и мудром служении»[143].
Конечно, человеку предоставлено верить во все, что ему угодно – «и в нелепость, и во вредоносное, и в погибельное». Такому, по выражению Э. Фромма, неподлинному способу бытия человека, Ильин противопоставляет подлинный способ бытия, который опирается на ценность того, что он называет «Священным», «Высшим», «Совершенством», «Божественным». Поэтому он различает «два ряда ценностей»: «Духовен человек постольку, 1) поскольку он живет внутренним опытом, а не только и не просто внешним, телесно– чувственно-материальным, 2) поскольку он умеет отличать – нравящееся, приятное, дающее наслаждение от того, что на самом деле хорошо, объективно-прекрасно, истинно, нравственно, художественно, справедливо, совершенно, божественно и 3) поскольку он, различая эти два ряда ценностей, умеет прилепляться к совершенному, предпочитать его, насаждать его, добиваться его, служить ему, беречь его и в случае надобности умирать за него»[144].
Эти два ряда ценностей Ильин связывает с двумя родами опыта: (1) чувственным, внешним, материальным; (2) нечувственным, внутренним, духовным. Как подчеркивает Ильин, только внутренний духовный опыт делает «человекообразное существо воистину человеком, т. е. духовной личностью, с неразложимым, священным центром, с индивидуальным характером, со способностью духовно творить и наполнять духом общественную жизнь, свободу, семью, родину, государство, частную собственность, науку и искусство»[145]. Однако, по его мысли, «душевный и умственный уклад современного человечества» связан с «обращенностью к чувственному, внешнему, материальному опыту» и «отвращенностью от нечувственного, внутреннего, духовного опыта».
На наш взгляд, Ильин ставит реальную проблему – духовно-нравственной деградации человека в условиях современного западного общества (сегодня такая постановка вопроса становится все более и более актуальной для нашей страны, вступившей на путь рыночных преобразований). Как отмечал религиозный мыслитель, «люди нашей эпохи стыдятся положительных и добрых чувств и не предаются им… современный «культурный» человек стыдится своей доброты и нисколько не стыдится своей злобы и порочности». Это связано с тем, что люди делятся на «две большие категории»: одни – безответственно ищут в жизни или своего наслаждения, или своей пользы; другие же чувствуют себя «предстоящими чему-то Высшему и Священному». Именно те, кто «не ведает, что есть чувство предстояния и призванности» оказываются «не способны творить настоящую духовную культуру. В этом приговор и им, и создаваемой ими лжекультуре…»[146].
Фактически Ильин формулирует важнейшую аксиому человеческого духовного опыта – без духовных идеалов, без ориентации на «Совершенство» не может быть полноценной духовной жизни. Сама духовность начинается с ориентации на идеал: «Можно было бы сказать, что потребность в "идеале" есть первый проблеск духовности и даже религиозности в человеке и обратно: человек, не живущий "идеальным" измерением жизни, лишен и духа, и религиозности». С его точки зрения, «"Идеал" есть нечто объективносовершенное. Именно поэтому "разочароваться" в нем – значит пережить духовное крушение, опустошить и обессмыслить свою жизнь, обесценить не "идеал", а самого себя»[147].
Именно поэтому дух живет повсюду, где «появляется или переживается людьми Совершенство». Даже тогда, когда человек просто искренно стремится к «совершенному или хотя бы к объективнолучшему (Божественному), не достигая его и не осуществляя его…». По мысли Ильина, всюду, где мы находим Совершенство, «мы обретаем духовное измерение вещей и жизнь самого духа; переживая это, мы приобщаемся духу; приемля это, усваивая это и включая в свою жизнь – мы становимся сами духовными существами, «чадами духа». Без духа и вне духа мы не имеем истинного бытия, а остаемся, по слову Гоголя, «существователями»…»[148].
С этой точки зрения, кризис современной культуры, ее «духовные раны» Ильин связывает с утратой многими людьми ориентации на «Священное», на «Совершенство». Современное человечество «во всеобщей погоне за приятностями и удовольствиями» растеряло «духовное измерение вещей и деяний; оно разлюбило духовность в жизни и вместе с тем разучилось любить, а научилось ожесточаться и ненавидеть»[149].
Религиозный мыслитель показал значимость формирования духовных ценностей уже с раннего детства. Основную задачу воспитания он видел «не в наполнении памяти и не в образовании "интеллекта", а в зажигании сердца». Поэтому образование без воспитания «есть дело ложное и опасное». Оно создает «ловкого, но черствого и злого человека», формирует напористых и беззастенчивых карьеристов, «вооружает противодуховные силы», поощряет в человеке «волка».
Фактически Ильин ставит вопрос о необходимости освоения личностью уже в детском возрасте важнейших духовных ценностей, которые позволят ему, став взрослым, обрести «духовное измерение вещей». Он показывает, что как только у маленького ребенка начнется «пробуждение» сознания и самосознания, «необходимо позаботиться о том, чтобы пробуждающие впечатления имели характер благостный и духовный, чтобы они исходили от духа и будили в младенческой душе духовные состояния». Впоследствии у ребенка будет много разных впечатлений, и острых, и тяжелых, и болезненных, и даже мучительных: будут и настоящие духовные травмы (ранения). Поэтому с точки зрения педагогической оказывается важным, чтобы «духовность инстинкта была пробуждена до этих неизбежных потрясений и ранений». Пока ребенок «полон естественной доверчивости и богат первозданной чистотой» необходимо пробудить его «духовное око», «чтобы душа раз навсегда поверила в благую силу мироздания и восхотела новой красоты, новой радости и новой гармонии; – чтоб она полюбила божественное и уверовала в Бога»[150].
Несомненно, что саму духовность Ильин чаще всего трактует исключительно в религиозном плане. Для Ильина как религиозного человека и философа, «духовное измерение вещей» связано с предстоянием к Богу: «Человек, испытывающий предстояние к Богу, свое достоинство и свою ответственность, несет в себе живую волю к Совершенству»[151]. Вместе с тем, в работах философа мы встречаем также попытки анализа духовной жизни людей нерелигиозных. Так, размышляя о задачах духовного возрождения посткоммунистической России, он отмечал необходимость осуществления великого и всенародного «акта покаяния». У религиозных людей все трудности этого «покаянного очищения» должны быть продуманы и преодолены в порядке церковном (по исповеданиям). У нерелигиозных людей – в порядке светской литературы, достаточно искренней и глубокой, а затем и в порядке «личного совестного делания». Без этого Россия, по его мысли, не в состоянии возродиться[152].
Ильин различал понятия «душа» и «дух». Если душа – «это весь поток не-телесных переживаний человека», его помыслов, чувствований, болевых ощущений, деловых соображений, праздных фантазий и т. д., то дух – это «то, что объективно значительно в душе», то, что связано с созерцанием или осуществлением красоты, с совершением добра, с общением с Богом. Причем только тот, кто сумел достичь этого уровня, испытывает нечто, как «самое лучшее и высшее», как «объективно ценнейшее, как объективно-главное», как «главное и совершенное само по себе и на самом деле…»[153].
Дух – это не только «главное и совершенное», это – воля «к Совершенству – а также к совершенствованию – в самом себе, в своих деяниях и во внешнем мире. Эта воля предполагает способность узнавать лучшее, отличать худшее и дурное, видеть Совершенное и принимать его. Поэтому дух есть дар очевидности»[154].
Аксиологический подход к анализу духовной жизни человека позволил Ильину выделить в душе человека «объективно ценнейшее, как объективно-главное», с одной стороны, а с другой – «неважное, неглавное, пустяшное, мелочное, праздное». Более того, он справедливо ставит задачу «очищения от душевной пыли»: «Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль ничтожных, повседневных мелочей и как самая душа наша начинает от этого мельчать, распылаться и вырождаться»[155].
С его точки зрения, «жить – значит различать, ценить и выбирать; кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни». Чтобы этого не произошло, необходимо «постоянно приводить наши жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, измеряя их его светом и его содержанием, так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное жизненное значение: то, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению, а все иное, не оправдавшееся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли»[156].
Что же из себя представляет «духовный центр» личности? По Ильину, каждая человеческая душа стремится стать «неким гармоническим единством», живущим и действующим из «единого духовного центра». Только в этом случае человек будет обладать «духовно укорененным характером». Раскрывая суть этого характера, религиозный мыслитель использует метафору: зрелый духовный характер подобен укрепленному «городу с единым крепким кремлем, в котором покоятся почитаемые им святыни. Или еще: он должен быть подобен художественному произведению искусства, в котором все обосновано единою, главною идеею. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам»[157].
Таким образом, результатом духовного воспитания и самовоспитания человека выступает построение «духовного Кремля». По его мысли, «духовный Кремль» – это те «волевые стены» индивидуального духа, которые позволяют сформировавшейся личности противостоять злу. Как он подчеркивает, «чувство стыда, чувство долга, живые порывы совести и правосознания, потребность в красоте и в духовном сорадовании живущему, любовь к Богу и родине – все эти истоки живой духовности, в единой и совместной работе создают в человеке те духовные необходимости и невозможности, которым сознание придает форму убеждений, а бессознательное – форму благородного характера»[158]. Именно эти «духовные необходимости» сообщают целостное единство и определенность «личному бытию», они образуют «некий духовный уклад, как бы живой костяк личного духа», который поддерживает его строение, его «оформленное бытие, сообщающий ему мощь и державу».
Построение «духовного Кремля» оказывается возможно, если в процессе воспитания сформирована способность к «самостроительству» и «самоуправлению». По его словам, «воспитывать человека значит приучать его к самостоянию и самообладанию во всех областях жизни». Личность обретает духовный характер тогда, когда научается самостоятельно наблюдать, исследовать и мыслить. Когда приобретает способность ставить себе жизненные цели и осуществлять их верными средствами. Когда вырабатывает «себе характер, т. е. систему необходимых духовных актов – акт совести, акт миросозерцании, акт волевого самоуправления, акт правосознания, акт дисциплины и др.»[159]. Поэтому дух – «самостоятельный творческий центр».
Распадение этого духовного костяка, размывание этого духовного уклада «означало бы духовный конец личности», которая в результате этого может превратиться «в жертву дурных страстей и внешний воздействий». Кризис духовности связан с отсутствием единого «духовного центра»: «плюралист, всегда распадающийся на множество внутренних "течений", и релятивист, для которого все условно и относительно, ничему не преданный безусловно и не имеющий единого первоисточника жизни, – он только кажется людям единым существом с духовно-волевым, самоуправляющимся центром. И противоречие является сразу – сущей трагедией и великим соблазном. На таких людей нельзя полагаться. На них нельзя построить какой-то жизнеспособной организации: ни семьи, ни корпорации, ни церкви, ни государства. Эпоха, когда такие люди преобладают, становится эпохой разложения и крушения»[160].
Фактически Ильин, используя эту метафору («духовный Кремль»), говорит о целостной системе непротиворечивых ценностных ориентаций личности. В современной психологии и социологии данное образование фиксируется с помощью понятия «иерархическая система диспозиций личности» (В. А. Ядов). Возникновение этой системы Ильин не без основания связывает с лично пережитым опытом человека («который должен быть выстрадан и выкован каждым из нас самодеятельно и свободно»), с его автономией как самодеятельного существа: «Дух или живет автономно, или не вступает в жизнь и остается в потенциальном состоянии. Поэтому зрелость души измеряется объемом, глубиною и цельностью ее автономного самоопределения»[161].
По Ильину, дух – это не только энергия видения, но и «энергия действования»; дух есть «концентрация сил не только для восприятия Совершенного, но и для осуществления его»[162]. Сама деятельность, поступки человека зависят от той «основной духовной установки человека», которая не дается «легко и просто», а является итогом «подготовляющей духовной работы». Ибо «человек в действии всегда бывает на той высоте, на которой он подлинно жил до испытующего и проверяющего его душу действия». Поэтому поступок человека «безжалостно подводит итог всему достоянию, пробуждая дремавшее, обнаруживая невидимое и проявляя сокровенное. Действие человека есть его выявленное бытие». В этой связи он справедливо утверждает, что ни один поступок человека не является случайным. Каждый поступок – это «созревший результат всей его предшествующей жизни, проявление всего его личного уклада». Человек совершает поступок «не только усилием, фактически его осуществляющим, но и всем процессом своей предшествующей жизни». При этом «если душа человека чиста, то верен будет и ее поступок, несмотря на свое видимое несоответствие законам праведности, и обратно: даже самые праведные поступки нечистой души – будут неверны»[163].
Концепция духовной культуры личности стала для Ильина теоретическим фундаментом осмысления тех будущих задач, которые встанут перед Россией в посткоммунистический период (статьи, посвященные этой проблематике, были им написаны в 40-50-е гг. XX в.). Фактически религиозный мыслитель пытался сформулировать те задачи, которые именно сегодня во всей своей полноте встали перед нашим Отечеством[164].
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– И. А. Ильин не употреблял в отношении своих теоретических построений термина «аксиологическая теория», хотя по существу в своих работах он и опирается на теоретико-ценностный подход;
– Ильин разработал целостную и всестороннюю концепцию духовной культуры личности, показав существование определенных законов и аксиом духовной жизни, выявив некий инвариант духовности (т. е. то, без чего не может состояться духовный мир личности – будь то светский или религиозный его разновидности);
– по Ильину, душа человека не творит своих законов, а подчиняется им и не может их изменять по собственной прихоти; среди этих законов – ориентация на «некую высшую, всё определяющую ценность», «закон духовного отождествления через веру» и др.;
– духовная жизнь состоит в том, что «человек утверждает в себе известные, объективно-ценные жизненные содержания, и утверждает себя ими»; важнейшая аксиома человеческого духовного опыта – без духовных идеалов, без ориентации на «Совершенство» не может быть полноценной духовной жизни; собственно духовность и начинается с ориентации на идеал;
– различая два ряда ценностей, религиозный мыслитель связывает их с двумя родами опыта: (1) чувственным, внешним, материальным; (2) нечувственным, внутренним, духовным; только внутренний духовный опыт делает «человекообразное существо воистину человеком, т. е. духовной личностью» (однако, современное человечество связало себя с внешним, материальным опытом и пренебрегает нечувственным, внутренним, духовным опытом);
– кризис культуры связан с «внутренним расколом, душевной расщепленностью, духовной нецельностью» современного человека, пренебрегающего законами духовной жизни, утратившего ориентацию на «Священное», на «Совершенство»;
– на наших глазах происходит «крушение нашей культуры», которое, во-первых, проявилось в том, что она позволила сложиться, окрепнуть и «победоносно выступить новому духовному варварству»; во-вторых, в том, что она сумела противопоставить этому духовному варварству только «формальную цивилизацию, чувственное разложение и хозяйственную жадность»; на место культуры приходит «мнимая культура», «лжекультура», «дурная цивилизация»;
– для того, чтобы преодолеть «болезнь духа», «исцелиться» от нее необходимо «строить свою личность»; результатом «самостроительства» и «самоуправления» выступает построение «духовного Кремля», т. е. тех «волевых стен» индивидуального духа, которые позволяют сформировавшейся личности противостоять злу.
Раздел 2 Задачи возрождения человека и культуры в посткоммунистической России
2.1. Самобытность русской культуры и модернизация общества: наследие отечественной религиозной философии и современность
Обращаясь к проблеме самобытности, Н. А. Бердяев подчеркивал, что русскую самобытность «не следует смешивать с русской отсталостью». С его точки зрения, «темный Восток, удерживающий ее на элементарных стадиях, Россия должна в себе победить». Отсталость России должна быть преодолена творческой активностью, культурным развитием. Наиболее самобытной «будет грядущая, новая Россия, а не старая, отсталая Россия. Подлинное национальное сознание может быть лишь творческим, оно обращено вперед, а не назад»[165]. Несколько иную позицию занимал И. А. Ильин, который полагал, что «отсталая в плане цивилизации, Россия всегда оставалась самобытной в своей культуре и творчески развитой страной»[166]. Не существует некоей единой «общеобязательной западной культуры», перед которой все остальное «темнота» или «варварство»; Запад «нам не указ и не тюрьма»; его культура отнюдь не идеал совершенства. Как подчеркивал Г. П. Федотов, «более глубокое погружение в источники западной культуры открыло для всех – еще не видевших – великолепную красоту русской культуры»[167].
Исходя из этого, русские религиозные философы видели задачу русского народа в творчестве самобытной духовной культуры. Как отмечал И. А. Ильин, перед нами стоит задача «творить русскую самобытную духовную культуру из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую предметность. И в этом смысл русской идеи». Аналогично этому Н. А. Бердяев подчеркивал, что самобытный тип русской души «уже выработан и навеки утвержден». Поэтому «русская культура и русская общественность могут твориться лишь из глубины русской души, из ее самобытной творческой энергии. Но русская самобытность должна, наконец, проявиться не отрицательно, а положительно, в мощи, в творчестве, в свободе»[168].
Проблематика самобытности культуры оказалась актуальной не только для России, но и для всех стран, вступающих на путь модернизации. В материалах ЮНЕСКО самобытность интерпретируется как «жизненное ядро культуры» и ставится вопрос о необходимости сохранения культурного многообразия на нашей планете. Фактически религиозные философы затронули в своих размышлениях о самобытности русской культуры одну из центральных культурологических проблем современности. Следует подчеркнуть, что, в настоящее время принцип сохранения национальной и цивилизационной самобытности общества в ходе модернизации окончательно закрепился в научной теории[169]. Как же трактовали феномен самобытности отечественные мыслители?
«Русскость русского духа» И. А. Ильин связывал с явлениями внутренней духовной жизни человека, используя для их характеристики такие термины как «душевно-духовный акт», «заряд духовного темперамента», «сердечное созерцание», «живое созерцание», «русский дух», «поющая русская душа», «душевный уклад человека» и др. Опираясь на современную терминологию, можно интерпретировать это представление как попытку дать всестороннюю характеристику этнической (национальной) картине мира. Действительно, каждый этнос формирует собственную картину мира. Поэтому русский человек и характеризуется своеобразием мировосприятия, мироощущения и мировоззрения, которые являются тремя главными компонентами картины мира. Если исходить из того, что картина мира является интегральной типологической характеристикой культуры, и что каждый этнос отличается от другого своеобразием элементов и структурой картины мира, то становится понятным то, что «русскость русского духа» связана с неповторимостью, уникальностью картины мира русского человека, стержнем которой выступают духовные ценности.
Уточняя свою позицию И. А. Ильин отмечает, что нашу национальную задачу мы должны верно понять, «не искажая ее и не преувеличивая». Мы должны заботиться не об оригинальности нашей, а о «предметности нашей души и нашей культуры»; оригинальность же приложится сама, расцветая непреднамеренно и непосредственно. Быть русским означает не только говорить по-русски. Это означает «воспринимать Россию сердцем, видеть любовию ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть Дар Божий, данный самим русским людям, и в то же время – указание Божие имеющее оградить Россию от посягательства других народов, и требовать для этого дара – свободы и самостоятельности на земле. Мы, русские люди, призваны не только знать историю своего отечества, но и видеть в ней борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик»[170].
Эта задача, поставленная нашим выдающимся соотечественником, сегодня оказывается как никогда актуальной. Известно, что эрозия или даже утрата картины мира, присущей социальной общности, может обернуться подрывом основ ее этнокультурной идентичности. Фактически И. А. Ильин справедливо утверждает необходимость сохранения этнокультурной идентичности русского человека. Следует отметить, что этнокультурная идентичность опирается на три разных, но взаимосвязанных измерения в историческом бытии этноса:
• на участии в культурном разнообразии благодаря собственным специфическим чертам;
• на участии в межкультурном взаимодействии, что выражается в способности данной культуры влиять на другие, и, в свою очередь, испытывать их влияние;
• на самотождественности этноса (нации), которая достигается через преемственность его культуры.
Этнокультурная идентичность предполагает взаимосвязь и взаимодополнительность всех трех представленных измерений этноса[171]. В ситуации, когда вместо трех фактически остается одно измерение (да и то – «усеченное»: сегодня именно наша культура испытывает мощное влияние со стороны других культур), остро встает вопрос о самотождественности, о преемственности национальной культуры. В этой связи весьма актуальным является утверждение Ильина о том, что «любить свою родину совсем не значит отвергать всякое иноземное влияние; но это не значит и наводнять свою культуру полою водою иноземщины. Есть творческая мера в духовном общении и взаимодействии народов; и мера эта лучше всего обретается живым, расцветающим творчеством самого народа»[172]. Поэтому, например, вестернизация кинопроцесса в современной России остро ставит вопрос о необходимости выработки определенного этикета по отношению к своей собственной культуре. Фактически к этому и призывал И. А. Ильин: «Итак, мы не призваны заимствовать духовную культуру у других народов или подражать им. Мы призваны творить свое и по-своему: – русское по-русски»[173]. Опыт стран, прошедших путь от общества традиционного типа к современному (например, Японии), показывает плодотворность бережного отношения к духовным ценностям собственной культуры – их сохранение и приумножение (а не забвение или даже разрушение); и это – оптимальный путь модернизации, перехода к обществу современного типа. Ибо, как отмечал Ильин, основной животворный и неисчерпаемый источник народного жизнетворчества – наша история и культура. Не потому, что мы лучше или хуже других народов, а потому, что мы тоже другие: «У нас своя, особая вера, свой характер, свой уклад души… У нас иное правосознание и иная государственность. Так было всегда. И так обстоит особенно теперь, после всего перенесенного Россией. Поэтому механическое заимствование у других народов сулит нам добра меньше, чем когда-нибудь.»[174].
Сегодня, к сожалению, речь не идет о полноправном участии нашей культуры в межкультурном взаимодействии. Отечественный зритель оказывается во власти штампов массовой культуры (зарубежной или отечественной), истинные же ценности американской, французской, немецкой и других культур часто оказываются вне его восприятия. Вместе с тем, представляется, что только отечественная кинематография, ориентированная на российский менталитет способна вызвать у зрителя чувство идентичности со своей культурой, с судьбой своего народа. На наш взгляд, национальный кинематограф (как и в целом искусство) должен был бы взять на себя этнозащитную функцию – воспроизводства и поддержания культурного своеобразия этносов, проживающих на территории современной России, их этнокультурной специфики. В этой связи являются актуальными слова И. А. Ильина: «Россия не есть пустое вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все что угодно, не считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть живая духовная система со своими историческими дарами и заданиями. Мало того, – за нею стоит некий божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказаться и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели… И все это выговаривается русской идеей»[175].
Как отмечал Н. А. Бердяев, то, что обычно называют «европеизацией» России, «неизбежно и благостно». Однако менее всего этот процесс означает то, что мы станем похожи на немцев, англичан или французов. Отрицание России и идолопоклонство перед Европой – явление очень русское, восточное, азиатское явление. Именно «крайнее русское западничество и есть явление азиатской души». Вот от этого «азиатства» пора бы освободиться культурному русскому человеку. Западный человек не идолопоклонствует перед своими культурными ценностями, – он их творит; и нам следует творить культурные ценности. Творческая самобытность свойственна европейскому человеку; в этом и «русский человек должен быть подобен человеку европейскому». По мысли Бердяева, призыв забыть о России и служить человечеству – пустой призыв. Реальность «всечеловечества зависит от реальности России и других национальностей». Россия – великая реальность, и она входит в другую реальность, именуемую человечеством, и «обогащает ее, наполняет ее своими ценностями и богатствами». По его словам, «космополитическое отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества. Россия – бытийственный факт, через который все мы пребываем в человечестве… Россия – творческая задача, поставленная перед человечеством, ценность, обогащающая мировую жизнь. Человечество и мир ждут луча света от России, ее слова, неповторимого дела. Всечеловечество имеет великую нужду в России»[176].
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– не существует некоей единой «общеобязательной западной культуры», перед которой все остальное «темнота» или «варварство»; Запад «нам не указ и не тюрьма»; его культура отнюдь не идеал совершенства (И. А. Ильин); «великолепная красота русской культуры» явственно предстает при более глубоком «погружении в источники западной культуры» (Г. П. Федотов);
– то, что обычно называют «европеизацией» России, «неизбежно и благостно»; однако при этом мы не станем похожи на немцев, англичан или французов; «отрицание России и идолопоклонство перед Европой – явление очень русское, восточное, азиатское явление»; именно «крайнее русское западничество и есть явление азиатской души»; от этого «азиатства» необходимо избавиться культурному русскому человеку (Н. А. Бердяев);
– мы не можем и не должны заимствовать духовную культуру у других народов или же им подражать, поскольку «у нас своя, особая вера, свой характер, свой уклад души. У нас иное правосознание и иная государственность. Так было всегда»; Россия не является пустым вместилищем, в которое можно «по произволу, вложить все что угодно, не считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть живая духовная система со своими историческими дарами и заданиями»; наша задача – «творить свое и по-своему: – русское по– русски» (И. А. Ильин);
– самобытный тип русской души «уже выработан и навеки утвержден» (Н. А. Бердяев); «русскость русского духа» связана с явлениями внутренней духовной жизни человека, которые можно отобразить такими терминами как «душевно-духовный акт», «заряд духовного темперамента», «сердечное созерцание», «живое созерцание», «русский дух», «поющая русская душа», «душевный уклад человека» и др.; «мы, русские люди, призваны не только знать историю своего отечества, но и видеть в ней борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик» (И. А. Ильин);
– «отсталая в плане цивилизации, Россия всегда оставалась самобытной в своей культуре и творчески развитой страной» (И. А. Ильин); русскую самобытность «не следует смешивать с русской отсталостью», отсталость России должна быть преодолена творческой активностью, культурным развитием (Н. А. Бердяев);
– «любить свою родину совсем не значит отвергать всякое иноземное влияние; но это не значит и наводнять свою культуру полою водою иноземщины. Есть творческая мера в духовном общении и взаимодействии народов; и мера эта лучше всего обретается живым, расцветающим творчеством самого народа» (И. А. Ильин);
– призыв забыть о России и служить человечеству – пустой призыв. Реальность «всечеловечества зависит от реальности России и других национальностей». Россия – великая реальность, и она входит в другую реальность, именуемую человечеством, и «обогащает ее, наполняет ее своими ценностями и богатствами» (Н. А. Бердяев).
2.2. Задачи возрождения культуры в посткоммунистической России: прозрения русских религиозных мыслителей
Оказавшись за рубежом, И. А. Ильин, Н. А. Бердяев, Г. К. Федотов и др. русские религиозные мыслители не только сохраняли верность традициям русской культуры, не только делали все для того, чтобы отстоять ее самобытный культурный лик, но и размышляли о возможном будущем Родины после отхода коммунистов от рычагов власти. Они верили в свободное и достойное будущее Отчизны. Вот почему важнейшей проблемой и своей насущной задачей они считали разработку программы обновления и возрождения России.
Для них было очевидным, что в будущем, на новом для России этапе развития с неизбежностью встанет вопрос о способах и формах обустройства страны. И никто, кроме самих россиян, за россиян не будет заниматься теоретической проработкой этих вопросов. 90-е годы XX века показали истинную значимость мысли И. А. Ильина о том, что никто, кроме нас самих, россиян не «родит идею восстановления и возрождения нашей родины и ее культуры». Сегодня становится все более очевидным, что никто «не в состоянии дать нам готовый рецепт». В этой связи религиозные мыслители и выдвигали конкретные программы развития страны в посткоммунистическую эпоху, считая, что «русскому народу необходимо духовное возрождение и обновление» (Ильин И. А.). Федотов написал серию статей под общим названием «Проблемы будущей России» (опубликованы в 1931 г.). Ильин также опубликовал серию статей под общим названием «Наши задачи» (опубликованы в Париже в 1956 г.).
Н. А. Бердяев видел будущее России как «тип востоко-западной культуры», которая сумеет преодолеть односторонность западноевропейской культуры с ее «позитивизмом и материализмом», преодолеть «самодовольство ее ограниченных горизонтов». В известном смысле, писал он, «европеизация России необходима и неотвратима». С точки зрения религиозного мыслителя, Россия должна стать для Европы «внутренней, а не внешней силой, силой творчески-преображающей». Для этого Россия должна быть «культурно преображена по-европейски». С точки зрения Бердяева, если русское государство доныне хотело существовать пассивностью своего народа, то отныне оно может существовать лишь его активностью. А русскому человеку необходимо отрешиться от мысли, что за него кем-то все будет сделано и достигнуто. «Исторический час жизни России требует, чтобы русский человек раскрыл свою человеческую духовную активность». И сегодня как никогда ранее актуально звучат слова Бердяева: необходимо, чтобы «Россия осознала себя, стряхнула с себя пассивность, разбудила в себе мужественные силы и почувствовала себя призванной к великим делам в мире»[177].
На наш взгляд, эта активность должна проявиться, прежде всего, в созидательном плане – в умении раскрыть свой интеллектуальный потенциал и направить его на обновление нашего общества в интересах нынешних и будущих поколений, в интересах нашей Отчизны. Поэтому путь возрождения Родины нельзя искать в прямом заимствовании экономических моделей других стран, без учета исторически сложившегося своеобразия характера русского народа, особенностей его культуры, и, самое главное, без опоры на основания его духовности. Ибо человека (в том числе и русского человека) нельзя рассматривать исключительно как Homo economicus. Попытка такого подхода к проблемам модернизации России не могла не обернуться процессами криминализации общественной жизни. Возрождение России возможно лишь на пути выдвижения в центр духовной жизни общества базовых ценностей русской духовности. Поэтому проведение экономических преобразований предполагает одновременно и необходимость духовного возрождения и обновления России.
О состоянии русской души и русского духа. И. А. Ильин полагал, что когда русские патриоты говорят о возрождении России, то они представляют себе обычно восстановление «достойной государственной формы, возобновление осмысленного хозяйства, основанного на частной собственности, и возрождение свободной русской культуры». Он не сомневался в том, что все указанное необходимо и что оно «будет полезно и значительно», но при этом постоянно подчеркивал, что всего этого мало, что главное – это «состояние русской души и русского духа». Ильин имел в виду «личные качества и тяготения человека», то, как он ведет себя «в личной жизни, и еще глубже: это вера, его совесть и верность, это его характер, это то, что он способен совершить в общественной жизни и чего он не может не сделать». Он постоянно подчеркивал, что не верит и не поверит ни в какую «внешнюю реформу», которая могла бы спасти людей «сама по себе, независимо от внутреннего, душевно-духовного изменения человека»: «Внешнее само по себе не обеспечивает человеку ни духовности, ни духовного спасения; никакой государственный строй не сообщит человеку ни любви, ни доброты, ни чувства ответственности, ни честности, ни благородства. Истинное обновление идет не от внешнего внутрь, не от формы к содержанию, не от видимости к существу, а обратно»[178].
По Ильину, «все великое и священное идет изнутри»: от сердечного созерцания; от постигающей и приемлющей любви; из таинственной духовности инстинкта; от воспламенившейся воли; от узревшего разума; от очистившегося воображения. Если же внутри «смутно, нечисто, злобно, жадно, скверно, то не поможет никакая внешняя форма, никакой запрет, никакая угроза, никакое «избирательное право», особенно всеобщее, равное и прямое»[179]. При внешнем приличии, порядке и свободе общественной жизни человек может «растить в себе безбожного, бессовестного и бесстыдного предателя, продажного пролазу, напуганного и трепещущего подхалима», словом, «жалкое и жалости достойное существо», которое ни государства, ни тем более, великой и славной духовной культуры не построит. Он отмечал, что если бы удалось однажды «пронизать все человеческие сердца без исключения таинственным лучом света так, чтобы у всех выступила и въяве обнаружилась главная ценность жизни, составляющая предмет веры, то очень возможно, что мы все просто ужаснулись бы…»[180].
В настоящее время, писал он, состояние русской души должно быть обозначено, как «униженное и развращенное» (мыслитель имел в виду советский период, а точнее – эпоху сталинизма). Отрицать это возможно, только утратив живое чувство добра и зла. Первая и основная задача поэтому – «осознать эту униженность и признать эту развращенность». Это может осуществиться в «великом и всенародном акте покаяния», поскольку русский народ нуждается в покаянии и очищении. Десятки лет большевистского правления уже «очистили одних и затоптали в грязь других». По мысли Ильина, очистившиеся должны помочь не очистившимся «восстановить в себе живую христианскую совесть, веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство чести и способность к верности». Без этого Россию невозможно возродить и величия ее не воссоздать. Без этого, по его мнению, русское государство, после неминуемого падения большевизма, «расползется в хлябь и в грязь». У религиозных людей все трудности этого «покаянного очищения» должны быть продуманы и преодолены в порядке церковном (по исповеданиям). У нерелигиозных людей – в порядке светской литературы, достаточно искренней и глубокой, а затем и в порядке «личного совестного делания». Без этого Россия не в состоянии возродиться.
Следует прямо сказать, что данная задача, поставленная Ильиным, еще не решена. Более того, она требует для своего решения долгой и кропотливой работы, как со стороны церкви, так и со стороны других социальных институтов, в том числе государства. Если говорить о «покаянном очищении» верующих, то несомненно, что Русская Православная Церковь (далее – РПЦ) накопила на протяжении многих веков значительный опыт «душевного врачевания» (связанный с утверждением в сознании людей вечных, абсолютных ценностей, идей любви к ближнему и др.). Поэтому она и обладает определенным кредитом доверия. При этом исследователи отмечают значительное расширение деятельности церкви по формированию мировоззрения людей, что в современной России оказалось возможным благодаря новым государственно-церковным отношениям. В настоящее время в своей пропаганде церковь использует различные каналы: выступления деятелей РПЦ в светских учреждениях (больницах и домах призрения, в местах заключения, в воинских частях, в школах и вузах и др.); издательства и типографии (РПЦ издает сотни книг и брошюр), газеты и журналы (РПЦ издает около 200 газет и журналов религиозного содержания) и т. д.[181].
Вместе с тем, реальная действительность такова, что только 7-10 % верующих постоянно посещают храм (именно эти верующие участвуют в церковных таинствах, стремятся вести постоянную и напряженную духовную жизнь). Поэтому священнослужители отмечают, что по сравнению со странами Европы, в России очень низкий показатель посещаемости храма (по их словам, «народ невоцерковлен»). Социологи отмечают также, что для многих религиозность – скорее дань моде, а не образ жизни. В этом нам и представляются существующие трудности «покаянного очищения» верующих. Покаяние народа, видимо, не следует рассматривать как одномоментный акт. Само преображение жизни посткоммунистической России (включая и воссоздание порушенных храмов) приведет тысячи верующих к духовному возрождению. При этом только через несколько поколений вопросы веры/неверия будут решаться людьми самостоятельно, то есть станут делом индивидуальной совести и свободного выбора.
Важная роль религии и церкви в деле духовного возрождения русского народа была также и в центре внимания Г. П. Федотова, с точки зрения которого «первой предпосылкой культуры является сам человек». Он писал, что мы стоим перед фактом «духовного искалечения народа, искусственно питаемого фальсифицированными продуктами или определенными ядами». Человек без Бога не может остаться человеком: «Обезбоженный человек становится зверем – в борьбе – или домашним животным – в укрощенной цивилизации». Без религии – это не нация, а человеческое месиво, глина, из которой можно лепить все, что угодно…». Аналогичную мысль проводит и В. И. Иванов: «Обезбожение человека – его обездушение; обездушенный, он обезличен и обесчещен. Массы забыли честь России, потому что они забыли свою душу; душу забыли, потому что потеряли лицо; лицо потеряли, потому что утратили Бога»[182]. Вот почему важнейшим фактором пробуждения национального самосознания Г. П. Федотов называет церковь.
Действительно, на новом этапе своего развития РПЦ сумела найти свое особое место в общественной жизни России. Именно в этой связи и были сформулированы «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» – всеобъемлющий документ, призванный дать ориентиры как священнослужителям, так и мирянам. Хотя как таковое «оцерковление культуры» (Г. П. Федотов) в условиях современной ситуации в России действительно представляется «христианской утопией», тем не менее, нельзя не видеть позитивной роли РПЦ в духовной трансформации современного российского общества. В условиях краха коммунистической идеологии в стране, религия (прежде всего в лице РПЦ) оказалась в состоянии частично восполнить образовавшийся «духовный вакуум», дать более чем половине населения страны духовные силы для преодоления испытаний 90-х годов, связанных с болезненным периодом структурной перестройки экономики.
Задачи духовного возрождения и обновления России. Среди задач духовного возрождения и обновления России, которые поставили в своих трудах религиозные философы, мы далее выделим три взаимосвязанные задачи, требующие специальной кропотливой работы со стороны семьи, церкви, государства и других социальных институтов.
(1) Создание новой системы национального воспитания. По мнению И. А. Ильина, новой России предстоит выработать себе новую систему национального воспитания. Во многом от верного решения этой задачи будет зависеть будущий исторический путь нашей страны. С его точки зрения, Россия будет нуждаться в «новом, предметном воспитании русского духовного характера». Речь идет не просто об «образовании» (ибо «образование само по себе есть дело памяти, смекалки и практических умений в отрыве от духа, совести, веры и характера»), а именно о воспитании как формировании ценностного сознания личности[183].
По мнению Ильина, ныне, как, может быть, еще никогда ранее, Россия нуждается именно в таком воспитании. Ибо ранее в России была жива религиозная и патриотическая традиция такого духа и такого воспитания. А ныне старые традиции разрушены, а новые еще не возникли и не сложились. По его мысли, завязать и укрепить их должна система предметного воспитания. Новые поколения русских людей должны «воспитываться к сердечной и предметной свободе». Этот путь – «на сегодня, и на завтра, и на века. Это единственно верный и главный путь, ведущий к расцвету русского духа и к осуществлению христианской культуры в России»[184].
Представляется, что постановка Ильиным задачи создания новой системы воспитания как никогда ранее актуальна для современной посткоммунистической России. Характеризуя современное состояние, исследователь проблемы, А. С. Запесоцкий отмечает: «Отказ от чрезмерно идеологизированного подхода к воспитательной работе привел к практически полному отрицанию воспитания как такового, сводя его к "воспитанию через предмет". Однако жизнь убедительно показывает, что сам по себе предмет обладает чрезвычайно малым воспитательным потенциалом. Речь идет не только о предметах естественнонаучного цикла, обращенных к сугубо рациональной сфере, но и о предметах социально-гуманитарного цикла (литература, история, право и т. д.)»[185]. На наш взгляд, несомненно, что, отвергнув идею коммунистического воспитания, необходимо создать новую: невозможно успешно реформировать страну без опоры на вновь созданную национальную систему воспитания. Вот почему данная идея Ильина требует своей практической реализации.
По Ильину, возрождение Отчизны возможно «через сочетание и примирение трех основ, трех законов духа: свободы, любви и предметности». Из этих трех великих основ всякой человеческой жизни и культуры ни одна не может быть упразднена или упущена: необходимы все три и все три обусловливают одна другую взаимно. Как полагал религиозный философ, вся современная культура «сорвалась» на том, что не сумела «сочетать эти основы и блюсти эти законы». Она захотела быть культурой свободы (и была права в этом), но она не сумела стать культурой сердца и культурой предметности (что запутало ее в противоречии и привело ее к великому кризису). Ибо «бессердечная свобода» стала свободой эгоизма и своекорыстия, свободой социальной эксплуатации, что привело к классовой борьбе, к гражданским войнам и революциям. А «беспредметная и противопредметная свобода» стала «свободой беспринципности, разнуздания, безверия, «модернизма» (во всех его видах) и безбожия».
Если бессердечная свобода, по словам Ильина, ведет к несправедливости и эксплуатации, то беспредметная свобода ведет к духовному разложению и социальной анархии. Однако бессердечная и беспредметная несвобода ведет к еще более тяжкой рабской несправедливости и глубокой деморализации. С точки зрения религиозного философа, свобода необходима человеческому инстинкту и духу, как воздух телу. Но она должна быть наполнена «жизнью сердца и предметной воли». Чем больше сердца и предметной воли у человека, тем менее опасны ему соблазны свободы и тем больший смысл она приобретает для него. Задача состоит «не в отмене свободы, а в ее сердечном наполнении и предметном осуществлении».
О чем пишет Ильин? Представляется, что он ставит чрезвычайно актуальную для современной социокультурной ситуации проблему: фактически он утверждает ведущую роль ценностноориентационной, и, прежде всего нравственной составляющей образования. Именно нравственность, а не сами по себе знания определяют внутренний облик личности. Поэтому формирование ценностных ориентаций личности, ее нравственности одновременно выступает и ядром процесса воспитания и критерием его эффективности. Напротив, неразвитость ценностного сознания личности выступает как один из главных признаков социокультурного кризиса в обществе[186].
Настоящая предметность, по Ильину, имеет два измерения: «субъективно личное и объективно ценностное». Первое измерение, «субъективно личное», определяет, действительно ли человек предан своей жизненной цели, искренен ли он в этой преданности, целен ли он в этой искренности и, наконец, действует ли он согласно этой преданности, искренности и цельности. Второе измерение, «объективно ценностное», определяет, не ошибся ли он в выборе своей жизненной цели, действительно ли его «предмет» «Предметен», действительно ли его «цель священна и правда ли ею стоит жить и за нее стоит бороться и, может быть, умереть». Это важно, поскольку в жизни возможны разные пути и перепутья[187].
Действительно, обращаясь к понятию «предметности», Ильин фактически ведет речь о картине мира личности и ее стержне – ценностях, на которые личность ориентируется. С точки зрения религиозного философа, «жить предметно» – значит связать себя (свое сердце, свою волю, свой разум, свое воображение, свое творчество, свою борьбу) с такой «ценностью, которая придаст жизни высший, последний смысл». Каждый человек призван к тому, чтобы «найти эту ценность», связать себя именно с ней и верно осмыслить на ее основе свой труд и направление своей жизни. Такое общее представление о том, что (говоря современным языком) образует высшие диспозиции личности, Ильин дополняет и конкретизирует. С его точки зрения, «воспитать к предметности» значит вывести человеческую душу из «состояния холодной индифферентности и слепоты к общему и высшему»; открыть человеку глаза на его «включенность в ткань мира, на ту ответственность, которая с этим связана, и на те обязательства, которые из этого вытекают; вызвать в нем чутье и вкус к делам совести, веры, чести, права, справедливости, церкви и родины»; преодолев свое безразличие, человек должен найти себе «настоящее и достойное содержание жизни» – он «должен цельно полюбить нечто такое, что на самом деле заслуживает цельной любви и преданного служения»; отучить человека от «узкого и плоского своекорыстия», от того «шкурничества» и той «беспринципной изворотливости», при которых невозможно никакое культурное творчество и никакое общественное строительство; стать «предметным человеком» – значит «преодолеть в себе примитивный и безоглядный инстинкт личного самосохранения, тот наивный и циничный эгоизм, которому недоступно высшее измерение вещей и дел».
По Ильину, в этих двух требованиях содержится «азбука предметного воспитания». Человек, не обуздавший «своего практического эгоцентризма, не открывший себе глаза на свое призвание – служить, не научившийся преклоняться перед высшим Смыслом и Делом, перед Богом, будет всегда существом социально опасным». Поэтому предметность освобождает не только от душевного безразличия, но и от скудости и пошлости личного эгоцентризма.
По его мысли, вне этого – «всякое вообще воспитание мнимо и призрачно и всякое вообще образование мертво и формально». Самое важное, что должны дать человеку семья и школа, – «это предметно-открытый взор, предметно живое сердце и предметно готовую волю». Человек должен видеть и понимать «ткань Божьего Дела на земле, чтобы знать, как можно войти в нее и как следует включать себя в ее жизнь, – чтобы сердце его отзывалось на явления и события в этой ткани, как на важные драгоценные, вызывающие радость и горе, чтобы воля была способна и готова жертвовать этой ткани своим личным интересом и служить ей не за страх и не за долг, а за любовь и за совесть»[188].
Концепция Ильина оказывается важной для понимания целей воспитания и определения критериев его эффективности. Действительно, у каждого из нас нет выбора – верить или не верить во что-либо, поскольку экзистенциальная потребность иметь объект поклонения и ценностные ориентации – присуща любому человеку[189]. Однако эта потребность может быть удовлетворена различными способами. Основные из них: (а) освоение и принятие религиозной картины мира и религиозных ценностей, лежащих в ее основе (именно эта позиция находит свое выражение в концепции И. А. Ильина); (б) освоение и принятие ценностей гуманитарной культуры, и формирование на этой основе соответствующей картины мира; (в) поклонение идолам (власти, разрушения и т. п.). Это – те основные типы ценностных координат личности (и соответственно, основные типы картины мира личности), опираясь на которые личность оказывается подготовлена к тому или иному типу поведения. Задача воспитателя как раз и заключается в том, чтобы подвести воспитуемого к внутреннему принятию определенной системы ценностей, а также к отторжению псевдоценностей.
Именно поэтому Ильин и подчеркивает, что «жить предметно» – значит связать себя (свое сердце, свою волю, свой разум, свое воображение, свое творчество, свою борьбу) с такой «ценностью, которая придаст жизни высший, последний смысл». От этого будет зависеть то, что человек «излучает» в мир (термин И. А. Ильина). Принятие системы ценностных координат дает индивиду возможность самостоятельно определять ценность поступающей информации, и при необходимости «отфильтровывать» ее. Без такого рода «фильтра» вхождение в новое информационное пространство, возникшее в России, может оказаться губительным в нравственном отношении, может возникнуть «болезнь духа» (термин Ильина).
На наш взгляд, Ильин, исходя из религиозных оснований своей концепции, ставит важный для современного секулярного общества вопрос: главной задачей системы воспитания в современном мире является формирование системы ценностных координат личности, ее картины мира. Однако в условиях секуляризации, т. е. процесса освобождения определенных сфер общества и культуры от господства религиозных институтов и символов (П. Бергер), происходят не только позитивные изменения (например, освобождение личности от религиозной зависимости, её автономизация), но и изменения негативного плана. Ценности секулярного человека оказываются десакрализованы, т. е. лишены всякого притязания на абсолютную значимость. Происходит релятивизация ценностей (ценности сегодня – это то, что определенная социальная группа в определенное время считает хорошим). В этой связи человек зачастую теряет свой «духовный центр» (Н. А. Бердяев), он не знает, на что ориентироваться. Отсутствие духовного центра приводит к «ценностной слепоте», когда личность подменяет проблему добра и зла вопросом об относительно полезном и сравнительно вредном (= утилитаризм). В свою очередь «духовная слепота» ведет к подмене духовности ее суррогатами.
Вот почему концепция Ильина, поставившего задачу «создания новой системы национального воспитания», требует, на наш взгляд, своей практической реализации. Путь грядущей России не может не определяться духовно-нравственным возрождением поколений, сформированных в рамках советской системы, а также целенаправленным воспитанием, формированием духовно-ценностных ориентаций поколений, вступающих в жизнь.
(2) Формирование нового национального самосознания. Важнейшей задачей будущей России Г. П. Федотов считал работу над «новым национальным сознанием», необходимость формирования нового «национального самосознания». По Федотову, именно на долю интеллигенции выпадает по преимуществу «духовная сторона» работы: «будить в себе, растить и осмыслять, „возгревать“ национальное сознание». Он полагал, что на пути к реализации «идеи России» лежат бесконечные трудности и блуждания. Вместе с тем, «у нас есть незыблемое начало – Православие. Есть изменчивая, становящаяся, постигаемая нами материя – Россия в ее исторической жизни. Мы надеемся, что этот расплавленный ныне металл скоро отольется в твердую форму национального самосознания»[190].
Не ограничиваясь постановкой этой задачи, Федотов пытался определить особенности национального сознания, исходя из специфики России: «наше национальное сознание должно быть сложным, в соответствии со сложной проблемой новой России (примитив губителен). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российским»[191]. Такая постановка вопроса («от русского – к российскому») связана с тем, что «Россия – не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси». Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов, «не под гнетом, а под водительством великой нации». Задача политиков – найти гибкие, но твердые формы этой связи, обеспечивающие каждой народности свободу развития в меру сил и зрелости. Задача культурных работников, каждого русского в том, чтобы «расширить свое русское сознание (без ущерба его «русскости») в сознание российское». Это значит воскресить в нем в какой-то мере духовный облик всех народов России (новое сознание должно вобрать в себя все то, что «в них ценно, что вечно, что может найти свое место в системе вселенской культуры»). Всякое дело, творимое малым народом, как бы скромно оно ни было, всякое малое слово «должны вложиться в русскую славу, в дело России».
Федотов призывал к тому, чтобы ни один маленький народ (прежде всего его интеллигенция), не только не чувствовали унижения от соприкосновения с национальным сознанием русского («великоросса»), но и находили у него помощь и «содействие своему национально-культурному делу». Рано или поздно, с его точки зрения, весь народ будет интеллигенцией, и «презрение к его духовным потребностям отомстит за себя». Никогда «многоплеменность, многозвучность России не умаляла, но повышала ее славу». Россия не может равняться с Францией или Германией; у нее особое призвание, поскольку Россия – не нация, но – целый мир. Не разрешив своего призвания, «сверхнационального, материкового, она погибнет – как Россия».
Какую же роль должна играть русская культура в жизни народов России?
Русская культура была и останется духовным притяжением для народов, поскольку именно через нее они приобщаются к мировой цивилизации (так это было в петербургский период Империи, так это и должно остаться). Федотов специально подчеркивал, что объединение народов России не может твориться только силой религиозной идеи. Здесь верования не соединяют, а разъединяют нас. Но духовным притяжением для народов была и останется русская культура. Представляется весьма дальновидным суждение Федотова о том, что если юношество малых народов России «будет учиться не в Москве, не в Петербурге, а в Париже и в Берлине, оно не останется с нами».
Несомненно, что именно русская культура была и останется «духовным притяжением для народов», населяющих нашу многонациональную страну. Таким образом, Федотов вскрывает взаимосвязь национальной проблемы России и проблемы культурной. Ключ к решению этих проблем, по его мнению, лежит в «дальнейшем развитии русского национального сознания и зависит от того, сумеет ли оно расшириться в сознание российское и углубиться в великорусское, оставшись русским»[192]. По его мнению, стимулировать дремлющее до сих пор национальное самосознание, участвовать в деле национального возрождения призваны культура, государство и церковь.
(3)Формирование новой духовной элиты. Федотов, размышляя в свое время о будущем (теперь мы можем сказать – фактически о настоящем) современной России, выдвигал задачу «организации русской культуры». В организации культуры, отмечал он, национальная задача параллельна хозяйственной: там воссоздание и воспитание класса предпринимателей, здесь – воссоздание, на новых духовных началах, русской интеллигенции. Основным в организации культуры он считал, во-первых, воссоздание культурного слоя и, во-вторых, выпрямление «духовного вывиха» целой нации. Культура России, с его точки зрения, «будет контрапунктической». Слабая сегодня, и даже завтра, духовная элита будет расти. У нее есть могущественный союзник – русское прошлое. К этому прошлому уже обращаются все как к источнику сил: «великие усопшие, вечно живые, будут строить, вместе с нашими детьми, духовную родину, которая оказалась не по плечу нашему поколению».
Идея Федотова о «контрапунктическом» характере культуры будущей России, несомненно, предвосхитила современные реалии. Более того, возрождение культуры современной России происходит не только посредством постоянного диалога с культурой дореволюционной России – ее освоением и в определенной мере возрождением, но также и на основе возвращения духовных ценностей, созданных за рубежами нашего Отечества представителями эмиграции, а также диалога с культурой советского времени.
Проблема формирования новой духовной элиты оказалась и в центре внимания Ильина, который предвидел, что когда крушение коммунистического строя станет совершившимся фактом и Россия начнет возрождаться, «русский народ увидит себя без ведущего слоя». Правда, место этого слоя будет временно занято «усидевшими и преходящими людьми», но их присутствие не решит вопроса. Россия будет нуждаться, прежде всего и больше всего, в новом ведущем слое. Поэтому основная задача русского национального строительства будет состоять в выделении и продвижении в верхние социальные слои преданных России людей, «национально чувствующих, государственно мыслящих, волевых, идейно творческих, несущих народу не месть и не распад, а дух освобождения, справедливости и сверхклассового единения». Если отбор этих новых русских людей удастся и совершится быстро, то Россия восстановится и возродится в течение нескольких лет; если же нет – то Россия перейдет из революционных бедствий в долгий период послереволюционной деморализации, всяческого распада и международной зависимости»[193].
Эта новая элита должна извлечь все необходимые уроки из «всероссийского революционного крушения», осмыслить русское историческое прошлое и извлечь из него заложенный в нем «разум истории».
Пытаясь осмыслить эти уроки, Ильин выделяет следующие важные задачи. Ведущий слой по своему составу должен представлять собой нечто подвижное, всегда пополняющееся новыми, способными людьми и всегда готовым освободить себя от неспособных (т. е. не является ни замкнутой «кастой», ни наследственным или потомственным «сословием»). Только «качественный, духовный заряд, присущий человеку», может выдвинуть его на первые места, а не родословная. Мы все – от правителя до простого обывателя – должны научиться узнавать людей «качественно-духовного заряда» и всячески выдвигать их, «верно пополнять нашу национальную элиту во всех областях жизни». Это требование – «нравственно-патриотическое и национально-государственное». Принадлежность к ведущему слою «есть не привилегия, а несение трудной и ответственной обязанности», которая требует от человека не только особых природных качеств, подготовки и образования, но и особого образа жизни. Это – люди иной душевной и нервной организации, люди духовной сосредоточенности, люди иных потребностей и вкусов, иного жизненного напряжения и ритма. «Ранг в жизни необходим и неизбежен. Он обосновывается качеством и покрывается трудом и ответственностью. Рангу должна соответствовать строгость к себе у того, кто выше, и беззавистная почтительность у того, кто ниже. Только этим верным чувством ранга воссоздадим Россию. Конец зависти! Дорогу качеству и ответственности!».
В России должна быть искоренена дурная традиция «кормления», т. е. «частного наживания на публичной должности». Публичные должности, от самой малой до самой большой, должны давать человеку удовлетворяющее его вознаграждение и должны переживаться им не как «кормление», а как служение: «Конец взятке, растрате и всякой продажности!.. Только этим возродим Россию».
Одна из основных опасностей ведущего слоя состоит в завышенной оценке государственной власти, ее значения и призвания. Государственная власть должна иметь свои пределы: все творческие состояния души и духа, предполагающие любовь, свободу и добрую волю, не подлежат ведению государственной власти и не могут ею предписываться. «Государство не может требовать от граждан веры, молитвы, любви, доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать научное, религиозное и художественное творчество. Оно не может предписывать доказательства чувств или воззрений. Оно не должно вторгаться в нравственный, семейный и повседневный быт. Оно не должно без крайней надобности стеснять хозяйственную инициативу и хозяйственное творчество людей». Ведущий слой призван вести, а не гнать, не запугивать, не порабощать людей; он призван чтить и поощрять свободное творчество ведомого народа. Лучший способ вести – живой пример.
Новая русская элита должна строить Россию не произволом, а правом. Законы и правительственные распоряжения должны соблюдаться и исполняться прежде всего самими чиновниками, поскольку чиновник есть первый, кого закон связывает. Закон связывает всех: и Государя, и министра, и полицейских, и судью, и рядового гражданина. От закона есть только одно «отступление»: по совести, в сторону справедливости, с принятием на себя всей ответственности. «Грядущей России нужен не произвол, не самодурство и не административная продажность, а правопорядок, утверждаемый живым и неподкупным правосознанием».
Новая русская элита в деле правления должна блюсти и крепить авторитет государственной власти. Невозможно строить правопорядок без этого авторитета. Он пошатнулся еще при Императорском правительстве; он был расшатан и подорван при Временном правительстве; он был опять восстановлен, правда в формах противоправных, свирепых и унизительных, советскою властью. Новая русская элита призвана упрочить авторитет государства на совсем иных, благородных и правовых основаниях: «на основе религиозного созерцания и уважения к духовной свободе; на основе братского правосознания и патриотического чувства; на основе достоинства власти, ее силы и всеобщего доверия к ней. Необходимо помнить, что этот авторитет есть всенародное, исторически накапливающееся достояние. Он слагается из поколения в поколение; он живет в душах незримо, но определяюще; он призван служить орудием национального спасения. И вот борьба за грядущую Россию окажется борьбой за новый авторитет новой национально-русской власти, ибо безавторитетная власть не оборонит и не возродит Россию».
Все эти требования и условия будут, однако, несовершенны и неопределяющи, если не будет соблюдено последнее. Новая русская элита должна быть «одушевлена творческой национальной идеей». «Безыдейная интеллигенция не нужна народу и государству и не может вести его… Да и куда она приведет его, сама блуждая в темноте и в неопределенности? Но прежние идеи русской интеллигенции были ошибочны и сгорели в огне революций и войн. Ни идея «народничества», ни идея «демократии», ни идея «социализма», ни идея «империализма», ни идея «тоталитарности» – ни одна из них не вдохновит новую русскую интеллигенцию и не поведет Россию к добру. Нужна, новая идея – религиозная по истоку и национальная по духовному смыслу. Только такая идея может возродить и воссоздать грядущую Россию»[194].
Представляется, что задачи возрождения культуры в посткоммунистической России, выдвинутые религиозными мыслителями именно сегодня как никогда актуальны – по ним можно, на наш взгляд, «сверять часы» современной России. Многое из этих идей наших соотечественников в настоящее время мы пытаемся осуществить, многое, к сожалению, пока остается лишь в проекте, а некоторые из идей требуют серьезного осмысления со стороны политического руководства страны, поскольку остались вне поля зрения, но являются фундаментальными, связанными с перспективами социокультурного обновления России и, в конечном счете, с вопросом о существовании России как суверенного государства.
Теперь действительно многое зависит от нас, от каждого из россиян. Надо только «совлечь с себя ветхого человека, начать возрождение России с себя самих. Найти в себе силы делать все, чего потребует от нас спасение России, как бы тяжело это ни было…»; ибо «мир нуждается в России. Мир, может быть, не в состоянии жить без России. Ее спасение есть дело всемирной культуры»; «Будем верить в Россию. Иначе стоит ли жить?»[195].
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– исходя из того, что, никто, кроме нас самих, россиян не «родит идею восстановления и возрождения нашей родины и ее культуры», никто «не в состоянии дать нам готовый рецепт», религиозные мыслители выдвинули конкретные программы развития страны в посткоммунистическую эпоху, считая, что «русскому народу необходимо духовное возрождение и обновление» (Ильин И. А.); Г. П. Федотов написал серию статей под общим названием «Проблемы будущей России» (опубликованы в 1931 г.); И. А. Ильин также опубликовал серию статей под общим названием «Наши задачи» (опубликованы в Париже в 1956 г.);
– понимая, что возрождение и обновление посткоммунистической России будет зависеть от состояния русской души и русского духа, что «первой предпосылкой культуры является сам человек» (Г. П. Федотов), религиозные философы дали нелицеприятную оценку духовного состояния человека сталинской эпохи (они застали именно эту эпоху): по И. А. Ильину, состояние русской души должно быть обозначено, как «униженное и развращенное»; с точки зрения Г. П. Федотова, «мы стоим перед фактом духовного искалечения народа»; как отмечал В. И. Иванов, «обезбожение человека – его обездушение; обездушенный, он обезличен и обесчещен»;
– в этой связи основной задачей становится необходимость осознания этой «униженности и развращенности», что может осуществиться в «великом и всенародном акте покаяния»; по мысли Ильина, очистившиеся должны помочь не очистившимся «восстановить в себе живую христианскую совесть, веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство чести и способность к верности»;
– среди задач духовного возрождения и обновления России, которые поставили в своих трудах религиозные мыслители, выделены три взаимосвязанные задачи, требующие специальной кропотливой работы со стороны семьи, церкви, государства и других социальных институтов: (1) создание новой системы национального воспитания; (2) формирование нового национального самосознания; (3) формирование новой духовной элиты;
– исходя из того, что невозможно успешно реформировать страну без опоры на вновь созданную национальную систему воспитания, И. А. Ильин выдвигает задачу формирования ценностных ориентаций поколений, вступающих в жизнь; фактически он утверждает ведущую роль ценностно-ориентационной, и, прежде всего нравственной составляющей образования – необходимо открыть человеку глаза на его «включенность в ткань мира, на ту ответственность, которая с этим связана, и на те обязательства, которые из этого вытекают; вызвать в нем чутье и вкус к делам совести, веры, чести, права, справедливости, церкви и родины»;
– Г. П. Федотов призывал к тому, чтобы ни один маленький народ (прежде всего его интеллигенция), не только не чувствовали унижения от соприкосновения с национальным сознанием русского («великоросса»), но и находили у него помощь и «содействие своему национально-культурному делу»; представляется весьма дальновидным суждение Федотова о том, что если юношество малых народов России «будет учиться не в Москве, не в Петербурге, а в Париже и в Берлине, оно не останется с нами»;
– проблема формирования новой духовной элиты оказалась в центре внимания И. А. Ильина, который полагал, что Россия будет нуждаться, прежде всего и больше всего, в новом ведущем слое; поэтому основная «задача русского национального строительства» будет состоять в выделении и продвижении в верхние социальные слои преданных России людей, «национально чувствующих, государственно мыслящих, волевых, идейно творческих, несущих народу не месть и не распад, а дух освобождения, справедливости и сверхклассового единения».
2.3. Проблема духовного возрождения человека в русской религиозной философии
Сложные и противоречивые процессы, связанные с современным состоянием социально – экономической и государственной жизни России, привели к тому, что духовные идеалы и ценности оказались на периферии общественного сознания. Негативные процессы в значительной степени затронули все сферы духовной жизни и обусловлены как снижением влияния на духовное формирование россиян системы отечественного гуманитарного образования, так и активным проникновением в Россию продукции массовой культуры. Поэтому в современной ситуации оказывается важным не только осознание реальной роли и значимости духовных идеалов и ценностей в жизни общества, но также и выдвижение в центр внимания отечественного обществознания и институтов власти проблемы формирования духовной культуры личности, без опоры на которую невозможно реальное продвижение экономических реформ.
В этом плане оказываются актуальными и заслуживают глубокого изучения идеи и концепции русских религиозных мыслителей конца XIX – первой половины XX века. Следует отметить, что отечественные философы уже на рубеже XIX–XX веков попытались раскрыть место и роль личности в современном обществе; остро поставили вопрос о кризисе современной цивилизации и его последствиях для человека – о распаде души современного человека и духовном атомизме (В. С. Соловьёв, П. А. Флоренский), об утрате личностью духовно – ценностной опоры в жизни (С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев) и др. Вместе с тем, каждый из них, исходя из особенностей собственной концепции, пытался найти выход из этого духовного кризиса, найти пути духовного возрождения человека. Специально подчеркнём, что все эти проблемы вновь приобрели свою актуальность в современном российском обществе.
Уже И. В. Киреевский указывал на «раздробленность духа», «отсутствие центра духовного бытия» западного человека[196]П. А. Флоренский, обращаясь к жизни внецерковной, вынужден констатировать, что в душе современного человека произошел распад ранее единых начал: «…святыня, красота, добро, польза не только не образуют единого целого, и даже и в мыслях не подлежат теперь слиянию»[197]. Распад души, отсутствие единой и цельной внутренней жизни, духовный атомизм выражаются в том, что «современная святыня робка и жмется в затаенный, ни для чего более не нужный уголок души. Красота бездейственна и мечтательна, добро ригористично, польза – пресловутый кумир наших дней – нагла и жестока. Жизнь распылилась». И это характерно в целом для души Нового времени, которую философ рассматривает как нецельную, расколотую, двоящуюся в мыслях своих. Современному распаду души Флоренский противопоставляет душу народную: «Тут целен человек. Польза не есть только польза, но она – и добро; она прекрасна, она и свята. Возьмите народную жизнь, хотя бы причитания над покойником. Тут и польза, и добро, и святыня, и слёзная красота»[198].
На наш взгляд, постановка представителями русской религиозной философии данной проблематики свидетельствовала об их озабоченности возникавшими негативными процессами «распада души» современников. Лишь значительно позднее эти процессы получат свою оценку со стороны ведущих западных философов и социологов.
Опираясь на идеи А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, русские религиозные философы показали, что в условиях зарождающейся техноцивилизации начинает воспроизводиться личность, которая всё более и более утрачивает цельность духовной жизни. В. С. Соловьёв подчёркивал, что «западная цивилизация стремиться, прежде всего, к исключительному утверждению безбожного человека, т. е. человека, взятого в своей наружной, поверхностной отдельности и действительности и в этом ложном положении признаваемого вместе и как единственное божество, и как ничтожный атом: как божество для себя – субъективно, и как ничтожный атом – объективно по отношению к внешнему миру… всё, что может произвести такой человек, будет дробным, частным, лишённым внутреннего единства и безусловного содержания… атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в искусстве – вот последнее слово западной цивилизации»[199]. Флоренский отмечал «духовный атомизм, который, как рак, изъел и мертвит современную душу»[200]. В XX веке эти негативные процессы, набирая силу, привели к катастрофическому обеднению «духовной жизни, человечности, любви и творческой энергии» (К. Ясперс), привели «к взрыву индивидуального и группового эгоизма, усилению и ужесточению межличностных и межгрупповых конфликтов» (П. А. Сорокин) и др.[201].
Корни этого негативного процесса представители русской религиозной философии видели в утрате современной культурой её ценностного стержня. С. Н. Булгаков говорит об «утрате духовного центра»[202]. Н. А. Бердяев также исходит из того, что в современном обществе произошла «утеря духовного центра»[203]. Это стало возможным только в обществе, которое отказалось от всякого христианского аскетизма. Общество становится всё менее религиозным, автономия хозяйственной жизни приводит к её господству над всей жизнью, и поэтому центр тяжести перемещается из духовной сферы в материальную, из внутренней жизни – во внешнюю. В итоге – упадок веры, ослабление духовной жизни, атомизация общества, индивидуализм, неограниченный рост потребностей. Создание индустриально – капиталистической системы, изменившей весь характер человеческой жизни, весь её стиль, привело к нарушению «истинного иерархизма человеческого общества» – к нарушению соподчинения материального духовному, к утери духовного центра. По мысли Бердяева капитализм и социализм, одинаково сопровождающиеся «убылью духа в человеческом обществе», возникают как результат долгого исторического пути отпадения от духовного центра жизни, от Бога.
Характеризуя современного человека, живущего в рамках «культуры без сердца», Ильин отмечает его «внутренний раскол, душевную расщепленность, духовную нецельность», т. е. ту «болезнь духа, которую необходимо преодолеть, от которой надо исцелиться»[204] Откуда же проистекает эта болезнь? Ответ Ильина лежит в русле его концепции: духовное опустошение человека связано с восстанием против Бога и всего Божественного, с систематическим опустошением жизни от всякой святыни и категорическим разрывом с христианством.
Ильин указывал также на утрату культурой ценностного стержня, считая, что человечество творит культуру «неверным внутренним актом», поскольку из его состава исключены сердце, совесть и вера. Поэтому неслучайными явлениями оказываются революции, гражданские и мировые войны – «они суть естественные выражения сердечной жестокости, алчности, зависти и ненависти»[205]. Духовная нецельность, внутренний раскол связаны с тем, что человек не избрал своей высшей ценности и не наметил своей высшей цели. Ильин показал, что нецельность человека связана с тем, что он оказывается «лишён важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера – единого, единственного, всеобъединяющего центра жизни…В нём сосуществуют рядом несколько „центров“»[206]. А расколотый, расщеплённый человек не может быть счастлив, более того, такой раскол «чреват грядущим разложением», а сама культура без сердца есть не культура, а «дурная „цивилизация“», создающая гибельную технику и унизительную, мучительную жизнь. Ильин в этой связи характеризует современную западноевропейскую культуру терминами «бессердечная культура», «мнимая культура», «лжекультура».
Представляется возможным и необходимым со светских позиций интерпретировать эту идею применительно к современному состоянию: «болезнь духа» связана с тем, что институты воспитания в России фактически не справляются со своей задачей – индивид оказывается не в состоянии самостоятельно сформировать и сотворить в самом себе систему ценностей. Речь идет об отсутствии у многих ценностного стержня индивидуальной картины мира, или, иначе говоря, о неразвитости ценностного сознания. Прежде всего, с задачами воспитания не справляется современная система образования, которая призвана противодействовать процессам разрушения нравственных основ современного российского общества (иначе у России не будет никаких исторических перспектив). Все это подводит к мысли о необходимости внесения коренных изменений в культурную политику государства на современном этапе развития, изменения самой парадигмы культурной политики. И речь должна идти не только и не столько об институте образования. Необходимо создать принципиально иную духовно-нравственную атмосферу в обществе.
Ильин не без основания полагал, что источники и основы современной культуры должны быть пересмотрены в корне. Обретение цельности, «спасение в цельности» человек может найти, лишь обратившись к Богу. По мысли Ильина, «предстоящий измеряет себя именно тем, чему он предстоит», т. е. человек, предстоящий Богу, измеряет себя и оценивает «лучами Божественности». Именно поэтому тот, кто желает воспитать ребёнка, должен пробудить и укрепить в нём «духовность его инстинкта», сформировать из ребёнка «не преуспевающего чревоугодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером». Для этого необходимо «пробудить детскую душу» лучом «божественной благости и красоты, любви и радости», направив его внимание «на самые красивые и изящные явления природы и на их таинственную целесообразность» для того, чтобы он «заметил совершенство, скрытое и явленное в мире» (пусть увидит красоту бабочек и цветов, вслушается в пение соловья и т. д.). Всё это важно постольку, поскольку «духовность», «дух» живёт повсюду, где проявляется и переживается людьми «Совершенство». Именно стремление к совершенству, обретение «духовного измерения вещей», сосредоточение «на совершенном» и позволяет человеку обрести цельность, гармонию влечений и способностей инстинкта и духа, веры и знания[207].
На наш взгляд, религиозные философы поставили реальные проблемы, связанные с особенностями формирования духовного мира современного человека. Начиная с Нового времени, изменяется сам тип формирования личности: религия перестаёт быть основным механизмом формирования индивидуальной картины мира, происходит секуляризации сознания, что имело неоднозначные последствия. Если учесть, что стержнем картины мира выступают ценности (которые и определяют её характер), то ценности секулярного человека оказываются десакрализованы, т. е. лишены всякого притязания на безусловную и окончательную значимость. Именно поэтому имеет место релятивизация ценностей, человек теряет свой "духовный центр", он не знает, на что ориентироваться. Внутренний раскол личности зачастую ведёт к подмене духовности её суррогатами.
Русские мыслители не только поставили диагноз современному человеку и его культуре, но и попытались найти выход из этого духовного кризиса. Зарождавшемуся «духовному атомизму» и «нецельности» личности русские мыслители противопоставили цельность народной души (П. А. Флоренский). Религиозные философы показали роль триединства Красоты, Добра и Истины как важнейшего элемента целостного мировосприятия, мировоззрения и мироощущения русского человека – основных компонентов его картины мира.
Данное триединство они рассматривали как своеобразный ценностный стержень личности, систему координат, на основе и с помощью которой личность оказывается способной различать добро и зло, подлинную и ложную красоту и т. д. Фактически речь идёт о существовании у личности определённой картины мира, в центре которой Бог как абсолютная, высшая ценность, источник всяких ценностей производных. Как подчёркивал Н. О. Лосский, если Бога как первичной всеобъемлющей абсолютной ценности нет, то в мире нет и абсолютных ценностей; абсолютная красота, совершенное нравственное добро, совершенная полнота жизни возможны в мире лишь как «аналоги Божественных совершенств, творимые свободно и соборно множеством лиц»[208]. Также и П. А. Флоренский отмечал, что «если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать, и, следовательно, невозможно самое понятие культуры…»[209].
Следует отметить, что в работах русских религиозных мыслителей такое представление закрепляется и терминологически: используются термины «картина мира», «мировоззрение», «мироощущение», «мирочувствие», «жизнепонимание», «миропонимание», «мировосприятие», «миросозерцание» и др. (С. Н. Булгаков, И. А. Ильин и др.). Именно наличие у человека «идеальных содержаний» (В. С. Соловьёв) принципиально отличает его от животных.
Таким образом, с точки зрения религиозных философов, Бог как абсолютная высшая ценность, а также Красота, Добро и Истина выступают фундаментом мировосприятия мировоззрения и мироощущения личности (т. е. её картины мира), образуют её ценностный стержень и тем самым обеспечивают цельность человеческой души. Ориентация на ценности – идеалы формируют непротиворечивую картину мира личности, способствует обретению ценностного стержня и цельности.
Что же происходит в случае распада системы ценностей – идеалов, распада триединства? Как отмечает В. С. Соловьёв, «в эпоху духовного брожения» люди «теряются в умственном хаосе», «восстают и убивают, губят других и сами гибнут бесплодно и бесславно… или погрязают в равнодушном своекорыстии.»[210]. Душа человека Нового времени оказывается нецельной, расколотой, двоящейся в мыслях своих (П. А. Флоренский).
При этом важно различать «вертикаль» и «горизонталь» человеческого духа (термины Вяч. Иванова)[211]. На вертикали человеческого духа – Бог (как средоточие абсолютного Красоты, Добра, Любви и др.). Именно на этой основе формировались светские представления человека о добре и зле, его ценностные ориентации и др. На горизонтали человеческого духа лежат житейская польза, вожделения утилитаризма и гедонизма. Следует отметить в этой связи, что личность современного человека, отказавшегося от Бога или светских ценностей – идеалов, зачастую вообще теряет вертикаль духа, оказывается одномерной (у неё остаётся лишь горизонталь духа).
Развитие культуры в XX веке показало, что несомненной угрозой для современного человечества является утрата цельности духовной жизни и в конечном итоге утрата культуры, т. е. человеческого в человеке. «Возвращение человека к самому себе» (М. Хайдеггер) возможно лишь на пути производства человеком смыслов и ценностей. Однако реальность такова, что современное общество начинает воспроизводить гипокультурную личность, для которой характерна утрата статуса субъекта культуры. Такая личность выступает как субъект цивилизации: человек усваивает только способности к утилитарному действию с артефактами культуры, широкий спектр смыслов и ценностей, связанных с артефактами, ускользает от него. В этой связи несомненно, что именно искусство и религия должны сыграть основополагающую роль в реактуализации культуротворческой деятельности по производству смыслов и ценностей: эти сферы человеческой деятельности аксиологичны по своей сути, они буквально требуют от личности производства смыслов и ценностей и иначе, вне такого производства, существовать не могут.
Обращаясь к данной проблематике с позиций современного научного знания, следует подчеркнуть, что в концепциях религиозных философов нашла отображение реальная проблема: человек и его внутренняя духовная реальность оказались значительно сложнее, чем это трактовалось с позиций жестокого рационализма. В настоящее время подтверждается представление о существовании у человека потребности в объекте поклонения и ценностных ориентациях (Э. Фромм). Именно поэтому в результате упадка традиционных религий возникает «религиозный вакуум», который ведёт к возврату примитивных форм религии (суеверия, оккультизм, астрология и т. д.), либо к появлению «заменителей религии» (культ секса, идеологические мифы и др.). Всё это актуализирует проблему формирования картины мира современной личности и её ценностного стержня.
На наш взгляд, учение представителей русской религиозной философии о триединстве Красоты, Добра и Истины не является исключительно данью традиционным представлениям, берущим своё начало в синкретическом сознании. На самом деле, и на уровне индивида, и на уровне общества существует потребность в синтезе различных сторон духовной жизни. Иначе на место культуры в течение короткого времени может прийти новое варварство. Как справедливо утверждал С. Л. Франк, «факты неопровержимо свидетельствуют, что очень много европейцев, казалось, проникнутых христианско-гуманитарной культурой, при известных условиях легко превратить в течение весьма короткого времени в варваров и извергов»[212].
Эта потребность в синтезе остро ощущалась представителями русской религиозной философии, что в значительной степени связано с особенностями развития аксиологической мысли именно в России. В работе «Русское мировоззрение» Франк отмечает, что «русскому духу чужды и неизвестны дифференцированность и обособленность отдельных сфер и ценностей западной жизни – и не по причине его примитивности (как это часто полагают образованные на западный манер русские), а именно из-за того, что это противоречит его внутренней сути»[213]. В действительности «русскому духу присуще стремление к целостности, к всеохватывающей и конкретной тотальности, к последней и высшей ценности и основе»[214]. Именно поэтому картина мира русского человека не приемлет «духовного атомизма» (П. А. Флоренский), «духовной нецельности» (И. А. Ильин) и т. п. Триединство Красоты, Добра и Истины оказывается важнейшим элементом ценностного мировосприятия, мировоззрения и мироощущения русского человека, отвечая его глубоким внутренним потребностям.
Представляется важным не ограничивать роль идеалов рамками духовного мира человека. В равной мере идеалы оказываются значимы и для самореализации личности в практической деятельности, выступая ее регуляторами[215]. Эта особая роль идеалов нашла свое отображение у религиозных мыслителей в концепции «спасения мира красотой». Остановимся на этом подробнее.
Подчеркнем, что в центре концепций русских религиозных мыслителей оказывается идеал красоты. Духовная красота человека, по их мысли, должна спасти мир. Известное афористическое высказывание Ф. М. Достоевского, вложенное в уста князя Мышкина («Идиот»): «Красота спасёт мир», – стало краеугольным элементом и путеводной нитью концепций теургии русских религиозных философов, а также – более широко – их философского миросозерцания.
Действительно, например, в учении В. С. Соловьева о всеединстве роль и значение красоты оказываются непреходящими: «Если в нравственной области (для воли) всеединство есть абсолютное благо, если в области познавательной (для ума) оно есть абсолютная истина, то осуществление всеединства во внешней действительности, его реализация или воплощение в области чувствуемого, материального бытия есть абсолютная красота. Так как реализация всеединства еще не дана в нашей действительности, в мире человеческом и природном, а только совершается здесь, и притом совершается посредством нас самих, то она является задачей для человечества и исполнение ее есть искусство. Общие основания и правила этого великого и таинственного искусства, вводящего все существующее в форму красоты, составят третий, и последний, вопрос нашего исследования»[216]. Как и для Соловьева, красота оказывается целью мирового процесса для Н. А. Бердяева: «Космическая красота – цель мирового процесса, это иное, высшее бытие, бытие творимое». Только в процессе человеческого творчества, с точки зрения Бердяева, «через красоту происходит прорыв к миру преображенному, к миру иному, чем наш»[217]. И для С. Н. Булгакова «вселенская Красота» выступает как цель мирового развития: «…эпоха искусства естественно приближается к концу, когда в мир грядет сама Красота»[218].
Возникает вопрос: почему именно Красота оказывается центральным понятием философско-культурологических концепций русских мыслителей? Почему именно с Красотой связывают они цель исторического процесса и спасение мира? Ответ на эти вопросы предполагает хотя бы краткий анализ позиции Ф. М. Достоевского по рассматриваемой проблематике, поскольку гениальный русский писатель во многом определил духовные поиски представителей русской религиозной философии.
Достоевский различает «два образчика красоты»: есть красота добрая, положительно прекрасное («идеал Мадонны») и красота злая («идеал содомский»)[219]. В романе «Братья Карамазовы» Дмитрий говорит: «Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил»[220].
По мысли Достоевского, реальный человек может в себе соединять «два образчика красоты» и в результате возникает третий – «странная красота», совмещающая в себе доброе и недоброе. Он был убежден, что мир может быть спасен лишь красотой доброй, «положительно прекрасным». Такое представление имеет глубокие основания. По его мысли, «прекрасное есть идеал». А «без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Даже можно сказать положительно, что ничего не будет, кроме еще пущей мерзости»[221]. Вот почему возникновение «хорошей действительности» и посредством этого спасение мира возможны лишь при наличии у людей идеалов. Сохранение в народе идеала и потребности красоты, по мнению Достоевского, является гарантией высшего развития этого народа. В противном случае, по словам Шатова, – одного из героев романа «Бесы», – «когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать»[222]. При этом важно иметь в виду, что «в своих убеждениях он никогда не отделял истину от добра и красоты, в своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра и истины»[223].
По словам Соловьева, Достоевский не оставил какой-либо теории, системы, плана или проекта. Однако «руководящее начало и цель, высшая общественная задача и идея были поставлены им на небывалую высоту»[224]. Это и определило воздействие Достоевского на русскую философию, и шире – культуру. Вместе с тем идеи Достоевского, великого русского писателя, оказались созвучными русскому мировоззрению, будучи его выражением и развитием. Как справедливо отмечал С. Л. Франк, «русское мировоззрение можно считать практическим в высоком смысле слова: оно изначально всегда рассчитано до некоторой степени на улучшение мира, мировое благо и никогда – лишь на одно понимание мира»[225]. Мысль о могуществе красоты, о ее способности спасти мир стала достойным порождением русского мировоззрения и оказалась способной придать новый импульс его развитию.
Для русского миросозерцания красота всегда играла особую роль: «…общественное сознание Киевской Руси, открыв бытие духовной сферы, восприняло ее в первую очередь эстетически, усмотрело в ней высшую красоту, т. е. обрело новый эстетический идеал»[226]. Представление о красоте при этом носило синкретический характер, объединяя эстетическое с нравственно-духовным и утилитарно-полезным. Несомненной поэтому является преемственность русской религиозной философской мысли не только классической традиции (идущей от Древней Греции), но и собственно русскому миросозерцанию. Особенно это становится ясным при обращении к красоте духовной. Как отмечает В. В. Бычков, «духовная красота обладала в глазах древнерусского мыслителя самодовлеющей ценностью и не нуждалась в красоте физической. Напротив, последняя приобретала особую значимость лишь как знак и указатель на красоту духовную»[227]. Достоевский воспринял эту традицию, придав особое, ценностное, значение именно красоте духовной.
Вместе с тем Достоевский указывает на «моральную двусмысленность красоты» (термин В. В. Зеньковского)[228]. «Красота, – по словам Дмитрия Карамазова, – это страшная и ужасная вещь!.. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут… Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой… Тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей»[229]. Достоевский, отображая новые исторические реалии, открывает борьбу противоположных начал в духовном мире человека. И в этом он, по словам Н. А. Бердяева, «противоположен эстетическому миросозерцанию эллинского гения». Его представление о борьбе света и тьмы, божеского и дьявольского начал резко отличается и от миросозерцания немецкого: «Германец склонен видеть столкновение Бога и диавола, света и тьмы на периферии бытия, но когда он идет в глубину духовной жизни, то видит там Бога, созерцает свет – полярность исчезает. У русского Достоевского полярность божеского и диавольского начала, бурное столкновение света и тьмы раскрывается в самой глубине бытия. Бог и диавол борются в самых глубинах человеческого духа»; поскольку же человеческое сердце оказывается «полярно в самой своей первооснове», то и красота «представляется Достоевскому полярной, двоящейся, противоречивой, страшной, ужасной»[230].
Вот почему спасение мира красотой в конечном итоге зависит от спасения самого человека. Лишь человек, преодолевший в себе «идеал содомский», способный опереться на красоту добрую, «положительно прекрасное», окажется в состоянии спасти мир. В этой связи проблематика спасения человека оказывается в центре внимания русской религиозной философии.
В. С. Соловьев признает «за истинною красотою способность глубоко и сильно воздействовать на реальный мир»[231]. Вообще основа эстетических взглядов Соловьева заключается, по словам Е. Н. Трубецкого, «в его вере во всепобеждающую силу красоты, спасающей мир»[232]. С точки зрения Соловьева, чтобы «творить в красоте», «претворять неидеальную действительность в идеальную», человеку необходимо в самом себе преодолеть «темное начало хаоса»: «Как в мировом процессе природы, темное начало хаоса преодолевалось внешним образом, чтобы произвести светлое мироздание, увенчанное явлением человеческого разума, – так теперь та же самая темная основа, открывшаяся на новой, высшей ступени в жизни и сознании человека, должна быть побеждена внутренним образом, в самом человечестве и при его собственном содействии»[233]. Преодолеть темное начало человек может лишь «духовным подвигом». Соловьев (вслед за Достоевским) верит, что человеческая душа представляет собой «часть души Божественной» и поэтому «может возродиться из всякой низости, из всякой мерзости». В отличие от животных человек способен критически относиться к самому себе, подвергать себя «внутренней оценке», судить и осуждать не только отдельные свои действия, но «самый способ своего бытия в целом». Именно поэтому «человеку естественно хотеть быть больше и лучше, чем он есть в действительности». По мнению Соловьева, «вся история состоит в том, что человек делается лучше и больше самого себя, перерастает свою наличную действительность… Внутренний, духовный, самодеятельный рост есть такой же бесспорный факт, как и рост внешний, физический»[234].
Вместе с тем философ специально подчеркивает, что «мир не должен быть спасен насильно». Соловьев ясно представлял, что ценности-идеалы не могут быть навязаны силой, а должны приниматься людьми добровольно, путем «внутреннего обращения». Он резко выступает против «внешнего общественного идеала», который «принимается независимо ни от какой внутренней работы самого человека». Он показывает, что задача заключается отнюдь не в простом соединении людей, в подчинении их деятельности какой– нибудь одной цели. Ничего, кроме огромного «муравейника» («человейника» – по выражению А. А. Зиновьева), из этого не получится (среди «образчиков» таких муравейников он называет древние восточные деспотии – Китай, Египет, а также эксперименты, осуществлявшиеся коммунистами в Северной Америке). Более того, вся деятельность людей, исходящих из навязанного им «внешнего идеала», нацеливается на «разрушение существующего» и превращается «в насилие над людьми и целым обществом». Таким образом, незаметно «общественный идеал подменяется противообщественною деятельностью». Такой идеал поэтому стоит «на почве господствующего в мире зла».
«Внешнему общественному идеалу» Соловьев противопоставляет идеал, связанный «с верой в сверхчеловеческое Добро, т. е. в Бога». При этом для него «верить в царство Божие – значит с верою в Бога соединять веру в человека и веру в природу»[235]. Такой идеал не может быть навязан с помощью физического насилия, он не требует «внешнего переворота». Его принятие требует «внутренней работы самого человека», «внутреннего обращения». Для философа несомненно, что «истинно человеческое добро возможно только когда человек приходит к нему сам, своею волею и сознанием принимает его… Для того-то и злому началу «Вседержитель волю дал», чтобы чрез борьбу с ним человек мог свободно достигнуть совершенства»[236].
В размышлениях о двух типах идеалов Соловьев демонстрирует чуткое проникновение в специфику ценностей-идеалов. Действительно, их невозможно навязать или подарить в виде «ценностной пилюли», к ним невозможно лишь приобщить. Они возникают только и исключительно в процессе собственного жизнетворчества личности. Каждый человек, каждое поколение людей утверждает и воссоздает в мышлении и поведении свою собственную иерархию ценностей. Этот процесс всегда представляет собой свободный акт жизнетворчества, опирающийся на добровольное принятие ценностей-идеалов.
Таким образом, по Соловьеву, «темное начало хаоса» в душе человека может быть побеждено его нравственным возрождением и духовным подвигом, и, только опираясь на эту основу, красота способна спасти мир. Представление о «целящей силе красоты» (термин Е. Н. Трубецкого) разделяли многие русские религиозные философы. Например, С. Н. Булгаков утверждал, что «красота есть внутренний закон мира, сила мирообразующая, космоургическая… и она в полноту времен окончательной победой своей "спасет мир"»[237]. По Н. А. Бердяеву, «красота есть великая сила, и она мир спасет»[238]. При этом необходимой предпосылкой утверждения красоты в самой действительности, противодействия «уродству и безобразию» является духовная красота человека. Но что из себя представляет духовная красота в истолковании религиозных философов и каким образом она способна спасти мир?
На наш взгляд, условно можно выделить три взаимосвязанных аспекта красоты духовной: 1) аспект собственно духовный, связанный с «доброкачественностью духовной жизни» (выражение П. А. Флоренского); 2) аспект жизнетворческий, связанный с утверждением красоты в окружающем мире через поступки, когда «самую жизнь свою делают художественным произведением» (выражение С. Н. Булгакова); 3) аспект художественный, связанный с воплощением духовной красоты в искусстве. Остановимся на этом подробнее.
Собственно духовный аспект предполагает, по мысли С. Л. Франка, «совершенствование внутреннего строя души, путь утверждения души в Боге и уподобления Богу». Цель аскетизма – «спасение души», преодоление ее несовершенства через страдание и самоотречение; при этом лишь «в христианстве „спасение души“ таково, что есть одновременно и „спасение мира“ и немыслимо вне последнего»[239]. Конечно, путь, связанный с «совершенствованием внутреннего строя души», представители данного направления видят сквозь призму своих взглядов: он в себя включает «искупление греха», предполагает «послушание и смирение», «внутреннюю духовную работу» и т. п. И вместе с тем такое представление, на наш взгляд, утверждает высокие идеалы гуманизма, гармонии человека с самим собой, с другими людьми и природой. Только такие идеалы, связанные с высочайшим взлетом человеческого духа, оказываются способными вдохновить человека на реализацию идеалов в далеко не идеальном мире.
Например, С. Н. Булгаков считает важнейшим достоинством человека его способность к «самосозиданию»: «Нельзя никогда примириться с собой, и эта непримиримость есть, может быть, высшее достоинство человека… эту непримиримость могло бы исторгнуть из сердца, погасить в душе только полное духовное падение". Человек ощущает в себе «свое высшее я», ему «хочется лететь в синюю высь», он пытается «найти свой подлинный, вечносущий лик, себя выявить». И поэтому всякое земное человеческое творчество становится самосозиданием, самотворчеством. Прямым и единственным путем самосозидания Булгаков считает аскетику: «"наука всех наук", „духовное художество“ аскетики, ставит перед человеком прямо эту задачу создания „внутреннего человека“, обретение своей подлинной сущности путем длинной и мучительной работы над самим собой, духовно-художественным подвигом»[240].
В центре внимания данная проблема оказывается у П. А. Флоренского, который ведет речь об особом «духовном делании» как «преобразовании всего существа человеческого». В человеке борются силы хаоса и космоса. Помочь победить силы хаоса помогает человеку религия, которая «притязает быть художницей спасения». Религия спасает внутренний мир человека «от таящегося в нем хаоса», она «улаживает душу», восстанавливает «равновесие душевной жизни» и тем самым «обеспечивает душе спасение». В результате «очищения себя», «само-исправления» человек способен превратиться в «духо-носную личность». В душевной жизни такой личности на место «беспорядка и анархии» приходят «лад и строй». Такая «духоносная личность» оказывается прекрасной в двух отношениях, «прекрасной дважды». Как отмечает Флоренский, «она прекрасна объективно, как предмет созерцания для окружающих; она прекрасна и субъективно, как средоточие нового, очищенного созерцания окружающего»[241]. В работе «Иконостас» Флоренский раскрывает объективную и субъективную стороны «духо-носной личности». Окружающие воспринимают такую личность прежде всего через «светлое, прекрасное лицо, красотою которого распространяется вовне „внутренний свет“ человека»[242]. Что же касается субъективной стороны, то «очищение души подвигом, снимая все субъективное и случайное, открывает подвижнику вечную, первозданную правду человеческой природы, человечности, созданной по Христу, т. е. абсолютных устоев твари; подвижник находит в глубине собственного духа то самое, что предварительно уже выражалось и не могло не выражаться на протяжении истории. Из глубины своей подвижник, и при суете дневной, видит красоту звездного неба»[243].
Фактически Флоренский ведет речь об утверждении в душе человека «абсолютных устоев», ценностей-идеалов, выработанных человечеством «на протяжении истории». Конечно, эти «абсолютные устои» включают в себя Бога как высшую абсолютную ценность и производные – ценности Красоты, Добра и Истины. «Очищение себя», связанное с добровольным принятием этих ценностей-идеалов, и представляет собой «духовно-художественный подвиг» (С. Н. Булгаков). «Очищение души подвигом» дает личности («подвижнику») новое понимание окружающего мира (он «и при суете дневной видит красоту звездного неба»). Личность обретает целостную, непротиворечивую картину мира, в основании которой и находится ценностный стержень – триединство Красоты, Добра и Истины.
«Субъективно» такая личность прекрасна, потому что становится обладательницей духовного потенциала, вобравшего в себя все лучшее, выработанное человечеством. Ясно, что «объективно» нацеленность этого потенциала связана не с «разрушением существующего» и «насилием над людьми и целым обществом» (В. С. Соловьев), а с творческим созиданием, со спасением мира красотой (что и находит свое проявление в двух других аспектах духовной красоты).
На наш взгляд, такое представление о духовной красоте не является значимым лишь в рамках религиозной философии. Его значимость для общества и культуры непреходяща, ибо содержит в себе идеи высокого предназначения человека, его возвышения и одухотворения. Конечно, современный человек самостоятельно решает вопрос своего духовного самоопределения. Однако его опора на выработанные человечеством гуманистические ценности и обретение таким образом ценностного стержня индивидуальной картины мира – важнейшая предпосылка его духовной красоты.
Второй аспект духовной красоты связан с ее утверждением через деятельность, поступки и саму жизнь человека. Отметим, что воплощение духовной красоты в поступках и жизнетворчестве человека фактически подразумевает концепция всеединства Соловьева, с точки зрения которого, реализация всеединства «совершается здесь, и притом совершается посредством нас самих», предполагая «воплощение в области чувствуемого, материального бытия» абсолютной красоты[244]. Таким образом, воплощение идеала красоты в самой жизни, «в мире человеческом и природном» – неотъемлемый аспект красоты духовной. Такое представление восходит к концепции «Общего дела» Н. Ф. Федорова, для которого сама наша жизнь представляет собой акт эстетического творчества[245].
По мысли Соловьева, задача спасения мира может быть решена только при наличии соответствующим образом подготовленного работника, поскольку «плохой или неприготовленный работник может только испортить самое лучшее дело». Поэтому задача спасения мира может быть осуществима лишь теми, кто преодолел «темную основу нашей природы», «злобу и безумие», кто посредством «глубокого нравственного переворота» пришел к исцелению. Действительно, «предмет дела и качества делателя неразрывно связаны между собою во всяком настоящем деле, а там, где эти две стороны разделяются, там настоящего дела и не выходит»[246].
Полнотой совершенства, по мнению философа, обладает лишь Божество. Природа только отражает это совершенство и «в своей жизни тяготеет к нему». Человек же «свободным делом достигает его для себя». Процесс совершенствования человеком самого себя и мира составляет, по его мысли, смысл человеческой жизни: «…единственный человек может не только совершенствовать самого себя (а чрез это косвенно и окружающую среду), но и прямо содействовать общему прогрессу того целого, к которому он принадлежит, сознательно ставя его предметом своей деятельности». При этом Соловьев исходит из того, что божественная идея облекла царство материи покровом природной красоты только снаружи. Через человечество, через действие его «универсально-разумного сознания», божественная идея «должна войти в это царство извнутри, чтобы оживотворить природу и увековечить ее красоту»[247].
Идеи Соловьева нашли свое развитие в работах русских религиозных философов. По мысли С. Н. Булгакова, человек «изначально был призван к активности и творчеству в мире». Саму жизнь Булгаков рассматривал как «творчество красоты, произведение искусства». Он пишет об особом виде «излучения» – «высочайшей и чистейшей поэзии», разлитой около святых подвижников. С его точки зрения, «жажда красоты» зачастую легко удовлетворяется суррогатами, и тем самым «развивается притупляющее эстетическое мещанство, эстетизм быта, принимаемый за "жизнь в красоте"». Такому способу удовлетворения «эстетического мироощущения» Булгаков противопоставляет иной, связанный с утверждением самой жизнью подвижников высоких духовных ценностей. По его словам, далеко не многие понимают, что художественное мироощущение с его критерием эстетичности составляет принадлежность не только служителей искусства и его ценителей, но прежде всего и в наибольшей степени тех, кто самую жизнь свою делают художественным произведением, – святых подвижников. В духовном лике преп. Сергия, преп. Серафима и других святых запечатлено «пламенное чувствование красоты космоса, его софийности… священная непримиримость против греха, как уродства и безобразия»[248].
Аналогичную мысль утверждает и П. А. Флоренский. По его словам, подвижника характеризуют «прекрасные дела, светоносные и гармонические проявления духовной личности». Флоренский ведет речь о том, что духовная красота человека через его слова и поступки оказывает воздействие на окружающее, вовне распространяется «внутренний свет» такой «духо-носной личности». Именно поэтому он характеризует подвижничество как искусство, а внешний облик «духо-носной личности» как «художественный портрет себя самого»: «…высокое духовное восхождение осиявает лицо светоносным ликом, изгоняя всякую тьму, все недовыраженное, недочеканенное в лице, и тогда лицо делается художественным портретом себя самого, идеальным портретом, проработанным из живого материала высочайшим из искусств, "художеством из художеств"»[249].
Данная проблематика стала предметом особого внимания И. А. Ильина. С его точки зрения, «человек должен изжить свое индивидуальное обличие в достойном и прекрасном осуществлении»[250]. Именно «действие человека есть его выявленное бытие». В действии человек всегда оказывается на той высоте, на которой он действительно находился непосредственно «до испытующего и проверяющего его душу действия». Ни один поступок человека не является случайным. Каждый поступок представляет собой результат всей предшествующей жизни. В поступке и через поступок проявляется «основная духовная установка» человека: «…человек устроен так, что его тело (глаза, лицо, выражение лица, строение головы, руки, ноги, интонация и все внешние поступки) не только укрывает его душу, но и обнаруживает ее, и притом как бы с точностью хорошего зеркала»[251]. Ильин различает чувственный (внешний) опыт и «внутренний, духовный опыт» человека. «Основным и руководящим» в жизни человека он признает духовный опыт, в основе которого для него находится вера в Бога. Именно опираясь на духовный опыт, человек «живет, любит, верует и оценивает все вещи, а, следовательно, им же определяет и последний смысл, и высшую цель внешнего чувственного опыта, т. е. сперва обретает „внутри себя“ Божественное начало, а затем представляет ему водительство во всей внешней жизни». Пренебрегающий духовным опытом, «сам залепляет себе духовные очи». При этом «никогда еще человек или народ, идущий по этому пути, не вел на земле достойной, творческой и прекрасной жизни; напротив, все они разлагались душевно, впадали в общественный беспорядок и смуту и исчезали в духовном небытии»[252]. Напротив, подлинный и зрелый духовный опыт всегда выражается в целостных, творческих и прекрасных делах. По мысли Ильина, кто во что верует, тот тем и живет. Вера указывает человеку его жизненный путь; она определяет его отношение к себе, к людям, к природе и ко всему священному в его жизни.
В своих размышлениях о взаимосвязи духовного опыта и поступков человека Ильин фактически раскрывает роль индивидуальной и групповых картин мира в жизнедеятельности людей, показывает исключительную значимость ценностей. По его мнению, «жить на свете – значит выбирать и стремиться; кто выбирает и стремится, тот служит некоторой ценности, в которую он верит»[253]. Веруя в Бога, человек создает тем самым свой «жизненный центр» и, исходя из него, строит свою душу. Сама любовь к Богу открывает для человека «новое измерение вещей и людей», «перестраивает в душе все мировосприятие и все отношение к ценностям мира». Направленность «духовного ока» на «объективное совершенство» освящает «силу внутреннего самоуправления и придает внешнему поступку значение духовного события…»[254].
Действительно, индивидуальная картина мира, и особенно ее ценностный стержень, определяют поступки людей, в целом их жизнедеятельность и поведение. Именно поэтому человек и народ, опирающиеся на «свет Совершенства», не могут не вести «достойной, творческой и прекрасной жизни». При этом «изменяется и внешний вид человека, о чем он сам может и не знать, но что другим людям бывает трудно не заметить». Например, душа «истинного художника» становится гармонической, а «самое лицо его может стать ликом»[255]. Так же как и С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский, Ильин говорит о существовании особого, духовного «излучения», которое исходит от «обновленных людей».
Критика современной «бессердечной культуры» приводит Ильина к мысли о том, что «наше время есть время поворота». Никогда ранее худшие, «отрицательные силы человеческого существа» не выступали так самоуверенно в попытке «захватить власть над миром». Этой опасности «мы можем противостоять только при условии внутреннего обновления»[256]. Важно при этом, чтобы современный человек увидел и убедился, что его судьба зависит от того, «что он сам излучает в мир», и притом во всех сферах жизни. Первым признаком начинающегося обновления и должно стать то своеобразное «излучение», которое будет исходить от «обновленных людей». Фактически Ильин ведет речь о том, что человек и общество должны определить «подлинно главное и ценнейшее» в своей жизни, т. е. обрести подлинную систему ценностей, а не довольствоваться ложной. Только при этом условии человек окажется способным противостоять «бессердечной культуре» и утверждать своими поступками, всей своей жизнью идеалы Красоты, Добра и Истины.
Об утверждении духовной красоты «в мире человеческом и природном» (В. С. Соловьев) свидетельствует жизнь и деятельность святых подвижников, жизнь и деятельность самих русских религиозных философов, жизнь и поступки многих известных и безвестных людей, которые вносили и вносят свой вклад в утверждение Красоты, Добра и Истины, а тем самым вносили и вносят свой вклад в спасение мира.
И, наконец, третий, художественный аспект красоты духовной связан с тем, что в искусстве и через искусство находит свое выражение «внутренняя красота души человеческой» (В. С. Соловьев). Именно поэтому искусство оказывается своеобразным генератором красоты. Соловьев, обращаясь к данной проблеме, отмечает, что «в поэтическом откровении нуждаются не болезненные наросты и не пыль и грязь житейская, а лишь внутренняя красота души человеческой»[257]. При этом философ справедливо различает личную «душевную жизнь поэта» и жизнь его «художественной души». Содержанием искусства никогда не становится «вся та житейская суета, которая большей частью наполняет душу людей и составляет субъективную подкладку их жизни»[258]. Точно так же, как не все субъективные настроения и состояния художника могут стать содержанием его искусства, «таким содержанием могут быть состояния и настроения, ничего общего с личною душевною жизнью поэта не имеющие». Поэтому, чтобы воспроизвести свои душевные состояния, поэт должен не просто пережить их, а пережить именно «в качестве лирического поэта». И в этом отношении лирическая поэзия не отличается от других искусств: ее предметом является «внутренняя красота души человеческой, состоящая в ее созвучии с объективным смыслом Вселенной, в ее способности индивидуально воспринимать и воплощать этот всеобщий существенный смысл мира и жизни»[259]. Для восприятия и воплощения существенной красоты мировых явлений «нужен особый подъем души над обыкновенными ее состояниями» – вдохновение (как актуальное проявление дарования, гения). Именно в моменты глубокого вдохновения имеет место созвучие «художественной души с истинным смыслом мировых и жизненных явлений», именно в такие моменты душа художника сливается с данным предметом или явлением в одно нераздельное состояние. Исходя из такого представления, Соловьев различает два типа поэтов. Для первого характерно отражение красоты и жизни природы «в поэтической душе, как в зеркале», и при этом не остается никакого места для ее субъективности: «…видишь образ, овладевший поэтом, а самого поэта совсем не видно». Неподражаемым мастером такого рода поэзии философ считает Ф. И. Тютчева. Напротив, у А. А. Фета «картина природы соединяется с самостоятельным, хотя и созвучным, движением души»[260].
Соловьев показывает, что в процессе художественной деятельности возникает новая «прекрасная действительность», «осуществленная красота», которой до этого не существовало. Эта «осуществленная красота» оказывается способной «глубоко и сильно воздействовать на реальный мир», причем ее воздействие имеет место как «на природу вещей, так и на душу человеческую». По словам философа, «этот мир, будучи миром естественных различий, не допускает безразличного отношения к себе со стороны поэта (или художника вообще)…, а потому и от настоящего объективного поэта требует кроме созерцания – нравственной оценки, внутреннего движения – симпатии или антипатии»[261].
Действительно, предметом художественного творчества являются и «категории нравственного порядка» – «противоборство добра и зла»: поэт одинаково отступил бы от истины, и тем самым от красоты, и в том случае, если бы он принял и изобразил зло как уже уничтоженное, а также и в том, если бы он не признал в нем отрицаемого и уничтожаемого. Подлинный поэт, по мысли Соловьева, «прозрел, чтобы видеть красоту мироздания», и поэтому он еще более мучительно ощущает безобразие человеческой действительности. С этим он смириться не может, его «задача – спалить зло», его «оружие – слово правды». И поскольку «настоящий центр жизни и существа человеческого, конечно, не в языке, а в сердце его», перед поэтом стоит сложная задача: «…чтобы слово правды, исходящее из жала мудрости, не язвило только, а жгло сердца людей, нужно, чтобы само это жало было разожжено сердечным огнем любви»[262]. Только «избраннику» дается победа, и им является «поэт-пророк».
На «пророческие вершины», с точки зрения Соловьева, поднимался А. С. Пушкин, создававший то прекрасное, что по самому существу своему есть и нравственно доброе. «Духовным вождем русского народа» и «пророком» Соловьев считал Ф. М. Достоевского, в произведениях которого проповедуется не необходимость неправды, а необходимость силой духа побороть всякую внешнюю неправду, а затем и неправду внутреннюю. Способность великого писателя подняться на «пророческие вершины» Соловьев связывал с его «духовной силой веры» в Красоту, Добро и Истину.
В своих размышлениях о миссии художника-пророка Соловьев фактически ведет речь о воплощении, объективации в произведении искусства ценностей-идеалов: художнику достаточно быть верным красоте, а она уже сама сделает его произведения сообразными истине по своему внутреннему сродству с нею. Способность художника «творить в красоте», «претворять неидеальную действительность в идеальную» связана с наличием у него осознанного «смысла жизни», т. е. индивидуальной картины мира, ценностным стержнем которой и являются Красота, Добро и Истина. Только при наличии подобной картины мира художник оказывается в состоянии не ограничиваться одним познанием, но «творить в красоте», производить «некоторую новую прекрасную действительность»: «Для своей настоящей реализации добро и истина должны стать творческою силою в субъекте, преобразующую, а не отражающую только действительность… свет разума не может ограничиться одним познанием, а должен сознанный смысл жизни художественно воплощать в новой, более ему соответствующей действительности»[263]. Данная особенность и предопределяет особую, теургическую, миссию искусства.
Специально на этом вопросе останавливается один из последователей философа – Е. Н. Трубецкой. Человек, по мнению Трубецкого, не может оставаться только человеком – он должен или, поднявшись над собой, «вырасти в Бога», или, упав в бездну, превратиться «в зверя». Человечество стоит на перепутье. Такое представление «преисполняет сердце глубокой верой в Россию, потому что мы знаем, в котором из этих двух начал она почувствовала свое призвание, которое из этих двух жизнепониманий выразилось в лучших созданиях ее народного гения»[264]. Трубецкой справедливо полагает, что к числу этих лучших созданий принадлежат русские религиозная архитектура и иконопись: здесь наша народная душа явила самое прекрасное и самое интимное, что в ней есть, – ту прозрачную глубину религиозного вдохновения, которая впоследствии явилась миру и в классических произведениях русской литературы. Когда Соловьев возвестил идеал «теургического искусства», то, по словам Трубецкого, Россия не знала еще, какими художественными сокровищами обладает. По мысли философа, у нас уже было теургическое искусство, русские иконописцы видели эту красоту, которой спасется мир, и увековечили ее в красках. В самой идее «явленной и чудотворной иконы» давно уже живет и сама мысль о «целящей силе красоты». Пророческими в этой связи звучат слова Трубецкого: «Будем же утверждать и любить эту красоту! В ней воплотится тот смысл жизни, который не погибает. Не погибнет и тот народ, который с этим смыслом свяжет свои судьбы. Он нужен вселенной для того, чтобы сломить господство зверя и освободить человечество от тяжкого плена»[265].
Проблематика, связанная с воздействием искусства на душу человека, получила свою разработку в концепции И. А. Ильина. По его словам, «сущность искусства состоит в том, что один человек создает для других людей некую художественную медитацию, раскрывающую им природу Бога, мира и людей, дающую им мудрость и блаженство, духовную силу и победу… искусство требует живой духовной встречи людей, в которой один дает, а другой берет»[266]. Поэтому любое произведение искусства (даже независимо от намерений художника) «ведет и учит». Чем более художественным является произведение, тем в большей степени проявляется «его ведущая и учительная власть». Именно поэтому «духовно значительное искусство воспитывает человека и строит его дух, а духовно ничтожное и растленное искусство развращает человека и разлагает его дух»[267]. Подобно музыке Орфея, истинному искусству присуща магическая и благодатная мощь, «строящая дух и укрепляющая его силы»; искусство, заслуживающее своего имени, есть «нечто от духа и для духа». В этой связи Ильин и называет художников нашими душевными врачами и воспитателями: «Горе им и горе нам, если они вместо благих средств дают нам яд; и вместо благих путей ведут нас к распаду и гибели!»[268]
Характеризуя в этом плане роль А. С. Пушкина в истории России, Ильин утверждает, что «призвание его состояло в том, чтобы принять душу русского человека во всей ее глубине, во всем ее объеме и оформить, прекрасно оформить ее, а вместе с нею – Россию»[269]. Именно поэтому Пушкин – «солнечный центр нашей истории». Именно благодаря ему русский дух познал «радость исцеленности и радость цельности».
Итак, для Ильина несомненно, что искусство представляет собой «нечто от духа и для духа». «От духа» – значит, что в художественном произведении воплощены особенности картины мира художника. Для обозначения этой картины мира Ильин использует понятия «художественное мировосприятие», «художественное созерцание», «художественное миропреображение» и др.[270] Например, обращаясь к анализу творчества Н. К. Метнера, он отмечает, что за его музыкой стоит «особое метафизическое восприятие мира», особый «духовный опыт», без которого и вне которого не может состояться настоящее искусство.
«Для духа» – значит, что искусство предполагает воссоздание в душах воспринимающих содержания литературного, музыкального, поэтического и других произведений. Читатель, как справедливо утверждает Ильин, «есть соучастник творческого процесса; сохудожник»[271]. При этом читатель вовсе не должен выдумывать что– то свое, фантазировать, его задача – «внимать, т. е. «имать», брать внутрь созданное и предложенное автором». В результате этого и может явиться «дух захватывающей радости от создания и восприятия художественной красоты…»[272]. И если «художественное содержание проникло в самую глубину души, в человеческое чувствилище», искусство оказывается способным воспитывать человека и строить его дух.
Такое представление о месте и роли искусства в жизни человека вполне современно. Действительно, искусство не только отображает картину мира личности, субкультур, этносов, целых социокультурных эпох. Искусству оказывается под силу формировать и изменять картину мира субъектов культуры, внедряя определенные ценностные ориентации, ценности-нормы и ценности-идеалы. Эта способность искусства и оказывается «целящей силой красоты». Проникая в душу человека, искусство затрагивает «глубочайшие и драгоценнейшие истоки духовности». Именно поэтому «целение художника становится целением всех, кто воспринимает его создание; его прозрение и умудрение становится их прозрением и умудрением»[273]. Поэтому искусство и обладает особой «магической и благодатной мощью». Оно фактически способно принимать участие в развитии культур целых народов, определяя направления такого развития. Неслучайно поэтому Ильин называет А. С. Пушкина «русским национальным учителем и пророком». В Пушкине «русский дух впервые осознал и постиг себя, явив себя и своим, и чужим духовным очам; здесь он впервые утвердил свое естество, свой уклад и свое призвание; здесь он нашел свой путь к самоодолению и самопросветлению»[274].
Формируя и изменяя картину мира субъектов культуры, искусство оказывается способным воздействовать на их поведение и деятельность. Эта сторона искусства нашла свое отображение в концепции Н. А. Сетницкого. С его точки зрения, смысл искусства и его социально организационная функция заключается в том, что образ созерцаемого, через впечатление становится образом действия для тех, кто получил впечатления надлежащей силы. Именно поэтому со стороны искусства могут и должны быть выставлены «притязания на водительство человечеством». Подлинный художественный образ всегда есть «образ действия», т. е., воздействуя на сознание воспринимающих, он «становится деятельностью, превращаясь в индивидуальное и массовое поведение»[275]. Герой эпоса, художественного произведения, как вождь, увлекает, ведет и влечет за собой людей, которые ему подражают. В этой связи Сетницкий приводит в качестве примера Евгения Онегина, по образу и подобию которого формировалось не одно поколение русских людей.
Поэтому искусство и связано «с живой практикой, с постановкой высших и высочайших задач». Важнейшая из этих задач – «непосредственное управление преобразовательной деятельностью человека».
В силу этого и оказываются чрезвычайно актуальными пути развития современного искусства. По мнению Сетницкого, в сфере искусства происходит «великая битва» художественных образов, движущихся в двух противоположных направлениях: или «к Богочеловеку или к обезьяно-человеку, к Христу или к Тарзану». Идет борьба за «образцы любви», на которых формируется массовое сознание, «наставляется воображение всех». Без такой «настройки», по мысли религиозного философа, невозможны никакой индивидуальный опыт и никакое коллективное действие, никакой «построительный и зиждительный акт».
Сетницкий не только указывает на общественно-преобразующую функцию искусства, но и связывает эту функцию с эсхатологической проблематикой, с особой ролью искусства в «спасении мира». Он различает два типа эсхатологии: эсхатологию жизни и спасения, во-первых, и, во-вторых, эсхатологию смерти и гибели. Полагая, что эсхатология гибели прямого воздействия на поведение масс оказывать не может, философ обстоятельно анализирует «два построения», приближающиеся по своим предпосылкам к эсхатологии спасения: «…это – популярная форма христианского учения о рае и блаженстве спасенных святых и не менее популярное построение коммунистического, социалистического и анархического общества»[276]. Рай на небе либо рай на земле – таковы два центральных эсхатологических идеала. Сетницкий показывает, что при всем различии этих идеалов они имеют ряд общих черт. В плане нашего анализа важным оказывается то, что «спасение есть всегда результат усилий», оно связано «с какой-то деятельностью каких-то борцов». В эсхатологиях жизни и спасения «человек-деятель» признается «действующей силой», и поэтому ставится вопрос об ответственности в деле осуществления соответствующего идеала тех, кто стремится к воплощению его.
Искусство, обладающее, по мысли Сетницкого, особой «социально организационной функцией», оказывается важнейшим средством «спасения мира». Эта «высшая и высочайшая цель» не может быть выражена «прямолинейно», «прямо и безоговорочно», что связано с особыми условиями восприятия таких построений со стороны общественной среды. Требуется «особая форма» высказывания для того, чтобы предотвратить «резко отрицательное отношение» к «слишком высокой и кажущейся слишком далекой цели». Поэтому и оказывается уместной лишь «символическая, художественно-образная форма высказываний»: «Символически художественное оформление цели, и особенно высочайшей цели, есть едва ли не единственный путь, создающий условия сохранения ее до срока в сознании человечества. Это способ, при помощи коего оказывается возможным постепенно внедрить ее в жизнь, сделав ее из фантастически пугающей жизненно обязывающей задачей, не только для единиц, но и для масс»[277]. Только использование системы художественных образов, с точки зрения Сетницкого, позволит невооруженным глазом смотреть на то «ослепительно светящееся ядро, которое невыносимо для обычного, еще не окрепшего и неразвитого зрения». «Центральный стержень» этой системы образов – «Центрообраз» – принадлежит одновременно и сфере искусства, и сфере религии, поскольку именно религия дает наиболее полный и продуманный материал для построения и провозглашения цели и идеала.
Несомненно, что проблематика «спасения мира», проблематика эсхатологическая, – прежде всего и по преимуществу религиозная. Ее постановка русскими религиозными философами отражает специфику рассматриваемого направления, которое, как справедливо отмечает С. А. Гриб, «в основном не противостоит, а скорее ведет к богословию»[278]. Вместе с тем теургическое истолкование искусства встретило со стороны богословов и самих религиозных философов, близких к богословию, резко отрицательное отношение (С. Н. Булгаков, В. В. Зеньковский и др.). Например, С. Н. Булгаков в этой связи утверждает: «Теургическая власть дана человеку Богом, но никоим образом не может быть им взята по своей воле, хищением ли или потугами личного творчества, а потому теургия, как задача для человеческого усилия, невозможна и есть недоразумение или богоборство»[279]. С другой стороны, теургическая миссия искусства оказалась предметом критического анализа и со стороны представителей нерелигиозных направлений философии и эстетики. Так, Р. Гальцева и И. Роднянская, сопоставляя концепции спасения Н. Ф. Федорова и В. С. Соловьева, отмечают, что «печать ирреализма лежит на вселенских замыслах и того и другого»[280].
Действительно, концепция теургии не получила в науке такого же признания, какое получила концепция ноосферы, выдвинутая другим направлением русского космизма – естественнонаучным. Для этого, на наш взгляд, были определенные основания. Концепция теургии, разрабатывавшаяся русскими религиозными философами, опирается не на научную, а на религиозную картину мира и связана с «эсхатологическим ожиданием» (Н. А. Бердяев) наступления «Царства Божьего» на земле. По словам Бердяева, Достоевский своей формулой: «Красота спасет мир» подразумевал «наступление Царства Божьего», которое «есть преображение мира, не только преображение индивидуального человека, но также преображение социальное и космическое»; преображение предполагает «конец этого мира, мира неправды и уродства, и начало нового мира, мира правды и красоты»[281].
Понятно, что в таком богословском облачении концепция теургии не могла быть принята нерелигиозными направлениями философии и эстетики и интерпретируется как «грандиозная эстетическая утопия». Вместе с тем данная концепция, на наш взгляд, содержит в себе идеи, еще не до конца осознанные современной наукой и обладающие значительным эвристическим потенциалом и ценностью.
В концепции теургии фиксируется актуальная для современной культуры проблема духовного «падения» человека и одновременно выдвигается задача его «обновления» и «спасения». Искусство в этой связи не случайно оказывается в центре внимания религиозных философов. Именно искусство, а не наука, позволяет человеку в процессе художественного общения вырабатывать (что является задачей художника), передавать (посредством художественно-образной системы произведения и его символики) и осваивать (в процессе восприятия произведения искусства) целостное миропонимание. Картины мира, опредмечиваемые и распредмечиваемые в процессе художественного общения, содержат в себе не только знания об окружающем мире, но и, что оказывается существенным – ценности, лишь на основе которых человек способен ставить задачи по преобразованию себя самого и окружающей среды. Если «спасение мира» зависит от «спасения» человека, то искусство и оказывается незаменимым в плане формирования внутреннего духовного мира человека. Об этом свидетельствуют современные социологические исследования, показывающие существующую взаимосвязь между духовным потенциалом личности и ее склонностью к общению с искусством[282].
В этом плане представляется актуальным обращение В. С. Соловьева, Е. Н. Трубецкого, Н. А. Сетницкого и других к анализу ценностного содержания художественных образов. Они не приемлют образов, движущихся в сторону «обезьяно-человека» (Сетницкий), т. е. утверждающих низкопробные, ложные или мнимые ценности. Формирование рынка кино– и видеопродукции в современной России с выдвижением в качестве доминирующих псевдоценностей массовой культуры (обладание физической силой или оружием, секс и т. п.) актуализирует их позицию. «Спасение мира» красотой не может не опираться на одухотворение человека и культуры, на выработанные человеческой историей идеалы Красоты, Добра и Истины, с их точки зрения. Апелляция при этом к «Божественному началу» не только не уничижает человека, но возвышает его, нацеливая на высокие духовные идеалы.
В свою очередь, опора на выработанные культурой гуманистические идеалы позволяет искусству формировать «человека– деятеля» (Н. А. Сетницкий), способного к преобразованию самого себя и окружающего мира сообразно этим идеалам. Такое представление, не лишенное оснований, требует уточнения.
Несомненно, что искусство обладает общественно-преобразующей функцией. Вместе с тем с точки зрения научной (но не религиозной) искусство (даже в соединении с другими видами человеческой деятельности) не способно установить «Царство Божие» на земле. Однако «пересоздать существующую действительность» (В. С. Соловьев), на наш взгляд, искусству (в соединении с наукой, техникой, религией и т. д.) под силу. Что мы имеем в виду?
П. А. Флоренский в письме к академику В. И. Вернадскому – создателю учения о ноосфере – высказал мысль о существовании «особой части вещества, вовлеченной в "круговорот жизни духа"» – «пневматосферы» – и о наличии «вещественных образований, проработанных духом, например, предметов искусства»[283]. В XX веке происходит резкое расширение сферы искусства, связанное с научно-техническим прогрессом, развитием техники массовых коммуникаций и др. В этой связи резко расширяется круг «проработанных духом» предметов искусства. Это и дало основание современному исследователю – Ю. Б. Бореву выделить в структуре ноосферы особую область – «артосферу», которая имеет только ей присущую функцию. Как показывает Ю. Б. Борев, «разум настолько чужд природе и настолько противостоит ей, что не мог бы постигать реальность, если бы между нами и природой не находилась уже обмысленная художественная реальность, пластично охватывающая природу и общество и взаимодействующая с когитосферой (впитывающая из нее идеи, готовящая материал для концептуально-теоретической переработки и провоцирующая способности в такой переработке)»[284]. Выделение в структуре ноосферы особой области – «артосферы» – предполагали и размышления самого академика В. И. Вернадского, который к ноосфере относил и «мир художественных построений»[285].
В этом плане концепцию теургии русских религиозных философов сегодня следует трактовать как попытку осмыслить место и роль искусства в современной культуре, аналогичную попытке другого, естественно-научного, направления русского космизма осмыслить место и роль человеческого разума в биосфере (концепция ноосферы). Эта попытка оказалась эвристически ценной, поскольку показала значимость искусства в формировании целостного миропонимания человека, его картины мира, места и роли в этой картине ценностей – идеалов Красоты, Добра и Истины.
На наш взгляд, эвристически значимой представляется и постановка перед искусством задачи явно внеэстетического характера – «претворять неидеальную действительность в идеальную» (В. С. Соловьев). Уже на рубеже столетий религиозные философы почувствовали значимость аксиологической составляющей человеческой деятельности для всех ее форм и видов, будь то деятельность общественная, научная, трудовая, техническая и т. д. По их представлениям, эта аксиологическая составляющая наиболее ярко выражена непосредственно в художественном творчестве (с этим, видимо, и связано расширительное толкование Н. А. Бердяевым человеческого творчества как «художественного акта»). Однако реалии XX века показали, что творчество человека в любой сфере не может не опираться на общезначимые духовные ценности (религиозные, нравственные, экзистенциальные и др.), если оно хочет быть нацелено на «спасение мира», а не на его разрушение. Это в равной мере относится и к общественным преобразованиям, к созданию новых технологий, научным открытиям и т. д. Концепция теургии, выдвигая перед человеком задачу «творить в красоте» (В. С. Соловьев), как бы предлагала человечеству возможную альтернативу тем общественным катаклизмам, разрушительным войнам и т. п., которые оно реализовало на протяжении XX века. Само выдвижение задачи спасения мира красотой (неотделимой от добра и истины) стало свидетельством глубочайшей озабоченности русских религиозных философов судьбой мирового развития, являлось попыткой внести свой вклад в реальное утверждение этих ценностей-идеалов.
Принципиально важной для перспектив развития современной цивилизации была также и постановка вопроса о духовной красоте человека как необходимой предпосылке утверждения красоты в действительности. Рассмотрение религиозными философами духовной красоты в трех аспектах (собственно духовном, жизнетворческом и художественном) не является случайным. Красота для них – одна из ценностей. А ценности имеют три основные формы существования: 1) они выступают в виде идеалов, выработанных общественным сознанием и освоенных, принятых индивидуальным сознанием в форме личных ценностей; 2) они утверждаются и воспроизводятся в форме человеческих поступков, жизнетворчестве личности; 3) наконец, они выступают в виде произведений культуры и искусства. Фактически все эти формы существования ценностей стали предметом анализа русских религиозных философов. Духовная красота для них – высшая форма человеческого творчества, связанная с «богоуподоблением». Однако религиозные философы не закрывали глаза на реалии окружающей жизни. Как отмечает Н. А. Бердяев, «ужас человеческой жизни заключается в том, что добро осуществляют при помощи зла, правду – при помощи лжи, красоту – при помощи уродства, свободу – при помощи насилия»[286]. И, несмотря на это, наперекор «всякой низости», «всякой мерзости» (В. С. Соловьев) они утверждали идею высокого предназначения человека. Как подчеркивал С. Л. Франк, «христианский идеал есть не бегство от мира, как от чистого зла, а активное овладение миром для его исцеления и спасения»[287]. Утверждение в мире Красоты (а вместе с ней Добра и Истины) – таков путь реализации христианского идеала, с их точки зрения. В этой связи Н. О. Лосский отмечал: «Через красоту открывается ценность всех остальных видов добра в особенно увлекательной форме. Поэтому, влияя без приказаний, без заповедей, без нарушения свободы, красота может преодолеть не только обыденный эгоизм, но и титаническую гордыню – она может побудить человека забыть свое самолюбивое "я" и самоотверженно служить добру»[288].
Итак, сама нацеленность русского миросозерцания на «улучшение мира», «мировое благо» (С. Л. Франк) повлияла на выдвижение Красоты в качестве цели мирового процесса. В концепциях русских религиозных философов Красота, неотделимая от Добра и Истины, стала центральным понятием философско-культурологических поисков и оказалась в состоянии спасти мир.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– в работах русских религиозных мыслителей были поставлены, а также нашли свое терминологическое отображение и разработаны важнейшие проблемы, связанные с анализом духовного мира современного человека;
– следствием процесса секуляризации в Новое время стала релятивизация ценностей, человек теряет свой «духовный центр», возникает «духовный атомизм», происходит «распад души»; «внутренний раскол личности» ведёт к подмене духовности её суррогатами (И. В. Киреевский, В. С. Соловьёв, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский и др.);
– русские мыслители не только поставили диагноз современному человеку и его культуре, но и попытались найти выход из этого духовного кризиса; зарождавшемуся «духовному атомизму» и «нецельности» личности они противопоставили цельность народной души (П. А. Флоренский); религиозные философы показали роль триединства Красоты, Добра и Истины как важнейшего элемента целостного мировосприятия, мировоззрения и мироощущения русского человека – основных компонентов его картины мира;
– триединство Красоты, Добра и Истины, по мысли русских философов, выступает своеобразным ценностным стержнем картины мира человека, на основе и с помощью которой личность оказывается способной различать добро и зло, подлинную и ложную красоту и т. д.; такое представление закрепляется и терминологически – используются термины «картина мира», «мировоззрение», «мироощущение», «мирочувствие», «жизнепонимание», «миропонимание», «мировосприятие», «миросозерцание» и др.;
– целостность картины мира, выраженная в концепции триединства Красоты, Добра и Истины, противостоит теоретическим попыткам и реальным процессам «атомизации» духовной жизни современного человека, фактически способствует его возвышению и одухотворению, одухотворению самих основ современной цивилизации;
– для русских религиозных философов спасение мира красотой в конечном итоге зависит от спасения самого человека, сумевшего преодолеть в себе «идеал содомский» и оказавшегося способным опереться на красоту добрую, «положительно прекрасное» (Ф. М. Достоевский);
– духовная красота человека рассматривалась религиозными мыслителями в трех взаимосвязанных аспектах: 1) собственно духовном, который характеризуется «доброкачественностью духовной жизни» (П. А. Флоренский); 2) жизнетворческом, который связан с утверждением красоты в окружающем мире через поступки, когда «самую жизнь свою делают художественным произведением» (С. Н. Булгаков); 3) художественном, который связан с воплощением духовной красоты в искусстве, с «целящей силой красоты» (Е. Н. Трубецкой);
– религиозные философы показали необходимость «внутреннего обновления» человека с целью противостояния негативным тенденциям современной культуры, а также роль и значение духовной красоты человека в аспекте преобразования общества, «спасения мира» (В. С. Соловьев, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин и др.);
– концепция теургии представляет собой попытку русских религиозных философов понять место и роль искусства в современной культуре, аналогичную попытке другого, естественно-научного направления русского космизма осмыслить место и роль человеческого разума в биосфере (концепция ноосферы);
– сама нацеленность русского миросозерцания на «улучшение мира», «мировое благо» (С. Л. Франк), а не только лишь на понимание мира привела к выдвижению Красоты в качестве цели мирового процесса; именно поэтому в концепциях религиозных философов Красота, неотделимая от Добра и Истины, оказалась в состоянии спасти мир.
Раздел 3 Эстетическая ценность как предмет исследования русской религиозной аксиологии
3.1. Специфика эстетической ценности в природе и искусстве[289]
Проблема эстетической ценности находит свое отражение и в терминологическом, и в содержательном отношении в концепции В. С. Соловьева. Размышляя о специфике эстетического, философ использует термины «эстетическая ценность», «эстетическое значение», «эстетический смысл»; рядоположенными оказываются также термины «эстетическая оценка», «эстетическое впечатление», «эстетический интерес», «эстетическое достоинство», «эстетическое наслаждение», «эстетический предмет» и др.[290].
Специфику эстетической ценности Соловьев видит в ее двухслойности, двуплановости. Специфическое отличие красоты от добра и истины, по мысли философа, заключается в том, что она предполагает глубочайшее и теснейшее взаимодействие между духовным (или внутренним) и вещественным (или внешним) бытием. Чувственно-материальный слой эстетической ценности он обозначает терминами «чувственное выражение», «специально-эстетическая форма» и др.; социокультурный слой эстетической ценности – терминами «идеальная сущность», «идеальное содержание», «духовное содержание» и др[291].
Философ специально подчеркивает отличие собственной трактовки эстетической ценности от позиции Г. Гегеля. Для немецкого философа красота представляет собой воплощение универсальной и вечной идеи в преходящих явлениях, что «возможно только при безразличном, равнодушном отношении между духовным началом и материальным явлением». Для Соловьева же красота есть «нераздельное соединение», взаимное проникновение этих двух элементов, что позволяет одному из них (материальному) стать «действительно причастным бессмертию другого»»[292]. Как раз это, по мысли Соловьева, и характеризует «подлинную и совершенную красоту». Отсюда вытекают три требования или условия совершенной красоты: 1) непосредственная материализация духовной сущности; 2) одухотворение материального явления как собственной неотделимой формы идеального содержания; 3) полная солидарность и взаимное проникновение идеального содержания и уже неотделимой от него чувственно-материальной формы, что делает ее «причастной бессмертию» этого содержания.
Двухслойность, двуплановость эстетической ценности отмечают и другие представители рассматриваемого направления. С точки зрения С. Н. Булгакова, «красота как духовная чувственность необходимо имеет субстратом некую телесность, красоте отдающуюся, ее восприемлющую и ею исполняющуюся»[293]. По его убеждению, без этой телесности красота существовать не может, возможна лишь мысль о красоте.
Утверждение содержательности эстетической формы – характерная черта концепций русских религиозных философов. В противовес позитивизму, неокантианству и др. религиозные мыслители утверждали значимость духовных ценностей, а тем самым способствовали одухотворению человека, приобщению его к нетленным ценностям и святыням. Конечно, такое одухотворение понималось и истолковывалось в русле их религиозных воззрений. По С. Соловьеву, «космический художник» воплощает мировую идею в реальных формах красоты. С точки зрения С. Н. Булгакова, красота есть столь же абсолютное начало мира, как и Логос; она – откровение «Третьей ипостаси, Духа Святого» и т. п. Однако при этом – что является несомненным достоинством их позиции – они возвышали и самого человека через приобщение его к божественной красоте. Как отмечал С. Л. Франк, содержание эстетического опыта (как и опыта религиозного и нравственного) не объективно и не субъективно: это содержание одновременно и объективно, и субъективно. Реальность содержания эстетического опыта, будучи «абсолютной, всеобъемлющей и всепроникающей», находится «и в нас, и вне нас – потому что мы находимся в ней… Божественное бытие становится нам доступным, потому что мы откликаемся на него, воспринимаем его тем, что божественно в нас самих»[294]. Возвышение человека как раз и связано с тем, что в эстетическом ценностном отношении потребности человека находят свое удовлетворение только на основе соотнесения объекта-носителя с идеалом как элементом картины мира личности. Тем самым и оказывается востребовано то, «что божественно в нас самих».
Двухслойность, двуплановость эстетической ценности, по мысли Соловьева, приводит к необходимости различения двух критериев эстетического, которые нельзя смешивать: 1) критерий общеидеальный (или критерий достойного, идеального бытия); 2) критерий специально-эстетический (или критерий эстетического достоинства). Необходимость различать эти два критерия философ обосновывает тем, что, с одной стороны, может быть в высшей степени хорошо воплощена в данном материале весьма слабая степень достойного или идеального бытия, а с другой стороны, возможно крайне несовершенное выражение самых высших идеальных моментов. Сравнивая по каждому из этих критериев червя и алмаз, он приходит к выводу о приоритете критерия специально-эстетического: «…с точки зрения собственно эстетической червь, как крайне несовершенное воплощение своей, хотя сравнительно и высокой идеи (животного организма), должен быть поставлен неизмеримо ниже алмаза, который есть совершенное, законченное выражение своей, хотя и малосодержательной, идеи просветленного камня»[295].
Представляется» что Соловьев ставит важную для уяснения природы эстетического проблему – взаимосвязи идеального и реального в эстетической ценности. Сама ценность возникает только в процессе соотнесения реальности с эстетическим идеалом. Только в процессе такого соотнесения предмет наделяется ценностным значением. При этом само ценностное значение оказывается в большей степени зависимым от личностного фактора ценности (социокультурного значения и личностного смысла), нежели от информационного многообразия объекта – носителя ценности (предметного значения). Такая непосредственная зависимость эстетической ценности от меры человеческого рода, от личности вытекает из того факта, что именно личность является активной стороной эстетического ценностного отношения.
Для Соловьева объектами – носителями эстетической ценности являются, во-первых, предметы и явления природы и, во-вторых, произведения искусства. С точки зрения этой классификации человек относится к «области» явлений природы, он предстает «высшей и совершеннейшей природной формой»»[296].
О красоте в природе и красоте в искусстве пишет С. Н. Булгаков[297]. На существование двух видов красоты указывает Н. А. Бердяев;
1) «красота как сущее, т. е. претворение хаотического уродства мира в красоту космоса»; 2) красота как «цель искусства»[298]. Каждая из этих двух областей красоты, по мысли религиозных философов, имеет свою специфику. Вместе с тем их объединяет и нечто общее. Вначале рассмотрим их трактовку специфики красоты в природе, обратившись, прежде всего к работам В. С. Соловьева.
Анализ красоты в природе связан у Соловьева с его метафизическими представлениями: «…порядок воплощения идеи или явления красоты в мире соответствует общему космогоническому порядку»[299]. Философ тем самым опирается на принцип естественнонаучного эволюционизма. Исходя из него, Соловьев следующим образом выстраивает собственную логику анализа красоты: 1) мир неорганический, включающий в себя, во-первых, явления и предметы, в которых «вещество прямо становится носителем света», и, во-вторых, явления, «в которых неодушевленная природа как бы одушевляется и в своем движении являет черты жизни»; мир органических существ, включающий в себя, во-первых, «растительное царство» и, во-вторых, «животное царство». На каждой новой ступени, этапе мирового развития существенно углубляется и усложняется природное существование, а тем самым, по мнению философа, открывается возможность новых, более совершенных воплощений всеединой идеи в прекрасных формах. При этом красота живых (органических) существ выше, но вместе с тем и реже красоты неодушевленной природы.
Кроме того, «положительное безобразие» начинается лишь там, где начинается жизнь. По его мнению, существуют три формальные причины «животного безобразия»: 1) непомерное развитие материальной животности; 2) возвращение к бесформенности; 3) карикатурное предварение высшей формы – человека. Все эти причины связаны с тем сопротивлением, «которое материальная основа жизни на разных ступенях зоогенического процесса оказывает организующей силе идеального космического начала»[300].
Постановка Соловьевым вопроса о порядке воплощения красоты в мире заслуживает серьезного обсуждения. Действительно, все явления природы содержат в себе определенную информацию. Используя термин Л. Бриллюэна, будем называть ее «связанной информацией»[301]. Ясно, что в процессе эволюции количество и качество связанной информации изменялось: каждая ступень развития неорганического и органического мира имеет в этом плане собственную характеристику. Информационная многозначность объекта – носителя ценности как раз и связана с определенной ступенью эволюционного развития. Несомненно, что ценностное значение формируется на основе информационной многозначности предмета или явления. Например, по Соловьеву, для растений характерна красота «видимых форм», для животных – красота «стройной силы, гармонического соотношения частей и свободной подвижности целого». В неорганическом мире «красотою видимой жизни» отличается текущая вода в разных своих проявлениях: ручей, горная речка, водопад. Каждый из перечисленных природных объектов обладает информационной многозначностью в соответствии с тем классом, к которому принадлежит. Каждый класс природных объектов обладает, характеризуется собственной связанной информацией, которая, так или иначе, воздействует на формирование ценностного значения (точнее, на его аспект предметное значение). Поэтому логика анализа красоты природы у Соловьева обладает определенным эвристическим потенциалом.
Вместе с тем, на наш взгляд, уязвима позиция философа, согласно которой красота в природе – «объективная реальность», «реально-объективное произведение сложного и постепенного космогонического процесса»[302]. В своих рассуждениях он опирается на многочисленные факты, собранные Ч. Дарвином, которые свидетельствуют, по его мнению, о том, что в природе красота существует объективно, независимо от человеческого сознания. Указывая на факты изменения окраски, формы, звукового поведения самцов в период спаривания, Соловьев делает вывод: крылья тропической бабочки или павлиний хвост красивы не только по оценке человека, точно так же ценят их красоту самки бабочки и павлина. Поэтому павлиний хвост «красив объективно», настаивать на том, что красота радуги или алмаза имеет субъективно-человеческий характер, было бы верхом нелепости. Он особо подчеркивает, что «дело не в ощущении, а в свойстве предмета, способного производить однородные ощущения в самых различных субъектах»[303]. Онтологическим основанием объективности красоты в природе, по Соловьеву, выступает чувственное воплощение одной абсолютно объективной, всеединой идеи (на разных ступенях и в разных видах).
Уязвимость такой трактовки красоты в природе связана с тем, что эстетическое ценностное отношение оказывается лишенным своей активной стороны – личности как субъекта эстетического восприятия. Отметим вместе с тем, что в рамках самой концепции Соловьева всегда как бы присутствует потенциальный субъект ценностного отношения: «космический ум», «космический зодчий», «мировой художник». Он не только «творит… сложное и великолепное тело нашей Вселенной», но и относится «неравнодушно к красоте своих произведений»[304].
Иную позицию по данному вопросу занимает Н. А. Бердяев, полагающий, что «объективированный мир сам по себе не знает красоты», «в объективности самой по себе нет никакой красоты, никакой истины, никакой ценности»[305]. Философ выступает против наивно-реалистического представления, согласно которому «красота входит в человека из объективного мира», что сам он при этом не прилагает никаких усилий. Исходя из того, что «красота не может принадлежать миру детерминации; она есть освобождение от детерминации, вольное дыхание», Бердяев утверждает мысль о том, что при восприятии красоты человек активен, а не пассивен. С его точки зрения, восприятие красоты не есть пассивное восприятие какого-то объективированного миропорядка: красота связана с творческим актом человека и, по Бердяеву, есть прорыв через этот мир, освобождение от его детерминизма, победа над уродством и над тяжестью мировой необходимости. Поэтому красота всегда связана с духовной борьбой, результатом которой выступает прорыв к свободе.
Интересно отметить, что и Соловьев, и Бердяев в своих рассуждениях исходят из одной и той же эстетической установки, возникшей еще в античности: в мире происходит борьба хаоса и космоса; мир не дан как прекрасный, гармонический космос; хаос (т. е. «само безобразие», по Соловьеву) есть необходимый фон всякой земной красоты[306]. Однако при единой исходной установке оказываются возможными противоположные выводы. Соловьев приходит к выводу о существовании красоты в природе объективно, независимо от человека и человеческого сознания. Бердяев же именно с человеком связывает существование красоты, полагая, что в самом по себе объективированном мире «есть только механизация, противоположная красоте». С точки зрения Бердяева, красота предполагает существование хаоса и победу над хаосом. Существует двоякая победа человека над хаосом – победа эстетическая и механическая, победа в свободе и победа в необходимости. Только первая победа связана с красотой. Вот эту-то победу философ и связывает с творческой деятельностью человека, с его прорывом к «миру преображенному», к свободе.
Такое представление о творческой роли человека не только современно, но и, на наш взгляд, содержит в себе значительную долю истинного знания. Именно человек в процессе своей творческой деятельности встает по отношению к окружающему миру на особую эстетическую позицию: соотнося явления природы со своей картиной мира, одухотворяет окружающий мир, наделяя его ценностным значением, которого в мире самом по себе не было и не могло быть. Это и есть акт подлинного творчества – выработка социокультурных значений, личностных смыслов, предметных значений, которых до человека и вне человека нет и быть не может.
Прекрасные явления физического мира, по мысли Соловьева, не исполняют требований (или условий) совершенной красоты в трех аспектах: 1) «идеальное содержание в природной красоте недостаточно прозрачно», оно воплощается «лишь самым общим и поверхностным образом»; 2) поверхностной материализации идеального начала соответствует «столь же поверхностное одухотворение материи»; 3) поскольку красота в природе лишь «снаружи и вообще» прикрывает безобразие, то и сохраняется она только в своих общих образцах (родах и видах), в то время как отдельные прекрасные явления подвержены разрушению. Природе, таким образом, с точки зрения философа, не удается осуществить совершенную красоту в области физической жизни. Но поскольку сама она неравнодушна к красоте, природа путем великих трудов и усилий, страшных катастроф и др. поднялась в сферу сознательной человеческой жизни; задача, не исполнимая средствами физической жизни, должна быть исполнима посредством человеческого творчества. Существенные несовершенства природной красоты должны быть преодолены искусством. Только искусство способно к совершенному воплощению абсолютной красоты. И в этом его высшая задача[307]. Именно так представляет себе «верховную задачу искусства» и С. Н. Булгаков: «просветлять материю красотой, являя ее в свете Преображения»[308].
Для Соловьева и многих его последователей красота в искусстве представляет собой лишь переход и связующее звено между красотой природы и красотой будущей жизни. Такое представление вытекает из учения о теургии, развиваемое мыслителями. Именно поэтому, по мысли Соловьева, красота в искусстве – не более чем «частные и отрывочные предварения (антиципации) совершенной красоты». Искусство в этой связи понимается не как «пустая забава», а представляет собой «вдохновенное пророчество». Оно способно, во-первых, стать прозрачной объективацией идеального содержания; во-вторых, внутренне преображать, одухотворять материю; в-третьих, искусство свободно от «власти материального процесса и потому пребывает вечно»[309]. Это и есть, по словам Соловьева, превращение физической жизни в духовную.
Учение Соловьева о красоте в искусстве, будучи развитием его метафизических представлений, так или иначе, отображает реальную способность искусства воплощать в чувственно-материальных формах идеальное духовное содержание. При этом для философа важнейшей стороной художественного произведения оказывается воспроизведение должного, достойного бытия: «…всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете будущего мира, есть художественное произведение»[310]. Степень соответствия – несоответствия воспроизводимого в художественном произведении идеалу оказывается для него важнейшим, существенным основанием деления красоты в искусстве на роды. Соловьев называет три рода «предварения совершенной красоты в человеческом искусстве». Первый род (сюда относятся музыка и отчасти чистая лирика) он называет «прямым или магическим» предварением и видит его особенность в том, что глубочайшие внутренние состояния, связывающие нас с подлинной сущностью вещей и с нездешним миром, находят свое прямое и полное выражение в прекрасных звуках и словах. Фактически философ ведет речь о выражении красоты духовного мира человека, что имеет свои основания и с чем вряд ли можно спорить.
Второй род (сюда относятся архитектура, классическая скульптура, пейзажная живопись и отчасти лирическая поэзия) он называет предварением «косвенным, через усиление». Особенностью этого рода красоты является то, что через нее предстают (в «очищенном, идеализированном виде») воспроизводимые художником явления природного и человеческого мира, лишь смутно и недостаточно выраженные в их естественной красоте. Так архитектура, по мысли Соловьева, воспроизводит известные правильные формы природных тел и выражает победу идеальных форм над тяжестью – основным антиидеальным свойством вещества[311].
На наш взгляд, выделение данного рода красоты в искусстве имеет серьезные основания. Идеальное духовное содержание, картина мира художника находит свое выражение через чувственно-воспринимаемую форму художественного произведения. При этом архитектура воспроизводит «известные правильные формы природных тел», классическая скульптура идеализирует красоту «человеческой формы» и др. Фактически Соловьев ведет речь о реальной стороне творческого процесса художника, который в соответствии со своим замыслом придает чувственно-воспринимаемой форме произведения черты совершенства. Тем самым и формируется один из аспектов ценностного значения – предметное значение, связанное с мерой упорядоченности чувственно-воспринимаемой внешней формы художественного произведения. Наконец, третий род эстетического предварения Соловьев называет «косвенным, чрез отражения идеала от несоответствующей ему среды». К этому роду он относит эпос, трагедию и комедию. Например, комедию философ определяет «как отрицательное предварение жизненной красоты через типичное изображение антиидеальной действительности в ее самодовольстве»[312].
Философ справедливо указывает на воспроизведение в искусстве основных разновидностей эстетического. В этом смысле искусство, художественное произведение имеет видовое и вариативное значения. Вместе с тем к этому роду «эстетического предварения», видимо, следует отнести все разновидности эстетического, а не только указанные три. Действительно, видовое и вариативное значения в искусстве так или иначе обусловлены позицией художника, который либо утверждает, либо отрицает отображаемое, опираясь на собственные мироощущение, мировоззрение, идеалы и шире – на картину мира. Кроме того, сегодня следует уточнить, что имеет в виду Соловьев, говоря об эпосе. Представляется, что речь идет о героическом эпосе как разновидности возвышенного. Оценивая в целом деление красоты в искусстве на роды, представленное философом, важно отметить, что он достаточно точно очертил проблематику, раскрыл основные аспекты красоты в искусстве с точки зрения возможностей видов и родов искусства.
Наряду с этим, Соловьев ставит и вопрос об отношении красоты в искусстве к красоте в действительной жизни, «красоты изображения» к «красоте изображаемого». Он справедливо указывает на ошибочность позиции, согласно которой следует прямо выводить красоту искусства из красоты в действительной жизни. На самом деле здесь нет прямого соответствия, отношение искусства к действительности в этом плане «двоякое»: действительность может служить искусству «образцом или моделью», когда она сама по себе прекрасна; но в ряде случаев действительность дает искусству «только материал, именно в тех случаях, когда она, хотя бы и безобразная, представляет большую фактическую содержательность, яркость и пестроту»[313].
Таким образом, раскрывая особенности формирования видового значения в искусстве, Соловьев показывает, что оно не может быть сведено к ценностному значению предмета художественного отображения. Красота в искусстве не может не быть связанной с позицией художника-творца, его мироощущением и мировоззрением, т. е. с его картиной мира. Именно поэтому безобразное или лишенное красоты может стать «материалом и поводом для живописных и прекрасных художественных изображений, столь же мало похожих на свой исторический материал, как прекрасные цветы и плоды не похожи на ту навозную землю, из которой они произрастают»[314].
Обращаясь к красоте в искусстве, Соловьев и другие религиозные философы используют термины «художественная красота», «музыкальная красота» и др.[315]. Содержание понятия «художественная красота» стало предметом специального анализа И. А. Ильина. Не без основания Ильин разграничивает красоту и художественность произведения искусства. Философ различает три варианта их взаимосвязи. Во-первых, произведение может обладать художественным достоинством и одновременно быть лишенным красоты. В этой связи Ильин отмечает, что все комическое в искусстве лишено красоты, многое трагическое исключает красоту как таковую, а все сатирическое и многое бытовое не обнаруживает ее. И независимо от этого произведения могут быть художественными. Во-вторых, в произведении искусства одновременно могут иметь место и красота, и художественность. В этой связи он называет «Полтаву» А. С. Пушкина, сонату «Апассионату» (№ 23) Л. ван Бетховена, картину Леонардо да Винчи «Мадонна среди скал» и др. Наконец, в-третьих, в произведении искусства красота может не обладать художественным достоинством и тогда речь надо вести не о красоте, а о «красивости», поскольку в произведении такого рода воспринимающий не найдет значительности, величия, глубины, но лишь «дразнящую и соблазнительную чувственность». Так, по его словам, у В. Г. Бенедиктова и К. Д. Бальмонта можно встретить стихотворения, не лишенные красивости, но лишенные художественного достоинства. Ильин отмечает также «сладостную красивость» некоторых произведений Ф. Мендельсона, ранних вещей А. Н. Скрябина и др.
Мыслитель четко определяет свою собственную позицию: «… художник вообще служит не красоте, а художественности»[316]. С его точки зрения, «измерение художественности» связано с главным планом искусства – «художественным предметом». Красота же («яркость», «красочность», «живописность») связана не со сферой предмета, а со сферой его «эстетической оболочки», со сферой «образного одеяния», с подчиненным «изображающе-передающим планом». Художник, по его представлению, всегда должен стремиться к художественности своего произведения, но отнюдь не обязан творить «ярко», «красочно», «живописно».
Своей позицией Ильин стремится утвердить роль и значимость духовного начала в искусстве. Для него «искусство есть всегда проявление духовности; а недуховное искусство вовсе не заслуживает этого имени»[317]. Духовное начало искусства философ рассматривает как проявление всеобщего «духовного предмета», который живет во всем или «потенциально» (наподобие непроявленного негатива), или актуально (т. е. в «раскрытом осуществлении»). Хотя этот «духовный предмет» и получает у Ильина религиозное истолкование (поскольку философ связывает его с Богом как «художником мира»), речь фактически идет о картине мира художника, которая получает в произведении свое художественное воплощение. Действительно, по мнению Ильина, художник видит все единичное как пронизанное («озаренное», «насыщенное», «освященное») или, наоборот, «отвергнутое лучами духовного Предмета». Перевоплощение действительности в искусстве мыслитель связывает с особой ролью «художественного мировосприятия» и «миропреображения». По словам Ильина, художник как бы смотрит в некое «зерцало мира», которое представляет собой «микрокосм» (или мир в малом): «…весь мир отображается в этом зерцале и вместе с ним вступает в человека»[318]. Поэтому перед художником и стоит двоякая задача: 1) образная индивидуализация всеобщего духовного предмета (на этой стадии художник облекает предмет в образ); 2) эстетическая материализация выношенного им образа (на этой стадии художник зашифровывает образ в чувственную материю).
Таким образом, в рамках своей эстетической концепции философ разграничивает эстетическую ценность («красоту») и художественную ценность («художественное достоинство», «художественность») произведения искусства. Произведение обладает художественной ценностью, если оказывается воплощением художественного предмета, т. е. картины мира художника, и соответственно содержит социокультурное значение и личностный смысл. Произведение обладает одновременно и эстетической, и художественной ценностью, если, наряду с социокультурным значением и личностным смыслом, наделено внешними характеристиками совершенства, т. е. обладает и предметным значением. Наконец, если при наличии предметного значения отсутствуют социокультурное значение и личностный смысл, имеет место не красота, а красивость.
Связь искусства и красоты пытался осмыслить также и С. Н. Булгаков, для которого искусство неотделимо от красоты по самой своей природе, ею порождается и ею живет. Однако красота «первее искусства», источник красоты – в небесах, истинная красота – от Духа Святого. И поскольку красота есть внутренний закон мира (сам мир Божий предстает как Космос, как София, как Красота), художник есть «вещун некоей нездешней действительности», которая ему открывается в художественных образах. В силу этого он и умаляется как личность, становится проводником внеличного или даже безличного начала: «…искусство есть орган самоощущения души мира, всей тварной природы как красоты»[319]. Поэтому искусство не имеет самодовлеющего значения, не может оставаться замкнутым только в себе. Истинное произведение искусства «зовет к жизни в красоте», представляет собой лишь путь к обретению красоты, обладает ключом, открывающим глубину красоты.
Таким образом, с точки зрения ученого, красота существует до и вне искусства, искусство причастно красоте, оно «не создает, но лишь являет красоту»[320].
Булгаков не останавливается на этом общетеоретическом представлении о взаимосвязи красоты и искусства, но раскрывает его, обращаясь к анализу самой художественной практики: к творчеству какого бы художника, писателя или поэта ни обращался философ, он рассматривал его творения с точки зрения выражения в них начала подлинной красоты.
Опираясь на работы Булгакова, можно выделить три варианта взаимосвязи красоты и искусства, различаемые им: 1) искусство непосредственно выражает божественную красоту; 2) искусство выражает «тоску земли по красоте»; 3) в искусстве имеет место «хула на красоту, демоническое ее растление». В первом случае искусству дано «сводить на землю небесную богиню и обнажать ее светлый зрак», что характерно для античной скульптуры – этого светлого и радостного мира явленной божественной красоты. Представляется, что Булгаков ставит здесь вопрос о наличии в этом случае единства между двумя аспектами ценностного значения – социокультурным и предметным, которое оказывается возможным в ситуации, когда идеал красоты (как элемент художественного видения мира) находит свое адекватное воплощение в чувственно-воспринимаемой внешней форме художественного произведения.
Во втором случае в искусстве имеют место «скорбящее уродство и мучащаяся некрасота», искусство при этом выражает боль от искажений красоты, тоску по красоте. Эта тоска по красоте, «софиургийная тревога», возникла, по мысли Булгакова, лишь сравнительно недавно – ее не знали, например, И. В. Гёте и А. С. Пушкин. Однако она характеризует уже творчество Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, и особенно «духовного зачинателя новой России» Ф. М. Достоевского, который весь охвачен «софиургийным огнем, исполнен этой тревоги»[321]. Булгаков подробно анализирует «тоску земли по красоте» на примере творчества скульптора А. С. Голубкиной. Отмечая, что творчество Голубкиной не знает шедевров, поскольку оно «слишком музыкально» и поэтому не может выразиться в каком-то одном произведении (но нуждается в «контрапунктической разработке своих тем»), Булгаков выделяет у нее один преобладающий мотив, сила которого «в выражении тоски бытия». Философ показывает, что в зависимости от своего происхождения тоска имеет различную природу и ценность: она может быть симптомом духовной гибели, свидетельствовать о болезни духа и греховной слабости или же сопутствовать «росту души на ее очистительном пути». Он различает несколько видов тоски: «тоску титанического восстания» (ее выразителем явился Д. Н. Г. Байрон), «тоску греховного бессилия» (это как бы изнанка титанизма), «очистительную тоску». Все эти виды тоски, так или иначе присутствуют в произведениях Голубкиной. Например, дух титанической гордости и тоски хотя и присутствует, но не является определяющим, не становится «духовным центром». Не рождается ее творчество и из «тоски греховного бессилия», несмотря на то что проблески уныния и изнеможения и встречаются порой в ее скульптурах. Булгаков считает, что для творчества Голубкиной более характерна очистительная тоска, которая выражает томление, представляет собой «зов к преображению», поскольку только преображение «может исцелить эту больную жизнь, утолить ее страдание, извести из темницы плененную Психею»[322].
На наш взгляд, эти размышления показывают, что философ чутко проникает в особенности художественной картины мира Голубкиной, анализируя специфику ее мироощущения и мировосприятия. По словам Булгакова, художественно видеть мир как проявление безобразия и уродства – «во всяком случае, мука». Ведь у Голубкиной даже дети «имеют несвойственные им ангельские черты, но чаще вид уродливых, обиженных судьбой существ, – жутко и тяжело!»[323]. Вместе с тем Булгаков отмечает важнейшую черту картины мира скульптора, которая делает ее все же служительницей красоты, – ее духовную непримиримость с уродством и злом в себе и вне себя. Именно поэтому на ее творчестве лежит печать возвышенности и благородства: «…тоска по красоте и боль от ее искажений, следствие той взыскательной правдивости, которая хочет лишь полной, всецелой красоты, а всякую полукрасоту ощущает как уродство»[324].
Безобразие, уродство вызывают тоску «земной твари по красоте». Благодаря этому «совершается катарсис», «скорбящее уродство и мучащаяся некрасота» пророчествуют о преображении мира, и в этом устремлении «победно проявляется высшая стихия русской души, помазанность художницы от духа Достоевского»[325].
Представляется, что в своих размышлениях Булгаков фиксирует существенное изменение, в каком-то смысле переворот, картины мира художника на рубеже эпох. В этом плане он отмечает, что поэтическое самосознание А. С. Пушкина есть уже потерянный рай для нашей современности, «солнечное явление Пушкина мы ощущаем уже как принадлежащее к иной исторической, а быть может, и космической эпохе». Художественная картина мира Пушкина, с точки зрения философа, отличается ясностью, цельностью, поэт не знал «творческого раздвоения и трагического раскола». В отличие от этого самосознание современного художника охвачено «софиургийной тревогой», которая связана с восприятием мира сего как безобразия и уродства и со стремлением к его преображению. В этом плане творчество Голубкиной оказывается показательным: предметное значение ее скульптур (по Булгакову, «скорбящее уродство и мучащаяся некрасота») не становится самодовлеющим, не определяет ценностное значение в целом, поскольку безобразное отрицается художественной картиной мира Голубкиной (для которой характерны «тоска по красоте и боль от ее искажений»). Столкновение противоположно направленных предметного и видового значений, связанного с позицией скульптора, вызывает катарсис, в результате чего формируются социокультурное значение и личностный смысл, связанные с утверждением красоты в мире («о преображении мира пророчествует это скорбящее уродство и мучащаяся некрасота»). Именно поэтому Булгаков и полагает, что между первым и вторым вариантами взаимосвязи красоты и искусства нет «внутреннего диссонанса», так как и в том и в другом случаях искусство говорит об одном и том же – «о красе горнего мира и прославленного, преображенного человека». Отличие же заключается в том, что античное искусство «узрело» лучи красоты, «падающие с неба», в то время как второму типу «ведомы только падающие, благодаря им, тени да мучительное влечение к этому свету»[326].
Первым двум вариантам взаимосвязи красоты и искусства противостоит третий, в котором, по мнению философа, мы встречаемся с «трупом красоты» (так называется его статья «по поводу картин Пикассо»). Но возможно ли такое само по себе, – задается вопросом Булгаков, – ведь искусство по природе своей неотделимо от красоты, ею порождается и ею живет? Не защищено ли искусство покрывалом красоты от «гнусного посягательства»? С его точки зрения, творчество П. Пикассо дает на этот вопрос антиномический ответ: и да, и нет.
С одной стороны, это творчество «поврежденное, духовно растленное, больное, гнусное». Исходя из религиозного идеала красоты, философ подвергает произведения Пикассо убийственной критике, признавая, тем не менее, что впечатление от произведений художника относится к числу наиболее сильных, какие вообще можно иметь от искусства. Произведения второго периода творчества Пикассо «есть плод демонической одержимости», в них выражается «мироощущение злого духа», имеет место «мистическая судорога духа». Например, образ женщины предстает в творчестве Пикассо в несказанном поругании, как уродливое, отяжелевшее, расползающееся и разваливающееся тело, вернее сказать, труп красоты, как богоборческий цинизм («Женщина с пейзажем»), дьявольская злоба («После бала»), разлагающийся астральный труп («Дама»), с змеиною насмешкой колдунья («Дама с веером»).
Для того чтобы понять природу духовного содержания, отображенного в творчестве Пикассо, Булгаков обращается к характеристике картины мира художника. С его точки зрения, Пикассо художественно показывает, каким мир является для демона, в его произведениях выражается «мироощущение злого духа, нелюбящего и хулящего творение Божие»[327]. Художнику как бы «подставлено кривое зеркало бытия», но он считает, что такова и есть реальная действительность. Все его творчество «есть вопль ужаса пред миром, как он есть без Бога и вне Бога: пафос тоски и энтузиазм тоски, выражающийся в пафосе цинизма и кощунства, это – распад души, адская мука»[328]. Вместе с тем Пикассо «не услаждается гнусностью как мелкий бесенок», он глубоко, трагически тоскует. Хотя его душой и завладели силы тьмы, но он задыхается в этой тьме.
Представляется, что так же, как и И. А. Ильин, Булгаков ставит фактически вопрос о нетождественности художественной и эстетической ценности произведения искусства. Для него является несомненной «высокая художественность» произведений Пикассо. Столь же несомненным для Булгакова является то, что в своих произведениях художник видит красоту «пакостно, рисует ее клеветнически… как гнусную карикатуру». Это оказывается совместимо, поскольку искусство Пикассо – «большое искусство», при всей своей болезненности и растленности. По словам философа, Пикассо – «большой художник, ибо ему ведомы ритмы красоты и явлен ее лик». Подлинный лик красоты, который, несомненно, видит художник, и спасает его, иначе он стал бы бездарностью.
Предметное значение и личностный смысл произведений Пикассо оказываются связаны с безобразным («…уродство это есть лишь субъективная призма, самость художника, порождение его "субъективного идеализма"»). В то же время социокультурное значение так или иначе воспроизводит «ритмы красоты» («…красота же есть сущее и пребывающее содержание творчества, хотя для него самого загримированное и завуалированное»)[329]. Такая антиномичность творчества Пикассо, по словам философа, приводит к ужасающему парадоксу – возникают «гнусное искусство, уродливая красота, бездарная талантливость». Несомненно, что Булгаков, опираясь на религиозное миросозерцание, отмечает реальные противоречия творчества выдающегося художника.
Таким образом, Булгаков показал основные типы взаимосвязи красоты и искусства, раскрыв проблематику как на общетеоретическом уровне, так и на уровне художественной практики.
В более широком, историко-культурологическом, аспекте рассматривает взаимосвязь красоты и искусства Н. А. Бердяев. Для него анализ творчества П. Пикассо, А. Н. Скрябина, А. Белого и др. важен не сам по себе, а в плане изучения исторической судьбы искусства и дальнейших путей его развития. При этом философ рассматривает искусство в контексте культуры, в свою очередь, культуру и искусство – в контексте человеческого бытия, «мировой жизни».
С его точки зрения, искусство пережило за свою историю много кризисов (ими были отмечены переходы от античности к средневековью, от средневековья к Возрождению и др.). Однако кризис современного искусства не может быть поставлен в один ряд с другими, поскольку имеет место кризис искусства вообще, связанный с глубочайшими потрясениями в тысячелетних его основах. Эти потрясения Бердяев видит в том, что произошел радикальный разрыв искусства с античностью, «окончательно померк старый идеал классически-прекрасного искусства, и чувствуется, что нет возврата к его образам»[330]. Человечество переживает конец Ренессанса, свободная игра человеческих сил перешла от Возрождения (когда она порождала красоту) к «вырождению» (когда она не творит уже красоты): человек не создает уже таких совершенных и прекрасных произведений, какие создавал он в былые эпохи. Чем же вызван радикальный надлом «в старой красоте человеческого быта и человеческого искусства»?
Не без оснований Бердяев связывает современный кризис искусства с резким возрастанием значения машины и «машинности» в человеческой жизни. Машинизацию и механизацию философ рассматривал как «неотвратимый космический процесс», в результате которого произойдет замена органической плоти машиной: победное шествие машины «истребляет всю органическую природу, несет с собою смерть животным и растениям, лесам и цветам, всему органически, естественно прекрасному»[331]. Вот почему для Бердяева машина есть распятие плоти мира, а машинизация – распластование материального состава космоса.
Кризис искусства и связан с тем, что сам «мир развоплощается в своих оболочках, перевоплощается», «меняет свои одежды и покровы». Культура и искусство, будучи частью мира, не могут сохраниться в своих старых формах, в них также намечается переход от старого, разлагающегося мира к миру новому. При этом порождать новую жизнь и новую красоту может лишь творчески-активное отношение человека к стихийно совершающемуся процессу. Глубокая вера Бердяева в творческие способности человека позволила ему встать на позицию социального оптимизма: «…но верю, верю глубоко, что возможна новая красота в самой жизни и что гибель старой красоты лишь кажущаяся нам по нашей ограниченности, потому что всякая красота – вечна и присуща глубочайшему ядру бытия»[332].
Кризис искусства и искание новых путей выражаются, по Бердяеву, в двух противоположных «стремлениях»: синтетическом и аналитическом. Каждое из этих течений одинаково «колеблют границы искусства», одинаково обозначают глубочайший его кризис. Наряду с нарушением грани, отделяющей одно искусство от другого и искусство вообще от того, что уже искусством не является, эти два противоположных стремления выражают «новое жизнеощущение», «новое ощущение мировой жизни», «новое, катастрофическое мироощущение»[333].
Фактически Бердяев ведет речь о возникновении новой художественной картины мира, опирающейся на изменившуюся социокультурную реальность. Эта новая картина мира уже несовместима со старыми идеалами красоты, и поэтому, опираясь на нее, художник оказывается не в состоянии опредмечивать, а воспринимающий не в состоянии извлекать (распредмечивать) традиционные социокультурные значения, связанные с прекрасным («Погибает старая, кристальная красота воплощенного мира»). Вместе с тем эта новая художественная картина мира даже у художников, улавливающих «новый космический ритм» (например, у А. Белого), не включает в себя еще представлений о «новой красоте», связанных с духовной жизнью человека (а не с футуристическим воспеванием красоты машины). Поэтому новое, нетрадиционное социокультурное значение, связанное с прекрасным, еще не сформировалось («нарождается новый мир, в котором нет еще красоты»). Однако появление нового социокультурного значения возможно («возможна новая красота»), и связано оно будет с творческой активностью человека, с его духовным развитием («…лишь творчески-активное отношение человека к стихийно совершающемуся процессу может порождать новую жизнь и новую красоту»)[334].
Бердяев показывает специфику синтетического и аналитического стремлений искусства. Так, в исканиях синтеза искусства многое еще сохраняется от старого и вечного искусства, его основа не поколеблена окончательно. В стремлении к синтезу «ничто не разлагается», даже в революционном творчестве А. Н. Скрябина имеет место не столько «космическое разложение», сколько «завоевания новых сфер». Однако синтетические искания ведут к навязыванию искусству мистики и способствуют разрушению художественной формы (живопись М. Чюрлениса) или же вообще выводят за границы искусства (творческая мечта Скрябина).
Совсем другую природу имеют аналитические искания, которые окончательно разлагают старое, прекрасное искусство. Это, по мысли философа, характеризует такие направления искусства, как кубизм и футуризм. В сфере живописи кубизм представлен «гениальным художником Пикассо», который является беспощадным разоблачителем «иллюзий воплощенной, материально-синтезированной красоты» и который «за пленяющий и прельщающей женской красотой» видит ужас «разложения, распыления». Кризис искусства выражается в произведениях П. Пикассо «дематериализацией, развоплощением живописи», когда «дух как будто идет на убыль, а плоть дематериализуется»[335]. По мнению Бердяева, это – очень глубокое потрясение для пластических искусств, которое колеблет самое существо пластической формы. Футуризм во всех своих разновидностях идет дальше кубизма, с точки зрения философа. Для него характерны исчезновение определенно очерченных образов предметного мира, а также стирание граней, отделяющих образ человека от других предметов. Именно поэтому футуристы воспевают красоту машины, говорят о новой красоте – красоте скорости: для них прелесть мотора заменила прелесть цветка или женского тела, а чудеса электричества заменили чудеса божественно-прекрасной природы. Однако футуристы воспринимают и выражают лишь внешнюю сторону нашего апокалиптического времени, внутренняя же его сторона, связанная с глубинами бытия, остается для них закрытой. Вот почему они (в отличие от А. Белого) не улавливают «нового космического ритма, нового лада» и поэтому в слепоте своей идут к «зияющей пустоте».
На наш взгляд, в этих размышлениях Бердяев ставит вопрос о возможности утраты искусством как собственно духовного содержания – социокультурных значений и личностных смыслов («дух как будто идет на убыль»), так и какого-либо предметного значения («плоть дематериализуется»). Действительно, футуристы только «поверхностью своей» ощутили глубочайшие изменения в человеческой и мировой жизни, но они пребывают «в глубочайшем духовном невежестве, у них нет никакого духовного знания смысла происходящего, нет той напряженной духовной жизни, которая делала бы видимыми не только разложения старых миров, но и возникновение новых миров»[336]. Фактически речь идет об отсутствии духовных процессов, связанных с выработкой собственной художественной картины мира, и как следствие этого – о постепенной утрате искусством духовного содержания («…иных планов бытия, скрытых за физическими покровами мира, они не знают и не хотят знать»)[337]. Именно поэтому футуризм представляет собой «новое варварство на вершине культуры».
В своих размышлениях о судьбе современного искусства Бердяев затрагивает важнейший вопрос – образ человека в искусстве. У футуристов образ человека «зашатался», «человек исчезает». Ясно, что когда в самой жизни возникают такие явления, как «духовный атомизм» (П. А. Флоренский), «внутреннее расщепление» человека (И. А. Ильин), искусство так или иначе отображает этот реальный процесс. Более того, видимо, прав Бердяев, утверждая, что необходимо пройти процесс расщепления, распластования и распыления, симптомы которого мы видим в кубизме и футуризме, пережить этот «космический вихрь» с верой в неистребимость творческого духа человека, призванного к творчеству в новую мировую эпоху. Однако при этом человек должен приложить максимум усилий для того, чтобы устоять и творить в «новом космическом ритме». Тем самым философ возвышает человека, утверждая, что он – не пассивное орудие мирового процесса, а активный творец. Поэтому «космическое распластование» на самом деле может способствовать укреплению человеческого духа, который в этом процессе освобождается от старой власти органической материи. Именно этого и не понимают футуристы, ибо они находятся скорее в погибающей материи, нежели в освобождающемся духе.
Футуризм, по мысли Бердяева, оказался неспособным выработать собственную художественную картину мира, и отсюда – его неспособность создать сильное и великое искусство: человек с распыленным ядром «я», разорванный на миги и клочья, выброшенный на поверхность, не может создать глубокое и значительное произведение искусства и обречен на то, что можно назвать «духовным невежеством». Чутко проникая в суть проблематики, философ справедливо отмечает, что художественное творчество не может и не должно быть оторвано от духовной жизни и духовного развития человека. Подлинное искусство вырастает из духовной глубины человека, глубоко и ценно лишь то искусство, в котором чувствуется эта глубина. Именно поэтому футуризм, развивающийся на пути утраты социокультурных значений и личностных смыслов, должен быть преодолен и в жизни, и в искусстве. Для этого необходимо перейти «на другой путь, в другой план, вне той линии, по которой развивается современное искусство»[338]. Это – путь теургического творчества.
Таким образом, в работах русских религиозных философов взаимосвязь красоты и искусства проанализирована в разных ракурсах: с точки зрения возможностей видов и родов искусства выражать красоту (В. С. Соловьев); в аспекте соотношения красоты и художественности (И. А. Ильин); в плане реализации красоты в художественной практике (С. Н. Булгаков); в аспекте зависимости искусства от социокультурной реальности (Н. А. Бердяев). Такой разноплановый подход к одной и той же проблеме позволил ученым, стоявшим на единой методологической позиции, раскрыть проблему в ее реальной многоаспектности и глубине, в ее внутреннем (собственно художественном) и внешнем (социокультурном) измерениях.
Имея свою специфику в природе и искусстве, красота, по мнению многих представителей рассматриваемого направления, обладает в этих двух сферах единой характеристикой – имеет символический характер. Само представление о двухслойности, двуплановости эстетической ценности, о котором ранее шла речь, предполагает обращение к проблеме символа. В. С. Соловьев термин «символ» употребляет лишь вскользь. Однако по существу его концепция утверждает символический характер красоты: само представление о красоте как о «воплощенной идее» является свидетельством ее символического характера. С точки зрения С. Н. Булгакова, «красота предмета есть его софийная идея, в нем просвечивающая». Характеризуя же искусство, Булгаков подчеркивает его символический характер: «…благодаря своей связи с Космосом, реальность коего и есть Красота, искусство становится символическим»[339]. По Н. А. Бердяеву, красота есть уже иной мир за этим миром. Созерцание иного, духовного, «умного» мира предполагает преодоление этого мира, «отделяющего нас от Бога и духовного мира». Именно поэтому, с его точки зрения, «реальность красоты доступна нам в этом мире лишь символически, лишь в форме символа»[340].
Символический характер красоты в природе отмечает Н. О. Лосский. Трактуя красоту как «частичную абсолютную самоценность», он полагает, что «красота снеговых гор, их величие, гармония и девственная чистота есть только символ абсолютной красоты, абсолютного величия и чистоты; поэтому сами горы не вечны и не должны быть вечными, но выражаемая ими красота вечна»[341].
Большое место проблема взаимосвязи ценности и символа занимает в работах П. А. Флоренского. С его точки зрения, все, к чему обращается человеческий взор, имеет свое «тайное значение», «двойное существование» и «заэмпирическую сущность», поскольку все оказывается причастным «иному миру». Именно поэтому «духовное видение символично», все, что существует в «дольнем мире», является символом «мира горнего». По мысли Флоренского, всякое подлинное искусство символично: оно выявляет вовне сокровенную сущность. Раскрывая происхождение иконы из погребальной маски древних египтян, мыслитель не сомневается в том, что «для религиозного сознания роспись или маска не отделялась от лица и не противопоставлялась ему, она мыслилась при нем и с ним, через свое отношение к нему, имея смысл и ценность»[342]. Таким образом, ценность и символ оказываются взаимосвязанными. Это подтверждает и определение символа, который представляет собой такую «сущность, энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная с энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущности, несет, таким образом, в себе эту последнюю»[343]. Именно поэтому символ он определяет как «бытие, которое больше самого себя».
В каком же смысле символ – «бытие, которое больше самого себя»? В том смысле, что он «указывает на подлинник», «раскрывает свое духовное содержание не иначе, как в нашем духовном восхождении «от образа к первообразу», т. е. при онтологическом соприкосновении нашем с самим первообразом; тогда и только тогда чувственный знак наливается соками жизни и, тем самым неотделимый от своего первообраза, делается уже не «изображением», а передовой волной или одной из передовых волн, возбуждаемых реальностью»[344].
Фактически Флоренский утверждает идею своеобразной сращенности символа с тем «духовным содержанием», которое за ним скрывается и которое делает его символом. В основе символа, по его мысли, лежит «духовный опыт». Обращаясь к иконописи (этому «чисто выраженному типу искусства»), философ раскрывает свое понимание символа: «…икона всегда сознается как некоторый факт Божественной действительности… в основе ее непременно лежит подлинное восприятие потустороннего, подлинный духовный опыт»[345].
Таким образом, в рамках своих концепций представители русской религиозной философии поставили реальную проблему символического характера красоты в природе и искусстве. При этом достоинством позиции Флоренского является, во-первых, утверждение символического характера человеческого мышления (отметим – до появления работ Э. Кассирера). Данный общетеоретический подход позволил русскому философу, во-вторых, раскрыть роль символа в восприятии «красоты духовной». Наконец, такой подход стал основой анализа символического характера искусства. Остановимся на последнем подробнее.
По мнению Флоренского, иконопись представляет собой чисто выраженный тип искусства. Поэтому его размышления об иконописи с полным правом можно отнести к искусству в целом. Для автора «Иконостаса» изображение предмета не является копией вещи, «не удваивает уголка мира, но указывает на подлинник как его символ». И перспективное, и неперспективное изображения всегда представляют собой символ. С точки зрения философа, «образы искусств изобразительных отличаются друг от друга не тем, что одни – символичны, другие же, якобы, натуралистичны, а тем, что, будучи равно не натуралистичными, они суть символы разных сторон вещи, разных мировосприятий, разных степеней синтетичности»[346]. Природа образов изобразительных искусств всегда одна и та же – символическая. Более того, сами вещества, применяемые в том или другом роде в виде искусства, символичны, и каждое имеет «свою конкретно-метафизическую характеристику», через которую соотносится с тем или иным духовным бытием.
Для Флоренского, таким образом, искусство – явление, по своей природе символическое. Произведение искусства является таковым только благодаря способности вывести зрителя за пределы холста и красок в некую иную реальность. В противном случае (т. е. когда оно «никуда за себя не выводит») не может быть и речи о нем как о произведении искусства. Мыслитель не употребляет термин «значение», хотя и вынужден характеризовать то, к чему отсылает символ посредством выражений «духовная реальность», «духовное содержание» и др. Тем самым он фактически раскрывает социокультурное значение произведения искусства. Флоренский обращается также и к предметному значению, связанному со спецификой вещественности художественных знаковых систем, поскольку для него символичны сами вещества, используемые в искусстве. Например, золото и самоцветы – «сильные средства художественной символики», а олифа – не только техническое средство сохранения красок, но и «фактор художественный», от которого в значительной степени зависит «художественная значительность иконы»[347].
Отметим, что русские религиозные философы не только поставили реальные проблемы, связанные со знаковой природой эстетического, но и сумели терминологически их обозначить. Например, Н. О. Лосский связал понятие ценности с понятием значения: «…значение и смысл есть идеальный аспект ценности… всякая ценность или сполна идеальна, или, по крайней мере, заключает в себе идеальный аспект»[348].
Анализ работ В. С. Соловьева показывает, что «эстетическая ценность» и «эстетическое значение» для него не только однопорядковые, но и взаимозаменяемые, тождественные понятия (об этом справедливо пишет Л. Н. Столович[349]). Действительно, с точки зрения Соловьева, красота в природе – явление «безусловно ценное». Ее ценность он раскрывает как со стороны субъекта, так и со стороны объекта. Со стороны субъекта красота заявляет себя как «чистая бесполезность», которая высоко ценится человеком. Причем ценится не как средство для удовлетворения тех или иных «житейских или физиологических потребностей», а ценится как «цель сама по себе». Со стороны объекта ценность красоты в природе философ связывает с взаимодействием прекрасного и безобразного (хаоса), эстетически положительного и эстетически отрицательного начал бытия: «Хаос, т. е. само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическая ценность таких явлений, как бурное море, зависит именно от того, что под ними хаос шевелится»[350]. При этом Соловьев не разграничивает понятия «эстетическое значение» и «эстетический смысл», но, как уже было показано, достаточно подробно и глубоко раскрывает проблематику предметного значения явлений природы.
Опираясь на понятие «ценность», раскрывает красоту в природе и искусстве С. Л. Франк. С его точки зрения, необходимым условием красоты является единство между «внутренним» и «внешним» миром, такое единство, которое предполагает сохранение интимности, первичной ценности для нас «нашего собственного внутреннего самобытия». Такое единство существует вопреки «неустранимо-очевидному фактическому разладу и раздору между этими двумя мирами». Красота и выступает как «непосредственное и наглядно наиболее убедительное свидетельство некоего таинственного сродства между «внутренним» и «внешним «миром – между нашим внутренним и непосредственным самобытием и первоосновой внешнего, предметного мира»[351].
Действительно, такое «сродство» имеет место в эстетической ситуации, когда предмет природы соотносится с картиной мира личности и приобретает в процессе такого соотнесения ценностное значение. Фактически Франк в этих размышлениях ведет речь об особенностях формирования ценностного значения предметов природы. По его мысли, все прекрасное есть нечто «душеподобное», мы усматриваем во внешнем мире «что-то сродное нашей интимной глубине».
Итак, для Франка прекрасное возникает как результат взаимодействия личности с объектом – носителем ценности. Со стороны личности прекрасное характеризуется как продукт «чувственного созерцания, а не анализирующей, раздробляющей мысли» и поэтому выступает как «внутреннее слитное единство». Со стороны объекта прекрасное характеризуется некое гармонией, которая придает ему «внутреннюю законченность, некое спокойное самодовление и, тем самым, некую внутреннюю абсолютную ценность»[352]. В результате взаимодействия личности с объектом – носителем ценности и возникает прекрасное, которое становится выразителем «внутренней значительности» или «духовности» бытия. Для философа несомненно, что в эстетическом опыте нам дано лишь нечто «душеподобное» или «духоподобное», но именно благодаря этому и стирается грань между бытием объективным и бытием внутренним, субъективным.
Франк не использует терминов «символ» или «знак», Вместе с тем его представление о том, что красота в природе и искусстве «необходимо выразительна», свидетельствует о понимании им символической природы красоты: «…выразительность красоты означает…, что в ней "внутреннее" ("выражаемое") в реальности открывается во «внешнем» (в «выражающем»)»[353]. Ценностное значение для Франка и других представителей рассматриваемого направления вытекает из связи красоты с «идеальным бытием». С его точки зрения, красота есть то, с чем я «встречаюсь», что на меня «действует» и в чем я усматриваю «нечто, высшее, чем я сам», – «идеальное бытие», которое нетождественно бытию материальному или душевному. Явления, относящиеся к этому идеальному бытию, вносят в нашу жизнь порядок, смысл и ценность. Они выступают высшим мерилом истины и лжи, добра и зла, красоты и безобразия.
Несомненно, что фактически Франк связывает красоту с человеческими идеалами. И это вполне правомерно. Без соотнесения предмета с идеалом как краеугольным элементом картины мира личности не может возникнуть соответствующее ценностное значение. Вместе с тем ученый онтологизирует сами идеалы, которые в его концепции выступают как «Высшее», «Абсолютное» начало. Именно поэтому, с его точки зрения, люди, которым доступен сверхчувственный опыт, «весьма часто не улавливают характера трансцендентности, ему присущего». Можно наслаждаться красотой и при этом думать, что красота исчерпывается приятными эмоциями. На самом деле, по мысли Франка, эстетический опыт (так же как и опыт нравственный, и опыт религиозный) является сверхчувственным: «…этот опыт есть имманентный опыт трансцендентной реальности»[354].
Представляется, что на самом деле Франк подвергает анализу сам процесс формирования ценностного значения (который идентичен для эстетического, нравственного и религиозного опыта, по его мысли). В этой связи он говорит о «напряженном интересе к реальности», о необходимости сосредоточения воли для того, чтобы «увидать, заметить, воспринять», «направить взор» на предмет опыта, чтобы подлинно увидать то, что есть. Речь идет о необходимости для человека встать на эстетическую позицию для того, чтобы обнаружить в окружающем мире прекрасное, безобразное и т. д. Переход на эстетическую позицию и предполагает «включение» определенных психологических механизмов: только в результате взаимодействия потребностей и идеалов, сознания и подсознания и т. д. формируется ценностное значение.
Обращаясь к проблеме символического характера искусства, мыслитель полагает, что «через посредство чувственно-данных форм мы воспринимаем несказанное, сверхчувственное содержание»[355]. Так, слушая музыкальное произведение, человек, одаренный музыкальным чувством, кроме чувственно-данных звуков слышит и что-то другое, а именно то, что мы называем «музыкальной красотой» и что составляет само существо музыки. Это «существо музыки» философ обозначает терминами «содержание и смысл», отграничивая его от настроений и чувств, возникающих под влиянием восприятия искусства: «…чувства, которые мы испытываем, слушая музыку или созерцая художественное творение, конечно, „субъективны“, но они суть нечто иное, чем сама красота, которую мы при этом воспринимаем, чем та эстетическая реальность, которая при этом действует на нашу душу»[356]. Содержание и смысл произведения искусства (симфонии, поэмы, картины и т. п.) Франк связывает с тем, что хотел выразить автор, творец. Он выступает против отождествления содержания и смысла произведения с настроением, чувством воспринимающего или же материальной вещью внешнего мира. Так, музыка Л. ван Бетховена раскрывает нам «героическую эпопею духа – скорбь, мятеж, титаническую борьбу»; музыка И. С. Баха «как бы отверзает нам небеса и в переливах голосов показывает нам чистую, прозрачную, возвышенную красоту некоей нездешней эфирной орнаментики» и т. д.[357].
Франк, несомненно, прав, утверждая несводимость содержания произведения искусства к настроениям и чувствам воспринимающего. Действительно, художник-творец опредмечивает в произведении социально-значимый опыт, который в процессе восприятия (распредмечивания) и выступает как его социокультурное значение. Вместе с тем представляется, что это социокультурное значение всегда оказывается окрашенным в личностные тона, т. е. существует нераздельно с личностным смыслом. В свою очередь, личностный смысл не может не быть связан с настроениями, чувствами и переживаниями воспринимающего. Кроме того, философ в теологическом ракурсе пытается раскрыть сам процесс постижения ценностного значения произведения искусства. Он различает чувственный и сверхчувственный опыт. Как уже отмечалось, эстетический опыт является для него разновидностью сверхчувственного опыта. Поэтому реальный процесс передачи художественного содержания от автора к воспринимающему трактуется им как восприятие «сверхчувственного содержания». Если при этом принять во внимание общефилософскую концепцию Франка (согласно которой сверхчувственный опыт представляет собой общение с «совершенной и вечной реальностью, притом сращенной с нашей душой»[358]), то окажется, что ученый пытается осмыслить сложнейшую проблему формирования ценностного значения в сознании воспринимающего. Для него «содержание и смысл фуги Баха, симфонии Бетховена – то, что хотел выразить композитор и что пытаются передать исполнители, – остается реальностью, не будучи ни настроением, ни чувством, ни материальной вещью внешнего мира»[359]. Он справедливо указывает, что эта реальность, «идеальная реальность», связана с глубинами человеческой души. Однако дальше этой констатации в своих размышлениях он не пошел.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– специфику эстетической ценности русские религиозные философы видели в ее двухслойности, двуплановости (имеется в виду ее идеальное содержание и чувственно-материальная форма); эстетическую ценность характеризует «нераздельное соединение», «взаимное проникновение» этих двух слоев (или планов);
– объектами – носителями эстетической ценности являются (в их трактовке), во-первых, предметы и явления природы и, во– вторых, произведения искусства;
– специфика красоты в природе получила у религиозных мыслителей неоднозначную интерпретацию: одни ее рассматривают как объективную реальность, не зависимую от субъективно-человеческого восприятия (В. С. Соловьев); другие полагают, что в мире самом по себе красоты нет, поэтому красота связана с творческим актом человека (Н. А. Бердяев);
– специфика красоты в искусстве проанализирована в разных ракурсах: с точки зрения возможностей видов и родов искусства выражать красоту (В. С. Соловьев); в аспекте соотношения в произведении искусства красоты и художественности (И. А. Ильин); в плане реализации красоты в художественной практике (С. Н. Булгаков); в аспекте зависимости искусства от социокультурной реальности (Н. А. Бердяев). Такой разноплановый подход к одной и той же проблеме позволил ученым, стоявшим на единой методологической позиции, раскрыть проблему в ее реальной многоаспектности и глубине, в ее внутреннем (собственно художественном) и внешнем (социокультурном) измерениях;
– общей чертой красоты в природе и искусстве, по мысли представителей рассматриваемого направления, является ее символический характер. Религиозные философы показали взаимосвязь ценности и символа (П. А. Флоренский), ценности и значения (В. С. Соловьев, Н. О. Лосский). Раскрывая процесс формирования ценностного значения, поставили проблему особого «духовного опыта», благодаря и на основе которого постигается «заэмпирическая сущность» красоты (П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк). Предметное значение получило свою трактовку как в плане, связанном с мерой упорядочности чувственно-воспринимаемой внешней формы объекта-носителя (В. С. Соловьев, С. Л. Франк), так и в плане вещественно-материальной специфики знаковой системы того или иного вида искусства (П. А. Флоренский); в концепции В. С. Соловьева получили свою характеристику видовое и вариативное значения.
3.2. Эстетико-аксиологические категории в контексте онтологической теории ценностей Н. О. Лосского
У Н. О. Лосского, эстетико-аксиологическая концепция которого является наиболее разработанной в русской религиозной философии, самым широким выступает понятие «эстетическая ценность»: «весь этот состав мира имеет эстетическую ценность, однако она двоякая; внутреннее, ставшее внешним, может быть красотою, но может быть и безобразием»[360]. Лосский разграничивает добро и зло, т. е. положительную и отрицательную ценность в самом общем значении этих слов (не в смысле только нравственного добра и зла, а в смысле всякого совершенства или несовершенства, в смысле всякой положительной или отрицательной ценности, в том числе и эстетической). Критерием разграничения положительных и отрицательных ценностей выступает «полнота бытия»: «всякое бытие имеет положительную или отрицательную ценность, приближая к абсолютной полноте бытия или удаляя от нее различными способами…»[361]. Красота и безобразие как разновидности эстетической ценности и стали у религиозного философа предметом специального исследования.
Обращаясь к проблематике красоты, религиозный философ разграничивает «красоту» в широком и узком смыслах. В широком смысле слова он относит к красоте и трагическое, и комическое, и возвышенное и т. п., поскольку, например, и в «комическом есть своеобразный аспект красоты». В узком смысле слова, к «красоте по преимуществу», к «прекрасному» он относит (1) идеал красоты, осуществленный в Царстве Божием, (2) все то, что в нашем психоматериальном царстве напоминает красоту Царства Божия своей гармонией, значительностью и чистотой от низменных элементов[362].
Исходя из того, что «красота есть ценность», мыслитель пытался осмыслить «связь красоты с другими ценностями», «место красоты в системе ценностей». Мировой процесс, по Лосскому, представляет собой неустанное преодоление зла и творение добра. Чувственное воплощение этой положительной стороны мира и есть «осуществление красоты в самом живом бытии». С его точки зрения, красота никогда не существует сама по себе, без связи с другими положительными ценностями (истины, нравственного добра, свободы, полноты жизни): «красота есть следствие осуществления других положительных ценных содержаний и сторон бытия, и целью поведения должны быть они, а красота есть как бы дополнительная награда, надстраивающаяся над ними»[363]. Красота всегда «кооординирована» с какой-либо другой положительной ценностью, но вместе с тем, она глубоко отличается от каждой из них: «красота есть особая специфическая ценность, присущая чувственному воплощению положительных ценностей… красота есть надстройка над другими положительными ценностями – она есть ценность фундированная, т. е. обоснованная на других ценностях»[364]. Если же в чувственно воплощенном бытии какая-либо из абсолютных ценностей отсутствует или является неполной, то и красота оказывается несовершенна, к ней, хотя бы в малой мере, примешивается безобразие. Это означает, что отсутствие или ослабление любой другой положительной ценности сопровождается «ущерблением красоты».
Аналогично этому Лосский рассматривает и безобразие как «отрицательную ценность»: «все отрицательно ценное содержит в себе аспект эстетического безобразия». Безобразие всегда существует не само по себе, а в связи с другими отрицательными ценностями (нравственным злом, слабосилием и т. д.): «безобразие есть специфическая, новая отрицательная ценность, присущая чувственному воплощению других отрицательных ценностей, Иными словами, безобразие есть надстройка над другими отрицательными ценностями: оно есть отрицательная ценность фундированная, т. е. обоснованная на других отрицательных ценностях»[365].
Таким образом, Лосский не только ввел в научный обиход целый ряд эстетико-аксиологических понятий, но одновременно попытался раскрыть взаимосвязь красоты с системой человеческих ценностей.
Следует отметить, что проблема эстетической ценности находит свое отражение в концепции Н. О. Лосского не только в терминологическом, но и в содержательном отношении. Специфику эстетической ценности мыслитель видит в ее двухслойности: «не бывает ни чисто духовно-душевной, ни чисто физической красоты: красота есть ценность конкретного целого, в котором имеется и сторона духовности или душевности, и сторона телесности»[366].
Утверждение содержательности эстетической формы – характерная черта концепции не только Н. О. Лосского, но и других русских религиозных мыслителей; они утверждали значимость духовных ценностей, а тем самым способствовали одухотворению человека, приобщению его к нетленным ценностям и святыням. Конечно, такое одухотворение понималось и истолковывалось в русле их религиозных воззрений.
Наряду с понятием «эстетическая ценность» Н. О. Лосский вводит и другие понятия аксиологического ряда, например, «символ», «символическая ценность», «символический знак». Имея свою специфику в природе и искусстве, красота, по мнению многих представителей русской религиозной философии, обладает в этих двух сферах единой характеристикой – имеет символический характер. Само представление о двухслойности эстетической ценности предполагает обращение к проблеме символа. Символический характер красоты в природе отмечает и Н. О. Лосский. Трактуя красоту как "частичную абсолютную самоценность", он полагает, что "красота снеговых гор, их величие, гармония и девственная чистота есть только символ абсолютной красоты, абсолютного величия и чистоты; поэтому сами горы не вечны и не должны быть вечными, но выражаемая ими красота вечна"[367].
Таким образом, в рамках своей концепции Н. О. Лосский поставил реальную проблему символического характера красоты в природе и искусстве.
Отметим, что русские религиозные философы не только поставили реальные проблемы, связанные со знаковой природой эстетического, но и сумели терминологически их обозначить. Например, Н. О. Лосский связал понятие красоты с понятием смысла: "Не только красота в природе, но и красота в искусстве не есть выражение мысли, но она всегда есть выражение какого-либо смысла»[368].
По Лосскому, «значение и смысл есть идеальный аспект ценности… всякая ценность или сполна идеальна, или, по крайней мере, заключает в себе идеальный аспект»[369]. Исходя из положений своей концепции иерархического персонализма и панвитализма, религиозный философ утверждает, что все духовное, будучи воплощено, всегда имеет «ценность красоты». Поэтому всякая духовная красота есть непременно «духовно-телесная» Что касается биологических и др. (физических, например) явлений, то по Лосскому, весь мир пронизан духовною или душевною деятельностью (психоидною, психическою или гиперпсихическою). Именно поэтому все материальное есть «психоидно-материальное или психоматериальное». Он утверждает, что на любом уровне «иерархии мирового бытия» (даже на уровне молекулы и электрона) обнаруживается душевная жизнь, а поэтому «всякая целестремительная деятельность, хотя бы она и далеко отстояла от абсолютной полноты жизни, все же есть какая-либо ступень жизни и потому в большей или меньшей степени причастна красоте»[370]. В этой связи не только красота природы, но и красота в искусстве всегда «есть выражение какого-либо смысла».
Представляется, что выдвижение Лосским идеи о взаимосвязи красоты как ценности со смыслом свидетельствует о его глубоком проникновении в сущность рассматриваемой проблемы. Действительно, красота как ценность не может не характеризоваться единством естественно-природных и социокультурных свойств объекта ее носителя, а возникающее в акте эстетического восприятия ценностное значение включает в себя (в их взаимосвязи) социокультурное значение, личностный смысл и предметное значение[371].
Н. О. Лосский подвергает всестороннему анализу роль идеала в формировании ценности, разграничивая два мира, и, соответственно, два вида красоты: (1) идеальную, абсолютно совершенную красоту, которая существует в Царстве Божием и (2) «ущербленную красоту», которая существует в нашем «психо-материальном царстве»[372]. При этом он подчеркивает, что красота, присущая Богу как личности, есть нечто глубоко отличное от всего, что существует в тварном мире: имеет место «глубокая онтологическая пропасть», отделяющая Божественное сверхбытие от тварного бытия. Именно поэтому и существуют два мира красоты, каждому из которых мыслитель дает соответствующую характеристику.
Учение об идеале красоты Лосский рассматривал как исходный пункт всей системы эстетики. По Лосскому, идеал красоты осуществлен там, где действительно осуществлена всеобъемлющая абсолютная ценность совершенной полноты бытия, а именно этот идеал реализован в Боге и Царстве Божием: «Абсолютная красота есть совокупность всех абсолютных ценностей, чувственно воплощенных». С его точки зрения, каждая личность связана с Царством Божиим (по крайней мере, в своем подсознании) и с идеально совершенным будущим. В этом идеальном совершенстве мы имеем абсолютно достоверный масштаб красоты, безошибочный и общеобязательный. Споры и сомнения возникают не при встрече с идеалом красоты, а при восприятии несовершенных предметов нашего царства бытия. Однако при этом он подчеркивал, что «мы, члены грешного психо-материального царства, имеем слишком мало данных для того, чтобы дать об этой красоте полное точное учение, убедительно опирающееся на опыт»[373]. Видимо, по этой причине он предлагает несколько определений идеала красоты:
• идеал красоты есть чувственно воплощенная жизнь личности, осуществляющей во всей полноте свою индивидуальность;
• идеал красоты есть красота личности, как существа реализовавшего сполна свою индивидуальность в чувственном воплощении и достигшего абсолютной полноты жизни в Царстве Божием;
• идеал красоты есть чувственное воплощение полноты проявлений конкретно-идеального начала;
• идеал красоты есть чувственное воплощение конкретной идеи, осуществление бесконечного в конечном;
• идеал красоты есть чувственно воплощенная совершенная духовность[374].
Такое представление оказывается близким к позиции В. С. Соловьева (на что указывает сам Лосский). Философ специально подчеркивает, что определение идеала красоты дается им «без доказательств». Данное определение можно обосновать, по словам религиозного мыслителя, путем опыта «высшего порядка», т. е. посредством мистической интуиции в сочетании с интеллектуальной и чувственной интуицией. Он использует понятия «неземная красота», «небесная красота», «божественная красота», «чудесная красота», «область совершенной красоты» и др.[375].
Все определения идеала, которые дает Лосский, связывают общие моменты. Во-первых, философ справедливо показывает связь идеала с духовностью, с духовной деятельностью (при этом он использует термины «конкретно-идеальное начало», «совершенная духовность», «конкретная идея»). Несомненно, что идеал всегда представляет собой продукт духовной деятельности людей (в рамках религиозного онтологизма Лосский трактует это как «абсолютную полноту жизни в Царстве Божием»). Во-вторых, Лосский показывает, что идеал – не просто нечто должное (т. е. то, чего в действительности еще нет, но что является желанным). Религиозный философ отмечает такую существенную черту идеала как противоречивая взаимосвязь в идеале общего и единичного («красота личности, как существа реализовавшего сполна свою индивидуальность»). И, наконец, в-третьих, по мнению Лосского идеал красоты всегда предполагает чувственное воплощение. Такой взгляд не входит в противоречие с его онтологической теорией ценностей, более того находится в русле этой теории, поскольку «эстетика, идеально разработанная так, как это возможно только для членов Царства Божия, должна решать все эстетические проблемы, исходя из учения о красоте личности как индивидуального чувственно воплощенного существа»[376].
Представляется, что данный подход не может быть принят нерелигиозными направлениями философского знания. С нашей точки зрения, любые идеалы (а не только идеал красоты) находят свою реализацию в ценностях, или иначе говоря, в основе системы ценностей определенной культуры лежат идеалы. Однако, сами идеалы (в отличие от ценностей) не имеют «чувственного воплощения». Ценности могут опредмечиваться и распредмечиваться, идеалы же (как единство желаемого и должного) всегда – некие духовные образцы, стандарты ценности, которые в полной мере никогда не могут получить «чувственное воплощение». Связано это с тем, что под «идеалом» «подразумевается «идеализированный объект», т. е. некоторое предельное представление, получающееся в результате идеализации реального или воображаемого объекта»[377].
Лосский, пытается осмыслить отличие красоты, присущей Царству Божию от красоты «психо-материального» царства. Он показывает, что все аспекты красоты Царства Божия наличествуют и здесь, хотя и в менее совершенной форме, не во всей своей совокупности сразу (а большей частью разрозненно), кроме того, «подвергаются снижению».
С точки зрения Лосского, в составе божественного бытия нет никаких моментов отрицательной ценности (эстетического безобразия, ненависти, предательства и т. д.). В Боге и Царстве Божием есть только самоценности (как различные стороны всеобъемлющей абсолютной ценности), нет ничего, что было бы лишь средством; самоценности абсолютны и объективны, т. е. общезначимы, так как здесь нет никакого изолированного, обособившегося бытия.
В отличие от этого в составе бытия мира и человека, в «психоматериальном царстве» всегда имеется сочетание положительных и отрицательных ценностей. По его мнению, психо-материальное царство насквозь пронизано, с одной стороны, красотою, а с другой – безобразием. Однако, красота и безобразие не в равной мере распределены в мире: в целом красоте принадлежит перевес. Всякая жизнь, всякое человеческое лицо, всякая обстановка, в которой живет человек и т. д. в глубине своей таит «положительный смысл» и поэтому имеет в себе аспект красоты. В составе мира существуют такие предметы и явления, которые представляют собой «красоту по преимуществу». Это в первую очередь идеал красоты, как «абсолютная полнота жизни личности, осуществимая в Царстве Божием»; все аспекты жизни, необходимые для полноты жизни или ведущие к ней, обладают ценностью красоты, если они воплощены телесно (разумность, целесообразность, цельность, свобода, мощь и т. д.). Это также все то, что в нашем психо-материальном царстве своей гармонией, чистотой от «низменных элементов» и значительностью напоминает красоту Царства Божия[378].
Своей концепцией Лосской чутко воспроизводит специфику взаимосвязи реального и идеального в эстетической ценности. Действительно, в окружающем мире человек воспринимает как прекрасное то, в чем ощущает отсвет идеала красоты (т. е. тот «положительный смысл», который и представляет собой «аспект красоты»). Эстетическую ценность предмет природы приобретает лишь в том случае, если он соотносится с представлением о должном, о желаемом, т. е. с идеалом. В самом процессе соотнесения реального с идеальным (которое осуществляется людьми в случае эстетического переживания действительности) можно, следуя логике религиозного мыслителя, выделить два аспекта. Во-первых, реальное соотносится с идеальным и измеряется масштабом идеального («в этом идеальном совершенстве мы имеем абсолютно достоверный масштаб красоты, безошибочный и общеобязательный»)[379]. Несомненно, что именно идеал выступает критерием, мерилом оценки потенциальных носителей эстетической ценности (предметов, идей и т. д.) в процессе сознательного или интуитивного их сопоставления с идеалом. Во-вторых, ясно также, что реальное никогда не может полностью соответствовать идеалу, и именно поэтому возникает «ущербление красоты». В нашем психо-материальном царстве бытия красота может быть «чрезвычайно далека от идеала красоты, осуществленного в Царстве Божием», при этом «красота ущерблена вследствие неполноты осуществления индивидуальности»; «в ущербленной красоте всегда существует наряду с красотою также и безобразие»[380]. Фактически Лосский вводит специальный термин для обозначения существующего разрыва между идеальным и реальным. Более того, религиозный мыслитель пытается показать градацию, степень этого разрыва, используя термин «ступени красоты».
Высшая ступень красоты представлена в Царстве Божием: «Всякая личность в Царстве Божием, сполна реализующая свою индивидуальность в творении абсолютных ценностей, поскольку она и ее творения чувственно воплощены, представляет собой высшую ступень красоты»[381].
И для Царства Божия, и для нашего психо-материального царства бытия высшая возможная в нем красота – индивидуальное личное бытие, чувственно воплощенное. Например, в реальной жизни именно любовь открывает впервые глаза на подлинную индивидуальность личности («хорошим примером этой красоты может служить то видение ее, которое свойственно молодому человеку в отношении к любимой им девушке или девушке в отношении к любимому ею юноше»). Отсюда понятно, что восприятие индивидуальности, а, следовательно, и видение высшей ступени красоты в ее полноте нам удается очень редко[382]. Где же находится «индивидуальное бытие», по Лосскому? Везде, в каждом субстанциальном деятеле, начиная с Царства Божия и кончая последним электроном. Однако сознательное восприятие всего этого величия и безмерной красоты мира доступно только Божественному всеведению, а нам, земным людям, грешным существам, удается созерцать красоту индивидуального бытия только изредка, лишь в отношении к немногим существам (например, в семейной жизни у членов семьи, любящих друг друга, любящих детей, открываются глаза на эту сторону мира в достаточной полноте, чтобы иметь значительное эстетическое восприятие индивидуального прекрасного своеобразия личности)[383].
Итак, в нашем, психо-материальном царстве бытия, где возможна только ущербленная красота, высшая ступень ее достигается в положительных сторонах индивидуальной жизни действительных личностей; менее высокие ступени красоты осуществляются в чувственном воплощении жизни потенциальных личностей (этим термином Лосский обозначает животных, растения, кристаллы, молекулы, атомы, наконец, протоны, электроны и т. п.; все они согласно метафизике персонализма суть живые существа, если разуметь под словом «жизнь» «всякую для себя сущую целестремительную деятельность»); наконец, еще менее высокие ступени красоты воплощены в продуктах жизнедеятельности действительных и потенциальных личностей[384].
Лосский упоминает о существовании еще более низкой ступени бытия (имеется в виду, например, гнездо птицы, паутина, утварь, машина и т. п.). Эти вещи «не суть личности, ни действительные, ни потенциальные». Они представляют собой единства, в основе которых лежит только отвлеченная идея. Но и в этом «низком слое бытия возможна красота, например, красива воплощенная в них разумность, целесообразность, сила машины, ловкость и легкость действий ее и т. п.»[385]. Развивая учение о «красоте как ценности, пронизывающей весь мир», религиозный мыслитель утверждает, что всякая «целестремительная деятельность», как бы она далеко не отстояла от абсолютной полноты совершенной жизни, все же представляет собой «ступень жизни» и потому в большей или меньшей степени «причастна красоте».
Красота в искусстве, по Лосскому, стоит на более низкой ступени, нежели красота в природе. Он считал, что Гегель ошибался, утверждая, что красота в искусстве стоит выше красоты в природе. Более высокие ступени красоты находятся в действительности, особенно в жизни человека, человеческих обществ и сверхчеловеческих существ. По его словам, «мировой процесс есть неустанное преодоление зла и творение добра; чувственное воплощение этой положительной стороны мира есть осуществление красоты в самом живом бытии, и эта красота природы и человеческой жизни стоит выше красоты наших произведений искусства»[386].
По Лосскому, чем выше ступень жизни в каком-либо царстве природы, тем выше и ступень его красоты, но вместе с тем искажение идеи этого царства дает и тем большую ступень эстетического безобразия.
Представляется, что введение Лосским терминов «ущербление красоты», «ступени красоты» не случайно. Данные термины обладают большим эвристическим потенциалом. Что имеется в виду? Структура ценности с необходимостью включает в себя значимость (положительную или отрицательную). Эта значимость формируется лишь в связи с другими элементами ценности, в том числе и с идеалом. Лосский включает в состав ценности не какой-либо один из ее элементов, а их совокупность:
• бытие («бытие не есть только носитель ценностей, оно само, будучи взято в его значительности, есть ценность, оно само есть добро и зло»);
• переживание («переживание, входящее в состав ценности, всегда содержит в себе момент, данный в развитом сознании в чувстве и выразимый такими словами, как «приятный», «милый», «благородный», «нежный», «восхитительный», «возвышенный» или «неприятный», «пошлый», «грубый», «отвратительный» и т. п.);
• значение («значение и смысл есть идеальный аспект ценности»);
• идеал («идеал красоты осуществлен там, где действительно осуществлена всеобъемлющая абсолютная ценность совершенной полноты бытия, именно этот идеал реализован в Боге и в Царстве Божием»)[387].
Представляется, что религиозный мыслитель подметил важнейшие свойства эстетической ценности: ее взаимосвязь с объектом– носителем (каждой «ступени жизни» соответствует своя степень «ущербленности красоты»); соотнесенность объектов-носителей ценности с идеалом красоты («эстетическое созерцание требует такого углубления в предмет, при котором хотя бы в виде намеков открывается связь его с целым миром и особенно с бесконечною полнотою и свободою Царства Божия…»); наконец, духовный смысл, значимость, которая является «существенной основой» предмета эстетического созерцания («духовные слагаемые предмета имеют своеобразное значение в эстетической ценности предмета.»; «для эстетического восприятия действительности необходимо созерцать внешнюю телесность предметов вместе с оживляющею ее или, во всяком случае, дающею ей смысл внутреннею стороною предмета, т. е. вместе с его духовною основою или вместе с его духовною и душевною жизнью»)[388]. Именно поэтому, с его точки зрения, ценность есть «органическое единство, включающее в себя, как элементы, бытие и значение, но, опираясь на эти элементы, она представляет собою новый аспект мира, отличный от своих элементов»[389].
Все это позволяет утверждать, что Лосский разработал всестороннее аксиологическое учение о красоте как ценности, показав ее взаимосвязь с другими ценностями, ее внутреннее строение, виды и ступени. Он выдвинул и разработал целостную систему аксиологических категорий, с помощью и на основе которой в теоретико-ценностном ключе попытался рассмотреть и интерпретировать проблематику красоты в природе и искусстве. Отметим, что аксиологическая интерпретация эстетической проблематики была им осуществлена ранее первых марксистских попыток построения эстетико-аксиологических концепций в СССР. И наконец, в марксистских концепциях эстетической ценности фактически так или иначе воспроизведена мысль Лосского об особой роли, которую играет в формировании эстетической ценности взаимосвязь реального и идеального.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– Лосский разграничивает добро и зло, т. е. положительную и отрицательную ценность в самом общем значении этих слов («в смысле всякого совершенства или несовершенства, в смысле всякой положительной или отрицательной ценности, в том числе и эстетической»); критерием разграничения положительных и отрицательных ценностей выступает «полнота бытия»;
– философ вводит понятие «эстетическая ценность», полагая, что она «может быть красотою, но может быть и безобразием»; специфику эстетической ценности мыслитель видит в ее двухслойности и символическом характере;
– мировой процесс, по Лосскому, представляет собой неустанное преодоление зла и творение добра; чувственное воплощение этой положительной стороны мира и есть «осуществление красоты в самом живом бытии»;
– религиозный философ разграничивает «красоту» в широком и узком смыслах; исходя из того, что «красота есть ценность», мыслитель пытался осмыслить «связь красоты с другими ценностями», «место красоты в системе ценностей», а также указал на то, что красота всегда выражает «какой-либо смысл»;
– Лосский подвергает всестороннему анализу роль идеала в формировании ценности, разграничивая два мира, и, соответственно, два вида красоты: (1) идеальную, абсолютно совершенную красоту, которая существует в «Царстве Божием» и (2) «ущербленную красоту», которая существует в нашем «психо-материальном царстве»; идеал при этом выступает мерилом оценки («в этом идеальном совершенстве мы имеем абсолютно достоверный масштаб красоты, безошибочный и общеобязательный»);
– религиозный философ вводит специальный термин («ущербленная красота») для обозначения существующего разрыва между идеальным и реальным; более того, он пытается показать градацию, степень этого разрыва, используя термин «ступени красоты»;
– Лосский не только ввел в научный обиход целый ряд эстетико-аксиологических понятий, но и показал особую роль, которую играет в формировании эстетической ценности взаимосвязь реального и идеального.
Раздел 4 Приложение
4.1. Эстетическая ценность как социокультурный феномен
Решение эстетико-аксиологических проблем так или иначе опирается на определенные методологические основания. Поэтому нам необходимо показать методологические принципы, из которых мы будем далее исходить. Это тем более важно, что, хотя в современном социогуманитарном знании утвердилось представление о социокультурной природе ценности, до сих пор не преодолены разногласия, касающиеся трактовки самого понятия «ценность», а также взаимосвязанных с ним понятий «значение», «смысл» и др.
Развитие социогуманитарного знания показывает, что аксиологическая проблематика стала предметом изучения наук, так или иначе обращающихся к анализу специфики человека и человеческой деятельности, – антропологии, социологии, философии, политэкономии и др. Поэтому, на наш взгляд, ни одна социогуманитарная наука не может сегодня претендовать на исключительную, особую, роль в исследовании данной проблематики. Ценность – это феномен, требующий интердисциплинарного подхода; в изучении проблемы ценности должны быть использованы данные социогуманитарного знания в целом. При этом аксиология, возникшая в рамках философского знания, должна, на наш взгляд, взять на себя функцию "интегратора" социогуманитарного знания, обобщая данные антропологии, культурологии и других наук, обращающихся к проблематике ценности.
Исходя из этого, мы считаем необходимым на уровне теоретико-методологического анализа ценности различать три взаимосвязанных аспекта ее рассмотрения: 1) историко-антропологический; 2) социолого-культурологический; 3) философско-культурологический.
Историко-антропологический аспект. Наличие ценностей и ценностных ориентаций отличает человека от животного: нет ни одной культуры, которая бы обходилась без системы ценностных ориентаций. Такая система служит своеобразной «картой» (подобно географической) человеческого поведения. Ценности (первоначально святыни) обеспечивают человека жизненными ориентирами, определяют жизненно важные цели деятельности и в конечном итоге придают человеческой жизни определенный смысл. В отличие от животных человек начинает руководствоваться не только витальными потребностями, но и социокультурными идеалами. Социокультурная природа ценностей именно поэтому прямо коррелирует с субъектностью человека, его способностью самостоятельно (а не на основе генетически запрограммированных инстинктов) определять цели и средства деятельности, опираясь на собственные идеалы, потребности и интересы. Как показал Э. Фромм, человек не волен выбирать, иметь или не иметь идеалы и ценностные ориентации, но он волен делать свой выбор из спектра возможного[390]. И в этом отношении человек качественно отличается от животного: руководствуясь социокультурными ценностями, он постоянно осуществляет в конкретной жизненной ситуации свой собственный выбор.
Социолого-культурологический аспект. Культуре каждого этноса присущ свой, уникальный, набор ценностей. При этом в разных культурах одно и то же явление может иметь разную, и даже противоположную, ценностную окраску. Например, в культуре Древнего Китая «сложилась парадоксальная, с точки зрения европейца, ситуация, когда за „порочное“ и „развратное“ принималось не сексуальное, а чувство любви, испытываемое мужчиной к женщине»[391]. Это вызвано тем, что явление получает в культуре свою ценностную нагрузку не само по себе, а во взаимосвязи с другими явлениями. Поскольку человек не может одинаково относиться к противоположностям, из которых состоит мир, в культуре имеет место либо дуализм, либо градация ценностных оппозиций[392].
С помощью ценностей каждая культура создает для человека осмысленную и в определенной степени упорядоченную картину мира. Наряду с ценностями, в картину мира входят образы и представления о мире и месте человека в нем; представления о взаимоотношениях человека с природой, обществом, с другим человеком и с самим собой; убеждения, знания, духовные ориентиры и др.[393]В картине мира оказываются взаимосвязанными сознательное и бессознательное, природное и культурное, рациональное и эмоциональное, индивидуальное и социальное. У каждого народа, этноса, социальной группы и индивида складывается собственная картина мира, сквозь призму которой и воспринимается реальный мир. В определенном смысле картина мира выступает интегральной типологической характеристикой культуры.
Понятие "картина мира" прочно вошло в систему понятий современного социогуманитарного знания и раскрывается в научной литературе в разных аспектах: стали предметом изучения научная, религиозная и художественная картины мира, картина мира античного и средневекового человека и т. д. На наш взгляд, использование этого понятия оказывается методологически важным при изучении проблем эстетической ценности. Действительно, специфика понимания прекрасного, например, в рамках японской культуры, становится понятной лишь при обращении к анализу картины мира, свойственной данному этносу, особенностям его мировосприятия, мироощущения и мировоззрения (являющихся тремя главными компонентами картины мира). Однако такой подход требует своего уточнения: на уровнях социально-групповом и индивидуальном картины мира могут не совпадать.
Действительно, в традиционных типах культуры индивид получал целостную картину мира и процесс ее индивидуальной "доводки" не был сопряжен с коренным пересмотром или выбором альтернативных вариантов. С иной ситуацией сталкивается индивид сегодня, когда резко расширились возможности свободного самоопределения личности. Неустойчивость и множественность социально-групповых связей индивида, включенность в сферы влияния множества культур и субкультур (благодаря средствам массовой информации) лишают современного человека опоры лишь на одну социально-групповую картину мира. Современное общество ему как бы навязывает множество различающихся, иногда несовместимых картин мира. В этой ситуации у индивида имеются две возможности: 1) стать пассивным объектом противоречивого воздействия культур и субкультур и в результате получить противоречивую, "разорванную" картину мира; 2) стать подлинным субъектом творчества, самостоятельно формирующим собственную картину мира, которая в этом случае окажется в большей степени целостной и непротиворечивой. На самом деле реальный индивид в своей жизни реализует обе эти возможности, являясь одновременно (в большей или меньшей степени) и объектом, и субъектом культуротворческой деятельности.
Сама способность стать субъектом культуротворческой деятельности в конечном итоге определяется способностью и умением ориентироваться в мире, ставить перед собой определенные цели, находить средства их достижения и др. Ценности при этом оказываются необходимым условием и одновременно результатом формирования картины мира. В узком смысле слова в картине мира ценности представлены ценностными ориентациями, ценностями– нормами и ценностями-идеалами. В широком смысле ценности, на наш взгляд, пронизывают все "этажи" (подсознание, сознание и сверхсознание) и сферы индивидуальной картины мира (образы – наглядные представления о мире и месте человека в нем, Я-образ и др.). В этом, широком, смысле ценности являются "стержнем" картины мира личности, определяют ее характер и последующее развитие.
Рассмотрим подробнее роль ценностей в каждом из компонентов индивидуальной картины мира – мировосприятии, мировоззрении, мироощущении.
Мировосприятие личности оказывается в непосредственной зависимости от ее ценностных ориентаций: обычно личность воспринимает только и исключительно то, что желает и хочет воспринимать. Именно в этой связи Э. Фромм справедливо отмечал, что «личность, чье развитие было блокировано, вынуждена обратиться к примитивным и иррациональным системам, которые, в свою очередь, продлевают и усиливают ее зависимость и иррациональность». С другой стороны, «зрелая, плодотворная, разумная личность выберет систему, позволяющую ей быть зрелой, плодотворной и разумной». И такие различия в мировосприятии обусловлены "различиями в ценности"[394].
Мировоззрение также оказывается буквально пронизано ценностями. Это не случайно, поскольку личность оказывается способной к духовной деятельности, начинает обладать более или менее развитым мировоззрением только в том случае, если опирается на определенные духовные ценности: общее понимание мира и своего места в нем (миро-воззрение) невозможно без его своеобразного фундамента – ценностного к нему отношения. Именно ценности определяют в конечном итоге и сам характер мировоззрения (научное – ненаучное, религиозное – атеистическое, гуманистическое – авторитарное и т. д.).
Мироощущение связывается в научной литературе с эмоциональной окраской образов, составляющих картину мира. Есть основание полагать, что в мироощущении происходит эмоционально переживаемое соотнесение тех или иных явлений окружающего мира с потребностями и интересами индивида, что характерно для оценочного отношения. Само оценочное отношение представляет собой первый и необходимый этап формирования оценки, этап, связанный с переходом от чувственного к логическому, от бессознательного к сознательному. Поэтому от характера оценочного отношения, связанного с непосредственным эмоциональным переживанием, в конечном итоге зависит и возникающее на его основе оценочное суждение. Очевидно, что оценочное отношение не может не зависеть от особенностей мировосприятия и мировоззрения личности. В мироощущении так или иначе находит свое выражение индивидуальная шкала ценностей личности. Поэтому мироощущение выступает одновременно и важнейшим источником формирования ценностного сознания, и своеобразной формой его существования и выражения.
Таким образом, ценности в структуре картины мира личности выполняют несколько функций: функцию своеобразного фильтра, отбирая из поступающей информации то, что представляется ценным (на самом деле ценность информации может быть мнимой, а мимо подлинных ценностей личность может пройти, не замечая их); ценности выполняют функцию интерпретации поступающей информации (личностный смысл, полученный индивидом в результате такой интерпретации какого-либо объекта, может либо соответствовать его социокультурному значению, либо в большей или меньшей степени искажать это значение); ценности выполняют в картине мира и функцию "цементирующую", связывая воедино ее разные "этажи" и сферы, являясь для сознания своеобразным ценностным "стержнем". Значимость этой функции связана с тем, что сама субъективность личности оказывается под вопросом в случае потери ценностного "стержня" сознания (самой личностью эта ситуация воспринимается как утрата смысла жизни).
Таким образом, место и роль ценностей в картине мира невозможно свести к отношению "часть – целое": ценности представляют собой необходимое условие и в то же время результат формирования картины мира.
Следует отметить, что картина мира (как на уровне индивидуальном, так и на уровне социально-групповом) опережает непосредственные человеческий опыт и деятельность, определяет их и управляет ими[395]. Для нас это означает, что формирование эстетической ценности оказывается обусловленным – через социальногрупповые картины мира – социокультурно. Разные культуры и субкультуры, разные эпохи развития одной и той же культуры формируют уникальные картины мира (включая в себя и ценностные системы), в рамках которых отдельное явление приобретает ценностную окраску не само по себе, а как элемент целостной картины мира определенной социокультурной общности.
Философско-культурологический аспект. Анализ социокультурной природы ценности требует обращения к проблемам ее способа бытия и функционирования в обществе. В современных отечественных исследованиях по данной проблематике имеют место два подхода: 1) подход, утверждающий субъектно-объектный характер ценностей (М. С. Каган, Л. Н. Столович, О. М. Бакурадзе и др.); 2) подход, согласно которому специфику ценностей следует искать в межсубъектных отношениях (О. Г. Дробницкий, Г. П. Выжлецов и др.)[396]. Для целей нашего исследования необходимо рассмотреть особенности каждого из этих подходов с тем, чтобы сформулировать собственные позиции в этом вопросе.
Рассмотрим особенности первого подхода на примере концепции М. С. Кагана. В понимании сущности ценности исследователь исходит из своей концепции человеческой деятельности: структура деятельности, по его мысли, включает в себя, наряду с другими, и ценностно-ориентационную деятельность. Продуктом ценностно-ориентационной деятельности выступает ценность. Поскольку сама ценностно-ориентационная деятельность представляет собой "возможный тип отношения субъекта и объекта", ценность также трактуется ученым с точки зрения субъектно-объектных отношений: ценности, с его точки зрения, существенно отличаются от знаний; они выражают не отношения между объектами, а «отношение между объектом и субъектом»[397]. Именно поэтому, по мнению Кагана, ценность представляет собой «результат субъективации объекта и может быть определена системным понятием „субъективированный объект“»[398].
Позиции Кагана противостоит позиция сторонников второго подхода (рассмотрим ее на примере концепции Г. П. Выжлецова). По мысли Выжлецова, ценность представляет собой "проявление и реализацию межсубъектных отношений". Поэтому важнейшим элементом данной концепции и выступает «субъект ценности». Таким субъектом является, во-первых, «природа как источник и условие бесконечной вселенской жизни и ее духовного потенциала»[399]. Исследователь подчеркивает, что природа выступает именно в качестве «самоценного субъекта», а не только лишь как среда и условие межсубъектных отношений. Во-вторых, субъектом ценности выступают человек и любая социальная общность (семья, группа, класс и т. д.). Человек в межсубъектных отношениях предстает как гражданин, индивид, исполняющий ту или иную социальную роль, личность, включенная в различные социальные группы, и др.
Межсубъектные отношения складываются не сами по себе, «а, как правило, по поводу какого-либо объекта-посредника, становящегося их носителем». Поэтому вторым исходным элементом данной концепции является «объект – носитель ценности», в качестве которого выступает, во-первых, природа (но уже не как «самоценный субъект» и среда обитания, но как «объект – посредник межчеловеческих отношений»); и, во-вторых, любое явление, факт, событие, идея, которые приобретают в процессе оценки их субъектом положительную или отрицательную значимость. Значимость делает объект оценки носителем соответствующих ценностей – экономических, политических и др. По мысли Выжлецова, носителем ценности объект – посредник отношений между субъектами становится, получая социальную значимость на основе функционирования в данном обществе норм и идеалов, которые, наряду с ним, также опосредуют эти отношения. Поэтому межсубъектные отношения опосредованы природой, объектом-носителем, его значимостью, нормой и идеалом, взаимосвязанными и взаимообусловливающими друг друга. Таким образом, делает вывод исследователь, ценностные отношения в отличие от оценочных – это в широком смысле межчеловеческие, межсубъектные отношения по поводу объектов – носителей ценности, их значимости, нормы и идеала, в которых воспроизводятся, воплощаются и реализуются ценности соответствующего уровня.
На наш взгляд, представленные два подхода на самом деле не являются взаимоисключающими, а наоборот, акцентируя внимание на разных фрагментах ценностного отношения, они фактически взаимодополняют друг друга. Действительно, хотя Каган и придает в своей концепции большое значение отношению субъекта к объекту при формировании ценности, тем не менее, с его точки зрения, ценность оказывается обусловленной "социокультурными идеалами", а "диалектика вкуса по-разному проявляется в различных социокультурных системах". Каган подчеркивает, что ценностный мир личности формируется в процессе культурации и связан с превращением ценностей социума в ценности личности, с интериоризацией накопленных в истории культуры ценностей. Поэтому мировоззренчески-смысловое содержание ценностного отношения детерминировано общим социокультурным контекстом, а его форма представляет собой психологический процесс, благодаря которому ценность "схватывается" сознанием. Достоинством такого подхода, с нашей точки зрения, является акцент на психологических механизмах освоения ценности, связанных с личностной уникальностью (без чего невозможно вести разговор о ценности эстетической): «…ценностная сфера деятельности личности преломляет общечеловеческое в социально-групповом, а это последнее в индивидуальном и уникальном – ведь ценности обращены к переживанию, к эмоциональному приятию (или неприятию), т. е. к тем психологическим механизмам, которые составляют ядро личностной уникальности»[400]. Каган не только раскрывает социокультурную детерминацию ценностей, но и в процессе анализа приходит к выводу о том, что роль ценностей двухмерна: она проявляется и в отношениях субъекта к объекту, и в межсубъектных отношениях.
Вместе с тем, объект становится носителем ценности лишь в процессах взаимодействия субъектов культуры. Поэтому формула Кагана («ценность есть значение объекта для субъекта») оказывается верной, но только при условии, что объект выступает посредником в межсубъектных отношениях. Известный исследователь проблематики ценности О. Г. Дробницкий еще в 60-е годы отмечал: «то, что внешне выступает как отношение человека к предмету или <…> предмета к человеку, в действительности является отношением человека к самому себе, к другим людям или к обществу»[401]. Например, ценности, опредмеченные в объекте-носителе, существуют потенциально, их актуализация происходит лишь в процессе распредмечивания. Неверно было бы рассматривать ценностное взаимодействие как одноразовый акт: оно представляет собой постоянный процесс производства и воспроизводства ценностей определенной социокультурной системы.
Поэтому формула Кагана может быть представлена в виде отношения: «Объект» (например независимый от человека предмет природы) – «Субъект» (в поле зрения которого попал этот предмет природы) – «Объект» (который в силу того, что его воспринимает человек, приобретает ценностное значение и становится носителем красоты). Однако на этом процесс не обрывается: отношения «Объект – Субъект» теряют одноразовый характер и приобретают вид постоянного процесса: «Объект» – «Субъект» – «Объект» – «Субъект» и т. д.
С другой стороны, концепция межсубъектных отношений может быть представлена формулой: «Субъект» – «Объект» – «Субъект» – «Объект»– «Субъект» и т. д. Таким образом, во-первых, фактически в этих концепциях вычленяются разные фрагменты реального социокультурного взаимодействия людей в рамках конкретных социокультурных систем; во-вторых, эти концепции взаимодополнительны и в другом отношении. Каждая из них показывает, что человек может передавать другим свое отношение к объекту как ценности, интерпретировать его как ценность. Выжлецов утверждает: «объект-посредник отношений между субъектами становится носителем ценности, лишь получив социальную значимость на основе функционирования в данном обществе норм и идеалов, которые наряду с ним также опосредуют эти отношения»[402]. Это не противоречит и позиции Кагана: «Суть воспитания – в приобщении воспитуемого к ценностям воспитателя, а не в информировании о ценностях, не в их изучении и не в их навязывании. Воспитание есть способ превращения ценностей социума в ценности личности, а оно может происходить только в процессе ее приобщения к ценностному сознанию других людей, которое и происходит, осознанно или неосознанно, в ходе общения человека с человеком; оно может быть прямым, контактным и дистантным, опосредованным артефактами (творениями культуры), в которых опредмечены ценности предков или далеких современников и которые становятся тем самым формами инобытия самого человека, заменяющими его в контакте с другими людьми. <…> Так общение порождает общность – общность ценностей, которая достигается не внешним давлением, а внутренним принятием, переживанием ценностей другого, становящихся моими ценностными установками»[403].
Таким образом, позиции Кагана и Выжлецова являются фактически взаимодополняющими. Очевидно, что «отношение субъекта к объекту» – лишь момент ценностного отношения, который в свою очередь всегда «погружен» в реальные межсубъектные отношения в рамках определенной социокультурной системы. Конечно, например для эстетико-аксиологического анализа, этот момент – предмет непосредственного изучения. Однако даже в рамках анализа этого момента ценность выступает как проявление и реализация межсубъектных отношений, поскольку ее восприятие всегда опирается на социально-групповые картины мира, формирующиеся в рамках культуры (субкультуры).
Кроме того, и та и другая концепции невольно выходят за рамки собственно философского подхода к анализу ценностей, опираясь также в большей или меньшей степени на подходы психологический, социологический, культурологический и др. Это, на наш взгляд, не случайно и обусловлено предметом исследования. Ценности возникают и функционируют в рамках определенных социокультурных систем (что требует обращения к социолого-культурологическому подходу). Функционирование ценностей не может не опираться на носители ценностей, восприятие которых представляет собой процесс распредмечивания ценностей (и поэтому требует обращения к семиотическому и психологическому подходам). Таким образом, сами ценности представляют собой явление, требующее интердисциплинарного подхода.
В этой связи отметим, что необходимость и достаточность рассмотрения эстетической ценности в социокультурном, семиотическом, психологическом и эстетико-аксиологическом аспектах связаны с особенностями ее возникновения и функционирования в обществе. Действительно, связь ценности с картиной мира определенной культуры (субкультуры) требует использования социолого-культурологического подхода, в рамках которого может и должен быть подвергнут анализу ее социокультурный аспект. Функционирование ценностей в социокультурной системе не может не опираться на процессы опредмечивания и распредмечивания, что предполагает обращения к семиотическому и психологическому подходам, на основе которых может быть раскрыт ее социально-коммуникативный аспект. Наконец, сама специфика эстетической ценности предполагает использование эстетико-аксиологического подхода, с помощью которого только и может быть проанализировано ее отличие от других видов ценности.
Представляется, что использование этих подходов в рамках единого исследования оказывается продуктивным и эвристически значимым при опоре на социолого-культурологический подход как базовый, ведущий. Это оказывается возможным благодаря тому, что социокультурный аспект эстетической ценности внутренне содержит в себе, "вбирает" в себя все другие аспекты. Вместе с тем при использовании такого интердисциплинарного подхода (с опорой на социолого-культурологический подход) необходимо разработать и использовать единый аппарат понятий, способный отобразить многоаспектность предмета изучения, в центре которого и окажется категория "эстетическая ценность".
Определим собственные позиции в данном, философско-культурологическом, аспекте рассмотрения ценностей. На наш взгляд, отношение субъекта к объекту – лишь фрагмент ценностного отношения, который, в свою очередь, всегда "погружен" в реальные межсубъектные отношения в рамках определенной социокультурной системы. Конечно, для эстетико-аксиологического подхода этот фрагмент – предмет непосредственного изучения. Однако даже в рамках анализа такого фрагмента ценность выступает как проявление и реализация межсубъектных отношений, поскольку восприятие ценности (в том числе и эстетической) всегда опирается на социально-групповые (социально-групповую) картины (картину) мира. В этой связи мы рассматриваем эстетическое ценностное отношение как фрагмент ценностного взаимодействия субъектов в рамках определенной культуры или субкультуры. Именно поэтому, с нашей точки зрения, структура ценностного взаимодействия (в неусеченном виде) включает в себя следующие компоненты: 1) субъекты ценностного взаимодействия (или же субъект – в случае эстетического восприятия природы); 2) объект – носитель ценности; 3) значение как идеальный аспект ценности; 4) ценность как предпосылку и результат ценностного взаимодействия. Рассмотрим каждый из этих компонентов.
Субъектами ценностного взаимодействия выступают личность, социальная группа, этнос и другие социальные общности. Представляется правомерным дифференцировать гносеологический субъект и субъект ценностного взаимодействия. Знания, которыми обладает субъект-человечество (гносеологический субъект), имеют свойство всеобщности, необходимости и общезначимости. Ценности, в отличие от этого, являются демаркатором культур, различаются при переходе от культуры к культуре, связаны с локальными и региональными социокультурными образованиями. При этом важнейшей характеристикой субъекта ценностного взаимодействия является наличие у него определенной картины мира, на основе которой и происходит постижение ценности того или иного явления. Поэтому в качестве субъекта ценностного взаимодействия выступает личность, социальная группа, этнос, наднациональное образование (в этой связи можно говорить о ценностях европейской культуры, например). Субъект ценностного взаимодействия имеет многоуровневую структуру: ему присущи (и на уровне индивидуальном, и на уровне социально-групповом) потребности, интересы, ценностное сознание, подсознание и сверхсознание (сюда могут быть отнесены идеалы, ценностные ориентации, вкус и др.). Каждая социокультурная система формирует определенный, своеобразный тип субъекта ценностного взаимодействия посредством механизмов социализации и культурации (что накладывает отпечаток на каждый из перечисленных элементов его многоуровневой структуры). Уникальность, неповторимость субъекта ценностного взаимодействия проявляется в актах производства и воспроизводства ценностей в реальных человеческих отношениях и поступках. В каждой конкретной социокультурной ситуации субъект каждый раз заново утверждает себя как представитель определенной общности, воссоздавая и утверждая те или иные ценности (выходя из окружения, боец выносит полковое знамя, например). Даже меняя ценностные ориентации, личность утверждает те или иные ценности культуры (субкультуры). Соответственно и на уровне социально-групповом, и на уровне общества разрушение ценностей сопровождается формированием новой ценностной системы, которая и начинает воспроизводиться социокультурным субъектом. Только в процессе производства и воспроизводства ценностей происходят самоутверждение и самореализация субъекта ценностного взаимодействия.
Второй элемент ценностного взаимодействия – объект – носитель ценности. Разграничение ценности и носителя ценности является общепризнанным. Не всякое природное явление представляет собой носитель ценности. Не включенный в сферу культуротворческой деятельности человека, предмет природы не обладает ценностью и не является ее носителем. Только оказываясь значимым для человеческой деятельности, потребностей субъекта деятельности, предмет природы приобретает социальную или индивидуальную ценность. Наряду с материальным явлением, носителем ценности может стать явление духовное (например, научная идея), если оно отвечает определенным потребностям субъекта. Свойства объекта – носителя ценности несводимы к его собственным свойствам: к химическим, физическим, биологическим свойствам (если носителем предстает предмет природы) или к свойствам идеального (если носителем выступает явление идеального порядка, например, знание). Носителем ценности объект становится благодаря своим социокультурным характеристикам, в нем, как предмете культуры, «кристаллизуются» определенные типы отношений между людьми, типы отношения человека к миру. При этом, как показал П. А. Сорокин, материально идентичное часто является совершенно различным в социокультурном отношении благодаря разнице в значениях или ценностях, приписываемых ему; наоборот, то, что различается биофизически, часто идентично по социокультурным параметрам[404]. Это дает основание выделить в объекте-носителе две группы свойств: 1) группа свойств, связанная с бытием объекта «в-себе-и-для-себя» (далее будем их называть «естественно-природные свойства»); 2) группа свойств, связанная с опредмечиванием в носителе ценности в процессе культуротворческой деятельности человека его идеалов, потребностей, интересов и др. (далее – социокультурные свойства).
В процессе ценностного взаимодействия социокультурные свойства объектов – носителей ценностей распредмечиваются и обнаруживаются для субъекта ценностного взаимодействия как значение объекта-носителя. Следует отметить, что в литературе по данной проблематике для характеристики идеальной представленности ценности в сознании субъекта используются термины «значение» или «значимость», что связано с определенной теоретической традицией. Так, термин «значимость» восходит к работам Г. Лотце. Вместе с тем после работ Ф. де Соссюра значимость стала трактоваться как «элемент значения»[405]. Поэтому далее, характеризуя идеальный аспект ценности, мы будем использовать термин «значение». При этом, на наш взгляд, значение не тождественно ценности. Термин «значение» следует употреблять, лишь характеризуя план осознания ценности субъектом. Причем степень осознания ценности оказывается зависимой от потребности и способности субъекта к распредмечиванию социокультурных свойств объектов-носителей (например, отдельные индивиды или даже социальные общности оказываются не в состоянии на протяжении десятилетий распредметить и тем самым освоить целые пласты духовных ценностей). Сама же потребность и способность к распредмечиванию ценностей зависит от картины мира субъекта ценностного взаимодействия, которая выполняет функцию своеобразного фильтра. Именно поэтому целые пласты духовных ценностей могут быть не востребованы обществом на протяжении десятилетий.
Наконец, сами ценности одновременно являются и предпосылкой, и результатом ценностного взаимодействия. Неверно было бы рассматривать ценностное взаимодействие как одноразовый акт – на самом деле оно представляет собой постоянный процесс производства и воспроизводства ценностей определенной социокультурной системы. Этот процесс оказывается возможным благодаря наличию в картине мира субъекта ценностей-идеалов, ценностей-норм и ценностных ориентаций (и в этом смысле ценности – предпосылка взаимодействия), которые опредмечиваются либо в произведениях материальной, художественной и духовной культуры, либо в человеческих поступках и деятельности. В процессах ценностного взаимодействия картина мира субъекта (включая ее ценностные компоненты) обогащается, конкретизируется, подвергается трансформации или коренным преобразованиям (в этом смысле ценности – результат взаимодействия).
Ценностное взаимодействие является гранью, стороной социокультурного взаимодействия. Поэтому оно опирается на процессы опредмечивания и распредмечивания. Ценности, опредмеченные в объекте-носителе, существуют потенциально, их актуализация происходит лишь в процессе распредмечивания. При этом далеко не все потенциальные ценности оказываются актуализированы субъектом и осознаны как значение объекта-носителя (только лишь те, которые отвечают потребностям, интересам, картине мира субъекта ценностного взаимодействия). Именно поэтому, на наш взгляд, ценность включает в себя значение, но им не исчерпывается. Понятие "ценность" охватывает, с одной стороны, и опредмеченный в объекте-носителе социокультурный опыт субъекта культуротворческой деятельности (включая его ценностные компоненты), а с другой – актуальное значение объекта-носителя для субъекта, распредмечивающего этот социокультурный опыт.
Завершая рассмотрение трех взаимосвязанных аспектов изучения ценности (историко-антропологического, социолого-культурологического, философско-культурологического), кратко сформулируем исходные теоретико-методологические принципы нашего анализа эстетической ценности.
1. Отдельное явление приобретает ценностную окраску не само по себе, а как элемент целостной картины мира определенной социокультурной общности, личности.
2. Ценностное взаимодействие включает в себя субъекты взаимодействия, объекты – носители ценности, значения и сами ценности; все эти элементы оказываются связанными между собой и не существуют вне этой неразрывной связи.
3. При анализе ценности – многоаспектного явления – необходимо использовать интердисциплинарный подход, включающий в себя (в их взаимосвязи) социологический, культурологический, семиотический и психологический подходы, а также собственно эстетико-аксиологический подход (поскольку предмет нашего исследования – эстетическая ценность).
4. Использование интердисциплинарного подхода предполагает использование единого аппарата понятий, отображающего многоаспектность самого предмета изучения; в центре этого аппарата понятий и окажется категория "эстетическая ценность".
Проведенный анализ социокультурной природы ценности позволяет обратиться к специфике и содержанию эстетической ценности. Общепризнано, что специфика эстетической ценности может быть обнаружена при ее сопоставлении с ценностями внеэстетическими. Однако сама задача сопоставления оказывается непростой, поскольку границы эстетической сферы не заданы самой реальностью и весьма изменчивы. Любой предмет (природный или связанный с человеческой деятельностью) может стать носителем эстетической ценности. Превращение этой возможности в действительность одни исследователи связывают с наличием эстетического опыта у субъекта культуротворческой деятельности, другие – с существованием у него особой эстетической потребности. Для нас несомненна связь эстетической ценности и с опытом эстетического восприятия, и с человеческими потребностями. Эстетическое, как и любая другая ценность, не является естественно-природным свойством вещей, это – социокультурное свойство носителя ценности. Поэтому специфику эстетической ценности действительно следует искать в особенностях отношения человека к окружающему миру. В этой связи представляется правомерным рассматривать эстетическое освоение мира не как самостоятельный вид деятельности, а как характеристику любого вида человеческой деятельности, благодаря которой раскрываются сущность и возможности человека[406]. Поэтому эстетические ценности не имеют четкой локализации, подобно другим родам ценностей (этическим, политическим и т. д.). Эстетическую ценность может приобрести любое явление действительности или сознания, любой продукт или способ человеческой деятельности, наконец, сам человек. Поэтому и не существует четко очерченных границ между внеэстетической и эстетической сферами. Однако остается вопрос: при каких условиях явление приобретает эстетическую ценность? Необходимой предпосылкой возникновения эстетической ценности является наличие особой «эстетической установки» (Р. Ингарден), «эстетической позиции» (Я. Мукаржовский) субъекта ценностного взаимодействия. Эстетическая позиция отличается от утилитарно-практической, религиозной или теоретической тем, что Кант определил как «незаинтересованность». Для субъекта, вставшего на эстетическую позицию, «процесс восприятия объекта освобождается от всех внешних целей, поскольку наслаждение красотой предмета не вызывается желанием обладать им, присвоить его или как-то практически использовать»[407].
Как справедливо утверждается в исследованиях по проблеме, важнейшей особенностью эстетической позиции является установка на непосредственный чувственный контакт, чувственное восприятие и переживание самой формы материального носителя ценности. Это нехарактерно для возникновения других родов ценностей. Для возникновения же эстетического чувства такие характеристики носителя ценности, как пропорциональность – непропорциональность, симметричность – асимметричность, гармония – дисгармония и др., являются необходимыми. Их чувственное восприятие – основа возникновения эстетической ценности. Однако сама она (как и любая ценность) не может быть сведена к свойствам объекта-носителя.
Как было показано ранее, наряду с естественно-природными, объект – носитель ценности имеет вторую группу свойств – социокультурные свойства. Именно поэтому можно говорить о двухслойности, двуплановости эстетической ценности. Первый слой – чувственная реальность, представленная внешней формой предмета (симметричность – асимметричность и т. п.). Второй слой – то, что через чувственную реальность проявляется. Как показал Л. Н. Столович, различие между концепциями эстетической ценности как раз и заключается в том, как понимали этот второй план: Бог ли это (Фома Аквинский и неотомизм), идея (Платон, Г. Гегель), чувства человека (Дж. Сантаяна, Дж. Дьюи), природная закономерность (Э. Берк, У. Хогарт) и т. д.[408]
Для ценностей неэстетических (политических, юридических и др.) естественно-природные свойства объекта-носителя не являются значимыми. Значимым оказывается второй, социокультурный, слой ценности (одна и та же сумма денег может служить средством покупки товара, совращения девушки и т. д.). Для ценностей же эстетических значимыми оказываются оба слоя ценности. Невозможно существование эстетической ценности вне и помимо значимой внешней формы объекта – ее носителя. Социокультурный слой эстетической ценности (в отличие от других родов ценности) способен себя обнаружить только в связи и через предметно-чувственное.
Такая особенность сближает эстетическое ценностное отношение со знаковой ситуацией. И в том и в другом случаях имеет место: 1) отношение субъект-материально-чувственный предмет; 2) предмет отсылает к значению (ценности). Данное обстоятельство и позволило ввести в научный оборот термины "эстетический знак", "значение эстетического знака", "эстетическая информация". Использование этих терминов дает возможность в ряде моментов прояснить специфику эстетического.
Для субъекта, вставшего на эстетическую позицию, все явления, предметы приобретают характер знака. Специфика эстетического знака, как справедливо отмечает Мукаржовский, в том, что он представляет собой знак-объект, а не знак-инструмент. При теоретической или магически-религиозной позиции внимание субъекта сосредоточено не на самом знаке, а на том, что стоит за ним, к чему он отсылает (Бог, материальные или идеальные явления и т. д.). Для эстетической позиции важен сам знак, т. е. тот чувственно воспринимаемый предмет, который взял на себя знаковую функцию. Субъект, вставший на эстетическую позицию, обнаруживает все богатство свойств объекта – носителя ценности (включая естественно-природные и социокультурные свойства). Значение эстетического знака, его "информационная многозначность" (термин Н. И. Крюковского) определяется, во-первых, природой самого объекта-носителя и, во-вторых, особенностями субъекта эстетического ценностного отношения. Рассмотрим подробнее эти факторы формирования значения эстетического знака.
Объект – носитель ценности предстает перед субъектом как целостное многоуровневое образование. Как справедливо подчеркивает Крюковский, «эстетический объект отличается от утилитарного и теоретического объектов прежде всего тем, что в качестве специфического признака в нем выступает его многоярусность, вертикальное многообразие, каждый уровень которого играет свою важную роль при восприятии объекта как целого, и объект вследствие этого обладает информационной многозначностью»[409]. В объекте – носителе ценности эстетическое ценностное сознание имеет дело не с какой-либо одной стороной (например, с сущностью, как это имеет место в процессе познания), а с целостным образованием в единстве явления и сущности, содержания и формы. Кроме того, для субъекта, вставшего на эстетическую позицию, информационная многозначность возникает как результат включенности объекта-носителя в гораздо более широкую систему на правах подсистемы или отдельного элемента.
Информационная многозначность эстетического знака определяется также особенностями субъекта эстетического ценностного отношения. Важнейшая его особенность, предопределяющая специфику и содержание эстетической ценности, – включенность субъекта в эстетическое отношение на уровне личности– индивидуальности. В отличие от этической, юридической, политической форм ценностного отношения (в которых оцениваемые явления не обязательно должны быть пережиты самой личностью, стать фактом ее жизненного опыта), эстетическое отношение требует непосредственного личностного восприятия объекта – носителя ценности, чувственно-эмоционального отклика на него, его внутреннего переживания как носителя ценности (например: "Этот ландшафт действительно прекрасен!"). Поэтому в эстетическом отношении субъектом и выступает исключительно личность-индивидуальность. При этом эстетический субъект персонифицирует социокультурный опыт только через собственную "чувственно-эмоциональную практику" (термин В. П. Иванова). Эта "чувственно-эмоциональная практика" оказывается опосредована культурой и субкультурами, в рамках которых проходила социализация и культурация личности, и соответственно – социально-групповыми картинами мира. В самой личности как бы сосуществуют информационные потоки, связанные с ее включенностью в социальную группу, этнос и т. д. и влияющие на содержание и характер ее эстетического сознания. Именно поэтому, например, в античности предметом суждений вкуса мог служить лишь сельскохозяйственный ландшафт, а нетронутая человеком природа ассоциировалась с хаосом; только в эпоху романтизма природа стала объектом эстетического отношения; лишь в XX веке «была выявлена эстетическая ценность монотонных ландшафтов, болот, тундры, пустыни и т. д.»[410].
Таким образом, информационная многозначность эстетического знака определяется как природой объекта – носителя ценности, так и особенностями субъекта эстетического ценностного отношения. Вместе с тем не всякое значение связано с ценностью (например, с ценностью могут и не быть связаны значения предметное, смысловое и др.). Поэтому оказывается необходимым специально остановиться на анализе того механизма, благодаря которому объект-носитель обретает для субъекта ценность. Этот механизм является одновременно психологическим и социокультурным, включая в себя эстетическую потребность, эстетический идеал и эстетический вкус. Рассмотрим каждую из этих составляющих.
Признание особой роли человеческих потребностей в возникновении ценностей представляется принципиально важным. Только благодаря потребностям, возникающим у субъекта в акте духовно-практического взаимодействия с объектом (будь то вещь, идея и т. д.), последний приобретает особое значение. Если для познавательного образа сущностной характеристикой является адекватность объекту познания, то для ценностного значения определяющими, конституирующими становятся связь и корреляция с потребностями субъекта ценностного отношения. Именно поэтому каждая из потребностей субъекта "порождает" (в акте духовно-практического взаимодействия субъекта с объектом) соответствующую ценность: религиозную, этическую и т. д. Это дает основание, на наш взгляд, среди разновидностей значения (предметное, смысловое, реляционное и др.) выделить особое, ценностное значение знака. Отметим, что каждая из разновидностей значения может приобрести ценностную окраску, т. е. стать одновременно и ценностным значением при возникновении у субъекта соответствующих потребностей.
Такое представление о взаимосвязи ценности и значения позволяет уточнить специфику эстетической ценности. Ее возникновение связано с информационной многозначностью эстетического знака, которая приобретает ценностную окраску, становится ценностным значением только при наличии соответствующей потребности у субъекта, вставшего на эстетическую позицию.
Особая роль потребностей в возникновении эстетического требует специального анализа этого фактора эстетического ценностного отношения. В современной теоретической литературе существуют две точки зрения: 1) до настоящего времени не выявлена потребность, составляющая специфику эстетической ценности; 2) у человека существует и развивается особая духовная потребность в эстетическом созерцании и переживании предметов и явлений. На наш взгляд, сам факт существования эстетической ценности, объектов – ее носителей говорит об «опредмечивании потребности в эстетическом переживании», о наполнении ее «содержанием, которое черпается из окружающего мира»[411]. Действительно, эстетическая потребность – это родовая потребность человека, одна из разновидностей его социокультурных потребностей, «выражающаяся в чувствах и в созидании, освоении и сохранении высокой степени структурно-функциональной упорядоченности мира, гармонизации взаимодействия человека и природы, а также внутрисоциальных отношений, включая межличностные отношения»[412].
Потребность в эстетическом переживании возникает у человека в процессе естественного отбора на развитие эстетической восприимчивости. Хотя она и опирается на существующую уже у животных потребность в гармонизации отношений организма и среды, эстетическая потребность человека имеет свою специфику – носит духовный характер. Ее реализация предполагает развитое эстетическое сознание (включая эстетический идеал, восприятие, переживание, вкус и т. д.). Именно поэтому эстетическую потребность можно отнести к тем новым потребностям, которых нет у животных, которые "отвязаны" от биологических потребностей и детерминированы не биологически, а социально.
Эстетическая потребность выражается у человека в двух формах[413]. Во-первых, существует потребность в оценке меры гармоничности, совершенства окружающей среды; во-вторых, имеется потребность в устранении дисгармонии, несовершенства окружающей среды путем ее практического преобразования. Первая форма вызывает к жизни эстетическое созерцание, вторая – практическую активность человека. И та и другая формы проявления эстетической потребности предполагают существование идеала как элемента картины мира (индивидуальной или социально-групповой). Эстетическая потребность, как потребность социокультурная, духовная, не может быть удовлетворена предметом как таковым, самим по себе, она предполагает существование «плана сознания» (Л. С. Выготский). Именно эстетический идеал как элемент картины мира выступает посредствующим звеном между потребностью и способом ее удовлетворения. Поэтому идеал и выступает необходимой предпосылкой возникновения эстетической ценности. Объект – потенциальный носитель ценности лишь при соотнесении с идеалом приобретает (либо не приобретает) эстетическую ценность, удовлетворяя (либо не удовлетворяя) соответствующую потребность.
Одновременно идеал выступает и в качестве критерия эстетической оценки: в нем как бы аккумулируются представления общества и личности о должном и желаемом. Продукт творческого воображения личности, образ должной и желаемой эстетической ценности – идеал – выступает мерилом оценки потенциальных ее носителей (предметов, идей и т. д.) в процессе сознательного или интуитивного сопоставления этих носителей с идеалом. Это предполагает зависимость ценностного значения объекта-носителя от идеала и шире – картины мира личности: субъект эстетического ценностного отношения "проецирует" на объект-носитель содержание собственной картины мира, одновременно наделяя объект ценностным значением и извлекая присущую ему информационную многозначность. Именно поэтому, например, природные явления, не обладавшие до поры до времени эстетической ценностью (болота, тундра и т. п.), в XX в. ее приобретают. Отметим в этой связи, что эстетический идеал личности как элемент ее картины мира, формируясь на основе индивидуального эстетического опыта, вбирает, "впитывает" в себя эстетическую практику социокультурной среды (субкультур, этнической, классовой, национальной культур) и даже целых эпох.
Вторым важнейшим критерием эстетической оценки (после идеала) является эстетический вкус. И идеал, и вкус выступают как разные ступени, уровни обобщения эстетического опыта: в эстетическом вкусе больше эмоционально-оценочного, он является субъективным критерием оценки (в отличие от этого идеал обобщает эстетический опыт на более глубоком уровне, охватывая не только небольшие группы людей и личность – как вкус, – но и эстетическую практику социокультурных систем на уровне общества, регионов, человечества в целом). Следует различать структурную сущность эстетического вкуса и его функциональную роль[414]. В функциональном аспекте эстетический вкус обнаруживает себя в процессах восприятия как способность личности выявить богатство значений, которыми обладают потенциальные объекты – носители ценностей, как способность личности к эстетическому переживанию и наслаждению их ценностным значением и в итоге – как способность к эстетической оценке (конечному результату проявления эстетического вкуса). Поэтому, наряду с идеалом, эстетический вкус представляет собой необходимую предпосылку возникновения эстетической ценности. Личность, обладающая неразвитым, ограниченным эстетическим вкусом, оказывается неспособной к эстетическому переживанию и наслаждению, к эмоциональной оценке обширной области эстетических ценностей. Они для такой личности становятся недоступными, не существуют для нее как ценности. И наоборот, личность с развитым эстетическим вкусом оказывается способной почти в каждом явлении, предмете обнаружить его эстетическую ценность или же испытывает потребность его преобразовать «по законам красоты» (К. Маркс). Таким образом, ценностное значение объект-носитель приобретает, будучи вовлечен в «чувственно-эмоциональную практику» личности-индивидуальности.
«Всякая общезначимая ценность становится действительно значимой только в индивидуальном контексте», – справедливо утверждал М. М. Бахтин. С его точки зрения, то, что признает ценностью человечество, та или иная культура, – «пустая содержательная возможность, не более… я единственный должен стать в определенное эмоционально-волевое отношение к историческому человечеству, я должен утвердить его как действительно ценное для меня, этим самым станет для меня ценным и все для него ценное»[415]. Исходя из этого можно, на наш взгляд, утверждать, что по способу своего существования эстетическая ценность – явление индивидуального плана. В общественном сознании «кристаллизуются» в эстетические идеалы и вкусы представления о ценностях. Сами же эстетические ценности воссоздаются вновь и вновь в индивидуальном эстетическом опыте, удовлетворяя потребности личности, будучи связаны с ее эстетическими чувствами, переживанием, наслаждением. Именно поэтому ценностное значение всегда личностно окрашено и без этого «личностного смысла» (А. Н. Леонтьев) эстетическая ценность не существует. Вместе с тем индивидуальный эстетический опыт интегрирует в себе, вбирает в себя особенности социокультурных систем, в которых проходила культурация личности: степень и уровень развития эстетических потребностей, идеалов, вкусов. Этот опыт характеризуется взаимосвязью индивидуального и социокультурного, субъективного и объективного. Поэтому эстетическая ценность и не превращается в сугубо индивидуальный, субъективный феномен. В ней неизбежно отражается, проявляется достигнутый реальный совокупный опыт эстетического ценностного отношения, так или иначе воспроизводятся особенности общего социокультурного контекста. Таким образом, эстетическая ценность по способу своего существования индивидуальна, а по своему содержанию представляет собой социокультурный феномен.
Проведенный анализ показал, что ценностное значение объекта-носителя (эстетического знака) включает в себя два взаимосвязанных аспекта: 1) значение, связанное с представленностью личности в социальной группе, этносе и т. д.; назовем его социокультурным значением; 2) значение, связанное с личностным переживанием, наслаждением, эмоционально-чувственным откликом на объект-носитель; назовем его (вслед за А. Н. Леонтьевым) личностным смыслом[416].
Было бы неверно ценностное значение эстетического знака связывать исключительно с деятельностью сознания субъекта эстетического отношения. Оно имеет определенное предметное содержание, связанное с тем, что эстетическая ценность не может существовать вне и помимо значимой внешней формы объекта – ее носителя. Поэтому содержание эстетической ценности связано не только со спецификой субъекта эстетического отношения – индивидуальностью, но и с многообразием ее объектов-носителей.
Многообразие объектов – носителей эстетической ценности можно свести к основным классам: 1) предметы и явления природы, ставшие объектом эстетического созерцания или практического преобразования; 2) человек, его внешний облик, поведение, манера общаться и др.; 3) предметы материальной и духовной культуры, т. е. продукты деятельности человека; 4) произведения искусства во всем многообразии его видов, родов и жанров. Специфика каждого из перечисленных классов объектов – носителей эстетической ценности накладывает отпечаток на ее содержание. Как ранее отмечалось, специфической особенностью эстетической ценности является ее двухслойность, двуплановость. Для эстетической ценности обязательно наличие чувственно-воспринимаемой внешней формы. Это, на наш взгляд, дает основание выделить в структуре содержания эстетической ценности особое, предметное значение[417].
Наконец, в эстетическом ценностном отношении личность переживает не вообще эстетическую ценность, а конкретную ее разновидность (например, комическое). Эстетическая ценность как категория раскрывает то общее, что характерно для целого класса эстетических явлений и что их отличает как ценности от других классов ценностей (моральных, политических, правовых и т. п.). В реальном же эстетическом опыте личность имеет дело с конкретной разновидностью эстетической ценности. Классификация эстетических ценностей является самостоятельной задачей и выходит за рамки нашего исследования. Для целей нашего исследования оказывается важным сам факт многообразия видов эстетической ценности и конкретных вариаций каждого из видов. Например, в современной эстетике основным видом эстетической ценности признается прекрасное, которое в свою очередь, выступает во многих конкретных вариациях: грация, изящное и др. Комическое как разновидность эстетической ценности выступает в таких вариациях, как фарс, юмор, сатира и т. д.
Наличие разновидностей эстетической ценности и их вариаций, несомненно, отражается в структуре ее содержания и должно быть, на наш взгляд, закреплено терминологически. Представляется уместным в этой связи ввести понятия «видовое значение» и «вариативное значение» эстетического знака.
Таким образом, в структуре содержания эстетической ценности мы выделяем следующие аспекты ценностного значения: 1) социокультурное значение и личностный смысл (зависящие, прежде всего, от личностного фактора ценности); 2) предметное значение (связанное с многообразием объектов – носителей эстетической ценности); 3) видовое и вариативное значения (выражающие специфику той или иной разновидности эстетической ценности).
Представленная структура содержания эстетической ценности в равной мере относится ко всем классам ее объектов-носителей. Однако она требует ряда уточнений, когда речь идет о предметах материальной, художественной и духовной культуры. Дело в том, что объект – носитель ценности (имеются в виду третий и четвертый классы объектов-носителей) выступает одновременно и в качестве средства трансляции социокультурного опыта. В предметах – носителях культуры постоянно опредмечиваются (и соответственно распредмечиваются) человеческие способности, знания, ценности и др. Благодаря этому, и происходит передача от человека к человеку, от поколения к поколению накопленного социокультурного опыта, т. е. функционирование и развитие культуры. В этом плане предметы – носители культуры выступают как символы и знаки, т. е. как средства трансляции опыта. Это и определяет их специфику в рассматриваемом ракурсе.
Социокультурное значение и личностный смысл предмета материальной, художественной или духовной культуры складывается в зависимости от меры его соответствия – несоответствия воплощенному в нем идеалу. Для произведения искусства важно внутри социокультурного значения различать два плана: 1) план содержания, т. е. тот социокультурный опыт, который опредмечен творцом произведения и который требует своей актуализации в процессе восприятия; 2) план значения, т. е. воспринятое (в соответствии с конкретно-исторической практикой и ценностными ориентациями эпохи) содержание художественного произведения. Содержание, значение и личностный смысл произведения взаимосвязаны как общее, особенное и единичное. Любая интерпретация или восприятие художественного произведения как всякое отдельное включает в себя не только общее (художественное содержание), но также особенное (значение) и единичное (личностный смысл).
Предметное значение также получает свою модификацию. Чувственно-воспринимаемая внешняя форма объекта-носителя оказывается в рассматриваемых случаях продуктом деятельности человека. Благодаря мастерству человека, мере его искусности, предмет, процесс оказываются наделенными внешними характеристиками совершенства: высокой мерой упорядоченности формы, структурной целостностью, гармоничностью частей и т. п. Для произведения искусства оказывается важным при этом вещественный фактор. В искусстве вещественность знаковых систем становится существенным фактором художественного воздействия. Например, в музыке высота тона, его тембр, длительность и т. д. оказывают существенное влияние на формирование ее значения и личностного смысла. Поэтому предметное значение в сфере искусства включает в себя два плана: 1) план, связанный с мерой упорядоченности чувственно-воспринимаемой внешней формы; 2) план, связанный со спецификой вещественности художественных знаковых систем.
Видовое и вариативное значения в искусстве также имеют свою специфику. Отображение в искусстве прекрасного или безобразного, возвышенного или низменного и т. д. возможно с разных позиций: с позиции утверждения или с позиции отрицания. Например, отображение безобразного и низменного в искусстве может проводиться с позиций его утверждения (в декадентстве) или отрицания (в искусстве критического реализма). И в том и в другом случаях отображение эстетического в искусстве оказывается обусловленным мироощущением и мировоззрением творца и в конечном итоге – его идеалами. Поэтому видовое и вариативное значения в искусстве также включают в себя два плана: 1) план, связанный со спецификой эстетической ценности, воспроизводимой средствами искусства; 2) план, связанный с позицией художника– творца, который либо утверждает, либо отрицает отображаемое с позиций определенного идеала.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
– эстетическое ценностное отношение является фрагментом ценностного взаимодействия субъектов в рамках определенной социокультурной системы;
– личность-индивидуальность является активной стороной эстетического ценностного отношения – именно она должна занять эстетическую позицию и тем самым создать эстетическую ситуацию, т. е. породить эстетическое ценностное отношение;
– субъект эстетического ценностного отношения, опираясь на содержание собственной картины мира, одновременно наделяет объект ценностным значением и извлекает из него предметное значение, возникающее на основе присущей объекту информационной многозначности;
– понятие эстетической ценности охватывает, с одной стороны, опредмеченный в объекте-носителе социокультурный опыт субъекта культуротворческой деятельности (в сферах культуры и искусства), а с другой – актуальное значение объекта-носителя для субъекта, распредмечивающего социокультурный опыт (в сферах культуры и искусства, а также в сфере эстетического отношения к природе);
– ценностное значение объекта-носителя многоаспектно и включает в себя: а) социокультурное значение и личностный смысл; б) предметное значение; в) видовое и вариативное значения; в сфере искусства каждый из аспектов ценностного значения включает в себя два плана: а) социокультурное значение и личностный смысл – план значения и план содержания; б) предметное значение – план, связанный с мерой упорядоченности чувственно-воспринимаемой внешней формы, и план, связанный со спецификой вещественности художественных знаковых систем; в) видовое и вариативное значения – план, связанный со спецификой эстетической ценности, и план, связанный с позицией художника (который либо утверждает, либо отрицает отображаемое, опираясь на определенную картину мира).
Примечания
Вместо введения. О понятии «русская религиозная аксиология». Первоначально в сокращении опубликовано в сборнике: Герценовские чтения 2002. Кафедре социологии 10 лет. СПб., 2002. С. 80–87.
Раздел 1. Ценности как ядро культуры и духовной жизни человека
1.1. Роль духовного начала в исторической жизни народа: из наследия отечественной религиозной философии. Первоначально в сокращении опубликовано в сборнике: Герценовские чтения 2008. Социологическое образование в России. СПб., 2008. С. 158–162.
1.2. Своеобразие русской духовности в контексте диалога культур. Впервые опубликовано в сборнике: VI Международные Лихачевские научные чтения, 19–20 мая 2006 года. – СПб: Изд-во СПбГУП, 2006. С. 231–233.
1.3. Проблема иерархии ценностей в аксиологии культуры Б. П. Вышеславцева. Впервые опубликовано в сборнике: Лукьянов В. Г. // Герценовские чтения 2006. Социологическое образование в России. СПб., 2006. С. 153–161.
1.4. Формирование ценностного сознания личности как предмет аксиологии культуры Б. П. Вышеславцева. Впервые опубликовано в сборнике: Герценовские чтения 2007. Кафедре социологии 15 лет. СПб., 2007. С. 145–155.
1.5. Аксиологическая концепция И. А. Ильина: законы и аксиомы духовной жизни личности. Впервые опубликовано в сборнике: Герценовские чтения 2005. Актуальные проблемы социологического образования. СПб., 2005. С. 49–62.
Раздел 2. Задачи возрождения человека и культуры в посткоммунистической России
2.1. Самобытность русской культуры и модернизация общества: наследие отечественной религиозной философии и современность. Впервые опубликовано в сборнике: Культура и глобальные вызовы мирового развития: V Международные Лихачевские научные чтения, 19–20 мая 2005 года. СПб: СПбГУП, 2005. С. 115–117.
2.2. Задачи возрождения культуры в посткоммунистической России: прозрения русских религиозных мыслителей. Впервые опубликовано в сборнике: Вторые кареевские чтения. СПб, 2009. С. 57–66.
2.3. Проблема духовного возрождения человека в русской религиозной философии. Первоначально в сокращении опубликовано в сборнике: Герценовские чтения 2003. Актуальные проблемы социологии. СПб., 2003. С. 66–77.
Раздел 3. Эстетическая ценность как предмет исследования русской религиозной аксиологии
3.1. Специфика эстетической ценности в природе и искусстве. Впервые опубликовано в книге: Лукьянов В. Г. Эстетическая ценность в контексте русской религиозной философии. СПб., Петрополис. 1998. С. 108–135.
3.2. Эстетико-аксиологические категории в контексте онтологической теории ценностей Н. О. Лосского. Первоначально в сокращении (под названием «Из теоретического наследия выдающего петербургского философа: эстетико-аксиологические категории в контексте онтологической теории ценностей Н. О. Лосского») опубликовано в сборнике: История культуры Петербурга и современность: материалы межвузовской научно-практической конференции, 30 июня 2005 года. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2006. С. 53–57.
Раздел 4. Приложение
4.1. Эстетическая ценность как социокультурный феномен. Впервые опубликовано в книге: Лукьянов В. Г. Эстетическая ценность в контексте русской религиозной философии. СПб., Петрополис. 1998. С. 53–76.
Summary
In the book «Russian religious axiology. The collection of articles» the author has substantiated the existence within the Russian philosophical tradition special school of thought – Russian religious axiology. The concept of the «Russian religious axiology» was put into scientific circulation by the author in 2002, when the very existence of the theory of value in the Russian philosophy was denied. The author shows that the development of the theory of values was held by domestic thinkers in close connection with the whole range of associated general philosophical problems: the role of the ideals and values in the spiritual world of the person, the crisis of modern civilization and its consequences for a person to lose his spiritual support in life and the ways of its attainment again and other.
The book contains three chapters that investigate the ideas and concepts of Russian religious thinkers. In the first Chapter «Values as the core of culture and spiritual life of the person» the author studies such issues as the role of spirituality in the historical life of the people, the originality of Russian spirituality in the context of the dialogue of cultures, the problem of the hierarchy of values in axiology of culture by B. P. Vysheslavtsev, the formation of value consciousness of the person as the subject of the axiology of culture by B. P. Vysheslavtsev, axiological conception of I. A. Ilyin, claiming the existence of laws and axioms of the spiritual life of the person.
In the second Chapter «Problems of revival of the person and culture in post-Communist Russia», the author analyzes the theories of religious philosophers about the originality of Russian culture, as well as the tasks of revival of culture and individual in post-Communist Russia.
The third Chapter «Aesthetic value as a subject of Russian religious axiology» is devoted to the analysis of the specific of aesthetic value in nature and art by religious philosophers; a separate part is dedicated to the theory of beauty of N. O. Lossky. The author analyses the interpretation of beauty (and entirely the aesthetic value) in the books of Russian religious thinkers (V. S. Solovyov, S. N. Bulgakov, P. A. Florensky, N. A. Berdyaev, I. A. Ilyin, S. L. Frank and others) on the basis of his own theory of aesthetic value.
Примечания
1
С. Л. Франк. Духовные основы общества. М, 1992. С. 493.
(обратно)2
См.: Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX–XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта: В 2 частях. СПб., 2000; Замалеев А. Ф. Курс истории русской философии. М., 1996; Полторацкий Н. П. Русская религиозная философия // Вопросы философии. 1992. № 2; Мележик В. А., Харламов Ю. А. Русская религиозная философия как социально-культурный феномен. М., 1993; Возрождение русской религиозной философской мысли. (Материалы международной конференции.) СПб., 1993; Шапошников Л. Е. Русская религиозная философия XIX-XX веков. Нижний Новгород, 1992; Семенкина Н. С. Философия богоискательства. М., 1986; Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX–XX веках. СПб., 2000; Скоробогатько A. B. Общественный идеал в русской философии. СПб., 2003.
(обратно)3
См.: Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990; Зеньковский В. В. История русской философии. В 2-х т. Л., 1991; Лосский Н. О. История русской философии. М., 1994; Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
(обратно)4
См.: Зандер Л. А. Бог и мир. Миросозерцание отца Сергия Булгакова. Т. 1–2. Париж, 1948; Иванов А. Т. Концепция культуры П. А. Флоренского. Минск, 1990; Кравец С. Л. О красоте духовной. (П. А. Флоренский: религиозно-нравственные воззрения.). М., 1990; Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. М., 1996; Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990; Носов С. В. В. Розанов. Эстетика свободы. СПб., 1993; Половинкин С. М. П. А. Флоренский: Логос против хаоса. М., 1989; Семенова С. Г. Николай Федоров: творчество жизни М., 1990; Варакина Г. В. Между Дионисом и Аполлоном: Очерки о русской культуре «серебряного века» / Под ред. B. П. Шестакова. Рязань, 2007; Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. М., 2007.
(обратно)5
См.: Каган М. С. Философская теория ценности. СПб., 1997. С. 30.
(обратно)6
На это указывают в своих публикациях и ряд современных исследователей. См., например: Барышков. Аксиология личностного бытия. М., 2005; Выжлецов Г. П. Онтологическая аксиология Н. О. Лосского в XXI в. // ВЕЧЕ. Журнал русской философии и культуры. Вып. 22 (2011). С. 68–77; Сахатский А. Г. Аксиология русской религиозной философии. Режим доступа: .
(обратно)7
Вслед за историками русской философии – Г. В. Флоровским, А. Ф. Лосевым, В. В. Зеньковским и др. – мы далее будем различать русскую философию и философию в России. Национальное своеобразие русской философии стало предметом специального анализа современных исследователей. См., например: Корольков А. А. Русская духовная философия. СПб., 1998.С. 18–51.
(обратно)8
Замалеев А. Ф. Идея ценности в русской философии // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 1997. Вып. 2 (№ 13). С. 31–32.
(обратно)9
Там же. С. 31.
(обратно)10
Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1998. С. 293, 307.
(обратно)11
Там же. С. 310.
(обратно)12
Там же. С. 313.
(обратно)13
Там же. С. 340.
(обратно)14
Там же. С. 356–357.
(обратно)15
Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 15.
(обратно)16
Франк С. Л. Духовные основы общества. М.,1992. С. 490.
(обратно)17
Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. М., 1952. Т. 1. С. 481.
(обратно)18
Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 92.
(обратно)19
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 490.
(обратно)20
Там же.
(обратно)21
Каган М. С. Философская теория ценности. СПб., 1997. С. 30.
(обратно)22
Замалеев А. Ф. Идея ценности в русской философии // Вестник СПбГУ, Сер. 6. 1997, вып. 2 (№ 13). С. 33.
(обратно)23
Замалеев А. Ф. Три завета русской философии // Замалеев А. Ф. Лепты. Исследования по русской философии. СПб., 1996. С. 84–85.
(обратно)24
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 480.
(обратно)25
Там же.
(обратно)26
Зеньковский В. В. История русской философии. М., 2001. С. 274.
(обратно)27
Там же.
(обратно)28
Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2. Избранные статьи. М, 1993. С. 200.
(обратно)29
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. М., 1994. С. 16, 25, 114115, 294–295.
(обратно)30
Лосский Н. О. История русской философии. М, 1991. С. 307.
(обратно)31
Там же. С. 298.
(обратно)32
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 22.
(обратно)33
Лосский Н. О. Ценность и Бытие // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 287, 36.
(обратно)34
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М. 1956. Т. 9. С. 159.
(обратно)35
Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание. // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 146.
(обратно)36
Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 124.
(обратно)37
Франк С. Л. Русское мировоззрение // Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 482.
(обратно)38
Соловьев В. С. Вступительная речь на защите магистерской диссертации «Кризис западной философии. Против позитивистов» // Соловьёв В. С. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Сочинения. Том первый. 1873–1876. М., 2000. С. 153.
(обратно)39
Соловьев В. С. Несколько слов о настоящей задаче философии// Соловьёв В. С. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Сочинения. Том первый. 1873–1876. М., 2000. С. 153. (Выделено мной – В.Л.)
(обратно)40
Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Вып. 1 // Соловьев В. С. Собр. соч. под ред. С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова. Т. 5. СПб.,1912. С. 55. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)41
Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 375.
(обратно)42
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 73–75.
(обратно)43
Там же. С. 75. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)44
Там же (выделено мной – В. Л.).
(обратно)45
Там же. С. 107.
(обратно)46
Трубецкой Е. Н. Россия в ее иконе // Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 290.
(обратно)47
Федотов Г. П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. / Составл., вст. ст., примечания Бойкова В. Ф. СПб., 1991. Т. 1. С. 102; 303.
(обратно)48
Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Судьба России. М., 1997. С. 343.
(обратно)49
Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 4. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)50
Ильин И. А. О русской идее // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Кн. I. М., 1993. С. 431.
(обратно)51
Ильин И. А. О России. Три речи. 1926–1933 // Собр. Ссоч.: В 10 т. Т. 6. Кн. II. М., 1996. С. 17.
(обратно)52
Там же. С. 17. С. 13.
(обратно)53
Там же. С. 21.
(обратно)54
Ильин И. А. О русской идее. // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Кн. I. М., 1993. С. 421.
(обратно)55
Ильин И. А. О русской идее // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Кн. I. М., 1993. С. 421. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)56
Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 244.
(обратно)57
Там же. С. 243–245.
(обратно)58
Федотов Г. П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. / Составл., вст. ст., примечания Бойкова В. Ф. СПб., 1991. Т. 2. С. 114, 182, 254–255.
(обратно)59
Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Судьба России. М., 1997. С. 340.
(обратно)60
Там же. С. 337.
(обратно)61
Там же. С. 244–245.
(обратно)62
Федотов Г. П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. / Составл., вст. ст., примечания Бойкова В. Ф. СПб., 1991. Т. 2. С. 278.
(обратно)63
Там же. Т. 2. С. 289.
(обратно)64
Там же.
(обратно)65
Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Судьба России. М., 1997. С. 6–7.
(обратно)66
Там же. С. 346, 378.
(обратно)67
Там же. С. 338–339.
(обратно)68
Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 63.
(обратно)69
Федотов Г. П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. / Составл., вст. ст., примечания Бойкова В. Ф. СПб., 1991. Т. 2. С. 6.
(обратно)70
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 499–500.
(обратно)71
Федотов Г. П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. / Составл., вст. ст., примечания Бойкова В. Ф. СПб., 1991. Т. 2. С. 289.
(обратно)72
См., например: Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб., 1996; Данильченко С. В. Аксиология Б. П. Вышеславцева // Герценовские чтения 2004. Современное общество. Социологическое измерение повседневности. СПб., 2004. С. 77–83; Кобченко А. А. «Закон» и «Благодать» как принципы общей регуляции жизни человека и общества// CREDO NEW. 2004. № 4. Режим доступа: /
(обратно)73
Вышеславцев Б. П. Богооставленность // Путь. 1939. № 61. С. 15–21; Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994; Вышеславцев Б. П. Значение сердца в религии // Путь. 1925, № 1; Вышеславцев Б. П. Кризис индустриальной культуры. Нью-Йорк, 1953; Вышеславцев Б. П. Миф о грехопадении // Путь. 1932. № 34; Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994 и др.
(обратно)74
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 25, 70, 71; Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 292.
(обратно)75
Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 298.
(обратно)76
Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 293.
(обратно)77
Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 294–295.
(обратно)78
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 16.
(обратно)79
Там же. С. 81.
(обратно)80
Вышеславцев Б. П. Значение сердца в религии// Путь. 1925, № 1. С. 89–90.
(обратно)81
Ерасов Б. С. О сравнительном изучении мировых религий // Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. М., 2001. С. 129.
(обратно)82
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 113–115.
(обратно)83
Вышеславцев Б. П. Миф о грехопадении // Путь. 1932. № 34. С. 8.
(обратно)84
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 115.
(обратно)85
Там же. С. 124
(обратно)86
Там же. С. 125.
(обратно)87
Вышеславцев Б. П. Миф о грехопадении // Путь. 1932. № 34. С. 9–10.
(обратно)88
Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 270.
(обратно)89
Вышеславцев Б. П. Миф о грехопадении// Путь. 1932. № 34. С. 10.
(обратно)90
Гвардини Р. Конец Нового времени. Попытка найти свое место// Самосознание культуры и искусства XX века. Западная Европа и США. М.; СПб. 2000. С. 186.
(обратно)91
Там же. С. 191.
(обратно)92
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 135. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)93
Вышеславцев Б. П. Миф о грехопадении // Путь. 1932. № 34. С. 10.
(обратно)94
Кузьмина Т. А. Секулярное сознание и судьбы культуры // Реформаторские идеи в социальном развитии России. М., 1998. С. 24–66.
(обратно)95
Вышеславцев Б. П. Значение сердца в религии // Путь. 1925, № 1. С. 88, 91.
(обратно)96
Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 293.
(обратно)97
Там же. С. 197.
(обратно)98
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 99. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)99
Вышеславцев Б. П. Вечное в русской философии // Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 185. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)100
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и коммен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 98.
(обратно)101
Там же. С. 99.
(обратно)102
Там же. С. 25.
(обратно)103
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 39–40. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)104
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 44–45.
(обратно)105
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 45.
(обратно)106
Там же. С. 46.
(обратно)107
Там же. С. 110. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)108
Там же. С. 47.
(обратно)109
Там же. С. 48–49.
(обратно)110
Там же. С. 67.
(обратно)111
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 59.
(обратно)112
Там же. С. 68. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)113
Там же. С. 64.
(обратно)114
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 51.
(обратно)115
Там же. С. 67.
(обратно)116
Каган М. С. Философская теория ценности. СПб., 1997. С. 165.
(обратно)117
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 90.
(обратно)118
Там же.
(обратно)119
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 53–54. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)120
Являвшегося в тот период времени министром обороны РФ.
(обратно)121
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса». Вступ. ст., сост. и ком-мен. В. В. Сапова. М., 1994. С. 100–101.
(обратно)122
Там же. С. 100.
(обратно)123
Там же.
(обратно)124
Там же. С. 30.
(обратно)125
Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. С. 298.
(обратно)126
Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 М., 1994. С. 496.
(обратно)127
Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 М., 1994; Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5, М., 1996; Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1993; Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002.
(обратно)128
Ильин И. А. Кризис безбожия // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1993. С. 346. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)129
См.: Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 М., 1994. С. 416; Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5, М., 1996. С. 39. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)130
Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 М., 1994. С. 535–536.
(обратно)131
Ильин И. А. Религиозный смысл философии Три речи; 1914–1923 // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 М., 1994. С. 59–60.
(обратно)132
Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 М., 1994. С. 423.
(обратно)133
Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1993. С. 95.
(обратно)134
Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1994. С. 233. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)135
Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002. С. 54. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)136
Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1994. С. 262. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)137
Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1993. С. 44, 47. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)138
Там же. С. 54. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)139
Там же. С. 52.
(обратно)140
Там же. С. 43.
(обратно)141
Там же. С. 45.
(обратно)142
Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1993. С. 48. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)143
Там же. С. 52.
(обратно)144
Ильин И. А. Кризис безбожия // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1993. С. 343. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)145
Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1993. С. 70.
(обратно)146
Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1994. С. 394; 407.
(обратно)147
Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002. С. 121.
(обратно)148
Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 М., 1994. С. 410. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)149
Ильин И. А. Кризис безбожия // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 1993. С. 343. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)150
Ильин И. А. Путь к очевидности // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 М., 1994. С. 412.
(обратно)151
Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002. С. 33.
(обратно)152
Ильин И. А. Наши задачи // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2 Кн. 2. М., 1993. С. 63.
(обратно)153
Ильин И. А. Религиозный смысл философии Три речи; 1914–1923 // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3 М., 1994. С. 23–24.
(обратно)154
Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002. С. 33.
(обратно)155
Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1994. С. 272.
(обратно)156
Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1994. С. 273. (Выделено мной – В.Л.).
(обратно)157
Там же. С 272.
(обратно)158
Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М., 1996. С. 39.
(обратно)159
Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002. С. 43.
(обратно)160
Там же. С. 414. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)161
Там же. С. 56.
(обратно)162
Там же. С. 42.
(обратно)163
Ильин И. А. О сопротивлении злу силою// Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М., 1996. С. 213–214. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)164
См. раздел 2. 2.
(обратно)165
Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Судьба России. М., 1997. С. 240, 275, 283, 338–339.
(обратно)166
Ильин И. А. О русской культуре // Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. II. М., 1996. С. 593.
(обратно)167
Федотов Г. П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. / Сост., вст. ст., примечания Бойкова В. Ф. СПб., 1991. Т. 1. С. 44.
(обратно)168
Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала XX века. М., 1997. С. 283.
(обратно)169
См. например: Ерасов Б. С. Цивилизации: Универсалии и самобытность. М., Наука, 2002.
(обратно)170
Ильин И. А. Почему мы верим в Россию // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 106. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)171
См.: Генисаретский О. И. Этнокультурная идентичность во всех возможных мирах // Alma mater, 1991, № 9, с. 47.
(обратно)172
Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 244.
(обратно)173
Ильин И. А. О русской идее. // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 425.
(обратно)174
Ильин И. А. Творческая идея нашего будущего. Об основах духовного характера. Новосибирск, 1991. С. 5–7.
(обратно)175
Ильин И. А. О русской идее // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 426.
(обратно)176
Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. М., 1997. С. 274–275; 309.
(обратно)177
Бердяев Н. А. Судьба России // Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Судьба России. М., 1997. С. 283; 240; 292.
(обратно)178
Ильин И. А. Русскому народу необходимо духовное обновление// Ильин И. А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг.: в 2 т. Том 2. Составл. и комм. Ю. Т. Лисицы. М., 2008. С. 39.
(обратно)179
Там же.
(обратно)180
Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 139. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)181
Добрускин М. Е. О социальных функциях церкви (на материалах русской православной церкви // Социс, 2002, № 4.
(обратно)182
Иванов В. И. Революция и народное самоопределение// Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 394.
(обратно)183
Далее цит. по изд.: Ильин И. А. О воспитании в грядущей России // Собр. соч.: В 10 т. Т. 2 Кн. 2. М., 1993. С. 178–192.
(обратно)184
Там же. С. 18.
(обратно)185
Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, политика. М., 2002. С. 341.
(обратно)186
Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб., 1996. С. 78.
(обратно)187
Ильин И. А. О воспитании в грядущей России// Собр. соч.: В 10 т. Т. 2 Кн. 2. М., 1993. С. 184–185.
(обратно)188
Ильин И. А. О воспитании в грядущей России// Собр. соч.: В 10 т. Т. 2 Кн. 2. М., 1993. С. 184.
(обратно)189
Фромм Э. Человек для себя. Минск, 1992. С. 54.
(обратно)190
Федотов Г. П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. / Сост., вст. ст., примечания Бойкова В. Ф. СПб., 1991. Т. 1. С. 124.
(обратно)191
Там же. С. 253.
(обратно)192
Федотов Г. П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. / Сост., вст. ст., примечания Бойкова В. Ф. СПб., 1991. Т. 1. С. 182; 254–255.
(обратно)193
Ильин И. А. Основная задача грядущей России // Ильин И. А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг.: в 2 т. Том 1. Сост., предисл. и комм. Ю. Т. Лисицы. М., 2008. С. 287.
(обратно)194
Ильин И. А. Основная задача грядущей России // Ильин И. А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг.: в 2 т. Том 1. Сост., предисл. и комментарии Ю. Т. Лисицы. М., 2008. С. 300.
(обратно)195
Федотов Г. П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. / Составл., вст. ст., примечания Бойкова В. Ф. СПб., 1991. Т. 1. С. 46; 320.
(обратно)196
Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 274, 287.
(обратно)197
Флоренский П. А. Оправдание Космоса. СПб., 1994. С. 33.
(обратно)198
Там же.
(обратно)199
Соловьёв В. С. Философские начала цельного знания // Соловьёв В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 171.
(обратно)200
Флоренский П. А. Оправдание Космоса. СПб; 1994. С. 32.
(обратно)201
См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 113–114; Сорокин П. А. Моя философия – интегрализм // Социологические исследования. 1992, № 10. С. 137.
(обратно)202
Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 24.
(обратно)203
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х томах. Т. 1. М., 1994. С. 420.
(обратно)204
Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 312.
(обратно)205
Там же. С. 296.
(обратно)206
Там же. С. 314–315.
(обратно)207
Там же. С. 306–312.
(обратно)208
Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 87.
(обратно)209
Флоренский П. А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Флоренский П. А. Сочинения. В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 357.
(обратно)210
Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 310.
(обратно)211
Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 14, 121.
(обратно)212
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 408.
(обратно)213
Там же. С. 491.
(обратно)214
Там же.
(обратно)215
См.: Бранский В. П. Искусство и философия. Роль философии в формировании и восприятии произведения на примере истории живописи. Калининград, 1999. С. 479.
(обратно)216
Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1990. С. 745.
(обратно)217
Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 455456; Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 145.
(обратно)218
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 333.
(обратно)219
Достоевский Ф. М. Полн. Собр. Соч. В 30 т. Т. 9. Л., 1972–1988. С. 222.
(обратно)220
Там же. Т. 14. С. 100.
(обратно)221
Там же. Т. 22. С. 75.
(обратно)222
Достоевский Ф. М. Бесы. Роман в трех частях. М., 1990. С. 244.
(обратно)223
Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 305.
(обратно)224
Там же. С. 307.
(обратно)225
Франк С. Л. Русское мировоззрение // Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 489.
(обратно)226
Бычков В. В. Эстетическое сознание Древней Руси, М., 1988. С. 14.
(обратно)227
Бычков В. В. Там же. С. 18.
(обратно)228
См.: Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. Л., 1991. С. 241.
(обратно)229
Достоевский Ф. М. Полн. Собр. соч. В 30 т. Л., 1971–1988. Т. 14. С. 100.
(обратно)230
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. М., 1994. С. 38–39.
(обратно)231
Соловьев В. С. Красота в природе // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 30.
(обратно)232
Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. В 2-х т. Т. 2. М., 1913. С. 330.
(обратно)233
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 478.
(обратно)234
Там же. С. 380–381.
(обратно)235
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 245–253.
(обратно)236
Там же. С. 495.
(обратно)237
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 212.
(обратно)238
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. С. 239.
(обратно)239
Франк С. Л. Духовные основы общества М., 1992. С. 239, 330.
(обратно)240
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 211–212.
(обратно)241
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1990. С. 321, 818.
(обратно)242
Флоренский П. А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 33.
(обратно)243
Там же. С. 72.
(обратно)244
Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах Т. 1. М., 1990. С. 745.
(обратно)245
Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1994. С. 239.
(обратно)246
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М.,1991. С. 249.
(обратно)247
Там же. С. 159.
(обратно)248
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 328–329.
(обратно)249
Флоренский П. А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 33.
(обратно)250
Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 374.
(обратно)251
Там же. С. 88.
(обратно)252
Там же. С. 153.
(обратно)253
Там же. С. 76, 137.
(обратно)254
Там же. С. 31.
(обратно)255
Там же. С. 141, 142.
(обратно)256
Там же. С. 403.
(обратно)257
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 401. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)258
Там же. С. 400.
(обратно)259
Там же. С. 401.
(обратно)260
Там же. С. 420.
(обратно)261
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 350.
(обратно)262
Там же. С. 351, 356.
(обратно)263
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 77.
(обратно)264
Трубецкой Е. Н. Избранное. М., 1995. С. 351.
(обратно)265
Там же.
(обратно)266
Ильин И. А. Художник и художественность // Ильин И. А. Собр. соч. В 10 т. Т. 6. Кн. 2. Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 1996. С. 365.
(обратно)267
Ильин И. А. Основы художества. О совершенном в искусстве // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6: Кн. 1. Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 1996. С. 61. (Выделено мной – В. Л.).
(обратно)268
Там же.
(обратно)269
Ильин И. А. Пророческое призвание Пушкина // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 2. Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 1996. С. 47.
(обратно)270
Ильин И. А. Основы художества. О совершенном в искусстве // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6: Кн. 1. Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 1996. С. 153.
(обратно)271
Ильин И. А. О чтении и критике // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6: Кн. 1. Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 1996. С. 187.
(обратно)272
Ильин И. А. Основы художества. О совершенном в искусстве // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6: Кн. 1. Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 1996. С. 64.
(обратно)273
Ильин И. А. Художник и художественность // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 2. Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 1996. С. 325.
(обратно)274
Ильин И. А. Пророческое призвание Пушкина // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 2. Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 1996. С. 67–68.
(обратно)275
Сетницкий Н. А. О конечном идеале // Горский А. К., Сетницкий Н. А. Сочинения. М., 1995. С. 349.
(обратно)276
Сетницкий Н. А. О конечном идеале // Горский А. К., Сетницкий Н. А. Сочинения. М., 1995. С. 338.
(обратно)277
Там же. С. 357.
(обратно)278
Гриб С. А. Наука и богословие. Границы и антиномии: ученое незнание и неученое знание // Возрождение русской религиозной философской мысли. (Материалы международной конференции.) СПб., 1993. С. 35.
(обратно)279
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 321. См. также: Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 286.
(обратно)280
Гальцева Р., Роднянская И. Реальное дело художника. Положительная эстетика Владимира Соловьева и взгляд на литературное творчество // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 18.
(обратно)281
Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 216.
(обратно)282
См.: Художественная жизнь современного общества. Т. 2. Аудитория искусства в России: вчера и сегодня. СПб., 1997. С. 38.
(обратно)283
Флоренский П. А. Оправдание Космоса. СПб, 1994. С. 206.
(обратно)284
Борев Ю. Б. Эстетика. В 2-х т. Т. 1. Смоленск, 1997. С. 234–235.
(обратно)285
Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991. С. 147.
(обратно)286
Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 320.
(обратно)287
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 359.
(обратно)288
Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 127.
(обратно)289
Для изучения данной проблематики в трудах религиозных мыслителей автору потребовалось выработать специальный аппарат понятий – см. 4.1.
(обратно)290
Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 356, 366–369, 387, 418.
(обратно)291
Там же. С. 360, 362, 396.
(обратно)292
Соловьев В. С. Общий смысл искусства // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 397.
(обратно)293
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994.C. 219.
(обратно)294
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 242.
(обратно)295
Соловьев В. С. Красота в природе // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 363.
(обратно)296
Там же. С. 353, 360.
(обратно)297
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 221.
(обратно)298
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х томах. Т. I. М., 1994. С. 235.
(обратно)299
Соловьев В. С. Красота в природе // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 364.
(обратно)300
Там же. С. 377.
(обратно)301
Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М., 1960. С. 200.
(обратно)302
Соловьев В. С. Красота в природе // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 374, 377.
(обратно)303
Там же. С. 388.
(обратно)304
Соловьев В. С. Красота в природе // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 373, 388.
(обратно)305
Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 146.
(обратно)306
Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 368; Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. М., 1995. С. 146, 147.
(обратно)307
Соловьев В. С. Общий смысл искусства // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 397, 398.
(обратно)308
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 307.
(обратно)309
Соловьев В. С. Общий смысл искусства // Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 398.2.
(обратно)310
Там же. С. 399.
(обратно)311
Там же. С. 400.
(обратно)312
Там же. С. 401.
(обратно)313
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 216.
(обратно)314
Там же. С. 218, 219.
(обратно)315
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 472; Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 296; Ильин И. А. Собр. соч. В 10 т. Т. 6. Кн. I. М., 1996. С. 120–124.
(обратно)316
Ильин И. А. Основы художества. О совершенном в искусстве // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 1. Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М., 1996. С. 122.
(обратно)317
Там же. С. 88.
(обратно)318
Там же. С. 152, 153.
(обратно)319
Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 245.
(обратно)320
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 330.
(обратно)321
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 332.
(обратно)322
Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 43.
(обратно)323
Там же. С. 44.
(обратно)324
Там же. С. 46.
(обратно)325
Там же. С. 46.
(обратно)326
Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 44.
(обратно)327
Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 30.
(обратно)328
Там же. С. 38.
(обратно)329
Там же. С. 34.
(обратно)330
Бердяев Н. А. Кризис искусства // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 399, 400,410.
(обратно)331
Там же. С. 408.
(обратно)332
Бердяев Н. А. Кризис искусства // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 424, 425.
(обратно)333
Там же. С. 402, 404, 406.
(обратно)334
Бердяев Н. А. Кризис искусства // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 408, 411,424.
(обратно)335
Там же. С. 403, 404.
(обратно)336
Бердяев Н. А. Кризис искусства // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 406.
(обратно)337
Там же. С. 408.
(обратно)338
Бердяев Н. А. Кризис искусства // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 412.
(обратно)339
Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 200, 330.
(обратно)340
См.: Бердяев Н. А. Самопознание. Л., 1991. С. 219; Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. I. М., 1994. С. 235.
(обратно)341
Лосский Н. О. Ценность и Бытие // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 305.
(обратно)342
Флоренский П. А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 171.
(обратно)343
Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 287.
(обратно)344
Флоренский П. А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 49.
(обратно)345
Там же. С. 54.
(обратно)346
Флоренский П. А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб., 1993. С. 239.
(обратно)347
Там же. С. 144.
(обратно)348
Лосский Н. О. Ценность и Бытие // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 286.
(обратно)349
См.: Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. М., 1994. С. 374.
(обратно)350
Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 49.
(обратно)351
Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 427.
(обратно)352
Там же. С. 425.
(обратно)353
Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 428.
(обратно)354
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 250.
(обратно)355
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 235.
(обратно)356
Там же. С. 240.
(обратно)357
Там же. С. 234, 235.
(обратно)358
Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992. С. 242.
(обратно)359
Там же. С. 240.
(обратно)360
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 137.
(обратно)361
Там же. С. 149.
(обратно)362
Там же. С. 184.
(обратно)363
Там же. С. 122–123.
(обратно)364
Там же. С. 118.
(обратно)365
Там же. С. 118–119.
(обратно)366
Там же. С. 253.
(обратно)367
Лосский Н. О. Ценность и бытие // Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 305.
(обратно)368
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 406..
(обратно)369
Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 286.
(обратно)370
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 135.
(обратно)371
См. подробнее об этих понятиях раздел 4. 1.
(обратно)372
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 158, 279–280.
(обратно)373
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 116, 110, 78.
(обратно)374
Там же. С. 95, 73.
(обратно)375
Там же. С. 38, 40–41,55.
(обратно)376
Там же. С. 78.
(обратно)377
Бранский В. П. Искусство и философия: Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград, 1999. С. 247.
(обратно)378
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 184.
(обратно)379
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 110 (выделено мной. – В. Л.).
(обратно)380
Там же. С. 156, 158, 170.
(обратно)381
Там же. С. 78.
(обратно)382
Там же. С. 159–160.
(обратно)383
Там же. С. 265.
(обратно)384
Там же. С. 163, 165.
(обратно)385
Там же. С. 164.
(обратно)386
Там же. С. 119, 176.
(обратно)387
Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 286–287.; Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 34.
(обратно)388
Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998. С. 109, 137–138, 144.
(обратно)389
Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 286.
(обратно)390
Фромм Э. Человек для себя. Исследование психологических проблем этики. Минск. 1992. С. 54.
(обратно)391
Кравцова М. Е. Поэзия Древнего Китая. Опыт культурологического анализа. СПб., 1994. С. 23.
(обратно)392
См.: Ерасов Б. С. Социальная культурология. М., 1996. С. 130.
(обратно)393
См.: Художественная жизнь современного общества. Т. 1. СПб., 1996. С. 92.
(обратно)394
Фромм Э. Человек для себя. Исследование психологических проблем этики. Минск. 1992. С. 54.
(обратно)395
См.: Художественная жизнь современного общества. Т. 1. СПб., 1996. С. 66.
(обратно)396
См.: Каган М. С. Философская теория ценности. СПб., 1997; Столович Л. Н. Эстетическая и художественная ценность: сущность, специфика, соотношение. М., 1983; Дробницкий О. Г. Некоторые аспекты проблемы ценностей // Проблема ценностей в философии. М.-Л., 1966; Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб., 1996.
(обратно)397
Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996. С. 294.
(обратно)398
Каган М. С. Проблема эстетической и художественной ценности в теории архитектуры и дизайна // Эстетические ценности предметно-пространственной среды. М., 1990. С. 36.
(обратно)399
Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб., 1996. С. 56.
(обратно)400
Каган М. С. Проблема эстетической и художественной ценности в теории архитектуры и дизайна // Эстетические ценности предметно-пространственной среды. М., 1990. С. 47.
(обратно)401
Дробницкий О. Г. Некоторые аспекты проблемы ценностей // Проблема ценностей в философии. М.; Л., 1966. С. 35.
(обратно)402
Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб., 1996. С. 57.
(обратно)403
Каган М. С. Философская теория ценности. СПб., 1997. С. 178.
(обратно)404
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 203.
(обратно)405
Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 146.
(обратно)406
См.: Илиади А. Н. Формирование эстетического поля человеческой деятельности и его практическая природа // Проблемы этики и эстетики. Вып. 2. Природа искусства и механизмы художественной деятельности. Л., 1975. С. 20.
(обратно)407
Каган М. С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997. С. 131.
(обратно)408
Столович Л. Н. Эстетическая и художественная ценность: сущность, специфика, соотношение. М.,1983. С. 21.
(обратно)409
Крюковский Н. И. Кибернетика и законы красоты. Философский очерк. Минск, 1977. С. 128–129.
(обратно)410
Маньковская Н. Б. Современные западные концепции экологической эстетики // Эстетика природы. М., 1994. С. 206.
(обратно)411
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 88.
(обратно)412
Илиади А. Н. Эстетические потребности общества // Проблемы этики и эстетики. Вып. 3. Проблема потребностей в этике и эстетике. Л., 1976. С. 67.
(обратно)413
См.: Коротков Н. З. Эстетические потребности личности // Проблемы этики и эстетики. Вып. 3. Проблема потребностей в этике и эстетике. Л., 1976. С. 87.
(обратно)414
См.: Салеев В. А. Искусство и его оценка. Минск. 1977. С. 38–40.
(обратно)415
Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Человек в мире слова. М., 1995. С. 42, 49.
(обратно)416
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 153.
(обратно)417
На взаимосвязь эстетической ценности с предметностью самого объекта-носителя справедливо указывает В. В. Прозерский. См.: Прозерский В. В. Позитивизм и эстетика. Очерки. Л., 1983. С. 81–82.
(обратно)


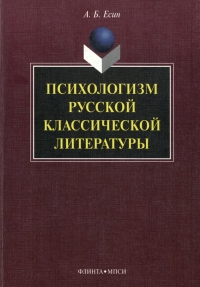
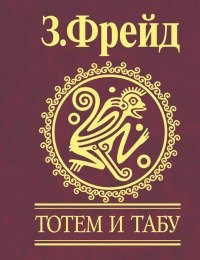
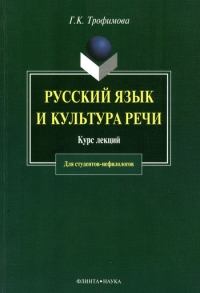
Комментарии к книге «Русская религиозная аксиология», Вячеслав Георгиевич Лукьянов
Всего 0 комментариев